

|
|
|
В книге ставится проблема соотношения культур как единства в многообразии, освещаются те стороны мировоззрения древних китайцев и древних греков, которые повлияли на разные пути познания, обусловили своеобразие культурных парадигм греко-христианского и буддийского мира, рассматриваются причины не всегда совпадающего отношения к таким кардинальным понятиям, как хаос и гармония, слово и молчание, к символике квадрата – круга, огня – воды. Особое место отводится этическому аспекту истории, "вечным вопросам" о добре и зле, о смысле жизни и назначении человека. Автор подводит к мысли о взаимодополняемости культур Востока и Запада и закономерности их встречи в XX в.
Заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института Востоковедения АН России, член Союза писателей России, член редколлегии журнала "Иностранная литература" главный редактор "Восточного альманаха".
Моим малышам посвящаю
Проходит лик мира сего.
(Достоевский)
Возникали, исчезали и вновь ставились вопросы: "Что есть Человек?", "Что есть Истина?" [[1]]. Ответы были, но их благополучно забывали по причине короткой памяти. Потому и называли их "вечными", что не имели эти вопросы четкого ответа. Вспышки мысли порой освещали горизонт, но хомо сапиенс зажмуривал глаза и продолжал идти не туда или шарахался в сторону.
Удивительно ли, что на исходе XX в. звучат, только более тревожно, те же вопросы: "Что есть мир", "Что есть человек", "В чем его предназначение", "Как они связаны между собой – мир и человек", "Что бывает, когда эти связи нарушаются"? Может быть, инстинкт светобоязни мешал просветлению умов? Как животные боятся огня, так непросветленный ум боится света. Страх перед беспредельным, перед бесконечностью, неопределенностью, страх заглянуть в себя бывает сильнее инстинкта жизни. А почему? Люди страшатся одиночества, боятся остаться наедине с собой, увидеть себя без маски, такими, как есть. Оттого ищут занятий, законов, сотоварищей. А может быть, не стоит бояться, может быть, в глубине человек лучше, чем на поверхности? Может быть, за тысячелетия в нем накопилось не только плохое, но и хорошее? Говорят же на Востоке: "Каждый человек – будда, просветленный, только не каждый понимает это".
Настало время ответить на эти вопросы, чтобы выжить, не впасть в изначальный Хаос. И опять вопрос: "А изначален ли Хаос?". Если Хаос изначален, то плохи наши дела, ибо "все возвращается на круги своя", или, по Лао-цзы, – дао возвращается к своему истоку. Значит, стоит задуматься, что же было в Начале, если все к нему возвращается. Есть время забывать, есть время вспоминать забытое, время прощания с прошлым и время возвращения к нему. Но "времени больше нет", или оно дает последний шанс: познаешь себя – останешься жить, не познаешь – исчезнешь с лица земли. В предощущении этого напрягается память, до сих пор не очень себя утруждавшая: "Иссохшее русло реки не знает благодарности к своему прошлому" [[2]]; или, как говорили древние: "Если чтить предков, с моралью у народа будет все в порядке" ("Луньюй", XI) [[3]].
В преддверии XX в. мир пребывал в горячке. Те, кто ощущал приближение кризиса, взял на себя бремя вины и ответственности. Разуверившись в будущем европейской цивилизации, вопреки фактам, вопреки ее умопомрачительным и именно помрачительным успехам, лучшие умы Запада и Востока решились преградить путь мировой эпидемии, иссушающей русло человечности [[4]]. Похоже, русло начинает оживать, увлажняются его берега.
Век назад их было не так много, радетелей Истины, решившихся на поединок с мировым злом, но сила их провидения была столь велика, что мир не мог их не услышать. "Одумайтесь!", "Опомнитесь, пока не поздно!", "Так жить нельзя!", – они били тревогу, опасаясь, что сила тьмы справит тризну по земле, загубит все, позволяющее человеку выживать в самые тяжкие времена. Нельзя сказать, что их призыв дошел до сознания, но мир прислушался, а потом понял, что тревожились они не напрасно. Поначалу их было немного, но у каждого народа – свой глашатай Истины: Толстой – в России, Тагор – в Индии, Окакура Какудзо – в Японии, Ромен Роллан – во Франции. Братство людей, прообраз будущего, хотя соратники могли не знать друг друга. И все же это было братство, одна семья, объединенная болью за людей. Тагора касалось все; он переживал злонамеренное истребление культуры Ирландии и муки Дж. Бруно. "Я не знаю, как поешь ты, наставник: Я слушаю в безмолвном изумлении. Ты сделал меня другом тех, кого не знал я доселе. Ты ввел меня в жилища, доселе мне чуждые. Ты приблизил далекое и чужого сделал мне братом". Их голоса слышались с разных сторон и звучали в унисон, один голос эхом отзывался да другой.
На берегу всемирного океана Дети собираются [[5]].
Они ощущали себя сынами человеческими, чувствовали, как сыны человеческие, ответственность за преступления, творимые на земле, будто слушая голос древних: "Сыны человеческие, доколе отягощаете сердце свое, зачем любите суету и ищете ложь?" (Пс. 4, 3).
Это было время пробуждения Индии. Вивекананда взывал к современникам: "То, чего сегодня ждет весь мир и, быть может, низшие классы больше, чем высшие, невежественные больше, чем аристократия ума, угнетенные больше, чем угнетатели, – это грандиозная идея духовного Единства Вселенной" [[6]]. В 1893 г. Вивекананда приехал в Америку, и на парламенте религий в Чикаго 27 сентября произнес свою знаменитую речь: "Каждый должен проникнуться учением других, не переставая культивировать свою индивидуальность и развиваться сообразно своим собственным законам... На знамени каждой религии будет скоро начертано, невзирая на ее сопротивление: "Взаимопомощь, а не борьба. Взаимное проникновение, а не разрушение. Гармония и мир, а не бесплодные дискуссии" [[7]]. Но как избавиться от тотальной разъятости? Еще Р. Роллан сетовал: "Огромное большинство наших европейских умов запирается в своем этаже Жилища человека, и хотя этот этаж полон книг, пространно повествующих об истории этажей прошлого, – остальная часть дома кажется им необитаемой; они не слышат ни снизу, ни сверху шагов своих соседей минувших веков, которые упорно продолжают жить. В мировом концерте все века, прошлые и настоящие, составляют оркестр и играют в одно и то же время. Но каждый прикован взглядом к своему пюпитру и к палочке дирижера: он слышит только свой инструмент" [[8]].
Что-то должно было произойти, чтобы люди услышали друг друга. А пока своими одинокими силами радетели Истины старались сбить пламя мирового пожара и призывали раскрыть двери и окна, снять перегородки национальных и социальных преград, чтобы сообща бороться с бедой. Каждый из подвижников знал, что предотвратить мировой пожар можно, лишь зная Истину и следуя ей.
Но что такое Истина, которой в Индии поклоняются как Богу? И не только в Индии. Можно вспомнить евангельскую максиму: "И познаете истину, и истина сделает вас свободными" (Ин., 8, 32). По Августину, Истина "не возникает, а остается такой, какова есть, какой была и какой всегда будет" ("Исповедь Блаженного Августина", IX, 10, 24) [[9]]. Истина, истинно-сущее, истинная реальность – праоснова Бытия, разные философы и мудрецы называли ее по-разному, но суть ее от этого не менялась. Истина – то, что все равно будет. Мир живет по имманентным ему законам, и человеку, плоть от плоти порождению природы, предназначено следовать ей. Если он этого не делает, то теряет связь с миром и рано или поздно отторгается им за ненадобностью, уступая место другим, более понятливым, высокоорганизованным существам. Если так случится, то человек не оправдает своего назначения и его тяжкая История окажется безответной, бессмысленной.
Возомнив себя "вольноотпущенником природы" задолго до того, как И. Г. Гердер нарек его этим именем, человек привык игнорировать природные законы, и все в мире стало расползаться по швам. Человек не сразу это заметил, а лишь тогда, когда уже нельзя было не заметить, когда пропасть, разделившая его с миром, стала угрожать его жизни, когда он ощутил себя в этом мире потерянным, ненужным, одиноким, но еще не осознал себя виновником случившегося. Он упрекал Природу, Бога, от которых давно отступился, только не себя. Как же! Царь природы – вне подозрений! Мог ли он – всесильный, всеблагой – быть причиной собственных недугов? И истово искал причины вовне, посчитав себя жертвой очередного вывиха Истории, на сей раз научно-технического прогресса, пренебрегшего человеческой сутью.
Но философы говорят – каков человек, таков и мир, и каков мир, таков и человек, его создавший. И если нынешняя цивилизация чем-то его не устраивает и он сам ее называет бездуховной, механической, "дьявольской", то остается понять, почему сотворенное им детище таково. Обожествив науку и технику, соблазнившись материальным (строго говоря, тем, чем Сатана искушал Христа), на место духа поставив выгоду, человек удивляется – почему же мир утратил свою духовность. Есть мнение, что иначе и быть не могло, что нравственные потери были неизбежны при задаче покорить природу (победить ее, а не себя). Все происходит за счет чего-то, все требует жертвы. Нужно было высвободить энергию для технического рывка, сулившего удобства и барыши. Но почему же после этого не пришло ощущение внутреннего благополучия? Деньги делают деньги, "люди гибнут за металл" (на удивление Сатане). Если ради прогресса закладывается душа, то о чем тут говорить! От такого прогресса блага не жди, а жди нечто ему противоположное. Этим были обеспокоены и русские подвижники начала века. О них не принято было упоминать последние шесть десятилетий, хотя русские философы защищали Историю и Человека, веря в разумность Жизни, в присущность Логоса бытию, унаследовав от Толстого и Достоевского их всемирную чуткость.
Для человечества не безразлично, кем и во имя чего созидается прогресс [[10]]. Мир сотворенный неизбежно несет на себе печать творца. Думали, во имя прогресса можно поступиться чем угодно, окупится: во имя благой цели, светлого будущего все средства хороши. Но Света не появилось, а сгустилась Тьма. Так было во все времена, когда одно приносили в жертву другому, даже не задумываясь над тем, имеет ли кто на это право в глубинном смысле, решая судьбу не только другого человека или народа, но и другого языка, другого обычая, наконец.
Алгоритм, заложенный в машину "прогресса", продолжал действовать на свой лад. Созданные злой волей или подневольным трудом вещи, воплотившие дух своих создателей, сказывались разрушительно на человеке. Вещам не безразлично, кто их творец, какие цели он преследует. Вещи несут на себе образ своего создателя и распространяют вокруг его волю. И потому сама по себе высокая организация труда, скажем, в фашистской Германии не могла обеспечить нормальный тип человеческих отношений.
Простая, казалось бы, истина: не только бытие определяет сознание, но и сознание определяет бытие, а нелегко дается. Каково сознание, таково и бытие, и мы в этом убедились на собственном опыте. Все в мире едино, и ни одну сторону нельзя умалить, чтобы не пострадала другая. Диалектическое мышление – удел развитого ума, а если его нет, то и диалектики нет, а без нее любая идея мертва, ибо парадокс – закон жизни.
На Востоке не возникли условия для рождения "фаустовской души", истоки которой лежат глубоко – в идее богоподобного человека и богоборчества, в вызове богам и природе греко-римского мира. Если существовало представление о конечном, замкнутом космосе, то не могло не появиться и желания преодолеть эту замкнутость. Если существовало представление об изначальности "власти" (архе) и о необходимости преодолевать косную материю, то оно не могло не привести к тому, к чему привело. Восток сам по себе не встал на путь научно-технического прогресса, там не было научных революций западного типа, позволивших Западу вырваться вперед и диктовать всему миру свои условия. Но проницательные умы Индии, Китая, Японии отнеслись к европейской цивилизации настороженно уже потому, что она утверждала себя силой, и предостерегали против подражания Европе и Америке. То, что европейцу казалось само собой разумеющимся, поражало ум восточного человека. Тагора восхищала мощь европейского ума и богатство европейской культуры, но он видел и бездуховность ее цивилизации: "Запад систематически умерщвлял свою моральную природу в целях заложения прочного фундамента для своих гигантских абстракций производительности... Истина в том, что наука не совпадает с человеческой природой, она есть только знание и умение" [[11]].
Тот тип цивилизации, который приводит к порабощению одного другим, обречен на вымирание, как обречено на вымирание все противоречащее Истине, не укорененное в Бытии, – всякое искусственное образование, не сообразуемое с мировым Путем. И потому такую цивилизацию называли бездуховной, механической и на западный манер – "дьявольской" [[12]]. Подвижники предупреждали соотечественников, чтобы они не возлагали на нее надежд, ибо успехи ее кажущиеся. "Мы видели, как при всем се хваленом человеколюбии цивилизация не раз сама оказывалась величайшею опасностью для человека, гораздо более грозною, чем внезапные нападения диких номадов, от которых страдали люди в прежние времена. Мы видели, как цивилизация, гордившаяся своим свободолюбием, создала худшие формы рабства, чем когда-либо прежде существовавшие в человеческом обществе" [[13]]. Эти строки Тагор написал в предчувствии эпидемии нацизма. Его соратник по духу, японский подвижник мира Окакура Какудзо в своей знаменитой "Книге о чае" (1906 г.) взывал к здравому смыслу. "Моральная геометрия" японцев учит "и при каких обстоятельствах не терять присутствия духа, не нарушать гармонии вещей. Но народы мало пока понимают друг Друга, и это непонимание приводит к тяжким последствиям. В главе "Чаша человечности" Окакура вместе с тем дает возможность прикоснуться к таинству красоты, скрытой, повседневностью, и ощутить ее единящую силу. "Нормальный человек Запада – лоснящийся самодовольством – видит в чайной церемонии еще одну из тысячи и одной причуды, которые служат ему доказательством наивности, детскости Востока. Он смотрел на Японию как на варварскую страну, в то время как она предавалась мирным искусствам, и он стал называть ее цивилизованной с тех пор, как она устроила кровавую бойню на полях Маньчжурии. В последнее время любят вспоминать о самурайском кодексе (бусидо) – Искусстве Смерти, которое учит наших солдат умирать без оглядки, но почему-то мало кто проявляет интерес к чайной церемонии, которая позволяет судить о нашем Искусстве Жизни. Да останемся мы варварами, если наше приобщение к цивилизации зависит от позорного превознесения войны" [[14]].
Дальше Окакура Какудзо выходит на мировую арену, и слова его звучат пророчески: "Небо современного человечества в буквальном смысле сотрясается от борьбы Циклопов за богатство и власть. Мир движется вслепую в тени самомнения и вульгарности. Наука продается, потому что совесть и благожелательность принесены в жертву выгоде. Восток и Запад, как два дракона, мечутся в море невзгод, тщетно пытаясь отыскать жемчужину жизни. Нужно, чтобы вновь явилась Нюйва [[15]] и залатала разрывы в небе, мы ждем прихода великого Аватары [[16]]. А пока дайте нам спокойно вкушать наш чай и любоваться бамбуковой рощей в бликах полуденного солнца, прислушиваясь к журчанию родника и к шороху сосен, которые чудятся нам в звуках булькающей в котелке воды. Позвольте нам наслаждаться мимолетностью и чарующей бесполезностью вещей" [[17]].
Окакура Какудзо, вспоминает Р. Роллан, встречался с Вивеканандой: "Ему была еще суждена большая радость. Его посетил знаменитый гость: Окакура (в конце 1901 г.). Он приехал с японским настоятелем буддийского монастыря Ода и пригласил его на будущий Конгресс религий. Встреча их была трогательной. Оба почувствовали свое родство. "Мы – два брата, которые обретают друг друга, придя из самых противоположных далей..." Оба они, взаимно любя друг друга и признавая величие своего общего дела, знали в то же время, что оно для обоих различно. У Окакура было свое царство – царство искусства" [[18]].
Зов подвижников не повернул умы к свободе, хотя и заронил сомнение в правомерности существующего. Толстому верили миллионы (не только в России), но мир не встал на путь ненасилия, и Зло свершилось. Зло невиданного масштаба: две страшные, изначально бессмысленные войны подвели итог "Воли к власти", ознаменовав последнюю ступень восхождения или нисхождения помраченного духа, возжелавшего "бесконечности", мирового и вселенского господства любыми средствами. Мир был залит кровью, по "бесконечности" не получилось. В хаосе событий еще мало кто мог разобраться, но и мало кто из мыслящие не пережил потрясения.
Историю лихорадило. Она давно уже не следовала естественному пути, а делалась, вершилась в навязанном ритме и, как загнанная лошадь, нуждалась в покое. От нее многие отвернулись, как от дикой, неуправляемой, занесшей их совсем не туда, куда бы хотелось. В наши дни это чувство обострилось.
Что-то
с нами творится не то.
Может, выбран неверный путь?
Или где-то вкралась ошибка,
но где и какая?
А
ведь все идет как по маслу,
хотя дорожные знаки
ясно говорят,
что мы движемся не туда.
Когда
лихорадочный поиск
не вскрыл причину ошибки,
встал вопрос:
а не в нас ли самих причина?
Это стихи Г. Грасса. Казалось бы, куда яснее. Но нот, больше смерти боится человек заглянуть в себя, увидеть, что там, за пределом видимого.
Потом
перестали искать,
где ошибка
и в чем ее корень.
Отпада проблема вины
и виновных.
Ибо ясно – все виноваты.
Как никогда, спокойно
идем не туда, надеясь,
что ошиблись дорожные знаки
и все опять обойдется [[19]].
Историки вещают об "ужасе истории" [[20]]. Подвижники предупреждали: если обезличить человека, сделать его орудием, начнется братоубийственная война. "Если вы стремитесь заставить меня заняться избиением человеческих существ, вы должны разрушить во мне целостность человечности путем известных приемов, которые умертвят мою волю, заглушат мои мысли, автоматизируют мои движения, и тогда путем разрушения этой сложности личного человека получится та абстракция, та губительная сила, которая не имеет отношения к человеческой правде и поэтому легко становится грубой и механической" [[21]]. Прежде чем устраивать мировые бойни, нужно было доказать их необходимость, оправдать высшей целью. Во имя Идеи мирового господства перерубить корни, соединяющие один народ с другим, человека с человеком, наконец, человека с самим собой (от Природы то давно уже отлучили, следующий шаг – отлучение от самого себя, каким его природа, приобщенная к Красоте и Разуму, сотворила). Нужно было провести поистине титаническую работу опустошения, уничтожить накопленное веками и хранящееся в памяти, истребить совести, ум – все, над чем веками работал дух. "Ничего святого!" – значит "Все дозволено!".
Однако ни один нечестивый замысел почему-то не мог осуществиться, хотя для этого все было пущено в ход, приносились без счета человеческие жертвы. Не потому ли, что логика этих замыслов находится в противоречии с логикой еще неведомых нам законов Бытия (не той Эволюции, что зависела от непросветленного сознания, а той, которая от него не зависит)? Низвести сверх меры одно, чтобы возвысить сверх меры другое (по принципу рычага – "или-или"), – чтобы стать абсолютным господином над миром, над всей тварью земною, нужно сделать другого абсолютным рабом. Такова логика примитивного сознания – если можно урвать, почему бы не урвать; логика тоталитарных режимов, порождаемых обезличенной массой. Эту логику не зря называют "дьявольской", ибо она низводит человека до нечеловека.
Крайности сходятся: абсолютный господин столь же нечеловек, как и абсолютный раб. Но Природа не терпит несуразиц. Не для того она столь долго трудилась над Человеком, положив ему быть ее Мерой, чтобы вдруг лишиться ее навсегда. И потому у нечестивых замыслов по большому счету нет шансов, если, конечно, сам человек не откажется от себя окончательно, не предаст себя и если у Природы не лопнет терпение. Того, кто следует нечеловеческой логике, она рано или поздно отбрасывает как ненужный балласт, мешающий ее живому ритму. Того, кто нарушает Меру самой природы – положим, кому-то захотелось повернуть солнце вспять (и такое бывало), – она ставит на место. Если и это не помогает, находит себе новую Меру.
Иначе говоря, обречено на вымирание все то, что не имеет природного оправдания, не следует Истине, не укоренено в Бытии (о чем не ведают вершители социального произвола). Человеку остается осмыслить этот Закон, через "вспоминание", как говорил Платон, ощутить, какую разумную силу он таит в себе, понять, что удерживает мир в равновесии, позволяет человеку выживать, падая, подниматься и продолжать Путь.
Словом, История внушает не только ужас, но и Надежду, даже уверенность в том, что все наладится, если человек познает себя, поймет природу "как бы двойного бытия" – что есть Нечто от него не зависящее, но для него благоприятное. Одни называли это Дао, другие – Логосом, третьи – Законом Эволюции, и все называли Истиной. Собственно, не в слове дело, важно, что Нечто существует, что оно имманентно природе человека. Нужно лишь научиться внимать этому. Если Истина есть некий объективный закон, порядок вещей, то остается понять и довериться ей. Все непричастное Истине, оторванное от Бытия, лишенное корней и потому неживое, иллюзорное, сколь бы ни казалось могучим, обречено на гибель, а все причастное ей, сколь бы ни выглядело слабым, хрупким, будет жить, ибо укоренено в Бытии. "Неправда, вырастая в могущество, все же никогда не вырастет в правду" [[22]]. Такова Воля Бытия, давно алчущего встречи с Волей Человека.
Пережившее братоубийственные войны, потрясенное тоталитарными режимами сознание не могло не задуматься над причинами того, почему общественное развитие не следует путем, предписанным теорией, а поворачивает совсем не туда, куда полагалось бы, что в значительной мере подорвало исторический оптимизм. В то же время разочарование в прежних взглядах заставляет искать выход, вторгаться в тот пласт Истории, который раньше оставался вне поля зрения, хотя и обусловлен человеческой природой. Так или иначе, общественное мнение убедилось, что нельзя безнаказанно попирать законы естественного развития, идет ли речь об экологии природы или экологии культуры. Такие понятия, как честь, совесть, сострадание, способность откликаться на беду другого, более не кажутся анахронизмом, по крайней мере тем, кто еще способен что-то понимать. Чистый рационализм не удовлетворяет человека, ощутившего себя "голым в пустыне", несмотря на изобилие вещей. Внимание к внешнему притупляет внимание к внутреннему, прибыльно вовне – пусто внутри, в результате при внешнем благополучии возникает состояние внутренней опустошенности.
Уже говорилось, что примитивное сознание мыслит по принципу "рычага" – чем выше одно, тем ниже другое, одно существует за счет другого до полного исчерпания последнего. А это противоречит законам природы, где все уравновешено. Потому и внешнее благополучие не в радость, если с ним не в ладу душа. Отсюда внутренняя тревога, ощущение неблагополучия Целого. Это может быть и на уровне инстинкта, – можно и не понимать, а ощущать, что что-то неладно. И получается – все, казалось бы, есть, а покоя нет, душа не на месте, томится, как в темнице, и рвется на волю (если, конечно, она осталась, не запродана). Значит, не то душе надобно, и ничего с этим не поделаешь, разве что вовсе от нее отказаться, как уже не раз бывало. Но ничего хорошего из этого не получалось. Если для Фауста как-то сошло (так по крайней мере казалось Гете), то с Лёверкюном дело совсем уж плохо: продавший душу теряет разум. Видимо, душа и разум как-то связаны.
Значит, надо полагать, честь, совесть, благородство, чувство собственного достоинства, без которых надеялись обойтись, как мешающих прогрессу ("быть, чтобы иметь"), нужны человеку не менее, чем, скажем, органы дыхания или кровообращения, т.е. это не блажь, а проявление психофизической природы. Нравственные моменты выполняют свою функцию в жизнедеятельности целого, и физиология (не говоря уже об экологии) теснее связана с психикой, чем принято было думать до недавнего времени. Возможно, правы древние, – эти "человеческие" качества имманентны природе, и кто теряет их, теряет связь с Целым, становится изгоем, даже не "блудным", а вовсе не "сыном" (если вовремя не вернется в лоно). И получается, нет у человека другого выхода, как признать онтологическую суть нравственного веления, признать его Законом Бытия и следовать ему, чтобы не выпасть из Целого.
Полвека назад мало кто верил в реальность ненасильственного пути, в жизнь по совести, без войн, без посягательств на свободу, хотя был уже перед глазами пример Индии. Но и сейчас, когда путь ненасилия начинает осознаваться альтернативой "концу света", нет ему полного доверия. Мир слишком долго находился под гипнозом власти, верил в право сильного ("победителей не судят"), не имея дальновидения, не мог предположить, к каким последствиям приводит неправедная победа. Так, видимо, было удобнее – не утруждать свои ум тем, что не сулит прямых дивидендов ("а там хоть потоп").
У Толстого были миллионы последователей, но мир не принял его учения, не был к нему готов – к приятию мудрости ненасилия. Оно все еще казалось проявлением слабости, а слабость презиралась теми, кто полагался на "волю к власти". Ненасилие, в самом деле, бывает двух родов (как и все прочее) – истинное и мнимое: одно от недостатка силы, другое – от ее полноты. Мнимое, ложно понятое смирение, действительно, есть признак слабости, малодушия, покорности и рабства. Это не "ненасилие", а "бессилие", не принцип, а безысходность. Так же как сила, произрастающая на рабстве, не есть истинная сила, а есть оборотная сторона бессилия.
Похоже, что мир пресытился тем и другим – и насилием и бессилием – как не соответствующим человеческому Пути. Фаза "отдыха" для ума ("сила есть, ума не надо") или завершилась, или близка к завершению. Движущей силой становится Разум, Мысль: "Ум двигает материю" – "mens agitat molem". Говоря словами Вергилия ("Энеида", VI, 726–727):
Дух изнутри питает, и
всею, разлитый по членам,
Движет громадою Ум и с великим сливается телом.
Кто не приобщится к Разуму, Нусу, Логосу, того уж ничто не спасет. Мир пойдет дальше, за отставшими не вернется: времени для раздумий было достаточно.
Истинная сила не нуждается в доказательствах, за ней следуют без принуждения. Если есть принуждение, значит, нет истинной силы. Подлинное ненасилие – Принцип, Мировоззрение, доступное высокоразвитому уму. Истинное ненасилие – удел сильной личности, победившей себя. Пример тому Ганди, опиравшийся на Истину. "Глубокие корни в моем сознании пустило убеждение, что мораль есть основа всех вещей, а истина – сущность морали. Истина стала моей единственной целью. Я укреплялся в этой мысли с каждым днем, и мое понимание истины ширилось". Опираясь на Истину, на Закон Бытия, на логику Жизни, человек становится непобедимым. И напрасно подвижники, радетели Истины, впадали в отчаяние, видя, что все идет не так. (Предчувствуя приближение первой мировой войны, Р. Роллан писал в своем швейцарском дневнике: "Я подавлен. Я хотел бы умереть. Ужасно жить среди обезумевшего человечества и видеть банкротство цивилизации, сознавая свое бессилие. Самая большая катастрофа в мировой истории на протяжении веков – крах наших самых светлых надежд на братство народов"). Но жизнь возьмет свое: рано или поздно прорастает то, что таится в недрах человеческой души.
Путь Правды, "следования истине", что Ганди называл сатьяграхой, – путь не жертвы, хотя в может потребовать всей жизни, а истинного видения, прозрения, когда мир открывается человеку. Освободившись от пут неведения, человек начинает ощущать всеединство вещей: все связано между собой невидимыми нитями, и ни одну нельзя оборвать, чтобы не пострадала другая, не нарушилось Целое. Это чувство всеединства неизбежно рождает ахимсу – особое состояние души, не допускающей насилия, что требует высшего бесстрашия и мужества. "Ахимса – всеобъемлющий принцип. Все мы – слабые смертные, пребывающие в пламени химсы (насилия – Т.Г.)... Человек не живет ни минуты без того, чтобы сознательно или бессознательно не совершать внешней химсы. Уже сам факт, что он живет – ест, пьет и двигается, – неизбежно влечет за собой химсу, то есть разрушение жизни, пусть даже самое незначительное... Ахимса представляет собой единство всей жизни вообще, ошибка, совершенная одним человеком, не может не иметь последствий для всех". "Для меня ненасилие, – продолжает Ганди, – не просто философская категория, это закон и суть моей жизни" [23].
Исповедующий Истину становится свободным; несвободен тот, кто не видит других. Насилие по своей природе безнравственно, а безнравственный человек не может быть свободен, хотя может считать себя таковым. Но это превратно понятая свобода, самообман, порождаемый неведением, незнанием того, что есть истинная свобода, к которой извечно устремлена душа человека.
Истинно свободный ум гуманен. Одно порождает другое: просветленность – свободу, свобода – гуманность. У осознавшего иллюзорность пут нет препятствий на пути: ему ничто но метает видеть вещи такими, как они есть, проникнуться состраданием. "Тот, чье сердце не проникается состраданием при взгляде на любого, кто обладает чувствами, – не человек", – говорил шесть веков назад автор "Записок от скуки" Кэнко-хоси (1283-1350) [24].
Значит, устремляясь к Свободе, человечество устремляется к гуманности. Путь к истинному гуманизму – свобода индивидуального, никакой другой Свободы не существует кроме свободы каждого, которая дается победой над самим собой, над своими страхами и похотями, о чем говорят древние, которые были мудрее нас.
Всякое же насилие порождает лишь новое насилие, как всякое зло порождает лишь новое зло и никогда не становится добром. Древние греки и древние китайцы говорили, что вещи одного рода притягиваются друг к другу: зло к злу, добро к добру, и лишь добро врачует зло. Разве не ко времени звучат слова Августина: "Ужели любой враг может оказаться опаснее, чем сама ненависть, бушующая против этого врага? Можно ли, преследуя другого, погубить его страшнее, чем губит вражда собственное сердце?" ("Исповедь Блаженного Августина", 1.18, 29).
Ганди открылась высшая мудрость ненасилия: силой не истребить зло, не только цель не оправдывает средства, а средства и есть цель. Благая цель достигается лишь благими делами (благими же намерениями, как известно, вымощен путь в ад). Не проникшись пониманием этого, невозможно ничего понять, и, прежде всего, – необходимость очищения сознания от самомнения. Ганди находил опору в той традиции, которая не иссякает со временем, ибо укоренена в Бытии. Истина погибает в сетях фанатизма и догматизма (от избытка веры и от ее отсутствия), теряя связь с всеобщим. "Я никогда не делал фетиша из последовательности. Я – поборник Истины и говорю то, что чувствую и думаю в данный момент... Моя цель – не соблюсти верность прежним высказываниям, а быть верным Истине" [25].
Собственно, идея следования Истине, Искренности (у японцев эти понятия обозначаются одним словом – макото) в критические моменты Истории звучит особенно остро, как, скажем, у Т. Карлейля, который видел в следовании Истине-Искренности путь спасения человечества. Его не зря называли "пророком XIX века". Он писал: "Характерную особенность всякого героя... составляет именно то, что он возвращается назад к действительности, что он опирается на сами вещи, а не на внешность их" [26] – Поистине "дух живет, где хочет" (spiritus flat ubi vult) или где пришло его время [27]. "Как для каждого отдельного индивида, так и для общества дело сводится только к тому, чтобы открыть истинные регуляторы вселенной, вечные законы природы в связи с данной в каждый момент задачей и действовать в соответствии с ними" [28]. Разве это не перекликается с тем, что говорят ныне ученые?
Следовать Истине можно лишь при условии полной Искренности: "Я сказал бы, что искренность, глубокая, великая, простодушная искренность и есть первая черта в характере всех людей, сколько-нибудь героических". Но нужен не только герой, "но и мир, достойный его, который не представлял бы одной сплошной массы слуг; в противном случае герой пройдет почти бесследно для мира!" [29]. (Гете, кстати, заметил: "Для камердинера не существует героя", а Гегель добавил: "Конечно, для камердинера не существует героя, но не потому, что герой не герой, а потому, что камердинер – камердинер").
Видимо, Индия, не познавшая "фаустовского духа", была подготовлена к пути ненасилия. Верность Истине, традиции позволили Ганди осуществить задуманное. Невысоко оценивая свои заслуги, он добился, казалось бы, невозможного: призвал народ к ненасильственному сопротивлению и привел его к победе, дотоле неизвестной человечеству, к победе прежде всего над самим собой. Сила не могла принести Индии освобождения, а ненасилие принесло, избавив от колониальной опеки и чувства зависимости. Победивший себя непобедим, это справедливо и по отношению к человеку, и по отношению к народу. "И один в поле воин" – Человек сильнее обстоятельств, сильнее системы, если осознал себя, опирается на Истину: над ним Природа поработала дольше, чем над любой из систем. Когда человек поймет это, настанет день его освобождения.
Было немало прозорливых мыслителей, но мало кому удавалось претворить свои идеи в жизнь, как Ганди. Можно сказать, он положил начало новой исторической фазе ненасильственного мира [30]. Время способствовало успеху. Мир устал от насилия. За последний век его было больше, чем за все предыдущие. Человек оказался перед необходимостью выбора: или он восстановит связи с Реальностью, или будет отброшен ею.
Похоже, эстафету ненасильственного мира – без войн и произвола – принимает Россия, прошедшая через небывалое в истории и необъяснимое человеческой логикой истребление творческого потенциала нации и закономерно последовавшего затем национального отупения и застоя. Теперь по логике вещей должен последовать обратный ход – пробуждение национального достоинства, расцвет Творчества. Опять-таки, по закону Целого, надо думать, все изнурительное и унизительное Россия уже пережила с лихвой. Теперь время "собирать камни" – духовно возрождаться. И есть на что опереться, много накопилось незатребованного прежде. Россия выстрадала свое право на Свободу, на выбор, но выбор, сколь ни кажется свободным, диктуется прошлым народа. Выбор в том, чему в этом прошлом отдается предпочтение, какой извлекается урок.
Часто ссылаются на речь Ф. М. Достоевского при открытии памятника Пушкину. Но теперь его слова вновь внушают доверие, и не только россиянам: "Будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии" [31]. Все зависит от того, сумеет ли Россия увидеть себя со стороны и ужаснуться; пройдя через все круги ада, не убоится ли чистилища, состоится, возродится как нация, и тогда остальные народы вздохнут спокойно. Осознавший себя не причинит вреда другому. Чувство превосходства – удел неразвитого ума, при расширении сознания и национальному комплексу не будет места, ибо держится он на неведении.
Хотелось бы верить. Не случайно же на Россию возлагали надежду проницательные умы Европы и Азии [32]. О. Шпенглер, по мысли Н. Бердяева, видел в русском Востоке "тот новый мир, который идет на смену умирающему миру Запада" [33]. Говорят, русская литература нечто большее, чем только литература, и русская философия одновременно и нравственное учение, вселенская боль – одно в другом. Правда, наша литература более полувека развивалась вне этой традиции, вне связи с философской мыслью России, но и из этого кризиса она, похоже, выходит. Если уж есть чувство всеобщности, то перекрой ему дорогу в одном, оно проявится в другом, скажем, в научном предназначении России, в космизме Н. Ф. Федорова, К. Э. Циолковского, А. Л. Чижевского, В. И. Вернадского. А сколько мы еще не знаем и только начинаем узнавать! Согласитесь, есть в этом что-то обнадеживающее: уверовать в живое вещество, увидеть в куске минерала застывшую связь времен и верить в Ноосферу, когда и в завтрашнем дне не было уверенности.
Что и говорить, есть нечто, действительно, непредсказуемое в России, некая роковая полярность: чем больше света на одном конце, тем меньше на другом, и отсюда тоска и отчаяние – "Не дай бог с умом и талантом родиться в России!" (Пушкин). И ладно бы пропасть разделяла, так нет, все вместе – взаимная пытка; одни творят в высшем пределе, другие с таким же энтузиазмом разрушают, не ведая, что творят. В цивилизованных странах Свет распространен как-то более равномерно. И России, видимо, предстоит просвещение, и лишь просвещение спасет ее от самоистребления. Мы уже и теперь, как говорят специалисты, находимся в третьем десятке по интеллектуальному развитию. О чем еще говорить! Все остальное – следствие.
Толстой и Вернадский признавали прямую связь нравственного воспитания со спасением земли, а кто больше нас нанес ей травм? Теперь уж трудно не видеть, к каким последствиям приводит разрушение культуры, духовности – царство безнравственности. Народ, утративший нравственное чутье, внушает ужас другим народам, и тут нечему удивляться. И все же не случайно философия непротивления злу насилием созревает на почве русской культуры. Толстой выразил молчаливые чаяния России, Ганди претворил их в жизнь: "Сорок лет тому назад, когда я переживал тяжелейший приступ скептицизма и сомнения, я прочитал книгу Толстого "Царство божие внутри вас" и она произвела на меня глубочайшее впечатление. В то время я был поборником насилия. Книга Толстого излечила меня от скептицизма и сделала убежденным сторонником ахимсы". Видимо, Индия способна была принять идею ненасилия, подготовленная многовековой традицией, но истинный путь ненасилия доступен лишь высокому сознанию, о чем Ганди напоминает своему народу: "Индия гордо заявляет о своем праве считаться karmabhumi – страной, осуществившей ахимсу, несмотря на замечательны" открытия в этой области наших древних мудрецов то, что ныне у нас именуется ахимсой, похоже на пародию. Истинная ахимса должна означать полную свободу от злой воли, гнева и ненависти и беспредельную любовь ко всему сущему. Являя своей жизнью образец истинной высочайшей ахимсы, Толстой с его огромной, как океан, любовью к людям служит нам маяком и неиссякаемым источником вдохновения" [34].
Так переходят идеи – от народа к народу, из Индии в Китай, из Китая в Россию и опять в Индию; от прошлого к настоящему, от настоящего к будущему, и это служит мерилом их истинности и залогом Единства высшего порядка. Ложные же идеи рано или поздно отмирают. Они тоже могут увлекать народы, созидать эпохи "всемирного заблуждения", но им отпущен короткий срок, ибо они не укоренены в Бытии в отличие от истинных идей, которые рождаются Реальностью, и потому не знают умирания, как не знают и границ пространства-времени.
Те, кто мог оценить мудрость Востока, не уповали на силу, и их не смущали пророчества Р. Тагора: "Восток изменит всю-картину современной цивилизации, вдыхая в нее жизнь там, где она механична, заменяя холодный расчет человеческим чувством и стремясь не столько к мощи и успеху, сколько к гармоничному и живому развитию, к истине и красоте" [35]. И это было" знакомо, таилось в глубинах памяти и теперь вспоминалось, выплывало из Небытия, воплощаясь в слове. В России это Знание существовало не в форме канона, пережившего тысячелетия, как в Индии или Китае, а в наитии поэтов – Тютчева, Блока" Цветаевой, Мандельштама, в поэтической по духу философии Вл. Соловьева, Н. Бердяева, П. А. Флоренского, В. Эрна.
Что уж говорить о востоковедах, которые уповали на Восток в поисках Истины. Востоковедная школа начала нашего века была одной из сильнейших: В.П. Васильев, В. М. Алексеев, Ф. И. Щербатской, О. О. Розенберг, С. Ф. Ольденбург, Ю. К. Щуцкий, Н. И. Конрад (если иметь в виду лишь тех, кто занимался буддийским регионом). В 30–50-е годы востоковедение пострадало не менее других жизненно важных наук и в этой сфере предстоит еще отдать должное подвижникам и восстановить утраченное, прежде всего культуру исследования.
Естественно, ученых-востоковедов интересовал вопрос о типе-связи "Восток – Запад". С. Ф. Ольденбург посвятил этой теме статью, предварявшую первую книгу сборника "Восток", вышедшего в Петрограде в 1922 г. Насущность проблемы, думаю, позволяет передать подробнее ее содержание: "Лихорадочно быстро идет изучение Востока и его бесконечных языков и народов, каждый год приносит новые открытия из этого мира, которые во многом являются столь своеобразными, что сперва кажется, будто между ними и Западом непроходимая пропасть.
История глубже всматривается в эти, как будто совсем новые и необычные явления и скоро замечает аналогию, сходство, "иногда даже почти тождество и потому определенно указывает, что здесь тот же общечеловеческий мир с теми же явлениями, с теми же законами развития, что человек на Востоке тоже прежде всего человек вообще. И все-таки, несмотря на это важнейшее достижение, справедливость которого мы не можем оспаривать, мы чувствуем, что на Востоке есть нечто совершенно своеобразное и отличное от нашего западного мира, и мы хотим получить ответ, почему, несмотря на то, что история человечества едина, что в ней мы не можем выделить Восток как нечто обособленное, понятия Восток и Запад остаются в нашем представлении раздельными и в чем-то несоединимыми...
Все великие достижения Востока сделаны при слабом развитии математики и наук, исследующих окружающую нас природу. Понимание природы, процессов ее жизни, жизни нашей планеты, ее солнечной системы и вообще окружающего нас мира оставалось всегда чрезвычайно недостаточным на Востоке. Развитие науки, точного знания было незначительно. Почему это было так, мы пока не знаем, ибо объяснять это исключительно властвованием религиозной стихии, конечно, неправильно... Ясно то гигантское, почти сверхчеловеческое напряжение, которое должен был сделать Восток, ясна та исключительная глубина интуиции, которая должна была обнаружиться, чтобы сделать возможным необыкновенные достижения Востока в области творчества духа: философии, искусства, даже в технике. В последней ему приходилось заменять громадным опытом слабо развитую, недостаточную теорию. Достижения Востока в указанных областях не меньше, часто даже выше достижений Запада, но основа их иная... Очень скоро Запад начинает чувствовать потребность в точном понимании явлений окружающей его природы, его не удовлетворяют здесь туманные полуответы Востока, который ищет других ответов, ставит другие вопросы, который настолько увлечен вопросами духа, что пренебрегает тем, что считает низшим и отдельным от духа – материю.
Отсюда и получается то замечательное явление, что Восток, с его изумительной мудростью, силой и красотой, на каждом шагу представляется Западу своим миропониманием каким-то младенцем или недоучкой.
Но Запад чувствует все же исключительную мощь человеческого духа, которую проявил Восток и которую никогда уже так, с такой свежестью, непосредственностью и самостоятельностью человечество не сможет проявить, ибо теперь оно уже говорит во всеоружии знания, ибо теперь остроту зрения заменил и микроскоп, и сверхмикроскоп, и телескоп, слух заменяют тончайшие и чувствительнейшие инструменты, и они же заменили осязание. Ибо теперь у нас на каждом шагу помогающие нашей работе теории – результат достижений точных наук, – наши дети на школьной скамье знают то, что было недоступно величайшим умам Востока. Мера и число проникают в глубину вещества к открывают там недоступный Востоку мир бесконечно малых, точно так же как за пределами земли они открывают мир бесконечно большого... Все это было неведомо Востоку, когда он: мощью своего ума проникал в тайны жизни, изучал и создавал понимание того, что ближе всего человеку, – самого человека. И тут мы видим на каждом шагу, как ничтожнейши наши достижения в этой важнейшей для нас области, мы чувствуем постоянно, что Восток здесь во многом сумел подойти ближе к человеку, понять его духовное творчество лучше, чем это делаем мы.
Гордые своими точными знаниями, мнящие себя первыми в мире, европейцы, столкнувшись ближе путем науки с Востоком, поняли, что справедливо это старинное чувство очарования восточным миром, что мудрость и красота его нужны нашей жизни, которая станет бледнее без них. Европейцы поняли, что только Восток показал полную духовную мощь человека, громадную непосредственную силу его мысли и чувства, которая была так велика, и без могучего оружия знания. Глубоко захваченный Западом Восток все же хранит и свои старые заветы, старые навыки, и что он сделает из них, мы еще не знаем, но хотим это знать. В старое время Восток создавал свою материальную жизнь, думал о прочности – вечности и красоте, не считаясь ни с временем, ни с затраченной силой, т.е. с ценою, в то время: как Запад стремился в своей технике достичь наибольшей экономии труда, думая при этом больше о скорости производства, чем о прочности. Кипучая жизнь Запада требовала и требует скорейшего оборота, который имел гораздо меньшее значение для Востока. Теперь и это должно измениться на Востоке, вовлеченном в мировой оборот событиями жизни. И мы стремимся узнать, как он справится с этими новыми для него задачами...
Мы уверены, что России и Западу нужно знать и древний и новый Восток, без этого знания наша жизнь беднее и одностороннее. Чтобы свершилось, наконец, давно желанное глубокое и настоящее единение Востока и Запада, необходимо полное взаимное понимание, к нему мы стремимся и хотим по мере сил ему помочь" [36].
И молодой В. М. Алексеев горячо верил в благотворность встречи Запада и Востока. В 1907 г. он писал, что эта встреча "откроет огромную перспективу всему человечеству. Реакция западной души на душу Востока и наоборот создаст новую жизнь, новых людей, новую культуру. Я счастлив именно этим синтезом" [37]. Ради этой встречи мы и отправимся в путь, и нужно набраться терпения, ибо путешествие предстоит далеким и трудным, к истокам человеческой мысли. Чтобы корабль доплыл по назначению и благополучно вернулся, придется кое от чего отказаться, сбросить лишний груз, который затруднит его ход, а то и вовсе не даст сдвинуться с места. Это груз предрассудков. Отплыть с открытыми глазами и открытой душой, чтобы увидеть нечто, вселяющее надежду. Ну а кто боится качки, пусть отойдет в сторону.
Итак, начнем с простого: допустим, что мы не все знаем и что наш способ видения вещей не единственно возможный. Это европоцентристам и востокоцентристам пристало утверждать что-нибудь одно, свое, в противовес чужому – "или то, или это, третьего не дано". Но мы-то знаем, что "третье" дано и, может быть, в нем Истина, в Середине, той самой, которая "золотая". Если же следовать логике одностороннего подхода, хочешь не хочешь, уткнешься в противоречие. Скажем, одни говорят: Восток есть Восток, а Запад есть Запад, и нет между ними ничего общего, я никогда им не понять друг друга. Иные, напротив (крайности сходятся): Восток и Запад суть одно и то же, и нет между ними никакой разницы, и нечего голову ломать. Они понимают единство как единообразие, сплошную линию или плоскость – и никаких зазоров. У одних крайность в суждении от многознания (которое не составляет мудрости), у других – от его отсутствия. В общем, и те и другие препятствуют Встрече, одни потому, что в нее не верят, другие потому, что не находят разницы, не видят в ней необходимости.
Все действительно едино, но не все одинаково. (Сказано в Писании: "Все воскреснем, но не все изменимся" (I Кор., 15, 51)). И потому едино, что неодинаково. В древности и в средние века знали: в единообразии нет жизни и, естественно, не может быть единства. Ради данной Истины всходили на костер: "Этот материальный мир не мог бы быть прекрасен, если бы состоял из вполне подобных частей, ибо в сочетании различных частей проявляется красота и в самом разнообразии целого она состоит... Разнообразие и противоположность не препятствуют высшему благу целого, так как оно управляется природой, которая подобно предводителю хора направляет противоположные, крайние и срединные голоса к единому, наилучшему, какое только можно представить себе, созвучию" [38]. И Гераклит говорил: "Противоречивость сближает, разнообразие порождает прекраснейшую гармонию, и все через распрю создается" (В 8) [39].
Однако и в 80-х годах XX в. приходится доказывать старую, как мир, истину: без многообразия нет единства (хотя за нее уже не нужно всходить на костер, требуется лишь призадуматься немного). Я бы не стала столь горячо напоминать об этой, если бы не видела в превратном понимании единства источник многих наших бед – и национальных, и социальных – и если бы лично не столкнулась с этим (хотя до костра не дошло).
Судите сами! На протяжении почти двух десятилетий я упрямо твердила: Восток и Запад – суть одно, две половины, сообщающиеся между собой как взаимодополняющие стороны. И на протяжении тех лет меня, мягко говоря, упрекали в противопоставлении Востока и Запада. В чем же причина аберрации зрения, когда одно принимают за два при полной трезвости ума? Вопрос серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Много ли увидишь, если смотреть одним глазом, далеко ли уйдешь на одной ноге? И откуда эта неуемная страсть к раздвоению и пониманию навыворот, лишившая человека покоя?
Приведу еще один пример, более вопиющий. Пожалуй, мало кому так не повезло в этом отношении, как Р. Киплингу. Кому не памятны его слова:
Запад есть Запад,
Восток есть Восток,
И с места они не сойдут...
Но Киплинг имел в виду другое, противоположное. "И с места они не сойдут", а в подлиннике сказано "эта пара (или "эти двое" – twain) не встретится", и мысль не закончена, стоит занятая. Не вообще не встретятся, а "пока не предстанет Небо с Землей на страшный господень суд". И опять – не "страшный", а "великий" (great), нелицеприятный, надо полагать. Для Киплинга в этом, видимо, не было ничего предосудительного, т.е. после какого-то момента Встреча состоится, пусть одни называют этот момент "божьим судом", другие – нравственным пробуждением, третьи – новым мышлением. И ведь точка вновь не поставлена, значит, мысль не закончена. Читаем дальше:
Но
нет Востока и Запада нет,
Нет наций, различья, границ,
Если двое сильных мужчин,
Рожденных в разных концах земли,
Станут друг к другу лицом [40].
Разве этим не все сказано? Не будет границ, если люди станут друг к другу лицом. Ради этой, дважды повторенной мысли и написал Киплинг свою "Балладу о Востоке и Западе". И он ли виноват, что сознание по привычке переиначило смысл, воспринимая мир по-своему, скажем, недоброжелательно. То, что укоренено в обыденном сознании с давних пор, изживается с трудом [41], но изживается непременно по мере расширения представлений, преодоления "образа врага", чуть не стоившего человечеству жизни.
Я вспомнила Киплинга не ради восстановления справедливости и его оправдания – он в этом не нуждается, нуждаемся мы – в возрождении способности видеть вещи такими, как они есть, а не как подсказывает "усеченное" сознание. Когда-то одно разделили на два по необходимости, потом – по инерции. Но подобное деление не может быть бесконечным, где-то должен быть предел, предел Целого. К тому же одна половина никак не хочет обходиться без другой (как свет без: тьмы, вдох без выдоха), они ищут и находят друг друга. И об этом говорили греки, скажем, Платон: "Вот с каких давних пор свойственно людям любовное влечение друг к другу, которое, соединяя прежние половины, пытается сделать из двух одно и тем самым исцелить человеческую природу" ("Пир", 191 Д). Таковы же рассуждения Эмпедокла о Любви-Дружбе и Вражде-Ненависти, Чередующихся состояниях мира ("О природе", 17):
Сей
беспрерывный обмен никак прекратиться не в силах:
То, Любовью влекомое, сходится все воедино,
То ненавистным Раздором вновь гонится врозь друг от друга.
Таков закон жизни: есть время сходиться, есть время расходиться. Два состояния чередуются, сменяя друг друга, но уникальность нынешней ситуации в том, что поворот к Дружбе, к соединению начал, может не успеть совершиться, и парадигма Вражды примет необратимый характер. Потому и встревожены голоса тех, кто способен видеть. Их не так много, взывающих к памяти, способных понять, что мир закончит свое существование на физическом уровне, если не изменится на духовном, если не расширится сознание. Говорили же древние: "Небольшое заблуждение изменяло направление; великое заблуждение изменяло (человеческую) природу" ("Чжуан-цзы", гл. 8) [42].
В этой ситуации немалая доля ответственности лежит и на востоковедах, ибо восточная форма знания, целостный подход приобретают ныне особую актуальность. Впрочем, всем хватит работы по восстановлению истинного лика прошлого. Существование человечества, действительно, пришло в прямую зависимость от того, научатся ли люди думать по-новому, а попросту говоря, научатся ли думать вообще. Создается впечатление, что лишь немногим это удается; может быть, отчужденное от человека сознание перешло в науку и технику, покинуло человека, и Ум смирился со своим функциональным назначением, хотя наука и техника – лишь подспорье в решении человеческих проблем. Если не так, откуда ощущение "конца" при триумфе научно-технической цивилизации? Почему при обилии вещей жизнь не радует человека, напротив, внушает опасения, и чем дальше, тем больше?
Потребность в "новом мышлении", природа которого пока не осмыслена, видимо, можно объяснить необходимостью воссоединения того, что веками находилось в разъятом состоянии. Все действительное двуедино (не двуедин лишь Бог: "И вот благовестие, которое вы слышали от Него, и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы" (Первое послание от Иоанна, 1, 5)). Все имеет свою оборотную сторону, но каждая пара едина, два – это разные проявления одного. Но по какой-то причине еще в древние времена одни сделали акцент на том, что все парно (Пифагор, Аристотель), другие на том, что все едино (Лао-цзы, Будда). Думается, и это вызвано Необходимостью, или законом самоорганизации Целого, единства разного, единичного-единого, прерывного-непрерывного, – в этом и состоит загадка, парадокс Бытия. По необходимости одни предпочли членение, анализ с последующим синтезом, другие – нечленение, непротивопоставление. На какое-то время Запад и Восток забыли, что делают общее дело, хотя и разными путями, забыли цели своего назначения – освободить человека от ограниченности во имя спасения всего живого и неживого.
А может быть, и не могло быть иначе, каждой сторона предстояло пройти свой путь до конца, чтобы было с чем встретиться. Единство достигается при завершении пути, иначе это не единство, а принуждение; не взаимодействие, а взаимомучение.
Не случайно в "Книге Перемен" ("Ицзине") целая черта (ян) и прерванная (инь) сочетаются, олицетворяя последовательность и одновременность жизненных процессов. Так же не случайна функциональная асимметрия полушарий головного мозга: правое, более древнее, отвечает за целостное видение, интуицию, единство; левое – за логику, анализ и синтез. Но лишь вместе они обеспечивают жизнедеятельность Целого. В одно историческое время доминируют одни функции, определяя характер культуры, в другое – иные, в зависимости от поворотов Истории. Похоже, что в наше время доминанта смещается с левой половины на правую, с рационального, дискурсивного мышления на интуитивное, целостное. Все работает в колебательном режиме, говорят физики, функции правого полушария находились в пренебрежении в века рационализма. Теперь пришло время целостного взгляда, соединения разрозненного: прошлого-настоящего, чувства-разума, интуиции-логики, Востока-Запада. Одна половина находит другую, что свидетельствует о выходе сознания на новый уровень (на грани распада мир ищет Целое).
Может быть, человек, наконец, заглянет в себя, использует резервы памяти, активизирует накопленные за века знания, преодолеет инерцию мышления. Ведь это удивительно, что при живости западного ума, при подвижности содержания (постоянно меняющиеся идеи) сохраняется неподвижность формы, структуры сознания, которая, в сущности, не менялась со времен Аристотеля. Склонность к определенности, однозначности, к мысленной остановке движения, хотя со времен Гераклита известно, что все течет [43].
А может быть, неподвижность формы при подвижности содержания тоже обусловлена необходимостью: понадобилось упорядочивающее начало (Логос), чтобы высвободившееся, отделенное от Бытия, устремленное в бесконечность сознание вовсе не утратило опору, власть над самим собой.
Вполне возможно. Но пока приходится иметь дело с устойчивыми стереотипами: склонностью к дихотомии, линейности, к причинно-следственным связям, к статике, что, в частности, затрудняет понимание восточных текстов. На это сетовал еще американский знаток Востока А. Уоттс:
"Сложность и загадочность, с которыми сталкиваются западные исследователи дзэн, проистекают главным образом от непонимания принципов. мышления китайцев, принципов, которые значительно отличаются от наших и которые поэтому обладают для вас особой ценностью, ибо позволяют критически взглянуть на наши собственные идеи. Это не столь просто, как если бы мы пытались понять, чем, скажем, учение Канта отличается от учения Декарта, а кальвинисты – от католиков. Задача в том, чтобы понять разницу основных предпосылок, самого способа мышления, что чаще всего не принимается во внимание. И потому наше толкование китайской философии есть не что иное, как наложение типично западных представлений на китайскую терминологию... Трудность заключается не столько в языке, сколько в клише мышления, которые до сих пор отождествляются с академическим, научным способом рассмотрения вещей. Несоответствие этих клише таким предметам, как даосизм и дзэн, служит причиной неверного представления о том, будто так называемый "восточный ум" есть нечто непостижимое, иррациональное, мистическое" [44].
А. Уоттс писал это более 20 лет назад, но трудности не исчезли. Во многом они обусловлены не столько мировоззренческими особенностями, сколько инерцией мышления, нежеланием или неумением вникнуть в вопрос. Возражают против самой постановки проблемы "Восток – Запад", ибо нет, с их точки зрения, на Востоке того, чего не было бы на Западе, – ничего нового под луной. Конечно, востоковеды не столь хорошо знают Запад, но и западники не столь хорошо знают Восток, а стало быть, и не могут знать наверняка. Мудрый даос Чжуан-цзы говорил: "(Вся) тьма вещей живет, а корней не видно; появляется, а ворог не видно. Все люди почитают то, что познано знанием; а не ведают, что познание начинается лишь после того, как, опираясь на знания, познают непознанное" ("Чжуан-цзы", гл. 25). Или, ближе к нашему времени, английский исследователь японской литературы В. Г. Астон: "Даже Геродот и Платон, как ни далеки они от нас по своему мировоззрению, неизмеримо ближе стоят к нам по всем своим идеям, чувствам и моральным принципам, чем японцы 50 лет назад" [45].
Что по отношению к одной стороне Восток, по отношению к другой – Запад, спору нет, но отсюда не следует, что нет проблемы. Если нечто относительно, это еще не значит, что этого нет. Признавая единственным критерием Истины наглядность, мы недалеко продвинемся в актуальном познании Целого. Накопление знаний лишь предваряет открытия в науке, которые происходят, как правило, непредсказуемым образом. Открытия в науке и в искусстве подобны вспышке, озарению" как, скажем, явившаяся во сне периодическая система Менделеева. Однако наука пока не может объяснить механизм этих открытии. Не оттого ли, что укоренилось превратное представление о Целом – как слагаемом, а но присущем. Целое, о чем говорили и Кант, и Гумбольдт, недоступно дискурсивному мышлению, ибо не исчисляется, но доступно интуиции, озарению [46]. Все, что сообщает нам великий Ум, неизмеримо, но всеобще. Почему же не вникать в то, что составляет основу творческой личности. Или сознание, подсознание, не освободилось от страха перед пламенем костра, на котором жгли "еретиков", и в конце второго, может быть последнего, тысячелетия? Одолевает страх перед самим словом "мистика", тогда как "разум есть мистика для рассудка" – по словам Ф. В. Шеллинга, – не более того.
Одни считают христианство порождением Запада, духом западной культуры, другие указывают, что оно родилось на Востоке и несет на себе его печать. Но христианство – и то и другое, не потому, что есть "восточное" и "западное" христианство, а потому что такова природа Целого. И буддизм ость северный (махаяна) и южный (хинаяна) (кстати, не случайно, видимо, учения соотносятся крест-накрест: запад-восток и север-юг), и дробиться это западно-восточное отношение может до бесконечности. Скажем, ответвления махаяны – северный и южный буддизм чань (япон. дзэн) в Китае. В каждой школе и даже в каждом адепте (если он, конечно, не догматик) есть то и другое. Таково уж свойстве Дао-Пути: "Одно инь, одно ян и есть путь" ("Сицычжуань", 1, 17) [47].
Можно сопоставлять как большие регионы, культурные материки, так и малые, принцип будет тот же. Если это Закон Целого, то он всеобщ, универсален, приложим к любому случаю. Положим, греко-христианский Запад можно противопоставить буддийскому Востоку, но и внутри греко-христианской цивилизации есть греческая наука и есть христианская религия, есть и то, что позволяет объединять их вместе. Равным образом поздний эллинизм отличается от раннего, скажем, в понимании прекрасного. Для греко-восточного космополитизма характерен универсализм, прекрасное воплощает всеобщее, вечные законы бытия. В эллинизме римском преобладает индивидуальное начало – каждая вещь располагает своей мерой прекрасного. Если одни ставят акцент на всеобщем, едином, то другие – на индивидуальном, единичном.
Так, собственно, и двигалась мысль, переходя от одной крайности к другой, от утверждения всеобщности единства, непрерывности к утверждению всеобщности прерывности, атомизма [48]. И этот колебательный режим продолжался до тех пор, пока наука, в лице Н. Бора, не доказала принципиальную непротиворечивость прерывности и непрерывности, последовательности и одновременности, признав закон дополнительности (корпускула и волна – единые свойства света). Это открытие способствовало смене парадигмы научного мышления, переходу от принципа "исключенного третьего", доведенного до крайности – "или то, или это", "третьего не дано", к целостному мышлению – "и то, и то", в соответствии с законом самой природы. Процесс сближения двух типов мышления признавали и Н. Бор, и В. Н. Вернадский, но лишь в последнее время; этот факт становится достоянием науки, опять же благодаря усилиям не столько востоковедов, сколько, в частности, физиков, с большой пользой для дела прибегающих в своих научных изысканиях к восточной методологии (в качестве примера могу привести имя такого ученого, как С. П. Курдюмов).
В среде же гуманитариев, как ни странно, комплекс недоверия к восточным знаниям все еще дает о себе знать, хотя и появляются обнадеживающие симптомы, скажем, такие публикации, как "В поисках сознания" Ю. Шрейдера, философа по образованию. Опираясь на разработки буддолога Л. Э. Мялля, автор дает толкование Дхармы – текста, порождающего новые тексты. Прочтение дхармы всегда сугубо личное, ибо она неоднозначна, не имеет постоянного смысла и зависит от способности к восприятию – не к усвоению, подражанию, а к индивидуальному осознанию, пробуждению подсознания. И это" принципиально новое понимание самого процесса сознания как со-творчества. Говоря словами Н. Бора, человек начинает ощущать себя не только зрителем, но и участником в великой: драме существования. Коренным образом меняются умственно-нравственные установки, избавляя от псевдосознания (или "антисознания"), которым до сих пор удовлетворялся человек. Сознание сводилось к "работе смысловых клише, заготовленных впрок, и это последействие есть лишь имитация сознания (и, быть может, весьма искусная), лишь воспроизведение сознательных форм поведения, сознание машиноподобное" (это имел в виду А. Уоттс, говоря о причинах труднопереводимости восточных текстов). По определению М. К. Мамардашвили, "сознание есть акт осознания", думания, а не послушания; избавляет человека от "синдрома зомби" (мифических существ, нелюдей, имитирующих человеческие реакции). "Обнаружить этот синдром в реальной жизни, наблюдая отдельные реакции и акты поведения, нельзя. Увидеть можно лишь порожденные им социальные эффекты. Например, степень засорения языка смысловыми штампами, которые исключают личное осознание истинности или правдивости высказываний, личное различение добра и зла" [49].
Соединение субъекта-объекта, непосредственное включения человека в акт осознания себя и мира – признаки рождения нового мышления. Подобные ростки позволяют надеяться, что Восток не останется для нас "вещью в себе", а сослужит службу будущему, которое пока неясно. Сам факт живучести пары "Восток – Запад" говорит о ее неслучайном характере, но понять этот многомерный тип связи невозможно, водя указкой по географической карте. На уровне множества на найти единства. Можно обо всем сказать через одно, но нельзя об одном сказать через все. Восточные мудрецы учили видеть одно, таящее в себе Все, – непроявленный мир, который постигается через личное прочтение универсального текста при полном сосредоточении на нем, когда исчезает грань субъекта-объекта. В противном случае неизбежно разобщение: сначала рвутся связи человека с природой, потом человека с человеком, потом человека с самим собой. Чтобы остановить распад я возникла потребность в целостном подходе, где одно не отпадает от другого, а воссоединяется с ним.
Понятно, что для данной книги пространственная определенность – где Запад, где Восток – не имеет принципиального значения. Важно – как они соотносятся между собой, образуя Целое. Понятия Восток и Запад условны, меняется их содержание: подвижны, смещаются границы, но существование их неизбежно, как неизбежны две стороны одного ("Восток и Запад – по Гегелю, – есть в каждой вещи"). Это в дзэн возможен хлопок одной ладонью. Говоря словами чаньского патриарха Хуэйнэна, "для просветленного нет ни Запада, ни Востока". По это для просветленного! А нам, грешным, ничего не остается, как понять принцип Целого, чтобы не нарушать то, на чем все держится.
Естественно, в своих рассуждениях я буду опираться на определенную конкретику: говоря о Западе – на культуру средиземноморского региона, антично-христианский мир, а говоря о Востоке – на культуру буддийско-даосско-конфуцианского мира (главным образом Китая и Японии – в силу своей специализации). Можно было бы соотнести другие культуры, результат получился бы тот же: они всегда соотносятся как дополнительные, и ни одна культура не дублирует другую. Поскольку же разное сознание по-разному видит текст, я могу предложить лишь свое прочтение и на большее не претендую.
Если брать мировую культуру в целом, то нетрудно убедиться, что в какие-то времена доминировали западные акценты, а какие-то – восточные. Все колеблется в рамках гомеостаза, и культура не составляет исключения. Она как бы дышит, ее сердце бьется в определенном ритме, в Ритме исторической среды, устремляясь к метаисторическому полю. Один этап культуры проходит под знаком инь, в скрытой, приглушенной форме, в миноре, другой – под знаком ян, в открытой, яркой тональности, в мажоре. Инь, достигая предела, идет на убыль, поднимается дух ян, ян, достигая предела, идет на убыль, восходит дух инь. И так во всем. Таков всеобщий: закон – дао. В истории мировой культуры то восточная парадигма оказывалась ведущей, то западная, но совпасть они не могли, иначе прекратилось бы движение от одного к другому, пульсация Целого. По выражению японского поэта Китамура Тококу (1868 – 1894), "поток стремится с Востока на Запад. и с Запада на Восток. Страны света являют собой лишь стороны великого мира идей... Все высшие проявления человеческого духа сообщаются между собой" [50]. Сообщаться же может лишь-то, что на одном уровне различно, на другом – едино.
Поисками несходства можно не заниматься, но тогда не откроются законы мирового Целого. Мало показать разницу Запада и Востока, нужно еще понять, чем эта разница обусловлена. Каждая нация дополняет другую, что и делает все нации взаимонеобходимыми. И потому уже каждый народ обязан сохранить свою культуру, лицо, исполнить свою партию в мировом хоре. Мировая культура может существовать при условии неповторимости ее выражения.
Я вынуждена вновь обращаться к этому больному вопросу, к превратному представлению о том, что есть Единство. До сих пор живо представление, что единство есть подобие (ради которого все средства хороши), тогда как подобие (тем более-навязанное) исключает возможность единства. Это справедливо в отношении и народов, и отдельных людей. Механическое представление о целом порождает чувство и национальной, и личной ущемленности – дефицит достоинства. Видимо, лишь целостному мышлению доступна тайная природа индивидуального, и, видимо, злободневностью темы объясняется интерес к таким мыслителям, как В. фон Гумбольдт, утверждавший: "В индивидуальности заключена тайна всего бытия". Все овеяно дуновением Целого: "Мною движет глубокое чувство того, что все рождающееся в душе, будучи истечением единой силы, составляет одно большое целое и что все единичное, словно-овеянное тою же силой, должно нести на себе признаки своей связи с этим целым". Целое для Гумбольдта не слагаемое или творимое, а присущее; не внешнее, а внутреннее. Индивидуальное есть мера всеобщего, а не наоборот: единичное и есть единое, и нет единого вне единичного. Значит, разрушая по неведению единичное, разрушаем Единое. Человечество реализуется через человека, через его осуществление. Полнота индивидуального ведет в царство Свободы, всякая иная свобода неистинна, как неистинна свобода дикарей или цивилизованных варваров, лишенных чувства внутренней свободы и не испытывающих в ней нужды. "Объективная истина проистекает от полноты сил субъективно индивидуального" [51].
Значит, путь к Единству – через завершение единичного, реализацию каждой сущности. И это универсальный закон. Лишь индивидуальные, самобытные культуры, не утратившие своей внутренней силы, способны выживать как причастные Единому, мировой культуре и через нее – всему человечеству. Безликость же смерти подобна, предвестник гибели. Если одна культура уподобляется другой, она просто исчезает с лица земли за ненадобностью, как порвавшая связь с Целым, как не выполнившая своего назначения.
Целое, известно, обладает свойствами, не присущими частям, но питательная мощь единого поля культуры зависит от" силы каждой из них. Значит, национальные культуры получают силу не только от собственных корней, национального субстрата, но и от мирового Целого, придающего многообразию" единство.
Нет и не может быть не только двух одинаковых культура по и двух одинаковых индивидов. Совпадать могут только маски, не природные лица (природа не терпит подобия, что не мешает ее единству). Если мы вспомним тех, кто созидал духовную культуру человечества, то не обнаружим сходства. Каждый ручей, если хватает силы, пробивается в океан мирового знания, но попадает в него своим путем. Каждый из мудрецов идет своим путем и потому служит общему делу. "Не иди по следам древних, но ищи то, что искали они", – говорил Кобо-дайси [52]. Когда один повторяет другого, прерывается связь времен. И память нужна, и забвение, лишь бы не было чего-то одного.
Двуединство мира – жизненно важно, от него зависит благополучие Целого. Взаимообогащаясь, культуры Востока и Запада актуализируются, становятся достоянием каждого, не дожидаясь, пока ученые осмыслят этот процесс. Взаимопроникновение по временным и пространственным параметрам (прошлое-настоящее, Восток-Запад) – есть спонтанный процесс, поставивший Восток и Запад перед необходимостью извлечь уроки из исторического опыта друг друга. Не к тому следует стремиться, чтобы между ними исчезла разница (это все равно невозможно, как невозможно изъять вторую сторону вещей) а к тому, чтобы они стали друг к другу лицом, говоря словами поэта. Не разница должна исчезнуть, а непонимание.
Попробуем, наконец, взглянуть на проблему Восток – Запад под углом зрения XX в. Если функциональная асимметрия представляет собой условие жизнедеятельности целого, то не будем пренебрегать ею, а воспользуемся как методологическим принципом, отражающим реальные связи. Интерес к Востоку в ваше время вызван не столько естественной потребностью узнавать новое, сколько методологической актуальностью, необходимостью Встречи разъятых половин. Знакомство с восточными учениями сделает наше мышление более гибким, более подвижным, более восприимчивым к ценностям иного порядка. Восток и Запад самопознаются друг в друге.
"Все имеет восточную и западную стороны", – утверждал Чжуан-цзы двадцать четыре века назад. "(Так), узнав, что Восток и Запад друг другу противоположны, но что ни тот, ни другой отрицать нельзя, (можно) определить роль (каждого как части" ("Чжуан-цзы", гл. 17). И ближе к нам говорил Гегель: "Единство и различие – это звучит бедно и жалко по сравнению, например, с великолепием солнца, с востоком и западом... Восток и Запад присущи каждой вещи" [53]. (Кстати, слово "вещь" в китайском языке пишется двумя иероглифами – "восток" и "запад". Если на уровне микромира существует такая связь, как она может не существовать на уровне макромира?) Гегелю же принадлежит мысль: "Форма романтического искусства имеет своей родиной два полушария: Запад – уход духа в его субъективный мир, и Восток – первое расширение сознания, стремящегося освободиться от конечного" [54].
О двуединстве Востока – Запада размышлял П. Я. Чаадаев:
"Мир искони делился на две части – Восток и Запад. Это не только географическое деление, но также и порядок вещей, обусловленный самой природой разумного существа: это – два принципа, соответствующие двум динамическим силам природы, две идеи, обнимающие весь жизненный строй человеческого! рода. Сосредоточиваясь, углубляясь, замыкаясь в самом себе, созидался человеческий ум на Востоке; раскидываясь вовне, излучаясь во все стороны, борясь со всеми препятствиями, развивается он на Западе... На Востоке мысль, углубившись в самое себя, уйдя в тишину, скрывшись в пустыню, предоставила общественной власти распоряжение всеми благами земли; на Западе идея, всюду кидаясь, вступаясь за все нужды человека, алкая счастья во всех его видах, основала власть на принципе права; тем не менее и в той, и в другой сфере жизнь была сильна и плодотворна; там и здесь человеческий разум не имел недостатка в высоких вдохновениях, глубоких мыслях и возвышенных созданиях. Первым выступил Восток и излил на землю потоки света из глубины своего уединенного созерцания; затем пришел Запад со своей всеобъемлющей деятельностью, своим живым словом и всемогущим анализом, овладел его трудами, кончил начатое Востоком и, наконец, поглотил его в своем широком обхвате" [55].
Почти 150 лет назад написаны эти строки, и теперь приходится переоткрывать открытое твоими же соотечественниками, Никуда не денешься, утрачена связь с прошлым. Но даже такому глубокому мыслителю, как Чаадаев, трудно было предположить, что Запад, слава богу, так в не сможет поглотить Восток, потому, что "это два принципа, соответствующие двум: динамическим силам природы", скажем, инь-ян. А инь-ян – едины, друг без друга не существуют и лишь со временем меняются местами. Может быть, когда-то Запад будет больше походить на Восток, а Восток на Запад, но разница между ними не исчезнет – по закону функциональной асимметрии. И не так важно, какая цивилизация древнее, что предшествовало, что последовало, важно, чтобы стороны сообщались между собой, преодолев надуманный (не без корысти) европоцентризм и востокоцентризм. Центр у земного шара один, два центра. образовали бы две планеты. Не разница должна исчезнуть, а непонимание, а вместе с ним и чувство превосходства одних над другими.
Раньше лишь мудрецы (интуиция гения) проникали в природу Единого, теперь она становится предметом научного рассмотрения. Речь идет о новом качестве знания, о стадии интеграции. Запад преуспел в освоении внешнего мира, мира объектов, математической методики, но меньше преуспел, а то и вовсе не преуспел в освоении человеческой природы, законов? сознания. Оттого и вспыхнули разговоры о человеке, как будто впервые его заметили. Почему же в таком случае не прибегнуть к услугам Востока? Не повторять же пройденный путь, на который у восточных народов ушло не одно тысячелетие! И где взять время? Конечно, на Западе темпы иные и, может быть, удалось бы сократить путь, наверстать упущенное, скажем, за 500 лет, но ведь и их нет. А главное, зачем? Зачем проходить пройденное, открывать открытое, отказываться от тысячелетней работы ума, которая только и ждет своего осмысления. Ведь ни Индия, ни Китай, ни тем более Япония не считают зазорным пользоваться западной наукой. Мысль не знает границ пространства и времени, лишь бы люди не возводили их, не препятствовали естественному процессу обмена, тем более что одним есть что сказать другим.
Итак, традиционные учения Востока сосредоточены на Человеке: даосизм – на отношении человек – природа; конфуцианство – на отношении человек – человек и человек – общество; буддизм – па психике, сознании; и преуспели восточные мудрецы в познании человека не менее, чем западные в познании материи. О необходимости синтеза восточного и западного знания более полувека назад говорили ученые мира, в том числе В. И. Вернадский, имея в виду неизбежный процесс интеграции, которым будет сопровождаться переход человечества в новую фазу "единого исторического процесса, охватившего всю биосферу планеты". Процесс образования мирового Целого, "современной вселенскости жизни", делает возможным и даже неизбежным целостное знание. Девятнадцатое и особенно двадцатое столетия "коренным образом изменили религиозную и философскую структуру всего человечества и создали прочную почву для единой вселенской науки, охватившей все человечество, дав ему научное единство". Оно обусловлено несовпадением путей, которыми шли Запад и Восток, и неизбежностью Встречи.
"По-видимому, в течение поколений, близких к Пифагору, Конфуцию... и Шакья-Муни, – полагает В. И. Вернадский, – философско-религиозные центры Старого Света находились значительное время в культурном обмене.
Новый обмен, сравнимый с этим первым, начался в века, нам близкие. Философская мысль долгие столетия шла в этих центрах независимо, наиболее мощно в Индии и в эллинско-семитском... По-видимому, индийская логика пошла глубже логики Аристотеля, а ход философской индийской мысли почти, тысячу лет назад... достиг уровня философии Запада конца ХVIII в."
То, что видит большой ум, становится реальностью. Действительно, почти все страны мира пришли во взаимодействие, созидая общее духовное поле. Народы, узнавая друг друга волей-неволей сближаются. Интеграция в пространстве ведет к интеграции в духе, чему способствует знание Востока.
"Ближайшее будущее, вероятно, многое нам уяснит, но уже сейчас можно утверждать, что основное представление, на котором построена (спекулятивная) философия, абсолютная непреложность разума и реальная его неизменность, не отвечает действительности. Мы столкнулись реально в научной работе с несовершенством и сложностью научного аппарата Homo Sapiens. Мы могли бы это предвидеть из эмпирического обобщения эволюционного процесса. Homo Sapiens не есть завершение создания, он не является обладателем совершенного мыслительного аппарата. Он служит промежуточным звеном в длинной цепи существ, которые имеют прошлое и, несомненно, буду иметь будущее... В тех затруднениях понимания реальности которые мы переживаем, мы имеем дело не с кризисом науки, как думают некоторые, а с медленно и с затруднениями идущим улучшением нашей научной основной методики. Идет огромная в этом направлении работа, раньше небывалая".
Одним из первых ученый понял, что коренным образом меняется сам принцип мышления, характер логики, которая перестает быть исключительно логикой понятий, какой она была со времен Аристотеля; меняется теория познания, создается новая методика "проникновения в неизвестное", выражаемое в виде "символа", порождаемого интуицией, – "нового понятия, отвечающего реальности".
Мы еще не до конца осознаем значение этой перемены, которая в корне изменит мышление человека, приведет к расширению сознания. Это процесс спонтанный, объективный, и есть факторы, способствующие ему и тормозящие его. Изменилось представление о физической картине мира, что не может не изменить структуру сознания, не приблизить к адекватному образу мира. Процесс интеграции знания необратим:
"Величайшим в истории культуры фактом, только что выявляющим глубину своего значения, явилось то, что научное знание Запада глубоко и неразрывно уже связалось в конце XIX столетия с учеными, находящимися под влиянием великих восточных философских построений, чуждых ученым Запада, но философская мысль Запада пока слабо отразила собой это вхождение в научную мысль живой, чуждой ей философии Востока; этот процесс только что начинает сказываться...
Мы увидим позже, что новые области естествознания, к которым принадлежит биогеохимия, в области философии Востока встречают более важные и интересные для себя наведения, чем в философии Запада" [56].
Интерес ученых к буддийско-даосской модели мира закономерно вытекает из тех задач, к которым подошла современная паука, вступившая в третью фазу "научной революции" (тезис – классическая наука, антитезис – вторая научная революция, синтез – то, что происходит сейчас). Законы, открытые древними, неожиданно обрели актуальность, отвечая задачам науки, прежде всего в постижении Целого. Центр везде, в каждой точке, или – каждая вещь имеет свой центр, что и делает ее целостной, уникальной. Все имеет точку сопряжения с Единым. Происходит естественное смещение доминанты с внешнего критерия на внутренний, с количественного – на качественный. Меняется представление о законе причинной связи: каждое явление само себе и причина и следствие. На смену линейному, последовательному типу связи, где одно с неизбежностью вытекает из другого, внушая представление о сугубой зависимости от внешних причин, приходит представление об одновременном, целостном характере связей – "одно во всем, и все в одном". Целое же неисчислимо, предполагает особый метод познания.
Восточная методика соотносится с западной по тому же принципу дополнительности, и потому уже невозможно ставить вопрос, какая из методик предпочтительнее: обе необходимы для образования Целого. Обе обусловлены традиционной моделью мира, в одном случае – дуальной, в другом – недуальной во имя наступления долгожданной Встречи, Целостного знания. В XX в. налицо, фазовое совпадение двух форм Знания, путей их саморазвития, что свидетельствует о завершении некоего глобального цикла. Ахиллес догнал черепаху. Запад не вернулся на круги своя (как солнце, закатившись на Западе, восходит на Востоке), но выходит на новый виток спирали, новый виток Эволюции, обещающий вывести человека в Ноосферу, если он не будет слишком сопротивляться. Может быть, Мудрость, Всезнание (праджня) дождалась своего часа, своего Мастера (упая), который осуществит Интуицию древних.
Можно сказать, Восток выполнил свою метафункцию, сохранив и донеся до XX в. почти в первозданном виде учения мудрецов, и Запад, научившийся действовать и претворять в жизнь идеи (нередко с излишней поспешностью), надо думать, выполнит свою метафункцию и осуществит великий Синтез (пример Японии подтверждает возможность и плодотворность такого синтеза). О фазовом совпадении свидетельствуют фундаментальные открытия в физике, астрономии, биологии – теория относительности (на нее опосредованно, скажем через Маха, оказала влияние буддийская концепция сущего как не-сущего) нестационарная модель мира, принцип дополнительности, вероятностные законы, волновая и квантовая теории, новое понимание физического вакуума (близкое буддийской шуньяте), признание полицентризма (сингулярность как антитеза моноцентрических моделей) и вытекающий отсюда интерес к структурному единству мира, признание способности материи к самоорганизации (синергетика), закон гомеостаза, двойная спираль ДНК и т.д. Все эти законы и представления по своему выражены восточными мудрецами. То, что открывалось интуиции древних в созерцании, подтверждается наукой, математической логикой, а это служит доказательством истинности знания. Сама наука переходит в новое качество, на уровень целостностного мышления, гарантирующего целостность жизни. Не случаен интерес к языку символа, в котором соединятся "мысле-образы" Востока с логической структурой Запада, предваряя язык будущего – разума-чувства, поэзии-науки, логики-интуиции. Две стороны единого Дома, два типа энергии – инь-ян (точнее, энергии-инерции, движения-покоя, которые присутствуют друг в друге, как и две формы знания). Вводя в творческую лабораторию тот минимум сведений, которые можно почерпнуть из востоковедных работ, ученые не только расширяют сферу теории и практики, но и подтверждают на деле всечеловеческий характер Знания, каким бы эпохам и народам оно ни принадлежало. Тем самым осуществляется вселенское назначение Науки, которой недоступно лишь то, что недоступно пока уму и сердцу человека.
По мере осознания человека как Целого, или как Цели, акцент будет смещаться на нравственную сторону восточных учений, главное назначение которых – открыть человеку глаза на самого себя, на моральность естественного закона – дао. Космос есть отклик на поступки живых существ: вызывая peзонанс во вселенском организме, они наращивают или изживают свою и всеобщую Карму. Одно во всем, и все в одном; физическое и психическое, материальное и духовное неразъемлемы, взаимообусловлены. Где исчезает нравственная память; там рвутся всеобщие связи и вслед за природой гибнет человек.
Пока ни Восток с его целостным мироощущением, идеей равного ко всему отношения, ни Запад с его фаустовским томлением по бесконечности, с его аналитикой, ускоряющей ход истории, не создали достойной жизни для человека. И, может быть, впервые именно в XX в., несмотря на все его вихри, способные разрушить планету (а может быть, благодаря им), появляется надежда на спасение. Настало время Целого человека, поисками которого занимались и древние греки, и древние китайцы, но так и не нашли. Целостный человек гарантирует целостность мира (по закону соответствия субъекта-объекта: "каков человек, таков и мир"). Мир же, действительно, как и предсказывал Вернадский, уподобляется целостному организму (зализывая раны), но, стало быть, и угроза ему обретает целостный характер (в случае атомной или экологической катастрофы никого не останется – человечество смертно).
Значит, сама История, сама Необходимость, которую мы продолжаем недоощущать, приводят к неизбежности Встречи культур в пространстве (Восток – Запад) и во времени (прошлое – настоящее во имя будущего). Гуманизм имеет шанс стать "завершенным", всеобщим. Само понятие "завершенного гуманизма" говорит о его полноте, неизбирательности – о преодолении исторической ограниченности. Истинный гуманизм – гуманизм для всех, а не гуманизм только для кого-то. "Завершенный" гуманизм распространится не только на человека, но и на животных, на растения, на книги, музеи, на все создания рук человеческих, на творения природы – леса, реки, горы, ибо человек очеловечится. Но если этого не будет, то не останется лесов и рек, среды обитания, и человеку некуда будет деться, и воздается ему по заслугам.
Все зависит от того, успеет ли сам человек перейти с уровня функции на уровень сущности, т.е. успеет ли познать себя. Тогда и все вслед за ним, своим водителем, перейдет с уровня функции на уровень сущности, т.е. станет самим собой, обретет свою подлинную природу, гуманизм в том числе. Любая вещь, достигая полноты, уже не может быть лишь средством, как и любое явление культуры, природы, мышления или языка. Завершаясь, обретая полноту, и язык становится самоценным, полнокровным и вместе с тем начинает в полную силу воздействовать на окружение. Раньше лишь мудрецы или гении являли Слово в его полноте, которое потому избежало тления. При целостном мышлении к каждому вернется живое Слово.
Проходит время, когда одномерное, "усеченное сознание" выхолащивало мысли мудрецов, превращая их в свою противоположность. Человек любит вспоминать (всуе), что он "мера всех вещей", не задумываясь над смыслом этих слов. Мера мере рознь, и реальная его мера пока мала по причине неведения и страха, от которых он только начинает избавляться. Т. е. его нынешняя мера не соответствует истинной. Принимая же неистинную меру за истинную, он лишает себя, а вместе с собой и все остальное полноты существования, а то и вовсе жизни, ибо его мера может и не предусматривать жизни другого. Значит, стоит задуматься, та ли это мера, которая предназначена ему природой. Ведь если человек видит в другом функцию, скажем, к природе или к науке подходит с точки зрения "что я с этого буду иметь" (не "иметь, чтобы быть", а "быть, чтобы иметь", по сути, в этом разница между истинной и неистинной мерой человека или между нечеловеком, или недочеловеком, и человеком, которым он еще может стать), значит, сам человек пока лишь функция, какие бы посты он ни занимал или) как бы ни мнил себя "богом или "сверхчеловеком". Иначе говоря, истинной мерой может быть лишь истинный, целостный человек, а нецелостный так и будет усекать мир по своему и подобию, о чем бы ни шла речь – о природе или культуре, о поэзии или науке. Как же, он "мера всех вещей", значит, все они должны быть уменьшены до его размера, иначе, как он Я будет чувствовать себя среди них, если они окажутся больше его и в его сознание не укладываются? (И хотелось бы, и трудно избавиться от теней прошлого, которые, хотя и малы, но, когда их много, затмевает свет).
Целое не подобно другому, оно всегда уникально, индивидуально и потому незаменимо и независимо. Части же подобны, не зависят от себя, легко заменяются, приносятся в жертву, в общем, с ними мало считаются. Зато не могут не считаться с Целостным человеком, ибо он Свободен, независим от обстоятельств. Обретая себя, свою подлинную природу, он обретает и полную меру свободы, а свободный человек не посягает на свободу другого. При целостном человеке гармонизируются все отношения, все приходит в лад, ибо сама человеческая сущность не допускает насилия, отношения господства-подчинения, чьей-либо неволи, рабства в каких-либо формах.
По своей природе не все равно, но все едино, лишь находится на разном расстоянии от центра круга, символизирующего свободного человека, и через иерархию, ступени знания приближается к центру. В потенции все едино: "Это есть ты" (тат твам аси) – сквозная мысль Упанишад, оказавшаяся близкой и Л. Н. Толстому: "Одна есть религия – это та, что одно во всех"... "Tat twam asi" – "Кто ты?" – "Я есмь ты" [57].
О том же говорил Вивекананда:
"Это грандиозная идея духовного Единства Вселенной... единственная и бесконечная Сущность, которая существует в вас, во мне, во всех, в моем я, в Душе... идея, что вы и я не только братья, но вы и я одно" [58]. Или, говоря словами японского мастера Сёо, учителя сингаку ("учения о сердце", распространенного в Японии XVII в.): "Если у Вселенной одно сердце, значит, каждое сердце – Вселенная". Кавабата Ясунари вспоминает в "Элегии" слова мастера: "Разве это не великое празднество духов!? Духи Дынь, баклажанов, поспевших в атом году плодов персиков, персимонов, груш и вод реки Кайагава. Души живущих и души умерших вдруг сходятся вместе, безропотно, просто так (букв. мусин-мунэн – буд. понятие: без каких-либо намерений – Т.Г.). Разве это не благодать – праздник единения духов!" [59].
Наверное, такое вот ощущение – что все на свете имеет свое сердце и тебе это открыто – и делает человека свободным. Если так станут смотреть на вещи, то можно не беспокоиться за будущее планеты. Экологическое чувство по природе своей всеобще. Как сказано у Достоевского: "Все океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь – в другом конце мира отдается". Но "без чистого сердца – полного, правильного сознания не будет" [60].
Вселенское знание, вселенское соучастие потребует "вселенскости" каждого. Единое возможно при полноте единичного. Это относится и к человеку, и к народам. Истинное единство, Единство высшего порядка – когда другим не тесно, – в свободе, не по необходимости, а по потребности, духовного общения, без которого не может обойтись человек ли, нация, осознавшая себя. Целое открыто Целому. Если раньше объединялись по необходимости (скажем, национальное единение во имя защиты отечества или защиты своего языка, культуры), то при свободном общении – по зову сердца.
Путь к этому – через осознание себя каждым ("познай самого себя"), ощущение личной предназначенности и личной ответственности за состояние гомосферы. Все остальное – лишь более или менее благоприятные или неблагоприятные условия для пробуждения личности [61].
В конечном счете для осознавшего себя историческая или социальная ограниченность не может быть ни помехой, ни оправданием (ответственность всегда личная, коллективной же бывает безответственность). До сих пор человек искал оправдания, возлагая вину или надежду на какую-то внешнюю силу, скажем, сетуя на безразличие бога (что меня особенно умиляет: будто Бог должен решать его проблемы, ибо тогда бы Он и не был Богом) или на происки Сатаны ("черт попутал"), на несовершенство социума или тупость аппарата, т.е. на что угодно, только не на себя. Так было веками и продолжается сейчас. Но пройдя через все круги ада, человек уже выглядит неискренним, делая вид, что он не виновен в происходящем. Все ко всему причастны, если "все в одном, одно во всем".
Безликие порождают безликость, тоталитарные режимы. Фашизм держался на отрицании индивидуального. Но там, где исчезает индивидуальное, исчезает связь с Бытием. В этом уязвимое место теорий о всеобщем счастье. Через индивидуальное осуществляется связь с Бытием, Недаром фашизм ассоциируется с сатанизмом, а его лидера называют Антихристом. И к этому следовало бы отнестись серьезнее, чем мы это делали до сих пор [62]. По сути, это метафора неблагополучного состояния психики – не-свободы, к которому приводят и которым порождаются тоталитарные режимы. Антихрист, посланник Сатаны, является при социальных недугах, когда силы Разрушения берут верх над силами Созидания. Истоки же Разрушения лежат в конечном счете в отпадении от Целого – в эгоцентризме лидера и его воинства. "Чем больше Люцифер сосредоточивался в самом себе, тем было хуже ему и всем духам, которых он лишил радости сладостного восхождения к их первоистоку, – полагал И. В. Гете. – Так свершилось то, что мы зовем отпадением ангелов... Поскольку же все зло, если простительно так называть его, пошло от Люциферовой односторонности, то вполне понятно, что сотворенному им бытию недоставало лучшей его половины" [63]. Или, как сказано в Евангелии, он "придет во имя свое" (Ин., 5, 43), чтобы себя восславить. Царство Антихриста – царство зла, где "люди будут себялюбивы, горды, надменны, злоречивы, непослушны родителям, неблагодарны, нечестивы, немилостивы, неверны слову, клеветники, невоздержанны, безжалостны, чужды любви и добру, предатели, наглы, напыщенны" (2 Тим., 3, 2–4). Антихрист – кровавый гонитель всех "свидетелей" Истины, утверждающий свою ложь насилием [64].
Что ж, знакомая картина. И Ф. Ницше предчувствовал Его приход, и К. Леонтьев, и Вл. Соловьев, и Н. Бердяев. Ф. М. Достоевский страшился безбожной цивилизации. Но что порождает Антихриста? Он является тогда, когда души готовы его принять, призывают к себе. Значит, Антихрист им нужен. Каждый понемногу попустительствовал злу, хотя бы смиряясь с ним, и Зло явилось, невиданное по масштабу. Антихрист не имел бы такой силы, если бы не имел опоры в своем воинстве – власти над умами. В состоянии душевной усталости, бездуховности люди сами притягивают губителя. Потому и говорится: начни с себя, загляни в собственную душу. Все в душе человеческой, или, как сказано в Вималакирти-сутре: "Все вещи порочны, когда порочен ум, и все вещи чисты, когда ум чист" [65]. Когда ум не чист, душа смущена, тогда и вызывается из Небытия зловещая фигура Антихриста. Маленькие антихристы рождают большого, воплощая свои рабские чаяния [66]. Та же структура – "одно во всем, и все в одном", только перевернутая наоборот – вездесущим, всеприсущим становится малое измерение – Зло, когда с ним мирятся.
Лидеры тьмы агрессивны: не в состоянии победить себя, жаждут победить других – через их унижение. Они не выносят одиночества и не могут его избежать, – превозносимые толпой, отвергнуты Бытием. Им не остается ничего другого, как питаться страхом и раболепием толпы [67]. Об этом лучше не скажешь, чем Августин:
"Откуда сам дьявол? Если же и сам он, по извращенной воле своей, из доброго ангела превратился в дьявола, то откуда в нем эта алая воли, сделавшая его дьяволом?... Где же зло и откуда и как вползло оно сюда? В чем его корень и его семя? Или его вообще нет? Почему же мы боимся и остерегаемся того, чего нет? А если боимся впустую, то, конечно, самый страх есть зло, ибо он напрасно гонит нас и терзает наше сердце, – зло тем большее, что бояться нечего, а мы все-таки боимся" ("Исповедь Блаженного Августина", VII, 3, 5; 5, 7).
О том, что зло не субстанционально, не присуще Бытию, а творится по людскому неведению, знали мудрецы Востока и Запада, Будда и Максим Исповедник. От зла избавляются, очищая сознание. Потому и призывал Будда: "Трудитесь прилежно!", но прежде осознав смысл Труда: ведь можно трудиться и во благо и во зло. От осознания смысла жизни зависит участь Целого – отпадет или нет человек от Бытия в свободном выборе.
О том же на языке своей культуры говорил В. Гумбольдт:
"Выявление человеческой духовной силы, в разной степени и разными способами совершающееся в продолжение тысячелетий на пространстве земного круга, есть высшая цель всего движения духа, окончательная идея, которая должна явственно вытекать из всемирно-исторического процесса, ибо возвышение или расширение внутреннего бытия – вот то единственное, что отдельная личность, насколько она к этому причастна, вправе считать своим нетленным приобретением, а нация – верным залогом будущего развития новых великих индивидуальностей" [68].
Что же мешает познать себя и через это познать Истину? Будда говорил: не привязывайся к ложному, ибо если не привязываться к ложному, к вещам, идеям, то истинное Я само собой проявится. Стало быть, человек сам себе обуза, сам себе помеха на Пути и сам может освободиться, никто другой за него этого не сделает, не избавит от бремени страстей и заблуждений. И я пишу эту книгу по- своему, в меру своего понимания, но чем больше в ней от прежних времен, тем ближе она современности. Каждый причастен Истории, и тот, кого уже нет, и тот, кто есть, и тот, кто будет. В этом тайна Бытия – поистине, лишь Индивидуальное может стать Всеобщим. Новое мышление, надо думать, породит новую Науку, новое Искусство, ибо не будет посягать на их свободу, устранит преграды на пути, очищая и расширяя сознание" Каждому явится возможность стать самим собой. Так или иначе, если удастся сообща распутать хотя бы один узелок на ковре Истории, легче будет понять, как сплеталась Ткань, ибо завязаны нити на один манер (может быть, с разной частотностью).
А закончить хотелось бы эту вводную главу словами полюбившегося мне автора "Книги о чае": "Мы долго шли разными путями, но почему бы нам не дополнять друг друга? Европейцы извлекли из экспансии выгоду, но потеряли покой. Мы взлелеяли гармонию, а она не сумела противостоять силе извне... Так не лучше ли нам просто встречаться время от времени за чашкой чая?!" [69].
Предрассудок – он обломок
Древней правды; храм упал.
А руин его потомок
Языка не разгадал.
(Баратынский)
Да исчезнет вражда из среды
богов и людей и с нею гнев
ненавистный, который и мудрых
в неистовство вводит.
(Гомер)
Итак, что было в Начале? Древние говорили – в Начале было Одно. "Одно порождает два" (Лао-цзы). Каковы эти два в пределах человеческого разумения? Может быть, это – Дао и Логос, представляющие две стороны, две функции Одного? Предельные понятия, и время бессильно над ними, они появились почти одновременно, и за 25 веков, прошедших с тех пор, не исчезли. Значит, нужны, не случайны, причастны Целому.
Две глобальные Идеи, точки зрения на мир, две парадигмы: к чему устремлен мир (Логос), и как он это делает (Дао). Наш мир трудно представить вне Разума (логоса) и вне Пути (дао). Одно дополняет другое: мировой Разум, умственный потенциал в образ жизни, закон развертывания Целого. Если мир следует Логосу, говорили вслед за древними греками философы Запада, то отступает Хаос и созидается Гармония, космос; если мир следует дао, говорили вслед за древними китайцами мудрецы Востока, то Поднебесная живет в мире.
И то, и другое, каждое по-своему, организует жизнь во Вселенной. И могли ли в принципе Логос и Дао делать это на один манер, т.е. выполнять одинаковым образом свою мироустроительную функцию, если закон Целого – единство разного, функциональная асимметрия?
Иначе говоря, если Два похожи, зачем они? Достаточно было бы одного – Логоса или Дао. Как, собственно, и полагала долгов время каждая из сторон – что именно она обладает полнотой знания. Но от нашего желания или нежелания мало что зависит. Эволюция человечества идет своим чередом, и мы можем лишь пытаться ее понять – либо находиться с ней в согласии, либо противодействовать, и тогда ничего хорошего не получится.
Если бы эти понятия были подобны, одно из них просто отпало бы за ненадобностью (логика природы не терпит совпадений). Но этого не произошло. Оба сохранились и, пройдя сквозь века, терпеливо ждут своего часа, и, кажется, дождутся. Две половины давно ищут друг друга, тоскуя об утраченном единстве. Похоже, настало время их Встречи.
Интерес к этой паре возник не сегодня. Почти полвека назад академик В. М. Алексеев в этюде доклада "Греческий логос и китайское дао" предостерегал: "Сравнительные этюды этого типа особенно трудны тем, что требуют знатока по крайней мере двух культур и соответственно двух языков, ибо тонкость перевода и терминология идей редко даются без соответствующей двусторонней углубленности. Между тем кто-нибудь да должен это дело начать". Кто знает, может быть, предварительные размышления на этот счет пригодятся будущему исследователю. "Синтезы логоса у эллинистов уже сделаны, в то время как синтезы учения первых даосов даны лишь в рудиментарной форме" [1]. (Впрочем, думается, что и с изучением Логоса не все благополучно, хотя интерес к нему возрастает с каждым днем).
В 1953 г. в докладе "Наука и осмысление" и М. Хайдеггер подчеркивал необходимость диалога с греками и с восточным миром:
"Кто сегодня, спрашивая, задумываясь, а тем самым уже и действуя, осмеливается соответствовать глубинному ходу мирового потрясения, ежечасно нами ощущаемого, тот должен не только заметить подвластность нашего сегодняшнего мира современной науке с ее волей к знанию, но и прежде всего понять, что любое осмысление современности теперь способно встать на ноги и укорениться лишь при условии, если в диалоге с греческими мыслителями и их языком оно пустит корни в эту почву нашего исторического бытия. Такой диалог пока еще ожидает своего начала. Он едва только подготовлен; и он сам для нас в свою очередь предварительное условие для неизбежного диалога с восточноазиатским миром" [2].
В. М. Алексеев шел от ощущения единства мировой культуры и вместе с тем – неповторимости ее составных частей.
"В этом синтезе пунктов сравнения для логоса-дао оказывается очень много, особенно если не считаться с образностью и системою сравнений различных между собою языков и искать в обеих культурах сходные настроения и психемы, прослеживая скорее не то, что сказано, а то, что хотят выразить, но не могут" [3].
Естественно. В. М. Алексеев был далек от мысли "искать в обеих культурах сходные настроения и психемы", не считаясь с образностью и системою сравнений различных между собой языков, и все же он нашел возможным объединить "логос-дао" дефисом в одно слово. (Взаимодополняться может лишь то, что едино по природе и различно по функциям). Через преодоление парадокса ум восходит к Истине:
Различья
будешь признавать, –
найдешь единство на земле,
Различья будешь истреблять, –
в огромном возрастут числе.
...........................
Тьма единственное видит
Лишь в единственном обличье,
Свет единственное видит,
Выявляя все различья [4].
Ну а как выглядит эта пара в наше время, скажем, в "Философском энциклопедическом словаре"? Логос – нечто явленное, оформленное и постольку "словесное"... сквозная смысловая упорядоченность бытия и сознания; это противоположность всему безотчетному и бессловесному, безответному и безответственному, бессмысленному и бесформенному в мире и человеке". И тем не менее логос похож на дао: "В целом учение Гераклита о Логосе представляет близкую историко-философскую аналогию учению Лао-цзы о дао" [5].
И это свидетельствует о знакомстве с одной стороной и незнакомстве с другой, или о неполноте знания. Трактовка Логоса менялась, скажем, от Гераклита к стоикам, от средневековых христиан – к софиологам XIX в., но скорее в оттенках, понимание же сути Логоса как мирового разума, воплощенного в слове, сохранялось. Дао же не Разум мира, а его Путь.
Обратимся к первоисточнику, к книге Лао-цзы "Даодэцзин" ("Книга о дао и дэ"). Если логос "нечто явленное", то, по Лао-цзы, "явленное дао не есть истинное (постоянное) дао" ("Даодэцзин", §1) [6]. Если логос нечто "оформленное... сквозная смысловая упорядоченность бытия и сознания", противоположность всему стихийному, то дао – самоестественно (цзыжань) следует своей природе: "Человек следует земле, земля – небу, небо – дао, а дао самому себе (цзыжань)" ("Даодэцзин", §25).
И все же если кого из греков сравнивать с Лао-цзы, то Гераклита (около 544 – около 483). Не оттого, что жили они примерно в одно время, а вследствие того, что оба обладали той глубиной, где все Едино (хотя и не все ясно). Их можно сравнивать не по аналогии, а типологически – по степени мудрости. Уже поэтому они не могли быть похожими, даже в плане "близкой историко-философской аналогии". Каждый шел от корней своей традиции. Единство мудрецов не зиждется на сходстве, законы жизни не измеряются одной мерной. Если двое похожи, значит, они не мудрецы: никакое Целое не похоже на другое Целое.
Что же роднит их (не делая похожими)? Для Гераклита, как и для Лао-цзы, – "все едино": "Учитель же толпы Гесиод. Они убеждены, что он знает больше всех, он, который не знал, что день и ночь – одно". "Целое и нецелое, сходящееся и расходящееся, согласное и разногласное; из всего одно и из одного все" (В 10). "Не мне, но логосу внимая, мудро признать, что все едино" (В 50). Все противоположности условны, постоянно переходят друг в друга: "Холодное нагревается, горячее охлаждается, влажное сохнет, сухое увлажняется". "Одно и то же живое и умершее, проснувшееся и спящее, молодое и старое, ибо первое исчезает во втором, а второе в первом". Собственно, нет еще и понятия противоположности (его ввел Аристотель), у Гераклита же речь о том, что "расходится", устремляется в разные стороны. Противоположное для него в то же время не противоположное. Единство противоположностей в природе вещей: река, "изменяясь, покоится", мы "существуем в не существуем". Единое и единичное одно, единый Логос пронизывает все вещи; "Из всего – одно, и из одного – все"; "Путь вверх и вниз – один и тот же" (В 60).
Однако Гераклита недаром называют "темным" философом. Он и сам сокрушался: "Не понимают, как расходящееся с самим собой приходит в согласие, самовосстанавливающуюся гармонию лука и лиры" (В 51). Последующие философы, по словам Аристотеля, выделили соединенные в одном противоположности. Сам Аристотель отвергал подход Гераклита как противоречащий его собственному представлению о сущем: "Конечно, не может кто бы то ни было считать, одно и то же существующим и не существующим, как это, по мнению некоторых, утверждает Гераклит" ("Метафизика", IV, 3) [7]. Нетрудно заметить, что гераклитовские построения и логика ближе даосско-буддийским, чем аристотелевские. Так, по Гераклиту, можно общаться с мировым Логосом через дыхание, глаза и уши, в процессе этого общения душа растит свой собственный логос (фр. 115). И, согласно даосам, можно "вбирать", "наращивать", но не Логос, а ци (яп. ки) – космическую энергию, которую человек путем определенных психофизических упражнений получает из вселенной, в частности, путем правильного дыхания. Эта энергия безгранична, способна преобразить человека, научись он пользоваться ею. Дао же – путь мира в целом и каждого существа в отдельности, закон существования вещей, суть которого в чередовании инь-ян, в следовании "правильному" ритму (вдох-выдох), а не то, что вдыхается и выдыхается.
"Гераклит (учит), что вечный круговращающийся огонь (есть бог), судьба же – логос (разум), созидающий сущее из противоположных стремлений" (Аэций. 17, 22). Китайцы не считали возможным выделять какую-либо из стихий (воду, воздух или огонь) в качестве первоначала. Образовавшиеся в процессе круговращения ци пять типов энергии (земля, вода, огонь, дерево, металл) – равно необходимы для существования жизни, хотя Лао-цзы и отдает предпочтение воде (символ дао).
Во-вторых, греки акцентировали внимание на разумном аспекте мира – всем правит Логос. Мысль сама по себе доминирует в мире. "Мудрость, – утверждал Гераклит, – заключается в одном: познавать мысли, как то, что правит всем и во всем" (В 41); "Все, что доступно зрению и слуху, – я предпочитаю" (В 55); "Мышление есть величайшее превосходство, и мудрость состоит в том, чтобы говорить истину и, прислушиваясь к (голосу) природы, поступать согласно с ней" (В 112). И хотя не похож Гераклит на других философов древней Греции, в этом он с ними сближается. Разумность, доминанта Ума (Нуса), определила характер последующей европейской философии, и человек разумный ощутил себя хозяином положения.
В-третьих, в отличие от Логоса Дао не "созидает сущее из противоположных стремлений", а следует спонтанному ритму мира, где одно чередуется с другим, день приходит на смену ночи, тепло на смену холоду. Уже упоминалось: "Один раз инь, один раз ян и есть дао. Кто следует этому, идет к Добру", – сказано дальше в "Сицычжуань" (I, 17).
Если греки акцентировали внимание на "разумном" аспекта мира и на созидании сущего "из противоположных стремлений", на "борьбе противоположностей", то китайцы – на этической стороне мира и на чередовании инь-ян, которые в строгом смысле не противоположны, ибо присутствуют друг в друге. С этого и начинаются расхождения, хотя этика, гуманность также необходимы для развития ума, расширения сознания, как ум – для претворения этики в жизнь. Но к этому мы еще вернемся.
А пока что попробуем понять, почему такой тонкий мыслитель, как Гераклит, видел в Борьбе средство достижения гармонии. "Следует знать, что борьба всеобща, что справедливость в распре, что все рождается через распрю и по необходимости" (В 80). Борьба вездесуща, она – закон жизни, созидающая сила: "Противоречивость сближает, разнообразие порождает прекраснейшую гармонию, и все через распрю создается" (В 8). Лао-цзы же говорил: "Он не борется, благодаря чему он в мире непобедим". "Дао совершенномудрого – это деяние без борьбы"; "Умеющий побеждать врага не нападает... Это я называю дэ, избегающее борьбы". "Кто храбр и воинствен – погибает, кто храбр и не воинствен – будет жить... Кто знает причины того, что небо ненавидит (воинственных)? Объяснить это трудно и совершенномудрому. Небесное дао не борется, но умеет побеждать" ("Даодэцзин", §66, 81, 68, 73).
Основная идея "Даодэцзина" – путь ненасилия, ненарушения природы вещей, естественного ритма – следование моральному закону – дао. Воинственность – удел варваров, она приносит лишь иллюзорную победу. И зачем сила, если все развивается самоестественно, в недеянии (увэй), следуя пути: "Дао постоянно осуществляет недеяние, однако нет ничего такого, что бы оно не делало". Тот же, кто следует дао, непобедим: "Кто служит главе народа посредством дао, не покоряет другие страны при помощи войск, ибо это может обратиться против него. Где побывали войска, там растут терновник и колючки. После больших войн наступают голодные годы". "Хорошее войско – средство, (порождающее) несчастье, его ненавидят все существа. Поэтому человек, следующий дао, его не употребляет... Прославлять себя победой – это значит радоваться убийству людей. Тот, кто радуется убийству людей, не может завоевать сочувствия в стране. Благополучие создается уважением, а несчастье происходит от насилия" ("Даодэцзин", §37, 30, 31). Сравним с Гераклитом: "Борьба – отец всего и всему царь. Одним она определила быть богами, а другим – людьми; одних она сделала рабами, других свободными" (В 53). Значит, умеющему бороться суждена победа, и от собственной силы, умения действовать зависит его место в жизни. Это относится и к богам.
В Китае же, согласно традиционным взглядам, все определяет "воля Неба" (тяньмин), от него зависит богатство и бедность, счастье и несчастье. Если человек обладает личной силой (дэ) [8], то ему не нужно бороться, само небо благоприятствует, посылает поддержку и может простолюдина сделать императором. Это не так невероятно, как может показаться, ибо речь идет о качестве и количестве той жизненной энергии, от которой, действительно, зависит судьба человека: "Дэ истинного человека (цзюнь-цзы) – ветер, дэ мелкого человека (сяожень) – трава. Когда ветер дует, трава склоняется" ("Луньюй", XII, 19).
Что уж говорить о дао-человеке, который, следуя естественности, живет в ритме вещей. Зачем ему сила, когда все в его силе, зачем бороться, когда нет того, чтобы ему сопротивлялось?
По буддийским представлениям, жизнь человека организуется кармой (букв. "дело", "деяние"), в конечном счете моральным законом, когда всякое сознательно совершаемое действие (причина) имеет равный отклик (следствие). От дурных и добрых дел в этом и прежних рождениях по закону нравственной памяти (Ф. И. Щербатской называл карму "законом наследственности") зависит настоящая жизнь человека. В этой системе представлений борьба бессмысленна, она не может что-либо изменить. Точнее говоря, признается единственная форма борьбы – с самим собой, с собственными заблуждениями, с собственной несвободой [9].
В греческой философии канонизированному слову "начало" – архе ("власть") соответствовала определенная модель поведения, что естественно, если воля к власти имманентна миру. Согласно Платону, "начало (архе) есть нечто невозникшее; в самом деле, все возникающее по необходимости должно возникать из некоего начала" ("Федр", 245D). И в "Государстве" говорится о "беспредпосылочном начале", т.е. Платон придает архе онтологический смысл: в самой природе вещей лежит нечто неизменное, печное, что и определяет их характер. В "Метафизике" Аристотель характеризует разные виды "начал", причин событий, отождествляя "недоказуемые" архе с аксиомой (что, в сущности, предопределило тип формально-логического мышления, господство которого в западной айкумене продолжалось более двух тысячелетий). Архе – ключевое слово Аристотеля. "Началом" в собственном смысле он считает "движущую архе" (перводвигатель).
Представление об изначальной архе по-своему узаконило принцип господства-подчинения, право главенства одного над другим. Семантика слова, его эмоциональная нагрузка формировали парадигму "власти". Приставка "архи" (производное от "архе") – показатель высшей степени власти, – главенство, старшинство (в христианской традиции – архиепископ, архиерей, архангел). Последнее понятие, "архангел" ("ангелоначальник" – по Аверинцеву), появляется впервые в грекоязычной иудейской литературе еще предхристианского времени [10]. (Но Истинная Иерархия не требует знакового подтверждения).
Если изначальна идея "власти", то нужно иметь то, над чем властвовать. Мир распадается на субъект и объект: субъект – центр, объект – периферия, подвластная центру, доступная его притязаниям и призванная служить его интересам. Иными словами, разделение на противоположное и ситуация борьбы естественно вытекали из представления об изначальности "власти". И так же естественно акцент стоит на противоречивости явлений: согласно Аристотелю, "наиболее надежным, наиболее достоверным, безусловным" из "начал доказательств" есть закон противоречия, противоречие же снимается борьбой, которая есть "всему царь".
Даже бесконечное – апейрон Анаксимандра – рождает вещи через обособление, через вечное движение противоположностей. "Некоторые считают таким (единым и простым началом) бесконечное, – замечает Аристотель, – а не воздух или воду, чтобы все прочее не уничтожалось от их бесконечности, так как (эти элементы) противоположны, например воздух холоден, вода влажна, огонь горяч. Если бы один из них был бесконечным, все остальные были бы уничтожены" ("Физика", III, 5). Принято считать, что противоположности (теплое – холодное, сухое – влажное) уничтожают друг друга во взаимной борьбе и разрешаются обратно в беспредельное, что понимается Аристотелем как материя (hyle).
Все рождается в "распре", "из единого выделяются содержащиеся в нем противоположности, как говорит Анаксимандр и те, которые существующее считают единым и многим, как Эмпедокл и Анаксагор", – подтверждает Аристотель ("Физика", 1, 4). И потому у Гераклита "огонь живет смертью земли, воздуха живет смертью огня, вода живет смертью воздуха, а земля – смертью воды" (В 76), тогда как в китайской традиции пять первоэлементов (точнее, пять типов энергии) – уcин (земля-дерево-огонь-металл-вода) сосуществуют, находятся в благоприятном или неблагоприятном порядке, но не взаимоуничтожаются. В западной же эйкумене долгая жизнь была суждена идее "твоя жизнь – моя смерть" ("mors tua vita mea"), "или-или", "третьего не дано".
Соответственно тому, как настроен ум, и действует человек, так и строит свои отношения. Субъектно-объектный тип связи дает о себе знать в любой сфере человеческой деятельности, от языка, грамматики, архитектуры до ладового строя музыки, композиции романов и повестей, не говоря уже о сфере социальных отношений, где принцип господства-подчинения очевиден. Римляне, следуя данному архетипу, возвели в правило "разделяй я властвуй"". И все начинает противостоять всему – не только народ народу, человек человеку, человек природе, но и свет – тьме, добро – злу, время – пространству, разум – чувству, ибо раздвоился сам человек [11].
Какова модель мира, таков и способ мышления, и наоборот. "Все известные нам попытки объяснить происхождение мира и человеческой жизни в мифологии самых различных народов сводились к легендам, где основным мотивом была борьба между тьмой и светом, хаосом и порядком. Эта борьба представлялась как столкновение то между неведомыми стихиями, то между силами праматери-природы, то между духами и богами" [12]. И мало кто сомневался в правоте этой мысли.
Что уж говорить о философии, которая закодирована на "борьбе", и даже великий Гегель верил в абсолютность закона отрицания отрицания, а Кант не сомневался в особой роли антагонизмов в историческом процессе, будучи убежден, что лишь через действие сил борьбы и вражды возможно достижение величайшей задачи человеческого рода – всеобщего правового, гражданского состояния мира между народами. Но всеобщего мира так и не получилось, хотя в "силах борьбы и вражды" не было недостатка и хотя прав Гераклит: "Противоречивость сближает, разнообразие порождает прекраснейшую гармонию" (В 8). Однако, хотя "логос присущ всем" (В 2), большинство людей живет так, как если бы они имели собственное понимание. И согласно Марку Аврелию:
"Хотя этот логос существует вечно, недоступен он пониманию людей ни прежде, чем они его услышат, ни когда услышат впервые. Ведь все совершается по этому логосу...". Что же до людей, то с этим законом (логосом), "с которым они имеют самое постоянное общение, они враждуют" [13].
С тех пор мало что изменилось, несмотря на то что недостатка в борьбе не было и мир не часто пребывал в покое (вопреки Логосу и здравому смыслу). Значит, Логос не пробудился в сознании людей, не осветлил их души. Непросветленное же сознание живет по своим законам, не отвечающим Истине. На уровне обыденного сознания всякая истинная идея превращается в свою противоположность. Скажем, соглашаясь, что развитие есть единство и борьба противоположностей, одностороннее мышление не могло не пренебречь "единством" в пользу "борьбы", не прийти к универсальному отрицанию, к комплексу "врага". И тем опаснее иллюзия возможности силой решать задачи, чем в более неподготовленную почву она попадает" превращая оазисы в пустыни.
Подвижники искали выход:
"Какое значение имеет властвовать над миром, на три четверти порабощенным, униженным, разрушенным. Надо властвовать над всею жизнью, целиком охватив ее, слившись с ней; уметь привести все ее противоречивые силы в стройное равновесие" [14].
Но процесс раздвоения оказался необратимым, он не мог не коснуться настроя умов, о чем свидетельствует русская и европейская философия переходного времени (начиная от Шопенгауэра и Ницше, кончая Шестовым и Бердяевым), не мог не подорвать доверия к самому понятию "архе", не породить его антитезу – анархе [15].
Итак, мы, наверное, недалеки будем от истины, если скажем, что идея "архе", воли к власти, и есть тот архетип, который в значительной мере обусловил Западную парадигму, закодировал тот тип цивилизации, против которой взбунтовались умы в XIX в. "Силовой" вариант Истории, жесткая система связей (ян) в наше предельное время имеет тенденцию перейти в "несиловой", ненасильственный, в гибкую систему связей (инь) – по причине хрупкости самой жизни. Эта глобальная переориентация сознания дает о себе знать в искусстве, в науке (скажем, поиск в физике "несиловых взаимодействий"), в умонастроении людей (потребность в добре, в милосердии), в политике, наконец. В сфере музыки, положим, в роковой (роковой), все еще преобладает жесткий стиль, "металл", "тяжелый рок", – и это можно понять – бунт против не-свободы, насилия над мыслью и чувством – но и он идет на убыль, поутихнет, когда поутихнут страсти, спадет короста с души, – тогда и наступит минор. А пока эта музыка – в ритме времени, бросает вызов, тормошит сознание. Но, видимо, недалеко то время, когда начнут преобладать пастельные тона, ритмы духовной музыки, "медитативной", наподобие композиций "Дыхание", "ОМ" эстонского композитора С. Грюнберга. Эта музыка благотворна для психики, потому что дышит Свободой, не давит. Каждый звук живет своей жизнью. Творец не диктует, не навязывает своей воли или идеи, не программирует, а предоставляет возможность быть, и звуки соединятся со звуками в том порядке, в каком расположены соединяться по своей природе. Человек не ущемляет их божественное предназначение.
В этом вижу путь будущего искусства, преодоление эгоцентризма, диктата маленького "я", – путь "недеяния" (истинное дэ, дарование не нарочито). Истинный талант свободен в высшем смысле, потому свободен, что не посягает на свободу другого, будь то звуки или образы, краски или жизнь человека. "Великий квадрат не имеет углов" ("Даодэцзин", §41).
Парадигма "борьбы" к концу XX в., видимо, исчерпала себя.. Мировые войны были ее апогеем (не "звездным", а, похоже, смертным часом). Затишья пока не наступило, но изменились масштабы извечной борьбы – силы на исходе. Не утихают, правда, националистические розни, терроризм (и не утихнут, пока не изменится сознание, не утвердится отношение национального и индивидуального уважения). В глобальном смысле парадигма "борьбы" не имеет перспективы. Она возникла не на пустом месте, а все возникшее, всякая частность, подвержено исчезновению.
Взаимодействие сторон образует Целое. В масштабах человеческой Истории, если она, действительно, есть Целое, один путь, динамичная Функция, устремленность вперед (ян) должны бы уравновешиваться столь же глобальной сдерживающей Функцией, покоем (инь). Таков закон взаимного притяжения (дао).
Несовпадение исторических ритмов Запада и Востока обусловлено несовпадением фаз развития, величиной пройденного пути с разницей в тысячелетия (как и биоритмы человека в разные периоды его жизни, отличаются и исторические ритмы народов: в разные фазы его существования). Если бы одна сторона не уравновешивалась другой, а удваивалась, – положим, образовалось бы два ян или два инь, – то произошла бы гибель Целого. Избыток ян или избыток инь неминуемо ведет к нарушению Великого Предела. Потому и были так озабочены мудрецы Востока законом Середины (чжун), Равновесия, видя в нем условие существования Целого. Одностороннее же нарастание энергии (инь или ян) ведет к ее самоистреблению.
Как же самоорганизуется Целое – не чем оборачиваются учения мудрецов на практике (об этом написано более чем достаточно), а чем отличаются (по необходимости) культурные парадигмы Востока и Запада и как по-разному воздействуют на сознание? Моя задача – рассмотреть их на сущностном, не функциональном уровне, исходя из общечеловеческой культуры как целостного образования. Если удастся осознать тип связи востоко-западного Единства, многое прояснится в судьбе народов. Мир – саморегулирующаяся система, и человеку остается понять ее и действовать в согласии с нею: "Не мне, но логосу внемля, что все едино". Я же отдаю себе отчет в невероятной трудности задачи, но попробую внести посильную лепту в ее решение.
Итак, в начале было "одно", но оно выглядело по-разному. Чтобы понять эту разницу, нужно спуститься еще на ступень, вспомнить как греки смотрели на рождение мира. Греческая философия родилась из недр мифологии и унаследовала ее черты. За логическими категориями просматриваются теогонические образы, за логикой философов – логика мифа, хотя первая возникла как отрицание второго. Можно согласиться с мнением В. Н. Топорова: "Переход от неорганизованного хаоса к упорядоченному космосу составляет основной внутренний смысл мифологии... (речь идет о достижении природной и социальной упорядоченности). Космологическое мировоззрение и позже сохраняло "значение образца и модели" [16]. Отсюда интерес к Началу, стремление понять истоки мифа и его роль в человеческой истории. Вряд ли этот интерес будет угасать, судя по характеру литературы и культуры XX в., где возрождается структурная и кодовая основа мифа.
Греческую мифологию принято делить на хтонический период (матриархат) и героический (патриархат), но можно говорить о едином субстрате, явленном в гимнах орфиков, в поэмах Гомера и Гесиода или в "Метаморфозах" Овидия. Несмотря на разницу версий просматривается общая картина, закономерность в смене эпох, которые разворачиваются как бы в обратном порядке, по нисходящей, – от "золотого" века к "железному". "Золотой" век ассоциируется с царем богов, "сияющим как солнце" Фанесом. По преданиям орфиков, он вылупился из мирового яйца, которое образовалось из вращающегося эфира. Фанес таил в себе все вещи и всех богов.
Век серебряный наступил при Кроносе, сыне Земли-Геи и Неба-Урана. При нем, согласно Платону, существовало идеальное государство. Однако Кронос жестоко обошелся со своим отцом и был наказан за это собственным сыном, громовержцем Зевсом. Заточив "сияющего" Фанеса, а вместе с ним всю Вселенную, всех богов, Зевс получил власть над миром и стал пользоваться ею до своему усмотрению.
Я не буду излагать далее известные сюжеты, хочу лишь обратить внимание на некоторые стороны греческого мифа, которые позволяют понять дальнейший ход философской мысли. За мифом, сколь бы ни выглядел он фантастично, стоит реальность. Значит, он поддается расшифровке.
Кто знает, что представляла собой земля тысячелетия назад? Рождались новые формы, извергалась лава, сдвигались земные пласты, образовывались горы, уходили под воду материки, как это случилось с Атлантидой. И видевшие это ужасались. Ужасаясь – прозревали.
Эмоциональная буря рисовала грекам богов, на них похожих, – но более могучих, способных усмирять стихии, природные и человеческие. Разбуженное сознание обожествляло природу, чтобы понять и объяснить происходящее. Греки увидели в мире богов, на себя похожих, и себя "богоравными" (Сапфо), вступили с богами в союз и соперничество. Они ощущали себя всесильными и всезнающими, пока их потомки не утратили чувства сопричастности Бытию.
Сознание греков, не тронутое анализом, было целостным. Потрясенному сознанию открывается невиданное, как открывалось оно грекам в момент катарсиса, когда перед ними разыгрывались сцены греческих трагедий. Переживание мира через откровение обладает высшей достоверностью [17]. Человек ощущал себя одновременно и зрителем и участником в "великой драме существования". Не через рациональное осмысление, а через экстатическое переживание приобщался он к миру, ощущая свое единство с ним. Не в этом ли тайная сила греческого мифа, над которым не властно время? Подверженное времени поглощается им.
Целостная природа мифа помогает понять и характер греческой философии, причину перехода от Мифа к Логосу, греческий вариант преодоления предшествующего – "созидание целого из противоположных стремлений". Для того чтобы появилось новое, нужно было в целом отказаться от старого. Полнота мифа не давала других альтернатив – только в целом преодолеть его, предать забвению, предложить "иное". При полноте, завершенности греческого мифа его нельзя было дополнить, развить какие-то черты, именно потому, что это было Целое. Целое же не терпит домогательств рассудка. Целое – то, от чего нельзя ни убавить, ни прибавить (как дао). Добавлять – значит нарушать. Закон, естество целого. На смену Мифу и должен был прийти Логос.
Недаром Зевс боялся рождения сына от Метиды [18] – разумного слова, Логоса, который положит конец его своевольному правлению. Разве не символично: в страхе перед Разумом, как явствует из "Теогонии" Гесиода, Зевс поглотил свою беременную супругу, а вместо нерожденного Логоса из головы Зевса, с воинственным кличем, в панцире и шлеме, в полном боевом облачении явилась Афина-Паллада ("борьба – отец всего и всему царь")? "Силой и мудростью она равна Зевсу" (Гесиод. "Теогония", 896) [19]. Но это не та мудрость, которой боялся царь богов. Это государственная мудрость, "воля к власти". Недаром на Олимпе, рядом с Зевсом, восседали Победа-Ника и богиня правопорядка Фемида. Так оно и пошло.
Целое можно преодолеть, отказавшись от него в целом, но природа Целого такова, что от него нельзя отказаться, ибо Целое, причастное Бытию, причастное Истине, все равно будет, сколь бы ни стремился ограниченный временем ум предать его забвению. Потому и греческий миф продолжает жить. Не потому, что историки, мифографы, поэты еще на протяжении веков обращались к мифу, видя в нем действительную историю (разве что ученик Аристотеля Палафет мог назвать сборник своих мифических рассказов "О невероятном"), а потому, что миф ушел в подсознание, и даже те философы, которые искали свободу от него, не могли ее найти.
Но там, где миф не имел полноты и завершенности, как, скажем, в Китае, так и не появилась его антитеза в виде Логоса и порожденной им философии. Мифу отводилась подчиненная роль, скажем, иллюстратора, популяризатора учений мудрецов, и естественно, он не мог оказать того влияния на судьбы культуры, как в Греции, ибо не был первичным, доминантным для Китая.
В Греции склонность ума к завершенности отдельного (в отличие от принципа "незавершенности" в восточной поэтике), отражающая и обусловливающая структуру и полисного социума (анализ которого не входит в мою задачу; я ограничиваюсь сферой сознания), привела к расцвету греческой науки, явления тоже уникального в истории древности [20]. Наука, как и миф, достигает полноты, а достигшее полноты по логике вещей требует смены парадигмы. Но именно парадигмы, не Пути. Спустя века наука вновь возрождается в лоне христианства (Фома Аквинский, Николай Кузанский). И это еще раз подтверждает, что Целое, причастное Истине, не исчезает и, время от времени возвращаясь, направляет умы в намеченном направлении.
Другое дело, что чувство Целого может притупляться, и поколения, лишенные его, живут по ошибкам своих предков. Западная парадигма, западный Путь следовал закону отрицания отрицания еще задолго до того, как последний был сформулирован Гегелем. В его основе лежит определенное представление о Целом как конечном явлении, что явствует уже из слов Аристотеля: "Целое есть то, что имеет начало, середину и конец. Начало есть то, что само не следует необходимо за чем-то другим, а, напротив, за ним естественно существует или возникает что-то другое. Конец, наоборот, есть то, что само естественно следует за чем-то по необходимости. Середина же – то, что и само за чем-то следует, и за ним что-то следует" ("Поэтика", 7).
Всякое явление, достигшее полноты, уступает место другому, но не абсолютно. В абсолютном смысле ничто не исчезает, никакой полноценный опыт, он лишь уходит в глубину памяти, в подсознание, чтобы в нужный момент дать о себе знать. О чем, в частности, свидетельствует и то, что законы поэтики, изложенные Аристотелем, определяли характер театрального действа и принципы композиции в поэзии и прозе более двух тысячелетий, хотя мало кто из поэтов об этом догадывался.
Греческая мысль породила представление о последовательном порядке, потенцию прямолинейности, движения по прямой. На любом уровне микро- и макромира, от принципов логического построения текста до смены исторических эпох, обнаружим линейность (несмотря на признание и идею циклизма), устремленность вперед и ради быстрейшего продвижения готовность пожертвовать прошлым, чтобы не замедлять ход Истории, движущейся к обетованной Цели.
Идея прогресса, восхождения от низшего к высшему, оформилась много позже, но потенциально уже присутствует и у Платона, и у Аристотеля:
"Бог, по древнему сказанию, держит начало, конец и середину всего сущего. По прямому пути бог приводит все в исполнение, хотя по природе своей он вечно обращается в круговом движении. За ним всегда следует правосудие, мстящее отстающим от божественного закона" (Платон. Законы, 716, А-Б).
Греческие философы, включая Аристотеля, признавали превосходство кругового движения: "Круговое движение первичнее прямолинейного, поскольку оно проще и более совершенно. Ведь бесконечно перемещаться по прямой нельзя (ибо такого рода бесконечности не существует)" ("Физика", VIII, 9). Но склонность к порядку, устанавливаемому человеком по законам формальной логики, силлогистики, вера в первопричину, первотолчок, – начало движения, разворачивающегося в виде последовательного, причинно-следственного ряда ("целое есть то, что имеет начало, середину и конец", в отличие от восточной вертикали: верх, низ и середина) не могли не привести со временем к концепции прогресса.
Возможно, это также продиктовано рационализмом греков. Сознание тяготеет к линейности, к прямой как наиболее короткому экономичному типу связи между двумя точками. Возможно, что такой подход вызван желанием "перехитрить", обойти природу с ее вечным циклизмом, монотонным ритмом, повторением того же, с желанием переделать мир по своему усмотрению, – в конечном счете антропоцентризмом. Сознание греков ориентировано на человека, хотя у досократиков еще в неявной форме. Но уже утверждение, что в основе мира лежит какая-то одна конкретная субстанция (вода, огонь, воздух), требует уверенного в себе ума.
Всепоглощающей мысли греков при их максимализме не могла импонировать идея Покоя, умеренности во имя ненарушения естественного ритма. Они предпочли двигаться в ускоренном темпе, хотя уже Гераклиту было известно, что движение само по себе двусторонне – все движется сверху вниз и снизу вверх. Но не природа устанавливает законы человеку, а человек – природе, решили греки, и это имело роковые последствия. Может быть, именно потому и зарождается идея энтелехии, способная противостоять человеческому произволу. Однако лишь в наше время она становится доступной сознанию, оживает, скажем, в теориях о самоорганизации материи, в синергетике. Сама субстанция всего сущего тяготеет к восхождению, к реализации Энтелехии – формы и блага, присущей, по Аристотелю, самой материи. (Не отсюда ли, кстати, склонность к оформленности, определенности, завершенности, а на уровне обыденного сознания – к замкнутости?) Наличие исходного момента и конечной Цели предполагают движение по восходящей, прямой. Казалось, существует предубеждение против самой кривизны, которая претила глазу грека, его эстетическому вкусу.
А может быть, тяга к прямой была защитной реакцией Ума? При тенденции к завершенности отдельного нужно было соединить то, что могло распасться от собственной полноты, нанизать эти тяготеющие к замкнутости сущности, как жемчуг на единую нить, уравновесить тенденцию к распаду связующей прямой, чтобы прерывность, конечность отдельного не обрели необратимый: характер и мир не вернулся в хаос неупорядоченности: "По прямому пути бог приводит все в исполнение". Но люди не боги, и философы – тоже. С тех самых пор ведут они спор, что же есть мир – единство или множество, – и как их сочетать. Уже Зевса мучил этот вопрос.
Каков человек, таков и мир; как он думает, так и строит с ним свои отношения. Понимание всеобщего закона не могло не сказаться на том, что производил человек на свет, будь то письменность или музыка, архитектура или поэзия, отношение к природе или отношения между людьми. Особенность этого отношения ощущается с первых шагов, с первых памятников культуры. На смену мифу приходит Логос, греческая наука. Ей на смену – христианский Логос. (Бог христианства изначально был Логосом. Предвечно сущее Слово, которое Само о Себе говорит: Аз есмь сын; Слово-Логос и есть тот творческий принцип, которым сотворено все сущее).
В XVII в. христианскую веру начинает теснить научное мышление. При этом каждый раз доминирует что-то одно. Происходит смена мировоззрений или типов мышления: мифологического, религиозного, научного. Каждый раз что-то одно задает тон, определяя дух эпохи, пронизывая все сферы духовной жизни. Это не значит, что нет противостояния. Напротив, именно целостность явления, или его чрезмерность, порождает противодействие умов: ереси, религиозные войны, антагонизм науки и религии (инквизицию), что, в свою очередь, обусловливает внутренний динамизм и скачкообразность культурного и исторического процесса.
Иному пути положили начало древние мудрецы Китая. Для восточного пути развития характерны не последовательный, а скорее одновременный или параллельный тип связи одного с другим при восхождении по вертикали на уровне микро- и макромира (от структуры текстов до ритмов истории). И здесь происходит смена форм и действует принцип доминантности, но это ведет не к скачкообразному движению, а к плавному переходу одного в другое (по закону всеобщего дао – "одно инь, одно ян и есть Путь"). Сознание ориентировано на естественный ритм, на постепенную смену фаз, вроде того, как ночь сменяется днем, день ночью, и одно не может стать причиной гибели другого. Все вовремя приходит и вовремя уходит, на грани Великого предела (тайцзи) начинается обратный путь. Уже в "Ицзине" говорится: "Изменения есть образ движения туда-обратно" ("Сицычжуань", 1, 9). Наверное, этот Путь можно назвать "мягким", податливым – инь. В отличие от ян, символизируемого целой чертой, инь – прерванная, имеет склонность к свертыванию в круг, не знающим резких перемен, скачков, ломки структур. Недаром ученые говорят о "непрерывности" китайской истории я культуры.
И древние греки понимали значение Меры, но вряд ли согласились бы следовать закону Великого предела, тем более считать его абсолютом, соизмеряя свое понимание вещей и свое поведение с движением естественного дао. Это противоречило бы их мировоззрению и, видимо, историческому предназначению.
Китайские же мудрецы стремились не столько достичь Целого, сколько не прервать Единое, не нарушить путь, и преуспели в этом. Не прервать же Единое можно, лишь избегая разрыва, вовремя повернуть: то инь, то ян набирает силу, и на грани Великого предела они меняются местами, как свет и тьма, тепло и холод. Следуя этому, сохраняешь равновесие, не приходишь в противоречие с Бытием. Древние китайцы ориентированы на ритм самой природы, а не на свое представление о ней.
У китайцев отсутствует идея первоначала в том смысле, как понимали его греки, – что в основе мира лежит определенность, субстанция, а все остальное – ее модификации. Для китайцев невозможна была сама постановка вопроса о предпочтительности какой-то из "стихий" – каждой свое время. При всеобщей подвижности и изменчивости мира существует неизменный порядок изменчивости; благодаря неизменному ("постоянству", "покою") и существует изменчивое, но выразить его однозначно невозможно. Лао-цзы говорил о пути-дао:
"Смотрю
на него и не вижу,
а поэтому называю его невидимым.
Слушаю его и не слышу,
поэтому называю его неслышимым.
Пытаюсь схватить его и не достигаю,
поэтому называю его мельчайшим.
Не надо стремиться узнать об источнике этого,
потому что это едино.
Его верх не освещен, его низ не затемнен.
Оно бесконечно и не может быть названо.
Оно снова возвращается к небытию.
И вот называю его формой без форм, образом без существа.
Поэтому называют его неясным и туманным.
Встречаюсь с ним и не вижу лица его,
следую за ним и не вижу спины его"
("Даодэцзин", §14).
Нет ничего однонаправленного, однозначного, все одновременно и инь, и ян, и центробежно, и центростремительно, пребывает и в движении, и в покое. Природа явления определяется соотношением инь и ян, которые постоянно взаимообращаются, присутствуя друг в друге. Одного нет без другого, как вдоха без выдоха, выдоха без вдоха. Отсюда склонность к безостановочности, неопределенности, незавершенности, недосказанности, что обусловило характер художественного мышления и поведения людей.
Все едино, перетекает из одной формы в другую, переходит из одного состояния в другое – в соответствии с нравственным законом воздаяния по заслугам (кармы), в соответствии с моральным законом (дао). Каждый сам обусловливает форму своего существования.
Согласно китайской мысли, ситуации, повторяясь, не повторяются, движение происходит не в одной плоскости, не в замкнутом круге, а восходит по вертикали, в потоке Перемен, в стремление к конечному очищению мира от скверны неведения. Один виток находит на другой вдоль той же оси. ("Колесо движется, потому что ось неподвижна", – говорят даосы, движение инь-ян напоминает двойную спираль). Движение по своей природе двусторонне ("туда-обратно"), но, преодолевая вращение, устремляется к Покою и Свету.
Зная взгляды древних, мы лучше поймем, почему европейская история и культура, следуя парадигме греков (одно существует за счет другого, и "все через распрю создается", каждый пройденный отрезок пути именно пройденный, а не пребывающий), развивалась скачкообразно. Новое утверждало себя в: борьбе со старым, одна противоположность вытеснялась другой, или обе взаимоуничтожались, чтобы дать жизнь третьей.
Одни стремились к завершенности, к Целому, чтобы постичь его закон. Другие избегали завершенности, чтобы не нарушить Единое – то, что соединяет одно с другим, размышляли над связями всего между собой, как должен себя вести человек, чтобы не оборвать эти связи, не нарушить дао – дыхание Вселенной. Но, стало быть, самой Историей обе культуры предназначены друг для друга, ибо развивали они по преимуществу разные стороны и разные подходы, равно необходимые для образования Целого.
На феноменальном уровне все парадоксально. Восточный традиционализм отражает стремление сохранить изначальный образ, следуя дао, закону "возвращения к истоку". Дао называют еще матерью Поднебесной: "Я не знаю ее имени. Обозначая иероглифом, назову ее дао... Великое – оно в бесконечном движении. Находящееся в бесконечном движении не достигает предела. Не достигая предела, оно возвращается (к своему Истоку) ("Даодэцзин", §25). В этом причина "непрерывности" – в знании Предела. Но этот же традиционализм обусловил постоянное обновление форм, так что невозможно назвать двух похожих мастеров, школы, эпохи, несмотря на непрерывность единой "нити" дао). А на Западе резкие переходы от одного к другому, готовность, пренебречь прошлым, выбросить его из памяти вдруг оборачивались крайней ностальгией, тоской по прошлому, желанием вернуть утраченное, что давало прошлому новую жизнь. Загнанное вглубь, в подсознание, сохраняет, видимо, большую силу, нежели постоянно пребывающее на виду как образец для подражания.
И все же стремление к законченности, завершенности, ради которой греки пренебрегли Великим пределом, позволяющим сохранять равновесие во имя Единого, послужило, видимо, одной из причин тою, что на несколько веков были забыты и миф, и наука греков. Можно сказать, максимализм, страсть к завершенности, к безупречности формы дорого обошлись грекам. На такую высоту дважды не поднимаются.
Но по закону Целого достигшее полноты не может исчезнуть, ибо как Ставшее, осуществившее себя оно уже причастно Бытию. Созревший плод отпадает от дерева, отчуждается от него, но именно потому, что отпадает, продлевает жизнь дерева, делает ее вечной, дает бессмертие его индивидуальной форме, его образу, "идее". Так и с греками. Культура, реализовавшая себя в полной мере, достигшая расцвета, не могла более оставаться на греческой почве и отправилась странствовать по свету, и ее плодами до сих пор подкармливается добрая половина человечества. Можно сказать, греки осуществили собственный идеал (по крайней мере стоиков), предоставив всемирное гражданство своему детищу. Странствуя по миру, греческий миф то уходил вглубь, то вновь появлялся, будто хотел напомнить о чем-то, оповестить человека о важном, о чем за века он запамятовал и потому не может понять себя, а не поняв себя, не может понять и мир и выстроить с ним свои отношения. Не случайно и не напрасно оживает миф в нашей памяти, хотя те, кто обращается к нему, возможно, и не отдают себе отчета в том, что "анализ мифов, – если воспользоваться определением К. Леви-Стросса, – есть средство выявления первичных структур сознания, исконной "анатомии" человеческого ума" [21].
Как же проявляют себя эти "первичные структуры сознания", как сказывались и сказываются на этической стороне Истории, творимой теми же людьми? Любое явление культуры не плохо бы рассматривать под нравственным углом зрения, много упущено, а проблема "цивилизованного варварства" не страшнее озонной дыры. Мировые войны, концлагеря, массовые убийства, опыты над людьми. Чтобы избавиться от этого кошмара, нужно знать его истоки. Нынешний интерес к Истории вызван потребностью знать, как влияло на душу человека то или иное явление социокультуры и что такое Культура сама по себе.
Мы привыкли восторгаться греческим искусством, и есть чем. Но нет ли в этом примеси традиционного нарциссизма? Радует глаз пластика, величие форм и вместе с тем – приятие культа земли, плодородия, тела. Мы так воспринимаем красоту. Но что-то в греческом искусстве смущало душу не только истовых христиан, вроде настоятеля доминиканского монастыря во Флоренции, благочестивого Савонаролы, но и таких просвещенных людей РОССИИ, как П. Я. Чаадаев [22].
Трудно не восторгаться красотой греков, свободной, раскованной, пусть это не та красота, которая спасет мир и по которой томилась душа Платона, – созерцательная, возвышенная, не знающая "ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения" ("Пир", 211 А). Но и она близка людям. Красота греков пульсирует в ритме борьбы, в ней противоборствуют два начала: дионисийское и титаническое, – она замешена на богоборчестве. Сама богиня красоты Афродита родилась из крови оскопленного Урана. Символично: прекрасное дитя поруганного Неба. Отсюда происходит то, что называют неудобоваримым словом "тератоморфизм" – смешение красоты и уродства, чудесного и зловещего [23]. Вроде сирен Гомера, полуптиц-полуженщин, безупречных в красоте и коварстве. Они зазывают путника сладким пением, чтобы растерзать его. А если он устоит и проплывет мимо, как Одиссей, то сирены сами умирают. Любовь и смерть идут рядом (появляется даже понятие "либитино" – единство любви и смерти). Мир помешался на "демонической красоте", которая особенно ярко являет себя на закате эпох.
Мы любим греков, что говорить! Но если любовь истинная, ее не убудет, если нет, – может быть, явится другая. Время покажет. Ведь и оно двойное – благодатно и коварно, но никуда от него не денешься, не обойдешь. Если что-то и не имело достаточно времени, чтобы вызреть, его и не будет, сколь ни утешай себя мыслью, что оно есть. Можно позаимствовать приемы, предметы культуры, технологию, можно взять знания, по нельзя взять дух. Он есть или его нет. Дух, или те нравственные навыки – душевную тонкость, деликатность, такт, словом, то, что называется внутренней культурой – культурой чувства и мысли и что вынашивается веками, не может появиться вдруг.
Греки – баловни судьбы. И они возникли не на пустом месте [24]. Но их демократизм не свидетельство высокого духа. Страсть к походам и знаниям принесла им славу победителей. Они привыкли побеждать и не были разборчивы в средствах. Их боги расправились с титанами, бросая в них камни с такой силой, что сотрясали землю и затмевали солнце. Олимпийцы покоряли природу. Победив врагов, они загнали их в Тартар, а заодно и всех несогласных, и неугодных, и даже тех, кто помогал им в борьбе. Так греки созидали свой Космос, упорядочивали жизнь на земле. И неизвестно, что было для них важнее – языком мифа заговаривать природу или самовыразиться, дать волю своим чувствам, своей необузданности, которую они приписывали богам, на них похожим. Они привыкли к победам и решили, что все дозволено, что они ничем не хуже самих богов.
Они то боролись с богами, то соединялись с ними узами брака, – плод одного из них – Геракл, сын смертной женщины Алкмены и Зевса. И нет ничего, что было бы ему не под силу, чем не мог бы он завладеть, даже золотыми яблоками из сада Гесперид, дарующими вечную молодость. А в результате – мучительная смерть в конце земной жизни: пропитанный ядом хитон срастается с телом, и Геракл избавляется от мук, сжигая себя на костре.
Богоборчество неизбежно оборачивается богоманией. Саломней у Вергилия вообразил себя Зевсом, римский император Калигула – богом, и известно, чем это кончилось. До сих пор идея богомании не оставляет в покое художников и писателей (вспомним драму А. Камю "Калигула"). Возвещали же философы: "По прямому пути бог приводит все в исполнение, хотя по природе своей он вечно обращается в круговом движении. За ним всегда следует правосудие, мстящее отстающим от божественного закона". Но греки не вняли своим пророкам.
Вставший на путь Борьбы не может остановиться, пока не пройдет его целиком. Причастное борьбе несет на себе ее печать – образ поверженного. Ничто не исчезает, и те, кто уничтожает, вбирают в себя уничтоженное: кровь призывает кровь. И потому победитель всегда и побежденный, что ясно было уже Лао-цзы. Но и 25 веков спустя Р. Тагор вынужден напоминать: "Из оружий своих он сотворил себе богов, и, когда побеждает его оружие, – он сам побежден". Такова человеческая карма, закон мира. Добро существует, зло творится. Цель никогда не оправдывает средства.
Зевс оказал людям недобрую услугу, сотворив их из пепла титанов. По наущению Геры, жены Зевса, титаны растерзали и проглотили сына его – Диониса-Загрея [25]. С тех пор и противоборствуют в человеке два начала, божественное, дионисийское, и злая титаническая природа. Но и с божественной природой не все благополучно. "Светлый" бог Зевс, обернувшись змеем, вступил в брачный союз с "темной" богиней – Персефоной. От этого союза и родился Дионис-Загрей, который, по словам Гераклита, "тождествен Аиду" (В 15). Но это не смущало греков: Дионис – любимец народа, ему посвящали праздники плодородия и виноделия.
Судя по "Работам и дням" Гесиода, к его времени уже сменилось пять поколений людей: золотое, серебряное, бронзовое, героическое и железное (заметьте, железное после героического). Три последних существуют при Зевсе, и жизнь человеческая становится все хуже:
Если бы мог я не жить с
поколением пятого века!
Раньше его умереть я хотел бы или позже родиться.
Землю теперь населяют железные люди. Не будет
Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя,
И от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им...
Дети – с отцами, с детьми – их отцы сговориться не смогут.
Чуждыми станут товарищ товарищу, гостю – хозяин.
Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то.
Старых родителей скоро совсем почитать перестанут...
Правду заменит кулак. Города подпадут разграбленью.
И не возбудит ни в ком уваженья ни клятвохранитель,
Ни справедливый, ни добрый. Скорей наглецу и злодею
Станет почет воздаваться. Где сила, там будет и право
Стыд пропадет
("Работы и дни", 176–178, 182–185, 189–193).
Да, все металлы перепробованы, и надолго затянулся "железный век". Оказалось, что вознесший себя до бога беззащитен. По словам Гомера,
Все
на земле изменяется, все скоротечно;
Всего же, что ни цветет, ни живет на земле,
Человек скоротечней.
("Одиссея", XVIII, 130-134)
Листьям
в дубравах древесных подобны сыны человеков:
Ветер одни по земле развевает, другие – дубрава.
Вновь расцветая, рождает, и с новой весной возрастают;
Так и человеки: сии нарождаются, те погибают.
("Илиада", VI, 146-149)
И что толку, что семь мудрецов Греции наставляли в своих гномах: "ничего сверх меры". Как раз Меры не ведали греки, и потому демократия превращалась в тиранию. По Платону, тирания зреет в недрах демократии, когда нет истинного понимания свободы, нет нравственного регулятора, причастия культурой – тогда рабская душа тирана преисполнена страха. В V в. до н.э. победа над персами принесла Афинам славу и могущество, а уже в IV в. неудачи в Пелопонесской войне и "тирания тридцати" положили конец их могуществу.
Многое у греков объясняется их молодостью. Все поначалу кажется доступным, посильным. Однако можно взять знания, что и сделали греки, посещая Египет, Индию, но нельзя, как уже говорилось, взять духовность, которая не берется и не дается, а произрастает на ниве Культуры. Многое объясняется несовпадением исторических фаз. Одни народы старели, другие нарождались. Греки пришли, когда близкие и далекие соседи, пресыщенные битвами и знаниями, уже устали от борьбы. Греки явились в мир вовремя, в благоприятный для них момент. Им coпутствовала удача: молодость, для которой нет ничего непосильного, и случай – возможность воспользоваться готовыми знаниями, над которыми древние трудились тысячелетия. Египетский жрец говорил Солону: "Вы, греки, вечно останетесь детьми, и не бывать эллину старцем; ведь нет у вас учения, которое поседело бы от времени!" (Платон, Тимэй, 236). И это правда. Греки так и не узнали старости, но не узнали и мудрости, которая приходит (если приходит) на закате дней. Мир мужал, а греки оставались теми же. И теми же в каком-то смысле оставались те, кто следовал за ними – "вольноотпущенники природы", сохранявшие до последней поры свою радужную неосведомленность.
Греки не выстрадали своей свободы. Они бросили вызов судьбе, поставив себя вровень с богами. Ничего невозможного, значит, все дозволено, – ничего святого! И дело не в том, что "все, что есть у людей бесчестного и позорного, – по мнению Ксенофана, – приписали богам Гомер и Гесиод: воровство, прелюбодеяние и взаимный обман" [26]. Богоборчество греков имело свои причины, о которых сказал Гегель, вспоминая изречение Геродота о том, что Гомер и Гесиод создали для греков их богов:
"Ведь почти каждый народ в большей или меньшей степени имел перед собой у самых ранних своих истоков какую-нибудь чужую культуру, иноземный культ богов и был привлечен ими. Ибо именно в этом и состоит плененность духа, его суеверие и варварство: все величайшее узнается как чужое, вместо того чтобы быть чем-то родным и почитаться как вышедшее из собственного национального и индивидуального сознания" [27].
Отсюда, видимо, и чувство вседозволенности, безбожия, унаследованное потомками, теми, кто очаровывался греками.
Многое греки взяли у Востока, главным образом из Египта, Сирии, Малой Азии, Индии, – представления о мироустройстве, законы геометрии, астрономии, медицины. Фалес из Милета (ок. 625–547 гг. до н.э.) был в Египте и позаимствовал у жрецов идею происхождения всего сущего из воды, обучался геометрии и астрономии. Но для него Вода не была символом Нила. "Пифагор научился у египтян священному слову, геометрическим теоремам и учению о числах" [28]. Алфавит греки заимствовали у финикийцев, цивилизация которых, как сообщает об этом В. К. Чалоян, "играла роль соединительного звена между цивилизациями Древнего Востока, Египта и Вавилона, с одной стороны, и цивилизацией греческого мира – с другой" [29].
Греки тайное сделали явным, знание, пришедшее с Востока, не вызывало у них священного трепета, и потому невозможно оценить этот факт однозначно. С одной стороны, они раскрыли тайны, преображенное их дерзким гением знание оплодотворило мир человеческий. Но Знание может возвысить человека, если он способен правильно воспринять его, и может повредить человеку, если опережает его нравственное развитие, если его душа не способна постичь сокровенный смысл законов, скрываемых жрецами от непосвященных. Лишь тогда наступает Благо, когда Исполнитель конгениален Творцу, греки же нравственно не созрели для приятия древней мудрости. Уже Плотин говорил о пифагорейской "двоице" как первом различии и "дерзости", послужившей причиной падения или распадения единого на множество: вследствие того, что ум отпал от единого, отпала от ума и душа.
Все доступно, все дозволено – установка "первичных структур сознания" (по словам Дж. Вико, "примитивный человек делает самого себя центром вселенной"). Но уже у римлян обостряется неверие, скепсис: "Мы не можем изменить мировых отношений, – признавал Сенека. – Мы можем лишь одно: обрести высокое мужество, достойное добродетельного человека, и с его помощью стойко переносить все, что приносит нам судьба, и отдаться воле законов природы" [30].
Эти установки не изжили себя за два с лишним тысячелетия ни под влиянием возвышенной мысли Платона, ни под влиянием христианства. Последнее возникло как антитеза греко-римской цивилизации, поставив задачу "врачевать эллинские недуги" (так озаглавил свой труд христианин V в. Феодорит Киррский, уроженец Антиохии). Под действием таких настроений само слово "эллин" на тысячелетие становится синонимом "язычника". Антитеза греко-римской замкнутости, самодостаточности – христианская любовь к ближнему, открытость небесному и, главное, – осознание своего человеческого несовершенства. Многие черты христианского учения призваны уравновесить крайности греко-римского мира, смирить и очистить нравы. Труднее всего, однако, меняется именно структура сознания. И носители новой веры не всегда свободны от страсти к "борьбе" – вопреки новозаветному чаянию: "Вы слышали, что сказано: око за око, и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому" (Мф., 5, 38–39). Закономерно появились религиозная нетерпимость, костры Инквизиция, процессы над "ведьмами", несмотря на проповедь любви и смирения. И все же под влиянием христианства дух устремился ввысь, к Небесному, и тем более, чем более прежде был зациклен на земном.
Греки шли от земли. Их культура замешена на земной основе [31] (историки видят причину этого в матриархате, земледельческом укладе). Земля же пребывала в Хаосе, пока, объятая мировым вожделением, Эросом, не родила Небо-Урана:
Гея же прежде всего
родила себе равное ширью
Звездное Небо, Урана, чтоб точно покрыл ее всюду
И чтобы прочным жилищем служил для богов всеблаженных.
(Гесиод. Теогония, 120-129).
Земля – лоно всего сущего: и богов, и людей, и самого Зевса, юна все порождает и все питает собой, включая небо. Да и греческие боги, олимпийцы, скорее земные, нежели небесные. В греческой мифологии (по крайней мере у Гесиода) Земля предшествует Небу. Земле отдают предпочтение, она первична. Небо – вторично, ему отводится подчиненная и даже унизительная роль.
Гея вступает с Ураном в брачный союз, но союз этот не выглядит счастливым. Земля рождает чудовищ, одноглазых циклопов, мойр, сторуких, титанов, и Уран, стыдясь своих детей, держит их под землей. Разъяренная Гея, переполненная детьми, неистовствует. Возненавидев супруга, Урана (заметьте, Земля возненавидела Небо), она подстрекает своих детей, титанов, свергнуть отца. И младший, Крон, оскопив Урана, лишил его власти. Потрясенная космическим злом, ночь-Нюкта рождает все то, что стало разрушать род человеческий: ложь, сладострастие, старость, смерть, принудительный труд, голод, забвение, тоску, дойны, судебные тяжбы, беззаконие.
Итак, с одной стороны, Земля – кормилица, прикосновение к ней дает силу, как давала она силу Ахиллу; с другой – сознание, ориентированное на Землю, воздействует на человека определенным образом, порождает соответствующий психотип – приземляет человека. Земля – это твердь, осязаемость, она близка, доступна. Своей доступностью Земля искушает человека, располагает к охоте, добыче, расширению, захвату, экспансии. Словом, близость Земли вызывает потребительское к ней отношение (в отличие от Неба, любовь к которому не знает корысти), что со временем и привело к формированию мировоззрения "быть, чтобы иметь". Забвение, рожденное Нюктой, заставило людей на какое-то время забыть, что Земля без Неба лишена смысла, лишена цели (энтелехии) и что, если бы не было извечной тоски по небесному, человечество просто не выжило бы.
Дело, конечно, не в Земле, а в тех, кто ходил по ней, сеял, охотился. Ориентированное на Землю воображение разыгрывалось в унисон с ней, о чем свидетельствуют поэмы Гомера и Гесиода. Греческие боги лишены жалости. Они знают лишь одну добродетель – мужество, один лишь порок – трусость [32].
У Гесиода звери "не ведают правды". Людям же "правду Кронид даровал – высочайшее благо" ("Работы и дни", 277–279). В "Теогонии" (898-900) он рассуждает: "Раньше, однако, себе ее в чрево Кронид отправил, дабы ему сообщила она, что зло и что благо". Но речь идет о добре и зле для себя – в узком, практическом смысле [33]. И долго, вплоть до нашего времени, не приходило осознание того, что "Земля следует Небу, Небо – дао, а дао – самому себе", что нужно не водворять порядок, а следовать ему.
Ничто не проходит бесследно все накапливается в кладовых памяти и время от времени дает о себе знать. Сознание остается хтоническим, с нарастающей склонностью к дихотомии и вытекающими отсюда последствиями. Порождаемое дерзновением греков стремление к познанию мира, к географическим открытиям, как уже упоминалось, впоследствии оборачивалось геноцидом, истреблением народов и их культуры. Получилось, что прекрасные свойства человеческой натуры – дерзание, любознательность, которым цивилизация обязана своим возникновением, приносили беды людям и народам, не говоря уж о живой природе.
Потому и появляется ощущение, что за Богом по пятам следует Сатана и все переворачивает на свой лад. Потому и стали говорить: "Добрыми намерениями вымощен путь в ад". Испанские торговцы переплавили в слитки золота изделия инков, которым цены нет. Металл разрушает дух, образ, форму, самое возможность блага. И даже высокое искусство Возрождения, которым мы не можем не восторгаться, несло в себе этот дух вседозволенности. Апология земного и человеческого породила высочайшие шедевры, но и поставила человека над истиной Бытия – расшатала "связь времен". Происходит еще один поворот – от Небесного к Земному, оживают греческие боги ("Триумф Вакха и Ариадны" Лоренцо Медичи, 1559 г.; "Венера и Адонис" Шекспира, 1593 г.) [34].
В этом чувстве превосходства над земною тварью и великое пришествие человека, и причина его падения. Незнание меры своих возможностей обернулось антропоцентрическим комплексом, иллюзией вседозволенности, – а потом неизбежными опустошенностью и отчаянием, что мы находим уже у позднего Шекспира. И закономерно обращение Ф. Ницше к мифу и к греческой трагедии. И не только Ницше, но и многих поэтов переходного времени, русских символистов в том числе [35]. Есть над чем задуматься. Конечно, от творения гениев не убудет оттого, что к ним пристрастились, скажем, теоретики фашизма (какое, однако, фатально тяжелое слово – фашизм). Ни Бах, ни Вагнер, ни Ницше в этом не повинны и к этому не причастны. И все же не случайно возникло в наше время движение контркультуры – бунт против унаследованной парадигмы – диктата силы, в музыке ля, в слове. Искусство последних веков и возвышает и низвергает человека. Гении – не ангелы (но и Пушкина не оспоришь: "гений и злодейство вещи несовместные"). Сатана не дремлет, увеличивает свое воинство не за счет бездарей. И Гений себе не принадлежит: он – вестник добра и зла, света и тьмы. Он дает человеку возможность увидеть себя, как есть, и светлое в себе, и темное – что от бога, что от дьявола, а разглядев, сделать выбор. Для этого он и является в мир. Но гений не учит спасению, он лишь срывает пелену с мира и маску с человека.
Теперь нередко задаются вопросом: где же, на каком витке истории человечество сбилось с пути, не туда пошло, как это прозвучало в фильме А. Тарковского "Жертвоприношение". Но, может быть, это произошло раньше, когда греки и римляне признали неизбежность всепоглощающего Хаоса? Возродился Миф. Его вызвало из Небытия потрясенное сознание, чтобы помочь человеку найти ответ. И, возможно, действительно предстоит еще одно "жертвоприношение" – пожертвовать привязанностями, вкусами, любимыми образами, если они мешают увидеть Истину Бытия.
Принято считать, что культура начинается с мифа, с мифологической стадии. В этом есть резон: нет еще привычки отделять одно от другого и объяснять происходящее. Но и этот закон не универсален, вряд ли мифологию как целостную, космогоническую (или теогоническую) систему можно считать всеобщим явлением [36]. Отсюда, конечно, не следует, что какие-то народы не знали мифов, напротив, все есть везде, все дело в расстановке акцентов, или "все есть во всем" но преобладающий элемент определяет характер явления. Греческий миф, согласитесь, сыграл уникальную роль в истории человеческой культуры, как и греческая наука. Может быть, то, что греки выразили на протяжении века в личностной, авторской форме (Гомер, Гесиод – человек взял на себя право и смелость повествовать о жизни богов), у других народов растянулось на века. Иначе говоря, другие мифологии не знали такого взлета в одночасье, не знали поэтому и резкой смены парадигмы.
В последнее время обострился интерес к китайскому мифу [37]. Исследователи преисполнены желания доказать, что и в Китае была своя полноценная мифология (так уж устроен человек: ему хочется, чтобы все было, как у всех). В Китае, действительно, обострился интерес к прошлому, собирают сказания по провинциям, записывают предания старины. Однако уже одно это наводят на мысль, что феномен китайской мифологии отличен от греческого.
До сих пор не смолкают споры о природе китайского мифа, и относятся к нему по-разному. Есть ученые, которые видят в нем явление более позднее, чем традиционный канон ("Четверокнижие", "Пятикнижие" и т. д.) [38], и вторичное. Есть точка зрения, что мифологические герои рационализируются, превращаются в мудрых правителей; и, наоборот, что реальные личности и события преображаются народной фантазией. Возможно, несколько категоричны суждения таких ученых как А. Масперо, автора книги "Мифологические предания в "Шуцзине"" (1924г.): "Китайские ученые никогда не знали другого пути истолкования легендарных повествований, кроме эвгемеризации, под предлогом восстановления их исторической сути они исключают те сверхъестественные элементы, которые кажутся им неприемлемыми" [39]. Или изложенное в "Легендах и культах древнего Китая" мнение Б. Карлгрена, согласно которому лишь в эпоху Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.) "свободные" тексты эпохи Чжоу (ок. 1027–221 гг. до н.э.) обрели системный, значит, тенденциозный характер.
Культ предков приводит к тому, что лидеры древности уподобляются не богам, а мудрым правителям. Об этой тенденции свидетельствует Д. Бодде: "Ярко выраженное историческое мышление китайцев, проявившееся уже в очень ранние времена и сочетающееся с тенденцией отказываться от сверхъестественных объяснений вселенной, привело их к "очеловечиванию", или к "эвгемеризации" большей части того материала, который первоначально представлял собою миф, – вплоть до такого состояния, когда он мог восприниматься как достоверная история... В сравнении с развитием письменной литературы этот процесс начался так рано, что по большей части мифы в этой литературе не смогли быть записаны в своей первобытной мифологической форме. Можно думать, что такая ситуация почти уникальна среди главных цивилизаций древности" [40].
Склонность китайцев к рациональному объяснению мифа отмечают многие ученые и не без оснований. Но это лишь одна сторона дела, одна черта традиционного мышления, сложившаяся на определенной стадии китайской цивилизации. Процесс эвгемеризации начался, когда сознание уже прошло стадию восприятия мира через восторг или ужас, присущую ранней поре, и склонялось к рациональному его объяснению, о чем свидетельствуют позднечжоуские и раннеханьские тексты. Другие считают, что мифология возникает чуть ли не в III тысячелетии до н.э., когда жили три великих правителя (сань хуан): первопредок Фу Си, его жена, прародительница людей Нюйва, и "желтый император", или "правитель центра" Хуан-ди (он же Шанди – верховный небесный владыка) [41].
Строго говоря, кто может сказать, что было в Китае 5 тыс. лет назад? Насколько могут быть достоверными выводы, если они основаны на таком скудном материале, как иньские гадательные кости II тысячелетия до н.э. или ханьские рельефы на могильных плитах? В письменной литературе архаичные мифы зафиксированы лишь в текстах позднего Чжоу – в "Шуцзине" ("Книге истории" – XI в. до н.э.), в "Шаньхайцзине" ("Книге гор и морей" – IV–II вв. до н.э.). Но если и существовало в Китае III тысячелетия до н.э. мифологическое мышление, то оно не могло качественно не отличаться от мифологии древних греков. Мировое время, Хронос, не порождает одни и те же или сходные явления, если их разделяет пространство в тысячи километров и время в две тысячи лет. Само Целое выглядело иначе.
Тем не менее, действительно, Китай знал архаичные представления, зооантропоморфные образы богов (Фу Си и Нюйва, например, изображаются людьми со змеиными хвостами). Существовал и архаичный солярный культ, который к эпохе Чжоу утратил свою силу (но, кстати, до сих пор не утратил ее окончательно в западной эйкумене). Были и предания о первопредках, установивших порядок на земле. Каждый из них, впрочем, менее всего сражался или предавался страстям, а совершал практические дела – устраивал жизнь на земле. Так, первопредок Фу Си (олицетворяющий Восток и Дерево; иероглиф Восток состоит из элементов "солнце" и "дерево") обучил людей охоте, плести рыболовные сети, готовить пищу. Но, главное, он начертал 8 триграмм (ба гуа) [42], которые легли в основу "Ицзина". Литература, близкая к народной, ставила ему в заслугу первые его добродетели, литература, близкая к мудрецам, – последнюю. Хуан-ди же научил китайцев ремеслу – гончарному искусству" сооружать повозки, плавить металл.
С позднего периода эпохи Хань начинается новая фаза, которую коротко можно охарактеризовать как переход от рационального к иррациональному мышлению, что дает о себе знать не только в жанрах популярной литературы, рассказы о чудесах, об удивительном (чуаньци) [43], но и в позднедаосских текстах и алхимических упражнениях. Однако это явление не имеет прямого отношения к мифологии, как таковой, и скорее может быть отнесено к олитературенному фольклору, выполнявшему свою роль: восполнить то, что не состоялось или исчезло из коллективной памяти.
И это не выглядит удивительным, если принять во внимание закон Целого, изложенный еще милетцами: целое неизменно, лишь части меняются (Анаксимандр) – или сунскими философами: закон – един, формы его проявления – различны. Иначе говоря, каждая роль в мировом действе должна быть сыграна, но как – это уже зависит от места и времени.
Те, кто задался целью доказать "основополагающую" роль китайской мифологии, исходят из распространенного убеждения, что всякое мышление начинается с мифологической стадии и что она предопределяет все остальное. Но сама эта стадия проходит по-разному, потому может быть различным ее воздействие на ход культуры. Разные парадигмы не могут привести к "одинаковым результатам. Делая упор на мифе, исследователи, в угоду бытующей концепции, относят к нему тексты, не имеющие к мифу прямого отношения (скажем, "Ицзин" и даосские трактаты "Даодэцзин", "Чжуан-цзы", "Хуайнань-цзы" [44]). Те, кто знаком с этими текстами, наверное, согласятся, что они не производят впечатления родившихся из мифа. Разве может служить аргументом, например, то обстоятельство, что конфуцианцы нередко упоминают имена первопредков, а даосы прибегают к языку притчи, если ни те, ни другие не следуют духу, логике мифа? Китайский миф не мог обрести завершенную форму, воплотиться в целостную систему – это противоречило бы его назначению. Существует он в виде разрозненных фрагментов, сведений о делах древних правителей. Элементы мифа могут обильно присутствовать в канонической литературе, но не определять ее характера, а играть в ней подчиненную, скажем развлекательную, роль, чтобы донести мудрость древних в доходчивой форме. В этом и видели их назначение. Ссылка на мифические персонажи призвана удостоверить истину, и можно говорить о логике прецедента в китайской литературе. Раз это было, значит, это есть.
Не логика в аристотелевском смысле, не диалектика (диалоги) служили способом доказательств, а ссылка на прецедент: такая-то почитаемая персона в таком-то случае поступила так-то, и данный поступок имел силу закона. Чтобы не быть голословной, сошлюсь на Чжуан-цзы, с легкостью мудреца готового доверить каждому глубинные истины: "О, как совершенны были люди древности! Они были равны святым и мудрым, чисты, как небо и земля, они вскармливали тьму вещей, приводили в гармонию Поднебесную и оказывали благодеяния всем людям. Они понимали изначальный критерий и соединялись с конечным мерилом. Во всех шести направлениях и в четырех временах года, в малом и большом, в тонком и грубом – везде и всюду проявлялось их действие... Многие из тех сообщений, что находятся в "Шицзине", "Шуцзине", "Лицзи", "Юэцзине", могут понимать ученые мужи из Цзоу и Лу и чиновники-ученые. При помощи "Шицзина" постигают устремления; при помощи "Щуцзина" постигают (государственные) дела; при помощи "Лицзи" постигают правила поведения; при помощи "Юэцзина" постигают основы гармонии; при помощи "Ицзина" постигают инь и ян; при помощи "Чунь-цю" постигают (принципы оценки и) разделения названий (должностных обязанностей)" ("Чжуан-цзы", гл. 33).
И притчевая форма даосско-буддийских записок не дает основании отнести их к мифу. Их стиль-свидетельство неразделенности понятия и образа. Мудрецы учили избегать односторонности, не нарушать Единое.
У истоков традиционного мышления китайцев лежит, насколько я могу судить, не миф, а особая форма знания, приписываемая "совершенномудрым" и изложенная в канонических книгах (цзин). Зачем было прибегать к мифу, когда мудрецы (начиная с Фу Си) знали законы Бытия. (Кстати, основной текст "Ицзина" появился примерно в то же время, когда Гесиод писал "Теогонию", а Гомер – "Илиаду" и "Одиссею"). И уж если говорить о некоем пра-тексте, или "внешнем" тексте китайской культуры, ставшем в силу своей универсальности "внутренним", – то это, конечно, "Ицзин". Значит, в нем следует искать Форму, оказавшую влияние на образ мышления китайцев [45]. Свидетельство тому – интерес именно к учениям мудрецов: не китайский миф притягивает внимание просвещенного мира, а учения "совершенномудрых", и прежде всего "Ицзин" (который изучал еще Лейбниц) [46].
Так что, надо думать, не всегда мифология лежит в основании культуры и предопределяет ее характер. Скорее роль и удельный вес мифологии различны, зависят от избранного пути. В одном случае происходит смена парадигмы, господствующей формы сознания (у греков), в другом – мифологические элементы продолжают жить как составная часть культуры, принимая участи" в процессе ее формирования, но не определяя ее характер, занимая периферийное положение в системе китайской культуры, где доминирует вэнь – текст, канон, слово мудрецов. И это доказывает, что ни один закон человеческой истории не следует абсолютизировать, ибо не может он одинаковым образом проявлять себя в разных условиях ("человеку разумному", по его же собственному убеждению, недоступна абсолютная истина, что, впрочем, не мешает ему абсолютизировать относительную – выдавать часть за целое). Человечество потому и едино, что не едино. Говоря словами Конфуция, "все близки по изначальной природе, далеки по воспитанию" ("Луньюй, XVII, 2). Общие законы существуют, но они открываются развитому сознанию, постигшему в многообразии единство, а в единстве – многообразие. На ранней стадии существовало целостное видение мира, только эта "целостность", это "одно" понимали по-разному (впоследствии "одно" распадалось на многое, чтобы со временем вновь воссоединиться в "одно", уже высшего порядка, когда каждый элемент целого есть целое). В одном случае следует говорить о целостности мифа, видении мира сквозь его призму, в другом – о целостности некоего мыслеобразного континуума, представленного в 64 гексаграммах "Ицзина", символизирующих единый процесс мирового становления, где каждая последующая фаза обусловлена не столько предыдущей, сколько природой Целого, которое по, необходимости проходит 64 стадии становления, и ни одну нельзя обойти, можно лишь действовать в соответствии или несоответствии с нею. Благодаря Изменчивому существует Неизменной, благодаря Неизменному существует Изменчивое [47]. Каждая гексаграмма "Ицзина" олицетворяет очередную мировую ситуацию. Пребывая в согласии с ней, пребываешь в Постоянстве, в гармонии с миром. "Постоянство, – согласно Лао-цзы, – есть знание гармонии (хэ – равновесия). Знание Постоянства есть Свет (мин)" ("Даодэцзин", §55). Это значит, что пребывающий в покое – в Центре (чжун), следующий принципу равновесия (хэ); пребывает во всеобщем. (Иначе говоря, ему доступна абсолютная Истина, а пребывающий в Истине излучает благодатный Свет (мин), который распространяется по всей Поднебесной).
Стремление к Свету, просветлению мы находим и у буддистов, и у даосов, и у конфуцианцев. Конфуций говорил: "О, как велика духовная сила (дэ) у того, кто пребывает в Центре (чжун), и как редка она ныне среди народа" ("Луньюй", VI, 27). Может быть, отсюда и возник замысел "Чжун-юна" – одного из трактатов "Четверокнижия", приписываемого внуку Конфуция: "Центр (чжун) – великий корень Поднебесной" [48]. Иероглиф чжун напоминает ось, проходящую через центр круга. С этим представлением перекликаются слова Чжуан-цзы: "Пока то и это не стали парой, такое называется осью дао. Эта ось начинается в центре круга (перемен), который соответствует бесконечности" ("Чжуан-цзы", гл. 2). А в "Книге великой Тайны" Ян Сюна (II в. до н.э.) (подражание "Ицзину") сказано:
Водрузишь ось
сердцевины,
В круговороте нет углов.
Разгадка:
Водрузишь ось
сердцевины:
Это установишь основную мысль [49].
Лишь в Центре, в сердцевине, при полном покое, самососредоточенности открывается Истина. Потому Лао-цзы и говорит: "Покой есть главное в движении". Покой включает в себя движение, удерживая его в равновесии, не давая множеству распасться, перейти в хаос. Благодаря подвижному равновесию, сбалансированности и сохраняется единство ("одно инь, одно ян и есть дао"). В традиционных учениях это называется Срединным путем. Центр (точка) и есть Целое. Положим, Целое как год обусловливает чередование по кругу отдельных его фаз – смену четырех времен года. Если Целое в порядке, то и части будут в порядке – разворачиваться правильным образом. Эта идея была осознана в глубокой древности, и Хуан-ди не случайно называли "богом центра".
Но откуда такая подвижность ума, ощущение безостановочности движения при изначальности Покоя, неприятие статики и чувство неизменного в изменчивом? Не связано ли это с тем, что сознание китайцев ориентировано на Небо, где все находится в движении и вместе с тем в покое? Плывут облака, что-то постоянно меняется в круговороте времен, но сам круг, небосвод с его звездами, остается неизменным.
Если греки шли от Земли, то китайцы шли от Неба. Уже в период Чжоу существовал культ Неба (тянь), пришедший на смену культу Солнца. Культ Неба в какой-то степени предопределил характер последующей социокультурной парадигмы. Уже в "Книге песен" ("Шицзине", XII – V вв. до н.э.), которую не случайно называют энциклопедией китайской древности, сказано:
Небо, рождая на свет
человеческий род,
Тело и правило жизни всем людям дает [50].
В отличие от Гераклита (согласно которому "борьба – отец всего и всему миру царь; одним она определила быть богами, а другим – людьми; одних она сделала рабами, других – свободными" (В 53)), китайские мудрецы считали, что все зависит от "воли неба" (тяньмин), которую воплощает "сын неба" (тянь-цзы). Конфуций сказал: "Не зная воли неба (тяньмин), нельзя стать настоящим человеком (цзюньцзы)" ("Луньюй", XX,3); "О, как велик был Яо как правитель! О, как он был велик! Только Небо более велико! Яо следовал его законам" ("Луньюй", VIII, 19) [51].
Нельзя роптать на Небо и противиться ему, пытаться изменить ход событий, ибо Небо всегда поступает но справедливости. "Если на роду написана бедность, – уверял Ван Чун (ок. 27–100), но напряжением сил достигнешь богатства, то, достигнув его, умрешь. Когда силой таланта достигают богатства и знатности, судьба не в силах их принять. Это подобно вместимости сосуда. Если сосуд рассчитан на одну меру, то мера наполняет его до краев: будешь наполнять дальше – все прольется!" [52]. А Моцзы (479–400 гг. до н.э.) говорил: "Нет ничего более подходящего, чем принять за образец небо. Действия неба обширны и бескорыстны. Оно щедро и (не кичится) своими достоинствами, его сияние длительно и не ослабляюще. Именно поэтому совершенномудрые ваны подражали ему, т.е. считали небо образцом... Небо непременно желает, чтобы люди взаимно любили друг друга и приносили друг другу пользу, но небу неприятно, если люди делают друг другу зло, обманывают друг друга" [53]. К Небу следует относиться с почтением и не противиться ему. По словам Конфуция, "благородный муж боится трех вещей: он боится веления Неба, великих людей и слов совершенномудрых. Низкий человек не знает веления Неба и не боится его, презирает высоких людей, занимающих высокое положение; оставляет без внимания слова мудрого человека" ("Луньюй", XVI, 8).
Иногда "волю Неба" понимают как "судьбу", но это не так. "Воля Неба всегда справедлива, даже гневная, и нужно не избегать, а понять ее и ей довериться. (В конечном счете "волю Неба" конструирует сам человек). Вспомним Конфуция еще раз: "Учитель сказал: "В любви к учению будьте искренни, не отступайте от Пути даже под угрозой смерти. Не ходите туда, где беспорядки. Не живите там, где смута. Если Поднебесная следует дао, будьте на виду, если нет, скройтесь. Если страна следует справедливости (дао), стыдно быть бедным и не в чести. Если страна не следует справедливости, стыдно быть богатым и в чести" ("Луньюй", VIII, 13).
Иначе говоря, от самого человека зависит его судьба. Если он умеет понимать ситуацию и поступать разумно, сообразуясь с Переменами, с интересами народа, а не преследует корыстные цели, то Небо поддержит его, если нет, покарает. Значит, у человека есть выбор. Если он следует Пути, им руководят высокие помыслы, то достигнет спасения, сколь бы ни был труден путь. Если же им руководят низкие инстинкты, то сколь бы ни сопутствовала ему удача, он все равно останется в убытке, потерпит поражение, ибо есть общие моральные законы, за нарушение которых неминуемо следует расплата. Здесь нет места случайности. "Кто познает свою природу, познает Небо", – сказано у Мэн-цзы. Верность своей природе есть верность Небу. Если же пытаться получить больше, чем по тем или иным причинам тебе полагается – в соответствии с прежними и нынешними заслугами, то потеряешь и то, что имеешь, ибо, нарушая свою меру, свое дао, нарушаешь и всеобщее.
"Яо и Шунь овладели дао и стали мудрыми, – говорится в "Хань Фэй-цзы", – Цзэ-юй [54] овладел дао и стал безумным" [55]. Что для одного хорошо, для другого может быть плохо. И простолюдину возможно стать императором, если велик запас его духовной силы дэ и если на то "воля Неба". В "Шицзине" сказано:
Чжоу издревле в своей
управляли стране,
Новый престол им небесною волею дан
Или во славе своей не сияют они?
Ввысь устремится Вэн-ван [56]
или вниз низойдет,
Справа иль слева владыки небесного он!
Воля Неба отождествляется с волей народа. "Небо непременно следует тому, чего хочет народ", – утверждается в "Шицзине" [57].
Эту мысль (на языке другой традиции она звучит: "Глас народа – глас божий") заостряет последователь Конфуция Мэн-цзы: "Только завоевав (расположение) народа, можно стать сыном неба". Ему же принадлежат слова: "Чтобы простолюдин владел Поднебесной, нужно, чтобы его добродетель (дэ) была подобна добродетели Шуня и Юя... Если Поднебесной владеют по наследству, небо может низложить (правителя)" [58]. За Небом признавали высшую силу, но понимали ее конфуцианцы на свой лад (как социоприродную), даосы – на свой (как природную). И мудрость недеяния они понимали по-разному: даосы – как ненавязчивость, непринужденность, безмолвие, конфуцианцы – как разумное действие, сообразное с ли (учтивостью, ритуалом).
У даосов дэ ненарочито: "Небо и Земля долговечны. Небо и Земля долговечны, потому что они существуют не для себя"; "Небо и Земля не обладают человеколюбием и предоставляют всем существам жить собственной жизнью" ("Даодэцзин", §7, 5).
Но и Конфуций говорит: "О, как велики были Шунь и Юй, владея Поднебесной, они не считали ее своей" ("Луньюй", VIII, 18). Можно сказать, в понимании дао Конфуций и Лао-цзы близки: расходятся в понимании "тактики", средств достижения цели [59]. Дао-человек странствует в космических пространствах, как в своей вотчине: "Тот, кто постиг постоянство Неба и Земли и может направлять изменения шести стихий, чтобы странствовать в бесконечности, разве будет он в чем-то нуждаться?", – спрашивает Чжуан-цзы. Таков дао-человек, ставший вровень с Небом и Землей – познавший Великий предел ни в чем не знает преград. Следовать естественности (цзыжань) – значит не навязывать Вселенной ритм своей жизни, а довериться ее распорядку; если "человек следует земле", то и "земля следует Небу". Если Земля и Небо связаны между собой, то все пребывает в единстве, ибо произрастает из "общего корня" – дао [60].
Когда-то легкие ци (ян-ци) поднялись кверху и образовали небо, а тяжелые ци (инь-ци) опустились вниз и образовали землю. Но связь между ними не прекращалась, ибо инь и ян – едины, и единый путь объединяет все во Вселенной: "В древности совершенномудрые ведали о Переменах, потому могли следовать законам (ли) изначальной природы человека и велению неба, – говорится в древнем комментарии к "Ицзину" – "Шогуа чжуань", – благодаря чему они открыли путь Неба – инь-ян; установили путь Земли – мягкое-твердое; осознали путь Человека – Человечность (жэнь) и долг-справедливость (и). Они соединили и удвоили три эти потенции. Потому в "Книге Перемен" шесть: черт составляют гексаграмму. Увидев инь, увидев ян, установили чередование мягкого и твердого [61]". А в комментарии "Дасян чжуань" сказано: "Небо и Земля не связаны: это – упадок". Имеется в виду 12-я гексаграмма "Ицзина" – "Упадок" (Пи), афоризм которой гласит: "Упадок – неподходящие люди. Неблагоприятна благородному человеку стойкость. Великое отходит, малое приходит" [62]. В ситуации Упадка обрываются естественные связи, наступает такое положение, когда то, что должно быть наверху, оказывается внизу, а то, что должно быть внизу, оказывается наверху (перевернутая структура ведет ко всеобщему упадку).
Неудивительно, такой знаток Китая, как А. С. Мартынов, посвящает комплексу "Небо-Земля" в китайских учениях специальную работу, где, в частности, пишет: "Через все перипетии исторического развития, начиная с глубокой древности и вплоть до своего крушения в начале XX в., традиционная китайская культура пронесла неприкосновенным некий аксиологический фонд, одним из основных положений которого был культ Неба и Земли как двух составных частей сакрализованного мироздания... Ни одна система верований, ни одна доктрина никогда не поднималась на такую высоту, которая бы позволила ей оттеснить поклонение Небу и Земле на второй план и сделать, хотя бы теоретически, политическую власть орудием исполнения своих целей, как это было в христианском и мусульманском мире". При этом автор выявляет изоморфизм комплекса "Небо-Земля" в таких, казалось бы, разных сферах традиционной китайской культуры, как политические доктрины, философские концепции и изящная словесность.
Упоминая известное место из "Сицычжуань" ("Традиция афоризмов"): "В древности, когда Бао Сиши управлял Поднебесной, он поднимая голову вверх (ян), созерцал знаки на Небе, опуская голову вниз (фу), наблюдал образцы на Земле", А. С. Мартынов видит в этом развитие одной из наиболее древних идей китайской мысли, которая зародилась в тесной связи с мантической практикой: "Небо ниспосылает знаки, совершенный мудрец берет их за образец". И эта ключевая идея, действительно, явилась формообразующим началом китайской культуры. Ссылаясь на стихи Бо Цзюйи: "Поднимаешь голову вверх (ян) и смотришь на горы, опускаешь голову вниз (у) и слушаешь источник", А. С. Мартынов заключает: "Антагонизм с миром людей как бы гасится или умаляется идеально устроенным, наглядным космосом. В этом, по нашему мнению, главная функция "Неба – Земли" как в философии, так и в художественном творчестве в традиционной китайской культуре" [63].
Значение хтонического начала в умозрении греков легче осмыслить, когда есть с чем сравнивать, скажем, когда начинаешь понимать роль Неба в китайских текстах. Это не значит, что китайцы ближе к Небу, что их путь более возвышенный – так не ставится вопрос. Каждый народ шел своим путем, и ни один путь не повторить и не заменить другим. Как известно, удвоенное инь или удвоенное ян-избыток того или другого – ведет к гибели. Нужно лишь одно – чтобы Земля и Небо (инь и ян) находились в согласии, – ибо если Земля и Небо не связаны, то наступает всеобщий Упадок.
Но для этого важно понять, чем же эти Пути (скажем, восточный и западный) отличаются и как дополняют друг друга, образуя Единое.
Почему все же греки избрали путь "борьбы" средством достижения цели? (Напомню, что не касаюсь социальных причин, предопределивших парадигму "борьбы", хотя они лежат на поверхности. На той стадии сознания, когда воинская доблесть, ратные подвиги считались высшей добродетелью – без борьбы не обойтись. Но меня интересует именно мировоззренческий аспект проблемы, скорее воздействие сознания на бытие, чем наоборот).
Не потому ли понадобилась "борьба", что существовало представление о первоначальном Хаосе? Раз хаотична праоснова мира, то нужно ее изменить, избавиться от Хаоса, который, конечно же, претит здравому смыслу человека. А как избавиться от Хаоса, если он изначален? Переделывать мир. И вот человек стал на путь переделывания мира. Для этого понадобилось отойти от него, чтобы увидеть со стороны, вступить с ним в субъектно-объектные отношения. Человек, субъект, возомнивший себя нелицеприятным судьей и зрителем, будет изучать, с чем он имеет дело и как лучше распорядиться своим знанием. Но на что в этой борьбе опираться? Тоже – на изначальное: Нус, Логос, Огонь, потом – Слово. Так что с первых шагов движения к лучшей жизни человек в западной эйкумене допустил разделение, отпадение от Целого во имя его переустройства. И уже в этом крылось противоречие: как можно изменить неизменное? Волей-неволей приходится отступать от Истины, которая есть Целое, хотя и "Незрима", по Эмпедоклу:
Скудные средства
познания нашим дарованы членам,
Множество скверны и напастей смущает пытливые думы.
Малый узрев лишь удел человеческой жизни злосчастной,
Гибнут, как дыма струя, скоротечных людей поколенья,
Сердцем постигнув лишь то, что каждому путь преградило
В суетной жизни стезе; а всякий мнит целое ведать:
Оку людскому незримо оно, ни уху невнятно,
Даже умом необъемлемо. Ты же стань жадный к познанью,
Сведать готовься лишь то, что смертная мысль прозревает
("О природе", 2).
Самому же Эмпедоклу
истина открыта:
Но и другое тебе я поведаю: в мире сем тленном
Нет никакого рожденья, как нет и губительной смерти:
Есть лишь смешенье одно с размещеньем того, что смешалось,
Что и зовут неразумно рождением темные люди.
Глупые! Как близорука их мысль, коль они полагают,
Будто действительно раньше не бывшее может возникнуть,
Иль умереть и разрушиться может совсем то, что было.
Ибо из вовсе не бывшего сущее стать неспособно;
Также и сущее чтобы пришло – ни на деле, ни в мысли
Вещь невозможная: ибо оно устоит против силы"
("О природе", 8, 11–12).
Прошедшие тысячелетия подтвердили правоту Эмпедокла, в частности его мысль об ограниченности Силы, но время (немалое. Для Эмпедокла первоначальный порядок есть состояние Любви (Дружбы) – созвучия элементов. Под действием Вражды (Раздора) оно сменяется хаосом, неупорядоченностью, но Любовь все возвращает к первоначальной гармонии. Эти переходы периодически повторяются, ибо Любовь и Вражда имманентны миру, не возникают и, стало быть, не исчезают совсем. В конце концов все возвращается к вечному первоначалу. Любви: все успокаивается в неподвижном гармоническом сферосе.
То из многого образуется единое, то, наоборот, из единого – многое. Единое же неподвижно, и ведет к Единому, согласно Гераклиту, один лишь разум: "Все озарено разумом, и не только животные, но и растения" (В 110). "Все части огня, как видимые, так и невидимые, обладают мышлением и причастны разуму". Но хотя разум-логос существует вечно, недоступен он пониманию людей. Все совершается по Логосу, люди же с ним враждуют, и поэты и философы: Гомер и Гесиод, Фалес и Ксенофан. Не в силах объять целое, они "не понимают, что день и ночь одно". Единому знанию предпочитают "многознание", которое "уму не научает": "Чтобы говорить с умом, нужно опираться на всеобщее", но не могут они обращаться со всеобщим Логосом и растить собственный: "Все человеческие законы питаются одним божественным, который простирает свою власть насколько пожелает, всему довлеет и над всем одерживает верх... поэтому необходимо следовать общему. Но хотя логос всеобщ, большинство людей живет так, как если бы они имели собственное понимание" (В 114).
Так или иначе, на протяжении более чем 2 тыс. лет хомо сапиенс противостоял Целому, или Логосу, или Истине, или Бесконечному, пытаясь овладеть им. Но чем больше он жаждал овладеть Целым, тем менее это ему удавалось. В наши дни человек усомнился наконец в правильности такого подхода. Разделений мира на познающий субъект и познаваемый объект привело к тотальному отрицанию, распаду; утратив целостность, мир утратил душу, а имея дело с обездушенным миром, человек стал терять собственную. Заметив, что опредмечивание мира привело к опредмечиванию человека, он устрашился (судя по философия и литературе, а теперь и науке) – и не беспричинно. А устрашившись, стал искать выход, вспоминать забытое: что говорили но этому поводу древние. Они же – скажем, даосы, – говорили, что человек есть "душа вещей", но не их господин; а конфуцианцы – что человек составляет единое тело со Вселенной. Все взаимосвязано, одно обусловливает другое и, чем более бездуховным становится мир, тем бездуховнее человек, и наоборот. Если он, человек, не вернет утраченную целостность, то не видать ему покоя и самой Жизни. Но так выглядит дело с одной стороны.
С другой, не произойди этого отпадания субъекта от объекта, разрыва между человеком и миром, не появились бы философия и наука, а стало быть, и современная цивилизация и мир развивался бы иным путем, если бы развивался вообще. Пройдя через стадию нигилизма, причину стали искать не в глобальном просчете, как полагали одно время на Западе (начиная с Ницше, кончая Кестлером), а в незнании Предела, в "одномерности мышления". Невозможно раздваивать нечто до бесконечности, идти все время в одном направлении; когда-то нужно остановиться и пойти обратно в поисках утраченного.
Всякое явление имеет свой внутренний предел, критическую точку, но естественное явление само по себе меняет ход, а искусственное, к которому относится и цивилизация, если и меняет, то с большим опозданием. Человеку важно не упустить момент, когда в процессе Эволюции происходит поворот к Инволюции, приходит время повернуть от разъединения к соединению, и наоборот. Если не уловить такой момент, то Целое может сколлапсировать раньше времени (представьте, что был бы только вдох или только выдох).
Так или иначе, не случаен ныне интерес к прошлому, к пройденному пути, к тому, с чего все началось, где причина напряженного, недоверчивого отношения человека к миру, к природе. Подобное отношение, теперь уже не приходится сомневаться, привело мир к экологической катастрофе небывалого масштаба, с которой не сравнятся прежние стихийные бедствия, к комплексу, который назвали "образом врага" и корни которого уходят в далекое прошлое.
Итак, что же было в Начале? Если верить Гесиоду:
Прежде
всего во Вселенной Хаос зародился, а следом
Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный,
Сумрачный Тартар, в земных залегающий недрах глубоких,
И, между вечными всеми богами прекраснейший, – Эрос...
Черная Ночь и Эреб родились из Хаоса.
Ночь же Эфир родила и сияющий день, иль Гемеру:
Их зачала она в чреве, с Эребом в любви сочетавшись
("Теогония", 116-120, 123-125).
По одной из египетских версий, мир зарождается из первоначального хаоса – океана: он и производит на свет солнце – Ра, которое "изрыгает" бога воздуха Шу и его женскую ипостась Тефнут. У Гомера нет понятия "хаос", – все происходит от бога Океана, "предка богов" ("Илиада", XIV, 201), но близко к Хаосу понятие "глубочайшей бездны", Тартара:
Либо,
схвативши, швырну я ослушника в сумрачный Тартар,
Очень далеко, где есть под землей глубочайшая бездна,
Где из железа ворота, порог же высокий из меди, –
Вниз от Аида насколько земля от небесного свода
("Илиада", VIII, 13–16).
В досократовской философии Хаос – первичное, бесформенное, неупорядоченное состояние мира, которое положило начало всему, даже Небу и Земле. Древнегреческое слово "хаос" происходит от "хайно" – "разверзаюсь". Это некое зияние, пустота, в которой все зарождается и куда все исчезает. В то же время хаос – смешанность, неупорядоченная смесь элементов. После образования мира хаос, как "великая бездна" – "хаема", продолжает пребывать в его основании.
И в понимании Хаоса греки шли от Земли, которая когда-то пребывала в смятении, разверзалась, поглощая все живое, – приносила людям невзгоды и страдания. Но в Хаосе и зарождается мир (трудные роды), из Хаоса он черпает свою силу. Поэтому уже у Гесиода слово "хаос" имеет двойной смысл: это и бездна, пустое беспредельное пространство ("Теогония", 700), и животворящая первопотенция мира наряду с Геей, Тартаром и Эросом ("Теогония", 116) (подобающий ряд земного, хтонического происхождения).
Для греческой философии, как и мифологии. Хаос – неупорядоченная первопотенция мира. У элейцев – беспорядочная смесь элементов. Аэций приводит мнение Эмпедокла: "Космос (т.е. мир как упорядоченное целое) один, однако космос не составляет (всей) Вселенной, но (образует) лишь некоторую, небольшую часть Вселенной, остальная же (часть ее) представляет собой необработанную материю" [64]. Под Хаосом понимали инертную, неупорядоченную материю, которую, однако. Ум (Нус) может упорядочить. "(Анаксагор признал) гомеомерии материей, действующей же причиной – Ум, который все привел в порядок"; "Вместе все вещи были. Ум же их отделил и привел в порядок"; Ум (Нус) упорядочил "все бесчисленные вещи, бывшие смешанными и неподвижными" [65], т.е. Нус-перводвигатель творит из первичного хаоса мир. Платон понимает под хаосом чистую материю, или первоматерию, лишенную определенных свойств, как "беспредельную пучину неподобного", "состояние древнего беспорядка" ("Политик", 273, А2), который должен быть устранен во имя прекрасного космоса – гармоничного, упорядоченного состояния мира, следующего надлежащей мере. Космос – живое, разумное существо, сотворенное демиургом в соответствии с "первообразом". "Пожелав, чтобы все было хорошо, а худого по возможности ничего не было, бог таким-то образом все подлежащее зрению, что застал не в состоянии покоя, а в нестройном и беспорядочном движении, из беспорядка привел в порядок, полагая, что последний всячески лучше первого" ("Тимей", 30А). Но как и всякое творение, и эта "прекрасная", но "возникшая вещь" подвержена закону разрушения.
По мысли В. Н. Топорова, космос "противостоит хаосу: космос всегда вторичен по отношению к хаосу как во времени, так и по составу элементов, из которых он складывается. Космос возникает во времени и во многих случаях – из хаоса (часто путем восполнения, "прояснения" свойств хаоса: тьма преобразуется в свет, пустота – в заполненность, аморфность – в порядок, непрерывность – в дискретность, безвидность – в "видность" и т. п.) или из элементов, промежуточных между хаосом и космосом. Космос характеризуется "временностью" не только в своем начале (поскольку он возник), но нередко и в конце, когда он должен погибнуть в результате некоего катаклизма (вселенского потопа, пожара) или постепенного снашивания, "срабатывания" космического начала в хаосе" [66].
Согласно Платону, космос совершает круговращение, пока не утрачивает опору в разуме:
"Когда же космос отделился от кормчего, то в ближайшее время после этого отделения он все совершал прекрасно: по истечении же времени и приходе забвения им овладевает состояние древнего беспорядка, так что в конце концов он вырождается, в нем остается немного добра, и, вбирая в себя смесь противоположных (свойств), он подвергается опасности собственного разрушения и гибели всего, что в нем есть, потому-то устроившее его божество, видя такое нелегкое его положение и беспокоясь о том, чтобы, волнуемый: смутой, он не разрушился и не погрузился в беспредельную пучину неподобного, вновь берет кормило и снова направляет все больное и разрушенное по прежнему свойственному ему круговороту, он вновь устрояет космос, упорядочивает его и делает бессмертным и непреходящим" ("Тимей", 28А).
Значит, Платон верил в конечное торжество разума, в возможность гармонии, – когда мир будет следовать "первообразу", "неизменно сущему". Тогда и воцарится подлинное, истинное бытие, "тождественное идее, не рожденной и не гибнущей, ничего не воспринимающей в себя откуда бы то ни было... и никак иначе не ощущаемой, но отданной на попечение мысли" ("Тимей, 52А).
Согласно Аристотелю, не "идеи", но "формы" преобразуют пассивную материю, уподобляя благу. Хаос же, с его точки зрения, представляет собой пространство, где располагаются тела. Для стоиков хаос – вода, которая, разряжаясь или сгущаясь, образует тела, а также – предельно разреженная материя, обусловливающая становление вещей. Одна из функций: хаоса – расчленение, разделение элементов.
Греческая трагедия дала свои трактовки хаоса: у Еврипида он означает пространство между небом и землей; у Аристофана – живое существо, которое в союзе с Эросом порождает птиц, первопредков живых существ. Софокл избегает слова "хаос".
Время наполняло понятие Хаоса новым смыслом. У римлян обострилось ощущение трагичности праосновы (что естественно для жестокой и жесткой эпохи). Хаос все более воспринимался как Аид, всепоглощающая "страшная бездна" (собственно, и в ветхозаветной традиции присутствует идея бездны, и для орфиков хаос – "страшная бездна").
Римляне, говорят, боялись ботов и во время молитвы старались на них не смотреть. Долгое время (170 лет, согласно Варрону) они не имели статуй богов, и священный огонь, возжигаемый в храме, заменял им богиню Весту. Римляне хотели, видимо, вымолить себе прощение, откупиться от Страха (который, в общем, не бывает безосновным), потому возводили в его честь драмы. Их пугала неумолимость рока, непредсказуемость судьбы, всякая неопределенность и бесформенность. Человек боялся оставаться с миром наедине, страшился его потому, что считал его недружелюбным, безразличным и хаотичным в своей основе. Хомо сапиенс мог ориентироваться в том, что было создано соображением его, его собственным умом, но не доверял миру Бытия, от которого отшатнулся, как от Аида.
В представлении о Хаосе воплотилось то, что пугало людей, противоречило их представлениям о должном. Но Хаос – не только "страшная бездна", внушающая ужас, но и животворящее начало. Так, у Овидия в "Метаморфозах" (I, 7–9) Хаос – первозданное, неупорядоченное состояние элементов и творческая потенция мира. Хаос недаром олицетворяется двуликим Янусом, который смотрит одновременно вперед и назад, созидает и разрушает мир. Но, главное, он абсолютно безразличен, сколько к нему ни взывай, не услышит: не внемлет человеческому зову, не знает жалости и сострадания (как знает христианский Бог). Отсюда отчаяние и ужас перед всепоглощающей бездной, как в трагедиях Сенеки: "Мы не можем изменить мировых отношений. Мы можем лишь одно: обрести высокое мужество, достойное добродетельного человека, и с его помощью стойко переносить все, что приносит нам судьба, и отдаться воле законов природы".
Бессмысленное, казалось бы, сопротивление року, нежелание покориться возвысило в глазах потомков греков и римлян, бросивших вызов року. По словам Ф. В. Шеллинга, "до тех пор пока греческое искусство остается в границах природы, нет народа, который был бы ближе к природе, но нет народа и ужаснее, как только оно преступает эти границы! Незримая сила слишком возвышенна, чтобы ее можно было подкупить лестью, герои греческой трагедии слишком благородны, чтобы их могла спасти трусость. Остается только одно – борьба и гибель". Греческая трагедия чтила человеческую свободу настолько, что допускала борьбу своих героев с могуществом судьбы, но "примирить свободу и гибель не могла и греческая трагедия. Лишь существо лишенное свободы, могло подчиниться судьбе. В том, что кара добровольно принимается и за неизбежное преступление и тем самым в самой утрате своей свободы доказывается именно эта свобода, что в самой гибели выражается свободная воля человека, – во всем этом заключена высокая мысль" [67].
Но отсюда же идет несогласие жизни и смерти – страх перед возвращением в изначальный кошмар. Страх перед смертью, по словам Эпикура, есть главное препятствие на пути человека к счастью. Трудно представить европейскую литературу без этого чувства ужаса перед неминуемым концом.
Двойное отношение к Хаосу, как всепорождающему и всепоглощающему, дающему и отнимающему жизнь, унаследовали и неоплатоники, хотя без присущей римлянам скорби. Естественно, чем выше мнил себя человек, тем более страшился Хаоса и тем ненавистнее он ему становился. Не в силах справиться с чувством ужаса человек стал уповать на всемилостивого Бога, Спасителя, который его услышит, простит, снимет боль, спасет от отчаяния, выведет из тьмы бездны к горнему свету. Хаос же безличен – "страшная бездна", а у Овидия – "нерасчлененная грубая глыба", – то и другое одновременно (крайности сходятся). Поэтому Овидий и тоскует об "устроителе мира", "мастере вещей". Страх перед Бытием делает неизбежным и необходимым, в высшем смысле, религиозное сознание, без которого человечество не выжило бы. Не мог человек продолжать жизнь свою вне веры, вне основы, – в "подвешенном состоянии", не имея опоры ни вовне, ни внутри. Но даже христианство за многие века не избавило человечество от "первичных структур сознания", от страха перед "всепоглощающей бездной". По-крайней мере немногие, достигшие святости, не ведали такого страха.
В XVII в. в "Потерянном рае" Дж. Мильтона вновь оживает древнейшее ощущение первозданного Хаоса, царство Хаоса и Ночи – та самая хаема – "великая бездна", которая пребывает в основании мира. Судя по строчкам, предваряющим Первую Книгу, именно в Хаосе, в области тьмы кромешной, размещается Ад. И Небо, и Земля – по велению божьему возникли из Хаоса. Он, древнейший владыка пучины, указывает Сатане путь к сотворенному миру: "Бог видит Сатану, летящего к новозданному миру, и, указав на него Сыну, сидящему одесную, предрекает успешное совращение рода человеческого Сатаною и разъясняет, что Божественное правосудие и премудрость безупречны, ибо Человек создан свободным и вполне способным противостоять искушению".
Но человек не воспользовался своим правом, продолжал уповать на другого, не ощущая ни свободы своей, ни способности противостоять искушению. Он создан из инертной материи, подвержен ее непредсказуемым порывам и продолжает пребывать во власти неразумного Хаоса:
....и
верх берет на миг
Та сторона, где атомы в числе
Чуть большем накопятся; а судья
Их распрей – Хаос, как бы в и решал,
Лишь умножает смуту, что ему
Опорой служит; правит рядом с ним
Арбитр верховный – Случай
Однако Божьей волей, судя по Книге Третьей, предназначено успокоиться и Хаосу:
Я
видел, как бесформенная масса
Первоматерии слилась в одно
По слову Господа, и Хаос внял
Его глаголу; дикий бунт притих,
Законам покорясь, и обрела
Пределы – беспредельность [68].
И все же слияния в "одно" не произошло. Ощущая себя распятым между "светлой бездной" благодати и "темной бездной" первородного греха, человек не сделал выбора и не избавился от страданий. Высокая мысль И. Экхарта, а вслед за ним Ф. В. Шеллинга признала раздвоенность самого Абсолюта, "безосновную" основу Бога. Из "первоосновы" возникает и раздвоение, и единство – в ней самой заложена возможность Зла. "Первооснова", по Шеллингу, – сама по себе "абсолютное безразличие" и "безосновность", лишь от свободной воли человека зависит, какое из начал возобладает – тьма или свет. Свободный выбор может сделать лишь свободный человек. Однако что-то мешало и мешает ему оказаться свободным.
Нетрудно заметить в этих размышлениях отголосок древнейшего представления об изначальной неупорядоченности и двойной природе сущего, что так емко выражено Тютчевым:
И
бездна нам обнажена
Своими страхами и мглами.
И нет преград меж ней и нами, –
Вот отчего нам ночь страшна.
То, что изначально заложено в сознании, изживается с трудом. Это "изначальное" сознание обожествило "борьбу", но по закону парадокса это обрекло человека на безверие и отчаяние. Представление о том, что мир неупорядочен в своей основе и нуждается в улучшении, во вмешательстве человека, а не идея имманентности Логоса миру, стало главной установкой сознания. Предпочтение оказывали "борьбе", иначе – действию, и Аристотель поставил "деятельность" во главу угла.
Кто знает, может быть, для того и понадобился грекам устрашающий Хаос, чтобы оправдать свою деятельную натуру, право на переустройство мира, его организацию? (По крайней мере самые древние представления о Хаосе – египтян и шумеров в III тысячелетии до н.э. не внушали чувства ужаса и желания переделывать мир: "как следует из "Книги пирамид" (1040 a-d), этому Хаосу не присуща беспорядочность и ужасность. Внутри Пуна, первородного океана, находится творец (Атум, Хепри), который из Нуна творит все сущее... уничтожая хаос воды (гераклиопольское сказание)" [69].
А, может быть, отделения себя от мира требовала зарождающаяся в недрах греческой философии научная методика? Как развиваться ей, если не иметь перед собой объекта? Прежде чем упорядочить "глыбу", нужно ее разбить, а потом собрать по своему усмотрению. (Суть нарождавшегося метода – "аналитики" – сводилась к разъятию сущего и к синтезу разъятого: соединить разрозненное в порядке, предусмотренном самим человеком, чьи знания, однако, неизбежно ограничены). Так или иначе, человеку назначено установить порядок на неупорядоченной земле. Он, видимо, поспешил объявить себя "мерой всех вещей", поняв это буквально.
"Правильно мыслить, – с точки зрения Аристотеля, – значит разделять разделяемое и соединять соединяемое". Для него реальность организована пространством и обозрима, конечна. Он положил начало формальной логике с ее постулатом: всякий объект пространственно конечен и может быть разделен на конечное число дискретных элементов с конечным числом связей. Подобный подход идет от Платона: "Разделять по родам, по принимать того же самого вида за иной и другой за тот же самый, неужели мы не скажем, что это и есть предмет науки диалектики?" ("Софист", 253 Д).
Итак, представление об изначальном Хаосе обусловило, скажем, такие свойства ума (архетипы), как "архе", "аксиоматику", "аналитику" (три "а"). Архе – склонность к властвованию вытекала из несовершенства, неупорядоченности изначального состояния мира, праосновы, которая нуждалась в упорядочении. Аксиоматика обусловлена в принципе тем же: нельзя же брать за основу несовершенство, отталкиваться от него. Человеческий ум способен на априорную, безусловную идею, не вызывающую сомнений. Она и служит точкой отсчета для дискурсивного мышления. Наконец, представление о нерасчлененности, неупорядоченности изначального состояния мира привело к необходимости его мысленного, а впоследствии и немысленного расчленения, чтобы перестроить его по своему разумению, выше которого быть ничего не может.
Конечно, я упрощаю проблему. И Платон, и Аристотель понимают Начало как безначальное, как Истину, постигаемую интуицией. Для Платона архе – онтологический принцип, начало познания: "Начало есть нечто невозникшее; в самом деле, все возникающее по необходимости должно возникать из некоего начала" ("Федр", 245 В). Потому и ограничивали космос пределами, что беспредельное непознаваемо, и тогда божественная мысль не всесильна. Но обыденное сознание следовало "силовой" парадигме, в чем нас убеждает последующий опыт и характер той цивилизации, которая породила тотальный нигилизм. Конечно, при низком уровне сознания, когда человек неспособен был собой управлять, власть была нужна, но в каких-то пределах. Наше время, по крайней мере, убеждает, что исчерпавший себя институт власти превращается в полное безвластие (крайности сходятся).
Это естественно лишает доверия сам аппарат власти, свидетельствуя о пробуждении самосознания, о том, что Власть свою вселенскую функцию, в общем, плохо ли, хорошо ли, но выполнила и имеет право на заслуженный отдых.
Восходящий же к грекам взгляд на мир определил на многие века путь научного знания технологической цивилизации, ее сильные и слабые стороны.
Но Гегель видел в этом методе бесспорное преимущество Запада перед Востоком:
"Если на Востоке субстанциональное и всеобщее содержание миросозерцания своей символикой и дидактизмом поглощает еще индивидуальность характеров, их целей и событий, а потому членение и единство целого делается менее определенным и более слабым, то в мире гомеровских поэм мы впервые находим прекрасное равновесие между всеобщими жизненными основаниями нравственности в семье, государство и религиозной вере и индивидуальной обособленностью характера, между духом и природой, между целенаправленным действием и внешним событием" [70].
Но почему нужно властвовать над природой и видеть в архе начало сущего? Потому что природа неразумна – слепая стихия, и человек призван навести в ней порядок, "созидая сущее из противоположных стремлений". Человек-творец сначала уподобил богов себе, а потом себя богам. Но, главное, если в основе мира лежит "власть" (или, по Ницше, – "воля к власти"), то нужно иметь то, над чем властвовать. Во имя действия, переделывания мира одно стали противопоставлять другому (космос – хаосу, дух – материи, разум – чувству, свет – тьме, добро – злу и т. д.). Обыденное сознание в прямом смысле восприняло идею "разделяй и властвуй", опуская то, что не укладывалось в понимание, скажем, признание Платона:
"Древние, которые были лучше нас и обитали ближе к богам, передали нам сказание, что все, о чем говорится как о вечно сущем, состоит из единства и множества и заключает в себе сросшиеся воедино предел и беспредельность" ("Филеб", 16 С).
В комментариях к "Федру" Платона (246 А) Гермий Александрийский называет Хаос диадой, эфир – монадой, а мировое яйцо – триадой. И хотя неоплатоники называли Хаос монадой (как нерасчлененное целое), они унаследовали взгляд на хаос как всепорождающее начало, и потому их монада дуальна в своей основе и трагична. Собственно, этот взгляд не нов, и пифагорейцы, и орфики понимали хаос как диаду. У орфиков "нестареющее время" (Хронос) порождает бездонную "зияющую бездну" – хаос и эфир, которые, в свою очередь, произвели на свет мужеженское существо, Андрогина, от которого и пошли все вещи. Но если изначальный Хаос двойствен, то изначальна и функция раздвоения. Можно сказать, точка зрения – в начале было "два" (а не "одно") – пришлась грекам по вкусу.
Но вернемся к Исходу. Что еще породило представление об изначальности Хаоса, кроме деятельного отношения к миру и страха перед ним? Вера в действенность "борьбы" как способа решения проблем стала нормой, моделировала поведение людей. Ее сконцентрировал и освятил высокий ум Гете: "Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них на бой". Та же, казалось бы, мысль прозвучала у Р. Тагора:
"Жизнь человеческая – это вечное восстание. Она окружена неживой материей, этим многоруким чудовищем, обладающим невероятной силой. Жизнь ничтожно мала по сравнению с материей, и проявляется она в неустанных попытках подчинить себе материю. Материя, в свою очередь, стремится сузить отвоеванное жизнью пространство, воздвигая вокруг него стены усталости, и единственное, что остается жизни, – это беспрерывно разрушать эти стены, отстаивая свои права. Вот почему не знают отдыха наши сердца, вот почему они не останавливаются ни на минуту, ибо, едва жизнь прекратит борьбу с материей, наступает смерть".
Но с чем бороться? Тагор, конечно, имеет в виду мертвящую лень, косность, апатию, глупость, устремленность к материальному, что, действительно, противоречит Жизни:
"Когда разум становится ленивым и робким, человечество духовно нищает и терпит сильные муки; уже ни о чем не спрашивая, оно принимает на веру все, правду и неправду, добро и зло. Безропотно платя дань Владычице-материи, человек превращается в унылое, несмелое, обездоленное существо, в то время как разум полюбовно разрешает свой спор с воплощенной в материи глупостью" [71].
Все в природе сбалансировано, и, чем больше на одном конце скапливается, тем меньше остается на другом, чем больше превозносится одно, тем более страдает другое. Таков принцип существования чего-то за счет чего-то, порожденный одномерным мышлением ("или то, или другое"). Из бездны вышли, в бездну канем. Разъятие чувства и мысли обострило апокалиптическое предчувствие Антихриста – "зверя, выходящего из бездны" (ветхозаветный образ). Призвали кару на свою голову – за дерзость, невоздержанность, нежелание размышлять. Будто извечное проклятие тяготело над человеком – за грех отпадения от Целого, от Бытия, за измену природе, а стало быть, и себе. Вкусив плод с древа познания добра и зла, возомнив себя всезнающим, человек уже не мог остановиться, избавиться от комплекса всезнания, властолюбия. Он уже не мог не противопоставлять одно другому, не противостоять чему-то, не разрывать живое Единое на две полуживые половины, а их – еще раз пополам, и так до бесконечности, – пока не ощутил, что почва уходит из-под ног и что он, действительно, завис над бездной.
Чем больше человек упорствовал в своем неведении, неощущении греха всезнания (одно дело всезнание, другое – претензия на него, порождающая вседозволенность); тем сильнее он увязал в тенетах бездумной жизни. Сколь ни утешал себя верой в прогресс, царство божие на земле не наступало, а приходило ощущение, что он прогрессирует не в ту сторону. Выпавшие на его долю испытания нашего века обострили чувство обреченности, зыбкости, или, как говорят экзистенциалисты, одинокости, покинутости, отвергнутости, выброшенности из мира. И только теперь приходит осознание, что если ты отверг мир, то и мир отвергнет тебя. Лишь в наши дни, когда уже дошли до крайности, до расщепления самой монады, ядра, гена жизни – последнего носителя Целого, когда начались взрывы, бунт поруганной материи, человек спохватился, да и то не совсем. Спохватиться-то спохватился, но жить в согласии с природой не умеет и продолжает по инерции катиться к бездне, не зная, как остановиться. Одна надежда на Разум, на просветление ума, расширение сознания за счет недостающего Знания.
Итак, если обобщить сказанное, представление древних греков об изначальном Хаосе в значительной мере обусловило парадигму европейской цивилизации, определило ритм науки и искусства. Конечно, кроме идеи изначального Хаоса были и другие, столь же непреходящие для западного мышления (идея изначального Логоса, или Числа, как мироустроительного начала, или геометрической символики), и все же понимание творения мира как преобразования Хаоса в Космос оказалось особенно живучим, базисным, предопределившим характер мировоззрения, реализованного в культуре. И до сих пор в философских работах оппозиция "космос-хаос" определяет характер интеллектуальных построений.
Признание "власти" атрибутом самой материи и "борьбы" средством ее реализации привело к определенному типу отношения всего между собой – отношения "господства-подчинения", – к объективации, раздвоению мира и к стремлению любыми средствами преодолеть это раздвоение, что лишь усугубляло его, придавало процессу раздвоения необратимый характер. Признание же "первоначала", аксиоматики, – за исходное берется априорное, недоказуемое, ибо неупорядоченное Бытие не может служить точкой отсчета – привело к дискурсивному типу мышления, к конструированию надприродного мира, к отпадению человека от Бытия. Образовавшаяся от перегруппировки элементов цивилизация, как некое надприродное образование, до поры до времени благополучно жила по своим собственным законам, но именно до поры до времени. Несоответствие естественному миропорядку должно было привести эту цивилизацию – и привело – к Закату. (Не случайно почти весь просвещенный мир Запада оказался на рубеже XIX–XX вв. в оппозиции к этой цивилизации, что и изменило ее лик, но об этом позже).
Все имеет свою оборотную сторону. Параллельно шел процесс накопления "человеческих качеств", созидания духовной культуры, призванной вернуть утраченное единство [72]. Теневые стороны этой цивилизации открыли человеку глаза на самого себя. Как в зеркале он увидел свои достоинства и недостатки, мощь ума и его неполноту, односторонность, обернувшуюся утратой нравственных качеств. И Великий созидатель, чтобы не оказаться Великим разрушителем, начал думать, так ли он живет, и пришел к выводу, что не так, что неочеловеченная наука не может принадлежать человеку, что техника, превращаясь из средства в цель, может ненароком уничтожить его самого.
Ну а как китайцы понимали космогенез, было ли у них представление о первичности Хаоса, вторичности Космоса, как, впрочем, и любые другие оппозиции? "Если вы спорите о том, что предшествует, а что наследует, – наставлял Хуэйнэн, шестой патриарх чань, – то это значит, что вы впали в заблуждение, в непрерывный поток побед и поражений" [73]. При недуальной модели мира не возникает противостояние, ибо нет "промежутка (цзянь, яп. кан), хотя он и есть. Когда-то разделились Небо и Земля, и остались неразделенными. Их объединила Пустота, благодаря которой все и существует. В чжане "Небо и Земля" Чжуан-цзы говорит: "разделение без отделения называется жизнью".
Древним китайцам, судя по текстам, неведома идея изначального Хаоса, они верили в совершенство изначальной природы (син), и это во многом определило их отличие от европейцев. Изначален не Хаос, а Порядок, скажем. Небесный порядок (Небесный узор – тянь вэнь), Небесный закон (тянь ли), Гармония (хэ), присутствующие в Великом Едином (тай и) и проявляющиеся в той форме и в тот момент, в который и должны проявиться, сообразуя все между собой. Образы непроявленного дао невидимы, но проницаемы – для тех, кто способен прозревать Единое. Как говорится в "Чжун-юн", "воля неба (тянь мин) и есть изначальная природа (син). Следование изначальной природе называется Путем (дао)"; "Изначальная природа и есть Закон (ли) [74]. Благодаря взаимодействию инь-ян и пяти энергии (усин) Небо порождает и преобразует все вещи; ци воплощается в форму"; "Середина (Центр – чжун) – Великий корень (Великая основа – да бэнь) Поднебесной. Гармония (уравновешенность – хэ) – совершенный Путь Поднебесной"; "Великая основа – это то, откуда все произрастает, – изначальная природа, небесное веление, Закон Поднебесной (ли). Все есть воплощение – дао"; "Великий корень (основа) – откуда все появляется; гармония – совершенный путь, которому все следует. Если осуществляется Середина и Гармония, счастье воцаряется на земле и все процветают" [75].
Но совершенный порядок в мире явленного дао нарушается, сбивается ритм изначального движения, двустороннего по природе; все движется одновременно и последовательно "туда-обратно" (шунь-ни, яп. дзюн-гяку – букв. "в правильном и обратном порядке"), по типу электрического тока. В результате одна фаза сменяется другой в ритме дао. Если природный порядок нарушается, наступают стихийные бедствия, на страну обрушиваются несчастья Похоже, беды нередко навещали Китай, поскольку автор "Учения о Середине" сокрушается: "О, как благодатна Срединность (чжун-юн), и как редка она среди народа!" И следует комментарий: "Дар (дэ) Срединности – нелегкое дело" [76] – почти буквальное повторение слов Конфуция: "Учитель сказал: "О, как велик дар (дэ) Срединности (чжун юн)! И как редок он "среди народа!"" ("Луньюй", VI, 27).
Потому в каноне "Великое учение" ("Да сюэ"), из того же "Четверокнижия", говорится о необходимости познавать вещи и созидать знание ради выявления светлых сторон изначальной природы. "Путь Великого учения состоит в том, чтобы совершенствовать народ и вести его к добру" [77], следуя естественному дао, закону Вселенной, не навязывая человеческого природному. В природе все чередуется, но не противоборствует, не противостоит друг другу, ибо зиждется на единой Великой основе. Здесь нет места изначальному Хаосу. "Перед нами, – писал известный буддолог Ф. И. Щербатской, – картина мира как волнующегося океана, в котором, как волны из глубины, постоянно откуда-то выкатываются отдельные элементы жизни. Эта волнующаяся поверхность представляет собою, однако, не хаос, и повинуется строгим законам причинности" [78].
То ли даосизм у нас в меньшей степени изучен, то ли он менее проницаем для ума, но те, кто его изучает, почти единодушно называют Великое Единое (тай и), а значит, и Дао – "хаосом", хотя это нечто ему противоположное, о чем свидетельствуют книги мудрецов. Известно, Великое Единое есть состояние чистого Света, Покоя – умиротворение тела и души, к которому устремлены чаяния мастеров. Можно ли "хаосом" называть то, к чему тянется душа человека?
Но обратимся к текстам, скажем к древнему даосу Ле-цзы:
"Откуда же появилась вселенная, если обладающий формой возникает из бесформенного? Оттого и говорили: "Существует первонепостоянство, существует первоначало, существует первообразование, существует первоэлемент". При первонепостоянстве еще нет воздуха (ци), первоначало – начало воздуха, первообразование – начало формы, первоэлемент – начало свойств (вещей). Все вместе – воздух, форма, свойства – еще не отделились друг от друга, поэтому и называются хаосом. Хаос – смешение тьмы вещей, еще не отделившихся друг от друга. "Смотрю на него, но не вижу, слушаю его, но не слышу..." Поэтому и называется (перво) непостоянство, что (перво) непостоянство не имеет наружных очертаний. (Перво) непостоянство развивается и превращается в одно, одно развивается и превращается в семь, семь развивается и превращается в девять, девять – предел развития, снова изменяется и становится одним. Одно – начало развития формы. Чистое и легкое поднимается и образует небо, мутное и тяжелое опускается и образует землю. Столкновение и соединение (легкого и тяжелого) воздуха (ци) образует человека. Оттого что во вселенной содержатся семена (цзин), порождается и развивается (вся) тьма вещей" [79].
Перед нами довольно полная и характерная для даосов картина "космогенеза". Судя по отсылке на "Даодэцзин" сравнение "хаоса" с дао противоречит не только Ле-цзы, но и Лао-цзы. Обратимся к упомянутому §14 "Даодэцзина":
"Смотрю
на него и не вижу,
а поэтому называю его невидимым.
Слушаю его и не слышу,
поэтому называю его неслышимым.
Пытаюсь схватить его и не достигаю,
поэтому называю его мельчайшим.
Не надо стремиться узнать об источнике этого,
потому что это едино
(правда, в другом месте у Лао-цзы сказано: "Эти три смешанных (хунь) и образуют Единое (и)" (что важно, как мы убедимся, для правильного понимания Единого. – Т. Г.)
...Оно
бесконечно и не может быть названо.
Оно снова возвращается к небытию.
И вот называют его формой без форм, образом без существа.
Поэтому называют его неясным и туманным.
Встречаюсь с ним и не вижу лица его,
следую за ним и не вижу спины его".
О том же у Чжуан-цзы (в 12-м чжане – "Небо и Земля"):
"В первоначале было небытие, не было бытия, не было и названий. При появлении одного у одного еще отсутствовала форма. Обретя (одно), вещь рождается, и это называется свойством. (Когда) в еще не оформившемся появляется разделение, но без отделения, это называется жизнью. (Начинается) движение, и рождается вещь; (когда) вещь завершена, рождается и (естественный ее) закон, называется это формой. Форма – (это) тело, хранящее дыхание, (разум, душу). У (каждой вещи) свой внешний вид, (свое) положение, и это называется природой (характером). Природа, достигнув совершенства, возвращается к свойствам, свойства в высшем пределе (становятся) тождественными первоначалу, тождественные (первоначалу) становятся пустыми, а пустые – великими. (Это как бы) хор, поющий без слов, сомкнув губы. Объединяясь в таком хоре, сливаются с небом и землей. Их единение смутное, то ли глупое, то ли неосознанное, (но) это называется изначальным свойством, тождественным великому согласию (с путем)".
Как видите, это мало похоже на греков. В конечном счете все стадии даоского миростановления могут быть сведены к двум фрагментам из "Даодэцзина": "Явленное дао не есть постоянное дао. Названное имя не есть постоянное имя" (§ 1); "Все вещи в Поднебесной рождаются из Бытия, а бытие рождается из Небытия (у)" (§40). Речь идет о Праоснове. И у греков Хаос не только разрушительная, но и созидательная сила, но Единое китайцев не разрушает и потому не страшит, не внушает ужаса, человек убежден в его благожелательности и справедливости, а это возможно, когда есть представление об изначальной упорядоченности мира. (Согласно конфуцианству, человечность – жэнь и справедливость – и присущи изначальной природе, потому и называются "постоянствами"; у Чжу Си – это качества самого Неба, или закон Природы).
Единое китайцев не нуждается в Устроителе, ибо все в себе уже содержит, то, что время от времени проявляется в форме. Здесь, собственно, отсутствует идея Начала, как такового, – перводвигателя, – все безначально и бесконечно, пребывает в Небытии (у), в Покое, время от времени обретая форму, чтобы, пройдя круг явленной жизни, вернуться в Единое. И хотя речь у Ле-цзы идет о "первоначале", "первоэлементе", "первообразовании", это не абсолютное начало, а начало нового состояния, которому предшествует безначальность. Как сказано в "Хуайнань-цзы" о высшем дао, оно "вращается, и вращению этому нет конца. Тончайшее, мельчайшее, оно не знает устали. Громозди его – оно не станет выше; обрушивай его – оно не станет ниже; прибавляй к нему – оно не умножится".
Китайцы рисуют особый тип структуры – "одно во всем, и все в одном". Эту структуру можно обнаружить и в "Хуайнань-цзы" в гл. 2 "О начале сущего":
"Было начало. Было предначало этого начала. Было доначало этого предначала начала. Было бытие, было небытие. Было предначало бытия и небытия. Было доначало этого предначала бытия и небытия.
Так называемое начало. Всеобщее затаенное возбуждение еще не прорвалось. Как обещание почки, как отрастающие после порубки ростки. Еще нет каких-либо форм и границ. Только шорох абсолютного небытия. Все полно желанием жизни, но еще не определились роды вещей.
Было предначало начала. Небесный эфир (ци) начал опускаться, земной эфир начал подниматься. Инь и ян соединились. Переплетаясь, поплыли, клубясь в космическом пространстве. Окутанные благом (дэ), тая внутри гармонию (хэ). Свиваясь и сплетаясь, стремясь прийти в соприкосновение с вещами, но так и не осуществив предвестия.
Было доначало предначала начала. Небо затаило свой гармонический (эфир), и он еще не опустился. Земля хранила (свой) эфир, и он еще не поднялся. Пустота, небытие, тишина, безмолвие. Молчащее занебесье, небытие, похожее на сон. Эфир плыл, составляя великое единство с тьмою.
Было бытие. Тьма вещей во множестве пустила корневища и корни, образовались ветви и листья, зеленый лук и подземные грибы...
Было доначало предначала бытия и небытия. Небо и земля еще не разделились. Инь и ян еще не отделились. Четыре сезона еще не расчленились. Тьма вещей еще не родилась. Оно ровно и покойно, как морская пучина. Оно чисто и прозрачно, как безмолвие. Не видно его очертаний. Свет решил вступить в это небытие и отступил, растерявшись. И сказал: "Я могу быть и не быть, но я не могу абсолютно не быть. Когда оно становится абсолютным небытием, то достигает такой тонкости, что ему невозможно следовать!"".
"Чисто и прозрачно", превосходящий Свет! Вот вам и "хаос". Что общего с "кромешной тьмой", с тем, что внушает ужас называют чудовищем? Свойства Хаоса – разъединение, свойство Изначального в китайских учениях – соединение; дао удерживает все в равновесии, в Истине. Тем не менее китаисты, хотя в глубине души порой сомневаются, и даже говорят о хаосе в положительном смысле, продолжают по инерции заимствовать понятия из арсенала иной мировоззренческой системы.
"Люди в век совершенного блага сладко смеживали очи в краю, где нет границ, переходили в безбрежное пространство. Отодвигали небо и землю, отбрасывали тьму вещей, первоначальный хаос брали в качестве гномона и, поднимаясь, плыли в границах безбрежного. Мудрец вдыхал и выдыхал эфир инь-ян, а вся масса живого ласково взирала на его благо (дэ), чтобы следовать ему в согласии. В те времена никто ничем не руководил, ничего не решал, в скрытом единении все само собой формировалось. Глубокое-глубокое, полное-полное. (Первозданная) чистота и простота еще не рассеялись. Необъятная эта ширина составляла одно, а тьма вещей пребывала в ней в великом согласии" ("Хуайнань-цзы", гл. 2 "О начале сущего").
Что говорить, это мало похоже на ту первопотенцию, которая у Гесиода оказалась в одном ряду с Тартаром и Геей, или на косную материю Платона, или беспорядочную смесь материальных стихий, которую, согласно Анаксагору, лишь Нус способен упорядочить, или на хаотическое сцепление вещей, положившее начало миру, – "нерасчлененную и грубую глыбу" Овидия. Отсюда и явные в переводе и в толковании "праначала" неувязки, скажем, в Примечаниях к "Чжуан-цзы" в "Древнекитайской философии": "Праначало – состояние первоначального хаоса, когда еще не произошло разделение двух основных начал: активного – ян и пассивного – инь, взаимодействие которых создало вань-у – тьму вещей".
Разделения еще не произошло, но инь-ян уже пребывали в тайцзи, в Великом пределе. Идеальное состояние – полное равновесие инь-ян (это имел в виду Чжу Си, говоря: "И понял я Предел Великий: в нем обе формы коренятся"). И дальше в Примечании к "Чжуан-цзы" сказано: "Основа – это праначало, т.е. дао" [80]. Следуя элементарной логике силлогизма, заключаем, что дао и есть хаос. Не смущает даже то обстоятельство, что дао вечно; "у дао нет ни конца, ни начала", и, стало быть, вечно то состояние, которое оно олицетворяет.
Но даже у такого знатока Китая, как Ю. К. Щуцкий, в фундаментальном труде – переводе и исследовании "Ицзина", которому нет пока равного и вряд ли скоро будет, встречается понятие "хаос", скажем, в отрывке из "Книги Великой Тайны" конфуцианца Ян Сюна (II в. до н.э.):
О
Согласная Тайна!
Как хаос действует и не имеет конца,
Непосредственно отображается небом.
Свет в Тьма стоят рядом как два и три.
Коль скоро единый Свет стоит над всем развитием,
То все сущее обретает телесность через него...
Хаос – пучина; шири – просторы –
это пребывание мысли [81].
Можно ли встретить на Западе представление о Хаосе как воплощении Света и пребывания Мысли? Об этом можно было и не говорить, если бы не привычка называть "хаосом" то, что к нему не относится. Проблема герменевтики – проницания текста, мысли, – реального диалога, не случайно стала одной из важнейших [82]. Сама природа Целого не терпит единообразия, уподобления одного другому. Китайский текст, тем более древний, не понять, не зная, не ощущая китайский образ мышления, своеобразие культурной монады (как и любой другой национальной монады). Это превосходно понимали наши предшественники, составившие славу русского востоковедения, – Ю. К. Щуцкий, В. М. Алексеев, Ф. И. Щербатской, О. О. Розенберг, но традиции проникновения в текст утеряны.
Приведу пример из рукописной работы одного молодого китаиста, исследующего даосизм. Он как раз касается темы Хаоса у даосов и приходит к выводу, что у древних китайцев доминировало понятие "Хаос", а не "Логос". Само по себе странное сопоставление, не правда ли? С чего бы это китайцам, любящим порядок, так уж интересоваться "хаосом"? Слово "хаос" (хунь дунь), по его мнению, является одним из ключевых для проникновения в суть даосизма, одним из центральных его понятий, и отпечаток этого лежит на всей системе (или "антисистеме") даосского мировоззрения: "Идея хаоса (хунь дунь) выступает как идея образца и парадигмы всего сущего"; "Установка на хаотичность пронизывает даосизм на всех уровнях и во всех аспектах". При этом автор ссылается на мнение Н. Жирардо, который посвятил этой теме специальную работу – "О теме хаоса (хунь дунь) в раннем даосизме" [83], но состояние "Хунь дунь" описывается им как "хаотический порядок и благой беспорядок" (уже одно это должно бы навести на мысль, что слово "хаос" французский исследователь понимает иначе).
В принципе, может ли какая-либо культура ориентироваться на "хаос", принимать его за "образец и парадигму всего сущего"? Не противоречит ли это здравому смыслу? А может быть, это вовсе и не "хаос", а что-то другое?
Вопрос этот немаловажный. Если Хаос изначален, если все хаотично в своей основе, то какой спрос с человека? Ему ли преодолеть то, что заложено в природе вещей? Если сам человек лишен опоры, внутренней сопряженности с благом, на что ему еще уповать, как не на внешнюю силу? Может быть, кто-то другой справится с хаосом? Но хаос, сколь ни прикрывай его внешним порядком, проявится, как убеждает История. А что если как раз Космос первичен, а Хаос – вторичен, если беспорядок есть производное от произвола, следствие невежества, незнания законов Бытия, неведения (санск. авидья)? Тогда не все потеряно: от невежества можно избавиться. Если Хаос не изначален, то конечен, и значит человек не обречен на вечное возвращение в хаотическое состояние.
Вот мне и захотелось показать, что есть и другое Знание, которое обнадеживает, потому что не знает идеи изначального Хаоса. О чем же на самом деле говорится в притче из гл. 7 "Чжуан-цзы", которую исследователь приводит в качестве доказательства своей правоты?
Опрометчивость и Безрассудство захотели превратить своего друга Хаос (Хунь дунь) в человека и просверлили в нем семь отверстий (по числу отверстий в голове: глаза, ноздри, рот, уши); каждый день по одному, а на седьмой день Хаос умер. Казалось бы, что же плохого, если Хаос умер? Но, может быть, не Хаос умер, а что-то другое?
В переводе "Чжуан-цзы" на английский в этом отрывке допускается еще большая вольность и в трактовке:
"Правителя Южного моря звали Свет; правителя Северного – Тьма (т.е., по-видимому, инь-ян, которые здесь не при чем – Т.Г.); и правителя Срединного королевства звали Изначальный Хаос. Время от времени они встречались в королевстве Изначального Хаоса, который радушно встречал их. Свет и Тьма захотели отблагодарить его за доброту и сказали: "Все люди имеют по семь отверстий, благодаря которым они видят, слышат, едят и дышат, но у Изначального Хаоса нет ни одного. Попробуем помочь ему". Каждый день они проделывали по одному отверстию, а на седьмой день Изначальный Хаос умер" [84].
Все это удивительным образом расходится с мыслью самого Чжуан-цзы.
Приведем тот же эпизод в переводе Л. Д. Позднеевой:
"Владыкой Южного океана был Поспешный, владыкой Северного океана – Внезапный, владыкой Центра – Хаос (Хунь дунь). Поспешный, и Внезапный часто встречались на земле Хаоса, который принимал их радушно, и они захотели его отблагодарить.
— Только у Хаоса нет семи отверстий, которые есть у каждого человека, чтобы видеть, слышать, есть и дышать, – сказали (они). – Попытаемся (их) ему проделать.
Каждый день делали по одному отверстию, и на седьмой: день Хаос умер" [85].
В Комментарии Л. Д. Позднеевой сказано: "Эта притча иллюстрирует одно из основных даосских положений: действия, в которых исходят из человеческого (субъективного) взгляда на природу, нарушают естественный закон вещей и приводят к их гибели". Это уже ближе к истине. Только стоило ли в таком случае называть Хунь дунь Хаосом? "Владыкой центра" называла самого Хуанди.
Иначе говоря, хорошо или плохо поступили Опрометчивый и Безрассудный, проделав семь отверстий? Для европейского человека, привыкшего за прошедшие века считать себя мерилом, "мерой вещей" и бороться с Хаосом ради наведения порядка на земле (больше на земле, чем в собственной душе, потому его нет и на земле), такая помощь естественна: Хаос нужно очеловечить. Но то ли имел в виду Чжуан-цзы и стал бы в таком случае называть участливых друзей "Опрометчивым" и "Безрассудным"?! (У Л.Д.Позднеевой – "Поспешный" и "Внезапный". А Л.Н.Меньшиков предлагает перевести имена Ху и Шу как "Прыг" и "Скок", что, видимо, ближе к смыслу). Сами имена подсказывают, что эта пара поступила "опрометчиво" и "безрассудно". Чжуан-цзы назвал бы их иначе, если бы они сделали что-то дельное. А мысль простая: "опрометчиво" и "безрассудно" вторгаться в природу, разрушать первозданную целостность; навязывать ей свой образец, вносить дисгармонию в Великое Единое, где все происходит самоестественно. Собственно, этой мыслью пронизан весь текст "Чжуан-цзы", который можно назвать апологией естественного Пути. Даос шутя говорит о серьезном. И недаром эта глава называется "Достойный быть предком и царем". Предваряет же притчу образ познавшего Истину: "Лишь телесно, словно ком земли, возвышался он среди мирской суеты, замкнутый, целостный и поэтому (познал) истину до конца" (гл. 7).
Зачем мудрецу семь органов чувств, если он сосредоточен на внутреннем, уходит в себя, прозревает истину внутренним оком, душой (шэнь): "Поэтому совершенный человек, управляя, прячет свой слух и зрение, полагается на дао, отказывается от умствований"; "Чем прославлять Яо и проклинать Цзе [86], не лучше ли прикрыть слух и зрение и вернуться к совершенствованию своего дао" ("Хуайнань-цзы", гл. I).
"Четыре конечности неподвижны, слух и зрение не истощаются". Это высшая форма познания – безмолвии, в сосредоточении, доступная пробужденному. Зачем человеку глаза и уши, если "тот, кто постиг (дао), не рассуждает, ибо рассуждающий не постигает (дао). Проницательное зрение не имеет значения (для постижения дао), и лучше о нем молчать, чем спорить. Дао нельзя услышать, поэтому лучше заткнуть (уши), чем слушать. Это называется великим пониманием".
Это уже "Чжуан-цзы".
И это должно быть ведомо китаистам, ибо составляет основу даосского учения. И не только. Вспомним упанишады: "Самосущий проделал (для чувств) отверстия наружу – поэтому (человек) глядит вовне, а не внутрь себя" ("Катха упанишада", II, 1, I) [87]. Такое отношение характерно для древнеиндийских представлений:
"Есть еще высшая сосредоточенность. Надавив на нёбо кончиком языка, сдерживая речь, разум и дыхание, он созерцательным исследованием видит Брахмана. И когда с исчезновением разума он благодаря самому себе видит Атмана, меньше малого, сияющего, то, увидев благодаря самому себе Атмана, он становится лишенным собственного существа. Лишившись собственного существа, он мыслим как неизмеримый лишенный источника. Это знак освобождения, высшее таинство" ("Майтри упанишада", 6, 20).
Что уж говорить о буддизме, где зрение и слух считаются препятствием на Пути:
"Из неведения возникают санскары (очертания); из санскар возникает сознание; из сознания возникают имя и форма; из имени и формы возникают шесть областей (области шести органов чувств – т.е. глаза, уха, носа, языка, ума); из шести областей возникает соприкосновение" [88].
Но вернемся к даосам:
"Владеющий Своими чувствами из Южного предместья сидел, облокотясь о стол, отрешась от всего, смотрел вверх и тихо дышал, словно отсутствовал. Странник Красоты Совершенной, стоявший в ожидании перед ним, спросил:
— Как же так? Неужели верно, что телом можно уподобиться сухому дереву, а сердцем – угасшему пеплу?"
И далее:
"Речь – не (просто) дыхание. Говорящий произносит слова, но то, о чем он говорит, совершенно неопределенно. Действительно ли существует речь? Или никогда не было речи? Считают ее иной, чем чириканье птенца, но отличается она от чириканья или не отличается? Насколько же скрыт путь, если (могли) появиться истина и ложь, насколько же темны речи, если (могли) появиться правда и неправда!" ("Чжуан-цзы", гл. 2).
Или:
"Конфуций увиделся с Лао-цзы. Тот только что вымылся и, распустив волосы, сушил (их), недвижимый, будто не человек. Конфуций подождал удобного момента и вскоре, когда (Лао-цзы) его заметил, сказал:
– Не ослеплен ли (я), Цю? Верить ли (глазам)? Только что (Вы), Преждерожденный, (своей телесной) формой походили на сухое дерево, будто оставили (все) вещи, покинули людей и возвысились, (как) единственный.
– Я странствовал сердцем в первоначале вещей, – ответил Лао-цзы.
– Что (это) означает? – спросил Конфуций.
– Сердце утомилось, не могу познавать, уста сомкнулись, не могу говорить. (Но) попытаюсь поведать об этом тебе сейчас... Не допускай в свою грудь ни радости, ни гнева, ни печали, ни веселья. Ведь в Поднебесной (вся) тьма вещей существует в единстве. Обретешь это единство и (станешь со всеми) ровен, тогда руки и ноги и сотню частей тела сочтешь прахом, а к концу и началу, смерти и жизни отнесешься, как к смене дня и ночи. Ничто не приведет (тебя) в смятение, а меньше всего приобретение либо утрата, беда либо счастье" (Там же, гл. 21).
Спокоен, невозмутим, целостен, замкнут, как "сухое дерево", "ком земли". Вот еще пример:
"Суровый откликается на впечатления, непреклонный возвращается к корню и проскальзывает в бесформенное. То, что называю бесформенным, есть название Единого. То, что называю Единым, не имеет пары в Поднебесной. Подобный утесу, одиноко стоит; подобный глыбе, одиноко высится. Вверху пронизывает девять небес, внизу проходит через девять полей... В великом хаосе образует одно. У него есть листья, но нет корня. В нем покоится Вселенная" ("Хуайнань-цзы", гл.1).
И сравните с "глыбой" Овидия, наводящей ужас. Действительно, инерция сознания приводит к уподоблению восточных образов и понятий западным. Мне уже приходилось писать, что одни и те же понятия на Западе и Востоке, такие, как "Небытие", "Пустота", имеют противоположный смысл. Это же относится и к мысле-образам. Называя Единое "бездной" или "глыбой", китайцы не испытывали перед ними страха, напротив, стремились уподобиться им. Для них это – образец спокойствия духа, когда ничто постороннее не препятствует единению с дао.
"Огромная масса снабдила меня телом, израсходовала мою жизнь в труде, дала мне отдых в старости, успокоила меня в смерти. То, что сделало хорошей мою жизнь, сделало хорошей и мою смерть" ("Чжуан-цзы", гл. 6).
"Бездна" и "глыба" служат образцом, потому что в них нет ничего лишнего, нет раздвоения (его избегали паче всего). "Воздыми свой дух и ни на чем его не утверждай!", – так воспринимается смысл "Алмазной сутры". О том же стихи третьего патриарха чань Сэн-цаня (яп. Сосан – "Доверяющий разум"):
"Совершенный путь подобен бездне, где нет недостатка и нет избытка (свойство дао – Т.Г.), лишь оттого, что выбираем, теряем его. Не привязывайтесь ни к чему внешнему и не живите во внутренней пустоте. Когда мир покоится в единстве, двойственность сама собой исчезает".
Состояние озарения (сатори [89]) есть состояние "над бездной".
Итак, "смешанность" сама по себе еще не есть Хаос (Лао-цзы использует иероглиф хунь в значении таинственный, глубинный). Все смешано, но не все хаотично. Важно, чтобы смешано было в правильном порядке (как, скажем, в структуре белка – иначе не возникла бы жизнь). Для китайцев, судя по каноническим книгам, и термин "хунь дунь" означал первозданное состояние мира – Великое Единое, воплощение его полноты, чистоты, смешанной нерасчлененности.
Такое понимание Изначального обусловило и соответствующий тип отношения к миру, которое древние китайцы назвали "недеянием" (увэй), что определило дух китайской культуры и тех культур, которые оказались в сфере ее влияния.
И все же даже те, кто достаточно глубоко проник в даосизм, продолжают называть "хунь дунь" "хаосом". Не потому ли, что оба иероглифа означают "быть смешанным". А "смешанность" принято понимать как неупорядоченность. Давнее предубеждение (еще от Гомера: название "Тартар", где пребывают поверженные Зевсом титаны, происходит от греческого слова "мутить", "возмущать", "устраивать беспорядок" – tarasso).
Но смешанность смешанности рознь. Для аналитиков, привыкших дробить вещь, это хаос, где все перемешано, надо полагать, как попало. Для не-аналитиков – не как попало, а в истинном порядке, как в зародыше, в яйце. Именно такое понимание "хунь дунь" мы находим в известном мифе о Паньгу (появившемся в Китае несколько веков спустя после "Чжуан-цзы", как полагают, из Индии).
Небо и земля были некогда слиты воедино (хунь дунь), как куриное яйцо. Внутри него был порожден Паньгу (имя, которое, может быть, означает "свернувшаяся (в кольцо) древность"). Через 18 тысяч лет изначальная масса разделилась пополам на светлое, из чего образовались Небеса, и на темное и тяжелое, образовавшее Землю. Отмечая, что сюжет этого единственного мифа о творении в Китае (творении вселенной из тела Паньгу) скорее всего заимствован, Д. Бодде говорит и о близости китайцам "идеи первобытного яйца или мешка, расщепление которого дает возможность его неразделенному ранее содержимому обрести форму в виде организованной вселенной" [90].
Талантливый китаист В. В. Малявин дает свою интерпретацию хаоса: "Здесь (в символизме пустоты – Т.Г.) "великое единство" дао в конечном счете неотличимо от хаоса (хунь дунь) как принципа непринципа, творческого рассеивания всего сущего". Не от любви ли к парадоксам ("парадоксов друг") пристрастие к "хаосу", завороженность его немотой, состоянием раскованности? И, наверное, есть что-то заманчивое в свободной игре стихии, в универсальном присутствии, в приятии космического "хаоса". Отчаяния свободы, видимо.
Автор добавляет: "В притче Чжуан-цзы обосновывалась известная нам идея неразличения первозданного хаоса и человеческой культуры" [91]. Это уже серьезно.
"– Как же так? Неужели верно, что телом можно уподобиться сухому дереву, а сердцем – угасшему пеплу? (Ведь) тот, кто сидит, облокотясь о стол, сейчас, уже не тот, кто сидел, облокотясь о стол, ранее!
– Как хорошо (ты) спросил, Странник! – сказал Владеющий Своими Чувствами. – Понял ли ты, что сегодня я отрешился от самого себя? (Когда) ты услышал свирель человека, не знал еще, что такое свирель земли; (когда) услышишь свирель земли, еще не будешь знать, что такое свирель вселенной.
– Дозвольте спросить, как это узнать? – продолжал Странник.
– Вздохнет земля и говорят, что (подул) ветер. Сейчас он стих. А заиграет – яростно завоет сквозь тьму (земных) отверстий. Разве тебе не (случалось) слышать (подобные) голоса? Ущелья гор, массивы лесов, ямы от вывороченных с корнями деревьев-гигантов в сто обхватов подобны носу, рту, ушам; подобны перекладинам, оградам, ступкам, подобны то стремительному потоку, то стоячей воде. Одни – бурлят, как поток, другие – свистят, как стрела, у одних – шумный выдох, у других – тихий вдох, (голоса) высокие, низкие, (звуки) протяжные, отрывистые. Одни запевают, другие подхватывают. Прохладный ветерок – малый хор, а вихрь – хор огромный. Утихнет буйный ветер, и все отверстия опустеют. Разве не слышал последних вздохов затихающего ветра?
– Свирель земли создается всеми ее отверстиями, (как) свирель человека, – дырочками в бамбуке. Осмелюсь ли спросить, что такое свирель вселенной? – сказал Странник.
– (В ней) звучит тьма ладов, и каждый сам по себе (природа каждого – син – неповторима, как и Закон – ли – Т.Г.), – ответил Владеющий Своими Чувствами. – Все (вещи) звучат сами по себе, разве кто-нибудь на них воздействует?!" ("Чжуан-цзы", гл. 2).
Поистине, о чем бы ни говорил мудрец, он говорит об Одном. Единая нить все пронизывает. Все в Поднебесной созвучно, сопряжено свободной волей, которую китайцы понимали как волю Неба или волю сердца, готовность души к отклику. Это возможно лишь при отсутствии "Хаоса", не-свободы. Единое – единство звуков в прекрасно налаженном инструменте. Все созвучно и свободно одновременно. Потому и созвучно, что свободно, – не мешает одно другому. В. В. Малявин передает это Срединное состояние "всего во всем":
""Одна черта" – прообраз всеобщего посредования; она уравнивает неравное, связывает присутствие и отсутствие, единичное и всеобщее и охватывает безграничное разнообразие жизни... Принцип "одной черты" удачно удовлетворял двум главным критериям подлинности творческого события: быть воплощением одновременно универсальных и уникальных качеств бытия. Китайский художник в своем творчестве прозревал всеобщий "принцип" (ли) мироздания, вовлекался в безбрежный поток одухотворенного веяния жизни".
Автор прозревает "геометрию хаоса":
"В любом случае идеал "очарования" включает в себя опыт бесконечной ускользаемости, который делал условием эстетического наслаждения вещами постижение бесконечно сложной геометрии хаоса, в конечном счете – одухотворение пустотного "тела дао"" [92].
Все есть все, а не "нечто"; нечто "одно", а хаос, что ни говори, требует по крайней мере пары, как всякая не-полнота. Для даоса же Единое – совершенный порядок свободного парения (в отличие от псевдоупорядоченности человеческой жизни).
Мы, наверное, меньше бы блуждали, если бы чаще вспоминали тех, кто шел впереди, прокладывал дорогу. Понятие "хунь дунь" не мог обойти В. М. Алексеев в своей замечательной книге "Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту (837–908)", которая может служить образцом научного подхода к тексту.
В "Указателе предметов" (именно "предметов", а не "категорий") "хаос" содержит отсылку к слову "Мутное". Там же читаем: "Мутное, хаотичное, Муть-Хаос, в положительном смысле – Дао и т. д.". Отправляемся на страницу 4 и читаем о слове хунь (первое в сочетании "хунь дунь"):
"В словаре Канси знак хунь толкуется через "огромность" (да), зародышевидную всесодержательность, всеравность, полноту течения, роскошное обилие. В словаре Джайлса находим определение hun через: Whole complete; the entire mass...
Разберем значение хунь подробнее. Хунь в Даодэцзине имеет значение, для заголовка разбираемого станса решающее. В главе XIV (Даодэцзина – Т.Г.), описывающей троичную непостижимость Дао (иси-вэй), говорится в заключение, что "эта троякость не поддается выражению, и вот становится глобальным (хунь) и единым". У Чэнь толкует здесь хунь через "слитно-безраздельное и безразличное".
В главе XXV, одной из самых важных во всем трактате и содержащей в себе определение "неопределяемого" Дао, хунь передает идею универсальной полноты предвечного Дао: "Есть Нечто (Вещь) всеполно-завершенное, прежде неба-земли рождающееся". У Чэнь перефразирует здесь хунь в виде "неразличимое, нерасчленяемое, но законченное целостное".
Очевидно, то же значение хунь имеет и в главе XLIX, где оно определяет состояние души дао-носителя, который перед лицом страны полон нерешительности и емкой поглощательности. У Чэнь истолковывает здесь хунь через, "усвояющее претворение неодинакового и поглощательное воссоединение с одинаковым".
Хунь в душе человека есть высокое достижение, окруженное не меньшими качествами. Так, про некоего буддийского отшельника один поэт говорит, что он "бежал от мира, ушел от пошлости, стал покоен и пресен, чист и устремлен в изначальность, хаотично-полон и первично прост".
Итак, этим этюдом я доказываю особое значение хунь, идущее из Даодэцзина и, конечно, более нежели приемлемое в данном стансе, изображающем, как и все прочие, поэтическое, так сказать, дао-настроение.
Здесь интересно, кстати, будет отметить хунь в собственном имени ученого человека, где, конечно, никакое другое толкование, кроме наиболее положительного, невозможно" [93].
Итак, судя по всему, без "Даодэцзина" не обойтись. Начнем с упомянутого 25-го чжана.
Понятие "хаос" встречается в переводе "Даодэцзина", сделанном Ян Хиншуном, несколько раз, в том числе в упомянутом чжане:
"Вот
вещь, в хаосе возникающая,
прежде неба и земли родившаяся!
О беззвучная! О лишенная формы!
Одиноко стоит она и не изменяется.
Повсюду действует и не имеет преград.
Ее можно считать матерью Поднебесной.
Я не знаю ее имени.
Обозначая иероглифом, назову ее дао;
произвольно давая ей имя, назову ее великое.
Великое – оно в бесконечном движении.
Находящееся в бесконечном движении не достигает предела.
Не достигая предела, оно возвращается (к своему истоку).
Вот почему велико дао" [94].
Попробуем разобраться в этом, действительно важном фрагменте. (Собственно, "фрагмент" – название достаточно условное, потому я и ввожу понятие "чжан", но не злоупотребляю им [95]). Каждый фрагмент есть нечто целое, законченный мысле-образ, связанный с другими особым, нелинейным типом связи, характерным для традиционной структуры китайского текста: отклика, эха, резонанса. Потому все фрагменты "Даодэцзина" так или иначе соединены между собой невидимой нитью дао, которая движется зигзагообразно, по синусоиде, то туда, то обратно, и возвращается к истоку. Это придает целому пульсирующий характер. Получается, каждый фрагмент обусловлен характером целого и является целым.
Как "хаос" в рассматриваемом чжане переводится иероглиф "хунь" (букв. "смешанный", "мутный") в сочетании с иероглифом чэн ("делать", "становиться"); хунь-чэн (яп. консэй) так же – "смешанный", "составной" (Лао-цзы не раз обращается к иероглифу хунь, но в другом его смысле-"глубинный", "таинственный", "скрытый": "дао невидимо и неслышимо"). Как уже отмечалось, понять один фрагмент трудно, да, пожалуй, невозможно, не принимая во внимание другие, с которыми он "перекликается" (недаром, характеризуя то или иное место "Даодэцзина", японцы упоминают, в каких еще чжанах присутствует та же мысль).
Так, согласно японскому комментарию, в 25-м чжане дается характеристика дао, и этот фрагмент перекликается с чжанами 1, 4, 14 и 21. Словосочетание "консэй", которое в переводе звучит "в хаосе возникающая", означает просто "смешанный", имеет тот же смысл, комментируют японцы, что и 14-й чжан, – "смешивая, делать единым", или что и кондзэн – "полный", "совершенный", "гармоничный". Благодаря смешению образуется целое (одно тело – яп. иттай). Это несколько напоминает модель образования японских островов, как она описана в древних Кодзики [96].
Сравнивая фрагменты 25 и 21, где говорится, что Единое содержит "семена" (цзин) и "искренность" (синь), японцы тем не менее вслед за европейцами называют изначальное состояние "хаосом", но пишут это слово катаканой, той азбукой, которой фиксируются иностранные слова, ибо соответствующего слова ни в Китае, ни в Японии не было. И уточняют, что "хаос" – когда все естественно смешано, иначе говоря, – едино [97]. (Переводчики могут оказывать обратное действие на источник!)
Но, во-первых, может ли дао "возникать", если оно вечно? Все возникающее, как известно, находится в движении, подвержено переменам и в конце концов – исчезновению, таково явленное дао. Дао же постоянно "одиноко стоит и не изменяется". Это говорит о его полноте: у него нет пары, оно совершенно, тогда как хаос нуждается в паре, ибо представляет собой половину или часть целого – время от времени он упорядочивается или оттесняется космосом. И Логос имеет пару, противостоит Хаосу. (П. Флоренский, например, называл Логос эктропией, а Хаос – энтропией). Логос противостоит неупорядоченному миру. Если бы Логос или Хаос были "одиноки", то порождали бы что-нибудь одно: разум или безумие, так что они обречены быть вместе. Скажем, с точки зрения В. Эрна (о котором речь пойдет дальше), Логос оплодотворяется Эросом. Это относится к любой сфере, в том числе и к философии: всякая истинная философия в нераздельном единстве таит в себе две стороны: Эрос и Логос.
У Платона Хаос – "беспредельная пучина неподобного", "состояние древнего беспорядка" и "великой неразберихи"; предшествующий возникновению космоса ("Политик", 273 А-E). В течение многих тысячелетий космос совершает круговращения.
"Когда же космос отделится от кормчего (который создал космос и придал ему вращательное движение, как Нус у Анаксагора придал вращательное движение первоматерии – Т.Г.), то в ближайшее время после этого отделения он все совершал прекрасно: по истечении же времени и приходе забвения им овладевает состояние древнего беспорядка (изначального хаоса – Т.Г.), так что в конце концов он вырождается, в нем остается немного добра, и, вбирая в себя смесь противоположных (свойств), он подвергается опасности собственного разрушения и гибели всего, что в нем есть. Потому-то устроившее его божество, видя такое нелегкое его положение и беспокоясь о том, чтобы, волнуемый смутой, он не разрушился и не погрузился в беспредельную пучину неподобного, вновь берет кормило и снова направляет все больное и разрушенное по прежнему свойственному ему круговороту: он вновь устрояет космос, упорядочивает его и делает бессмертным и непреходящим". В конечном счете космос создается по первообразу "подлинного бытия", "неизменно-сущего" ("Тимей", 28А).
Рано появляется идея Творения, и Хаос выглядит страдательным, нуждающимся в Спасителе, в Кормчем – Демиурге, который творит Космос. В этом не нуждается мир даосов; ибо порядок, притом совершенный, имманентен миру, нужно лишь не навязывать ему свои установления, далеко не совершенные. Если не было представления об изначальном Хаосе, не могло появиться и представления о конечном Космосе.
Космос – полная противоположность Хаоса, по сути, исключает присутствие Хаоса, оттесняет его на периферию; он – законченное совершенство: "украшение", совершенная красота (инь-ян никогда не доходят до окончательного оформления, не исчерпываются, в высшей точке, на грани Великого предела, поворачивают вспять). Иными словами, – модель мира предопределяет отношение к нему. В первом случае действует логика "исключенного третьего". Во втором же, китайском варианте – наличие "третьего": не "или то, или это", а "то и это"; одно присутствует в другом. Хаос – не изначален, это всего лишь момент развития, когда от накопления мнимостей, неправильных поступков происходит возмущение энергии ци. В первых двух гексаграммах "Ицзина": чистое ян – Творчество, чистое инь – Исполнение. На этом уровне – все едино: т.е. чистое Творчество и есть чистое Исполнение, а чистое Исполнение и есть чистое Творчество, достижение полноты, абсолютно непротиворечивого состояния, где уже никакой хаос невозможен (но это и не космос, который рано или поздно сменится хаосом). Хаос возникает лишь на уровне двойственного существования, когда действия людей не соответствуют естественному пути. Значит, в принципе, осознав Закон, имманентный миру (дао-ли), можно избегать хаотических ситуаций, действуя сообразно Переменам, в согласии с дао.
Кстати, об этом по-своему пишет и Н. Жирардо в своем исследовании: во многих архаичных традициях дихотомия (между космосом, как абсолютным порядком, и хаосом, как абсолютным беспорядком) подтверждается изначальной битвой между силами хаотического беспорядка и победоносным триумфом сакральных сил космического порядка. В развитых литературах и в мифологии акцентируется борьба между хаосом и космосом, драконом и героем, чудовищем и богом, образы хаоса в конечном счете "описываются как главный источник творческих сил", что и делало неизбежным возвращение к хаосу, о чем наглядно свидетельствует празднование во всем мире Нового года (и других сезонных праздников). У даосов же была своя безумная логика, которая соединила хаос и космос [98].
Из изначального же Хаоса не может выйти ничего хорошего: каков родитель, таков и ребенок (или – от дурного дерева не родится хороший плод). Наше время, невиданные и необъяснимые человеческой логикой испытания – тому подтверждение: мир пребывает в стабильном хаосе, и, видимо, один лишь Разум, Логос, то, что мы теперь называем Новым мышлением, может вывести его из такого состояния. И не столь уж невероятно, если убедиться, что мир рожден не из Хаоса. Теперь, слава богу, в наука признает, что мир упорядочен в своей основе. В Начале, полагают физики, лежит мир потенциальных форм, Вакуум, Ничто, которое в принципе мало чем отличается от того изначального состояния, которое даосы называют Небытием, или Единым, – миром неявленных форм, не распавшимся на отдельные сущности. Иначе говоря, сама Материя приходит на помощь человеку, открывая ученым свои потаенные возможности, стремление к самосовершенствованию через самопознание. Значит, мир родился не из Хаоса. Состояние хаоса – вторичная, промежуточная стадия в процессе его эволюции, а это в корне меняет дело и психику человека.
Если Хаос не изначален, как полагали более двух тысячелетий (из праха вышли, в прах уйдем), не имманентен миру, не есть Необходимость, значит, люди по мере совершенствования своего разума могут научиться не создавать хаотические ситуации, не приводить мир на грань катастрофы, и не будет человечество балансировать между жизнью и смертью. Все в конечном счете зависит от человеческого разумения. А потому небесполезно вникнуть в идеи древних.
Но вернемся к "Даодэцзину". В его переводе понятие "хаос" встречается и в 4-м чжане:
"Дао
пусто, но в применении неисчерпаемо.
О глубочайшее!
Оно кажется праотцем всех вещей.
Если притупить его проницательность,
освободить его от хаотичности,
умерить его блеск, уподобить его пылинке,
то оно будет казаться ясно существующим.
Я не знаю, чье оно порождение,
(я лишь знаю, что) оно предшествует небесному владыке" [99].
От чего же следует "освободить" дао, можно ли его освободить от чего-либо, когда оно абсолютно чисто и "в применении неисчерпаемо?" Это при помощи дао очищается сознание, недаром же его называют "инструментом (ци)" мира. Это дао распутывает запутанное, как можно перевести иероглиф фэнь, прозвучавший как "хаотичность", а означающий быть "смешанным", "запутанным", и иероглиф цае – "развязывать", "распутывать", "освобождать".
Не мог сказать Лао-цзы и такой, например, фразы из 20-го чжана: "О! Как хаотичен (мир), где все еще не установлен порядок" (знакомый ход мысли). У Лао-цзы на сей раз стоит иероглиф хуан (почему-то не смущает переводчиков, что разными иероглифами обозначалось то, что они переводят одним словом "хаос"). Хуан можно понимать как "достигать мастерства" и одновременно – "бушевать", "повреждать". А смысл фразы примерно такой: "И когда этот переполох закончится" (букв. "центрируется" – в подлиннике стоит иероглиф янь). Перед этим в 19-м чжане, как раз идет речь о том, что от учености все печали:
"Когда
будут устранены мудрствование и ученость,
народ будет счастливее во сто крат;
когда будут устранены человеколюбие и справедливость
(имеются в виду досужие разговоры добродетелях – Т.Г.),
народ возвратится к сыновней почтительности и отцовской любви;
когда будут уничтожены хитрость и нажива,
исчезнут воры и разбойники.
Все эти три вещи (происходят) от недостатка знаний.
Поэтому нужно указывать людям,
что они должны быть простыми и скромными,
уменьшать личные (пожелания) и освобождаться от страстей"
Вот какой "хаос" имеет в виду Лао-цзы – творимый человеческим неведением или лжезнанием. Об этом же говорится в §16, 53, 55 и др. Но §19 и 20 резонируют, последний – эхо предыдущего. По мысли Лао-цзы, когда полагаются на слова, все запутывается, меняется местами – правда и ложь, добро и зло. А когда разбушевавшаяся стихия слов обретает свой центр, устойчивость в дао, все становится на свои места, входит в свое русло. Когда люди "устанавливают порядок", тогда и начинается хаос. Об этом довольно прозрачно говорится в §32:
"Постоянное
дао безымянно.
Сколь оно ни мало,
никто в Поднебесной не может подчинить его.
Если знать и правители чтут его,
то все вещи сами собой упорядочиваются
(букв. Бинь – "становятся гостями").
Благодаря правильному взаимодействию Неба и Земли
ниспадает нектар (или – благотворная роса орошает землю)
и народ сам по себе, без приказаний выравнивается.
При начальном разделении появились имена.
Чем дальше, тем больше.
И не знали, как их остановить.
Если знаешь, как их остановить,
избежишь опасности.
Поднебесная следует дао,
все равно как реки и ручьи впадают в море".
Очень интересен комментарий к §32: Безымянное дао – есть отрицание Логоса (слово "логос" рядом с иероглифом "имя", естественно, пишется катаканой). В его основе лежит трудно-определяемое хунь-дунь (и рядом катаканой – хаос). Это всеобщая изначальная природа (син, яп. сэй), лежащая в основе всего, в ней еще нет ничего искусственного, она пребывает в чистом, первозданном виде, пока "хаос" изначального дао не был рассечен, как мечом, человеческим Логосом. Тогда и появился мир имен (хотя и прибегают японцы к европейским понятиям, но своим укоренившимся идеалам не изменяют).
Итак, продолжают комментаторы, каждая вещь в мире слов получила свое наименование, и появились различия, разделение всего на противоположности, что и явствует из § 1, 4, 15, 28 и др. В основании мира Логоса лежит мир Хаоса (трудишься годы, а японцы одной фразой излагают суть!) Мир дао у этого мира имен (различий и противоречий) вызывает недоумение. Мудрец, убедившись в противоречивости и ограниченности мира слов, отвергает его; предпочитает господству монарха недеяние совершенномудрого. Лишь когда управляет мудрец, посредством недеяния воцаряется истинный мир [100].
Но вернемся к тексту §25 "Даодэцзина". Дао не имеет пары, оно одиноко и всеобще, прядет себе мир бесконечной нитью. Дао – самоестественно, ничему не противостоит и ничему не "подчиняется". "Человек следует земле, земля – небу, небо – Дао, а дао – самому себе (цзыжань)", – так завершается этот чжан. Дао занято мироустроением; благодаря чередованию инь-ян происходят Перемены и мир движется к добру, совершенству. Так свидетельствуют тексты, в частности §41:
"Дао скрыто и безымянно, но только оно может привести все существа к добру".
Не отсюда ли, кстати, диалогичность одной культуры и монологичность другой? Диалогичность приводила к творческому спору, к выяснению истины через столкновение мнений, в конце концов к ломке установленного, к смене структур (но не самого дуализма). Монологичность же (некий полицентризм: каждый следует своему дао) не располагает к спору и обусловливает большую свободу от другого, от не-я. "Каков человек, таков и мир, каков мир, таков и человек". Следующий путем Слова нуждался в оппоненте. И гениальные умы кому-то возражали, кого-то опровергали, спорили, пусть неявно, но неизменно (по закону отрицания отрицания). Гений завязан на своей эпохе и вне времени не может быть понят до конца.
В Китае же каждый мудрец Одинок, независим от времени, "самоестествен" (цзыжань), следует собственному дао. У мудреца бывают ученики, последователи, они продолжают жизнь учения (конфуцианство, даосизм и т. д.), но сами мудрецы Одиноки, как дао. Полярная звезда, по Конфуцию, пребывает в покое, потому остальные звезды вращаются вокруг нее ("Луньюй", II, 1). Но это особое Одиночество, не от недостатка, а от полноты, – то, что в буддизме называется просветленным одиночеством ("вивикта дхарма"). И по Конфуцию: "Совершенный человек (цзюньцзы) одинок, но всеобщ", – совершенный человек заботится не о групповых, а о всеобщих интересах, связан не с группой, а со всем миром, как и дао-человек.
Мудрецы были не проповедниками, а проводниками, как о том сообщает Конфуций: "Излагаю, не творю. Люблю древность и следую ей". И привычка к странничеству не от непривязанности ли к месту и времени? Как сказано у Чжуан-цзы:
"После того как (он) познал бы отчужденность (непривязанность – Т.Г.) от Поднебесной, я бы (Одинокая Женщина) снова его удерживала, и через семь дней (он) сумел бы (познать) отчужденность от вещей. После того как познал бы отчужденность от вещей, я бы снова его удерживала, и через девять дней (он) сумел бы познать отчужденность от жизни. (Познав же) отчужденность от жизни, был бы способен стать ясным, как утро. Став ясным, как утро, сумел бы увидеть единое. Увидев единое, сумел бы забыть о прошлом и настоящем. Забыв о прошлом и настоящем, сумел бы вступить (туда, где) нет ни жизни, ни смерти" ("Чжуан-цзы", гл. 6).
Такова позиция конфуцианца и даоса. Что уж говорить о буддизме, который укрепил в людях ощущение Свободы, непривязанности к миру внешнему.
Это обще всем мудрецам, и отшельникам, пустынникам. Вспомним Одиночество Христа, гонимого фарисеями, но и не понятого народом: "В мире был, и мир через него начал быть, мир Его не познал" (Ин., 1, 10). Есть то, что Едино, и то, что различно. Если поймем, что исповедовали народы, поймем и то, что их объединяло, и то, что их разъединяло.
Но все же что делает дао вечным? Не то ли, что, находясь "в бесконечном движении, не достигает предела. Не достигая предела, оно возвращается (к своему истоку)"? Знание Предела, который не случайно называют Великим (Тайцзи). Неотъемлемое свойство дао – возвращение к истоку, и последовательное, и одновременное движение туда-обратно (шунь-ни, или инь-ян), по спирали, делает эту модель жизнеспособной, вечной в пределах Жизни. Она не плод досужего ума, а закон самой природы (ее, говоря словами В. С. Спирина, график).
Дао и позволяет избегать губительной односторонности, остановки: процесс жизни безостановочен и двусторонен. Все следует движению "туда-обратно", все колышется, как волны океана, как прилив-отлив; все пульсирует в такт сердцу человека, вдоху-выдоху, движению-покою. Это, по-моему, и обусловило разницу парадигм. Греки не знали Великого Предела и во всем доходили до конца. Китайцы же постоянно имели в виду, что "в крайнем пределе холод замораживает, в крайнем пределе жар сжигает" ("Чжуан-цзы", гл. 21). Не нарушить дао, не прервать Единое, для чего нужно вовремя повернуть обратно, чтобы действовать в унисон с Природой, не идти наперекор, не нарушать естественность. Как об этом говорится в §24 "Даодэцзина":
"Кто
поднялся на цыпочки, не устоит.
Кто широко расставил ноги, не сможет идти.
Кто сам себя выставляет на свет, не светится.
Кто сам себя превозносит, не внушает доверия.
Кто кичится умением, не достигает успеха.
Того, кто сам себя возвышает, не признают.
Для пребывающего в дао – все это пустые хлопоты.
Такие у всех вызывают неприязнь.
Поэтому вставший на путь не делает этого".
Все имеет свою естественную форму, и тот, кто пренебрегает ею по неведению, жалок и смешон, но и опасен для людей. Каждое явление, достигнув высшей точки, начинает обратный путь, и нужно, чтобы человек понимал это и действовал сообразно, чтобы не выпасть из Целого, не быть им отторгнутым. Об этом и §40 "Даодэцзина", который тоже, к сожалению, неверно переведен (мне уже приходилось об этом писать): "Превращение в противоположное есть действие дао". Видимо, смущало слово фань, которое в современном языке значит "анти", хотя также – "повернуть обратно". Но современное сознание, привыкшее акцентировать крайности, не ведает Середины. У китайцев же времен Лао-цзы не было понятия "противоположное", ибо инь-ян не противоположности в строгом смысле слова, они присутствуют друг в друге, порождая соответствующий тип связи всего со всем, – не противостояния и столкновения, а постепенного перехода, чередуемости. То одного больше, то другого; не так, чтобы одна сторона вытеснила или уничтожила другую. Это привело бы к разрыву Единого, прервалась бы "нескончаемая нить" дао. (Если бы осталось одно инь, то наступила бы смерть, если бы осталось одно ян, то наступило бы бессмертие, но не за счет уничтожения инь. Если верить учению даосов, бессмертные аккумулировали чистую энергию ян из космоса; следуя дао, накапливали чистое ян-ци, что и позволило им воспарять).
Итак, §40 "Даодэцзина" следует понимать как "Возвращение к истоку (корню-истоку – гэнь-юань, яп. конгэн) есть свойство дао". Т. е. дао осуществляется недеянием, ненасилием, несовместимо с подавлением одного ради возвышения другого, с принципом господства-подчинения, к которому располагает изначальное "архе", воля к власти. Наоборот, говорит Лао-цзы (§34):
"С
любовью воспитывая все существа,
дао не считает себя их господином.
Оно никогда не имело своих желаний,
поэтому его можно назвать ничтожным.
Все сущее возвращается к нему,
но оно не властвует над ним.
Его можно назвать Великим.
Оно становится Великим,
потому что не считает себя таковым".
Или §51:
"Дао
почитаемо, дэ ценимо,
потому что они не отдают приказов,
а следуют естественности...
Создавать и не владеть,
творить и не превозносить себя,
являясь старшим, не повелевать –
вот что называется глубочайшим дэ".
Один чжан притягивает другой и приводит к §16, где говорится о Постоянстве (чан): "Достигни предельной пустоты, утвердись в покое, и все вещи будут сами собой чередоваться, а нам останется лишь созерцать их возвращение. Хотя вещей: неисчислимое множество, все они возвращаются к своему истоку. Возвращение к истоку назову покоем. Это значит – возвращение; к велению ("веление неба")".
Согласно японскому комментарию:
Пустота
сердца, достигая предела,
Хранит покои недеяния.
Сколь ни пребывает все в движении,
Видишь, что возвращается в дао.
Сколь ни разнообразна смена образов,
Все сами по себе вернутся к истоку.
Возвращение к истоку называется "покоем".
Назовем покой – недеянием.
Покой есть "веление".
Это значит – вернуться к изначальному состоянию.
Возвращение к велению называют "постоянством"
Или – вечностью, бессмертием [101].
Продолжаю §16:
"Возвращение к велению называется Постоянством (чан, яп. цунэ). Звание постоянства назову просветленностью (мин, яп. мэй) [102].
Не знающий постоянства своим неведением творит зло (син, яп. кё) (в японском комментарии, говорится, что не знающий Постоянства, или непробужденный, своими слепыми действиями ведет народ к гибели – Т.Г.).
Имеющий Постоянство – терпим (жун, яп. иру) (японцы комментируют: имеющий великодушие – беспристрастен, справедлив, бескорыстен, отказывается от своего "я" – муси).
Терпимый
– справедлив.
Справедливый становится ваном.
Ван становится Небом.
Небо становится дао.
А если есть дао, есть и долговечность.
До самой смерти не будет беды.
(японский комментарий поясняет: если справедлив и бескорыстен, то получишь дар (дэ) вана; а если обладаешь даром вана, то становишься широким, как Небо; если становишься широким, как Небо, то достигаешь единства с недеянием дао; достигая единства с недеянием дао, становишься вечным, бессмертным; до скончания тела можешь жить спокойно)" [103].
"Постоянство" присуще природе вещей; человеку присущи "пять постоянств" (учан). Постоянна изначальная природа вещей (син), где все пребывает в равновесии (хэ) и каждое явление имеет свою структуру (ли). Под словом "справедлив" (так я перевожу иероглиф гун, яп. ко) имеется в виду "справедлив к народу", о чем не раз напоминает Лао-цзы, как, скажем, в §27 "Даодэцзин":
"Поэтому
мудрец (шэнжэнь, яп. сэйдзин) пребывает в Постоянстве,
делает добро, спасает людей, не пренебрегает ими.
Пребывая в Постоянстве, делая добро,
спасает все существа, не отбрасывает их.
Это называется быть Просветленным.
Вот
почему добрый человек – учитель недобрых,
а недобрые служат ему опорой.
Если такого учителя не уважают
или если он не чувствует любви к недобрым, то,
сколь бы ни был умен, впадет в заблуждение.
Это называется сокровенной истиной".
(Есть все же общее с христианским смирением и идеей "возлюби ближнего своего").
С §27 перекликается §49:
"У
мудреца нет неизменного сердца.
Сердце народа (букв. крестьян, яп. хякусэй) становится его сердцем.
Добрым делаю добро и недобрым тоже делаю добро.
Благодаря дэ доброты.
Искренним я верю и неискренним тоже верю.
Благодаря дэ искренности.
Мудрец без остатка отдает свое сердце Поднебесной
(букв. – "смешивает" – хунь).
Он весь сосредоточен на народе.
Они все для него как младенцы".
Вот эту "смешанность" сердец, когда сердце мудреца становится единым с сердцем народа, японский комментарий называет хунь-дунь и приписывает рядом катаканом – "хаос" [104].
Зло не искореняется злом. Отвечая на зло злом, лишь увеличивают энергию космического зла и затрудняют действие светлой энергии дэ. По сути, Лао-цзы говорит о том же, что и Л. Толстой и Ганди, – цель не оправдывает средства, только на присущем ему языке.
§49 перекликается и с §62:
"Дао
– глубокая основа всех вещей.
Оно сокровище добрых и защита недобрых людей".
Мудрец подобен дао ("Даодэцзин", §77):
"Небесное
дао напоминает натягивание лука.
Когда понижается его верхняя часть,
поднимается нижняя.
Оно отнимает лишнее и отдает отнятое
тому, кто в нем нуждается.
Небесное дао отнимает у богатых и отдает бедным
то, что у них отнято.
Человеческое же дао – наоборот.
Оно отнимает у бедных и отдает богатым
то, что отнято.
Кто может отдать другим все лишнее?
Это могут сделать только те, кто следует дао.
Поэтому совершенномудрый делает
и не пользуется тем, что сделано,
совершает подвиги и себя не прославляет.
Он благороден потому, что у него нет страстей".
Но что предшествует этому? Что делает возможным такое возвышение Человека, когда он становится вровень с Небом и Землей? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться к тому, с чего мы начали, – к §42. (И на сей раз приходится останавливаться на неточностях перевода. Итак, переведено: "Дао рождает одно, одно рождает два, два рождают три, а три рождают все существа. Все существа носят в себе инь и ян, наполнены ци и образуют гармонию" [105]). "Одно", согласно примечанию, "означает хаос, состоящий из мельчайших частиц ци, как первоначальной формы существования дао" [106]. Следовательно, элементарный логический ход – "дао рождает одно" означает "дао рождает хаос". И переводчика не смущает, что в предыдущем (41-м чжане) сказано: только дао "способно помочь (всем существам) и привести их к совершенству". Получается, только хаос способен привести к совершенству!
Согласна, инструментом формальной логики не раскрутить древние сакральные тексты, но все же... Скажем, у Лао-цзы отсутствует последовательная, причинно-следственная связь, по принципу которой выстраивает явления линейное, дискурсивное мышление. Это, конечно, осложняет задачу, но все же не делает ее невозможной.
У Лао-цзы речь идет о трех состояниях мира, неявленного и явленного, которые присутствуют друг в друге – одно в другом. С самого начала все было едино и не едино одновременно, ибо потенциально все уже есть в Едином, пребывает в покое, невидимо. Этим формам предстояло проявиться (другое дело – зачем). Но так уж устроено "Одно", оно обладает свойством делиться на два, начиная с клетки (инь-ян), кончая Поднебесной (Небо-Земля), чтобы две половины могли прийти во взаимодействие и породить "третье" – совершенного человека. Приходя во взаимодействие, обе половины порождают "третье", вновь сливаясь в одно, образуют целое, но уже другого порядка. Это "третье" – уровень множества, но такого множества, которое покоится в единстве: микромиры, сохраняющие причастность Целому благодаря внутренней сопряженности и тенденции возврата к Единому ("возвращение к истоку есть свойство дао"). Притом возвращение не по типу колебания, чередования инь-ян (одно инь, одно ян и есть путь), а, так сказать, абсолютное возвращение к изначальному состоянию Небытия. Недаром "три" символизирует Небо в отличие от "двойки" – символа Земли.
Образуется многоуровневый процесс: в одном бесконечно! большом круге, пребывающем в Покое, вращаются в противоположных направлениях микроэлементы жизни, инь-ци и ян-ци (наподобие двойной спирали ДНК). Нам нелегко себе представить Одно в качестве Целого – одновременно бесконечно большим кругом и точкой. Это, по-моему, не всегда принималось во внимание даже такими крупнейшими буддологами, как Ф. И. Щербатской:
"Мы можем приписывать действительное, истинное бытие только... неделимым уже частицам. Материя слагается из атомов вещественных, материальных, а душа – из атомов духовных. Как в куче зерна нет ничего более, кроме тех зерен, из которых она состоит... Только наша привычка, или ограниченность нашего познания, приписывает целому какое-то особое бытие... Итак, никакого единства в мире душевном, никакой сплошной или вечной материи в мире физическом. Все существует в отдельности, все само по себе. Эти элементы Будда назвал "дхармами"" [107].
Видимо, научное мышление подходит, к новому Пределу, к качественно иному пониманию Целого, принимая во внимание единое поле и целостность как внутреннее свойство. Все есть целое по своей природе (только не каждый знает это), все одновременно единично и едино, внутренне сопряжено, всему присущ свой Закон (ли), который индивидуален, неповторим и всеобщ одновременно. Центр везде, в каждой точке, что делает ее независимой и единой с другими, созидающей общее поле (потому куча зерна, как и одно зерно, есть целое). Переосмысление природы Целого позволит перейти с уровня множественности ("дурной бесконечности") на уровень Единого, благого, позволит множеству успокоиться в единстве.
Но вернемся к §42 "Даодэцзина": "Дао рождает одно, одно рождает два, два рождает три, а три рождает все существа. Все существа носят в себе инь и ян, наполнены ци и образуют гармонию" (еще раз хочу сказать, что осмысление модели инь-ян облегчило бы задачу не только востоковедов, но и ученых, занятых поиском единой картины мира). Во-первых, нельзя ставить в ряд инь и ян, ибо они едины, присутствуют друг в друге, и разнонаправлены – центробежная и центростремительная силы, инерция и энергия. В тексте сказано: "Все вещи несут на себе инь (букв. – "на спине", обволакиваются инь), проницаемы ян (букв. – обнимают ян)", И "все существа" не "наполнены ци" (такой перевод – следствие все той же дихотомии, отделившей форму от содержания): ничто ничем не наполняется, а все есть ци. В тексте же сказано: "Изначальное ци (чун ци) образует гармонию (хэ)".
В нескольких знаках Лао-цзы передал Путь мира, всеобщий Закон, которому следует Поднебесная в целом и каждая вещь в отдельности. Мудрец пребывает в Постоянстве, и потому ему, открыта абсолютная Истина и речения его Постоянны, не убывают со временем и не теряют смысла. Лао-цзы не уточняет, что значит "одно", "два", "три" ("названное имя не есть постоянное имя"). "Одно" – это Все в непроявленной форме, откуда все образуется (в отличие от исходной субстанции греков: вода Фалеса, огонь Гераклита, воздух Анаксимена). Китайских мудрецов интересует не субстанция, не вещество, а процесс возникновения-исчезновения формы, развертывание мира, единство которого в чередуемости Перемен. Они не писали поэм о "Метаморфозах", но стремились понять их Закон.
Это для нашего мышления важна отправная точка (Начало – архе; "В начале было Слово"), а для Лао-цзы – нет. Обозначенное всегда относительно, всегда меньше необозначенного ("явленное дао не есть постоянное дао"), т. е. ни словом, ни знаком нельзя передать полноту Бытия. Поэтому Лао-цзы не уточняет; "одно", "два", "три" не столько числа, сколько универсальные состояния, фазы мира. "Одно" раздваивается, но не абсолютно, в одной половине всегда присутствует другая, порождая третье, воссоединяется в нем. Триединое – формула становления мира и ключ к пониманию любой ситуации, устремленной к непротиворечивому состоянию, к преодолению всякой двойственности во имя полноты Единого. Таков конечный идеал.
Если говорить конкретно, "одним" может быть изначальное ци до проявления инь и ян. "Два" могут быть "Небом" и "Землей", а могут быть инь и ян; "три" может быть Человек, триединый с Небом и Землей, может быть и гармоничное ци, прошедшее стадию двойственности, порождающее все вещи [108].
Итак, схему Лао-цзы можно понять следующим образом: одно – два – три и опять – Одно, только уже высшего порядка, преодолевшее двойственное состояние. "Два" не едины и едины. Для соединения двух в одно понадобилось "третье". "Два" удерживаются в границах Предела (то инь, то ян), "три" – выход за этот Предел. Это новый уровень, новое качество мира – многообразное единство, где каждому находится место, – каждый элемент есть Целое, обретает полноту. Все разворачивается по этой схеме, – один раз возникнув, процесс не прекращается. Три сродни Единице (Троица равна Единице: триедины ипостаси Бога отца, Бога сына и Духа святого, нераздельны и неслиянны, как и "три тела Будды"). В этом необычность логики, в переходе из "двоичной" системы мышления в "троичную" или к многомерному, целостному мышлению (то, что японцы называют "тройственной логикой", – двойка не образует Целого, которое многомерно, "сингулярно" "голографическая модель").
В двоичной системе мышления акцентируется не то, что все Едино, а то, что все двойственно, дуально. Не "два" как "одно", а "одно" как "два", и для воссоздания "Одного" понадобятся "три".
Одно раздваивается, чтобы возникла жизнь, но, пребывая в дао, не теряет единства. Дао одиноко и потому рождает "одно" – недвойственность всех отношений. Принцип недуальности (санскр. адвайта, кит. буэр, яп. фуни) – первейшая методологическая установка: не разделять на два во избежание односторонности, саморазрушения. "Два" ведут к антиномии, к противоречию (иди ты, или я – "третьего не дано"), к отношению господства-подчинения. Следуя самому себе, дао не приводит к объективации, отчуждению субъекта от объекта; оно не имеет пары, потому, естественно, исключает возможность "борьбы". Следуя самоестественности, избегает односторонности, избирательности, дает каждому шанс. "Три" есть преодоление всякой двойственности, даже на уровне инь-ян – позиция Над (над схваткой, скажем, добра и зла, которые не разрешаются в борьбе), – есть пребывание в дао, в Едином. Это доступно лишь Свободному человеку.
Конечно, отсюда не следует, что Китай или Япония достигли идеального состояния без борьбы, без противоречий. Напротив, было не так много мирных времен. И кто, как не японцы узаконили отношение "верха-низа", "господина-вассала", ссылаясь на ритм самой природы, "веление Неба", и жестоко карали за отступление от него. И Лао-цзы не случайно заостряет внимание на несоответствии "пути небесного" и "пути человеческого" ("небесное дао отнимает у богатых и отдает бедным, что у них отнято. Человеческое же дао – наоборот"). Но меня интересует высшее проявление Ума, или высшая Реальность, которая в конечном счете организует Жизнь, ибо Истина – это то, что все равно будет, сколько бы незнание этому ни мешало. Для мудрецов "два" – промежуточная стадия Эволюции, если ее вовремя не пройти, не преодолеть парадигму "борьбы", то неминуем Распад, самоистребление сторон. Или, как говорил Чжуан-цзы в гл. 2 "О равенстве вещей" [109]:
"Небо и Земля родились одновременно со мной; внешний мир и я составляем одно целое. Поскольку мы уже составляем единое целое, можно ли еще об этом что-то сказать? Поскольку уже сказано, что мы составляем единое целое, можно ли еще что-то не сказать? Единое целое и слова – это два, два и один – это три. Если от этого продолжить дальше, то даже искусный математик не сможет достичь (предела исчисления), что же тогда говорить об обычных (людях)? Поэтому если мы от небытия продвигаемся к бытию и достигаем трех, то что же тогда говорить о продвижении от бытия к бытию? Не надо продвигаться, остановимся на следовании естественному течению".
(Кстати, не свидетельство ли это того, что китайские мудрецы не уповали на Число в отличие, скажем, от Пифагора, хотя и для него Число не цель, а Путь в Неисчислимое). Лишь при снятии неравенства достигается Единое, каждая вещь обретает свою природу, свою Свободу в соответствии с высшей Справедливостью (и).
Учения китайцев – не досужие вымыслы о восхождении к Единому (они обозначают его иероглифом "единица"), а высшее состояние Свободы, отождествляемой с Великим Пределом. Таков дао-человек: пребывая в Постоянстве, он воплощает единство двух вселенских потенций, отраженных в двух первых гексаграммах "Ицзина" – Творчество, Небо (Цянь) а Исполнение, Земля (Кунь) [110]. Как говорится в надписи-картине, изображающей одного из восьми бессмертных гениев поэзии:
В
цветном калейдоскопе суеты я не у дел не первую весну,
Вне действий я теперь и вне забот, естественности вверен целиком.
То, что мне жизнь дает, – соединенье начала цинь в кунь.
Движение солнца в лупы определяет годам моим отсчет.
В восьми триграммах скрытое дыханье – сокровищ всех ценней.
В пяти стихиях скрытое сиянье таит начальный дух.
А быстротечный ход мирских событий не знает перемен.
Спокон веков в вечно средь людей бывают те, кто от толпы подальше [111].
Собственно, иероглиф "Небо" состоит из двух элементов: "единица" и "великий", т.е. Небо – Великое Одно. Чжу Си отождествлял с Небом Ли (Закон) и утверждал моральную чистоту Неба, ибо Ли – есть Человечность (жэнь), долг-справедливость (и), благожелательность (ли) и мудрость (чжи). Это четыре луча, гармонично соединенные в ясном Свете (мин) совершенной доброты, согласно Чжу Си, – атрибуты Тайцзи – Великого предела. И потому для прозревшего Единое нет преград; пребывая в Постоянстве, он становится "осью мира". Говоря же словами Басе:
"Вака
Сайгё,
рэнга Соги,
картины Сэссю,
чайный ритуал Рикю, –
их Путь одним пронизан –
единой Красотой (фуга)".
Как сказано в гл. 2 "Чжуан-цзы":
"Где есть разделение, там есть становление. Где есть становление, есть разрушение. Все вещи, хотя и проходят через становление и разрушение, пребывают в Едином. Совершенный, зная это, храпит Постоянство...
Утруждая духов, искать единство, не зная, что и так все едино, все равно что "утром – три". Что значит "утром три"? Отвечаю. Владелец обезьян, раздавая плоды, сказал: "Утром получите по три, вечером – по четыре". Обезьяны пришли в ярость. Тогда он сказал иначе: "Хорошо, утром – четыре, а вечером – три". Обезьяны обрадовались. По форме и по существу ничего не изменилось, а чувства возникли разные – то гнев, то радость. Это я и имею в виду. Мудрец не различает верного и неверного, а пребывает в естественном равновесии. Это и значит избегать двойственности". О том же в гл. 17: "Почему бы не признавать правду и отрицать неправду, признавать порядок и отрицать беспорядок?" Кто так ставит вопрос, не понимает закона Неба и Земли, свойств вещей. Это значит признавать Небо и не признавать Землю, признавать инь и не признавать ян, т.е. заблуждаться. А тот, кто все же так рассуждает, или дурак, или лгун".
Единица и есть нескончаемая нить дао, которая все пронизывает, соединяя в Одно. "Одно" прозревает тот, кто достиг просветления (мин), для него все прозрачно. Поэтому мудрец и ценит Единое. Можно вспомнить слова Конфуция, обращенные к любимому ученику Цзан Шэвот: "Мое учение одним пронизано" ("Луньюй", IV, 15). Другому ученику мудрец объясняет: ""Сы! Ты думаешь, что я изучил многое и все храню в памяти?" (Цзы-гун) ответил: "Да, а разве не так?" Учитель сказал: "Нет, Я познаю все с помощью одного"" ("Луньюй, XV, 2).
Христос явился в одно селение, и женщина, "именем Марфа, приняла Его в дом свой. У ней была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его.
Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедши, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом. А одно только нужно, Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее" (Лука, 10, 38–42).
Если ощущаешь Единое, сообразуешься с ним, то и нечего хлопотать, все само собой образуется, и нет нужды усердствовать. Если же этого нет, то и не увидишь, что надо увидеть.
Все есть природа будды, говорят буддисты, она и в дереве, и в человеческом существе, – только не все это знают. Просветленный ум не делит на левое и правое, истинное и ложное. Все истинно, но не все доступно. Видение Единого – свойство истинного ума, укорененного в Бытии, присущего каждому, независимо от того, на Востоке он или на Западе.
Наконец, как сам Лао-цзы говорит о Едином? "Единице" (и) посвящен §39 "Даодэцзина":
"Вот
то, что с древности Едино.
Благодаря Единому Небо становится чистым (букв. – приобщившись к Единому).
Благодаря Единому Земля становится спокойной.
Благодаря Единому души (сим, яп. ками) становятся духовными (лин, яп. рэй).
Благодаря Единому долины расцветают.
Благодаря Единому все сущее нарождается.
Благодаря Единому Правитель становится опорой Поднебесной (букв. чжэн, яп. тэй
– честный, целомудренный).
И все это благодаря Единому.
Если
Небо не чисто, то может разорваться (букв. "наводило бы ужас, что вот-вот
разорвется";
этот оборот каждый раз повторяется – Т.Г.).
Если Земля не спокойна, то может сдвинуться с места.
Если души не духовны, то могут омертветь.
Если долины не цветут, то могут засохнуть.
Если вещи не нарождаются, то могут исчезнуть.
Если правитель не в почете, то может пасть".
Куда уж яснее, что хаос – нарушение Единого, ему противоположное. Это явствует и из других даосских текстов, скажем из гл. 2 "Чжуан-цзы":
"Знания древних достигали предела. Что это значит? Они проникали туда, где еще не было вещей. Это было столь глубоко, столь полно, что ничего нельзя было прибавить. Потом стали различать вещи, но еще не дали им названия. Потом дали им названия, но еще не разграничивали правду и неправду. Когда же появилось разграничение между правдой и неправдой, дао пришло в упадок. Когда дао пришло в упадок, появились привязанности (пристрастия)... Тогда и появились мастера, достигшие предела в своем искусстве (игры на цине и др.). Достигнув же предела: в своем искусстве, они начали поучать других. Они хотели научить тому, чему научить нельзя... Все это и привело к бессмысленным толкованиям о "твердости и белизне". Потому-то мудрец не ведет досужих споров, а пребывает в Постоянстве. Это называется просветленностью (мин, яп. мэй)".
И в этом случае оба переводчика "Чжуан-цзы" называют "хаосом" то, что таковым не является и вряд ли с ним сопоставимо. Хаос есть нарушение Единого. Потому перевод и не получается: "Оттого-то мудрый и стремится осветить хаос с помощью не (собственного) "я", а обычного и общего" [112], или – "Поэтому совершенномудрый старается устранить (ослепляющий людей) блеск хаоса. Он не прибегает к субъективному (мнению), а придерживается общепринятого. Это называется "использовать свет (разума)" [113]. И не смущает "блеск хаоса". Что же это за мудрец, который "придерживается общепринятого"? Что же это за "хаос", который излучает "свет разума"?
Обратимся, наконец, к "Хуайнань-цзы", сначала к тому месту 8-й главы, которое приводит в статье о китайской мифологии Д. Бодде, – об эре Великой Чистоты, когда люди были искренними и простыми, умеренными в речах и непосредственными в общении:
"Они были слиты с телом Небес и Земли, объединены с началами инь и ям... и гармонически едины с четырьмя временами года. В те времена ветер и дождь не приносили никаких бедствий, солнце и луна всем поровну дарили свой свет, планеты не отклонялись от своего пути. Но потом наступила эра нарушений: люди начали углубляться в недра гор для добычи минералов, добывать огонь при помощи огнива, валить деревья для постройки жилищ, охотиться и рыбачить – и делать еще многое другое, что разрушило их первоначальную чистоту" [114].
Теперь для ясности еще раз обратимся к переводу Л. Е. Померанцевой 2-й главы "Хуайнань-цзы" – "О начале сущего", где проявляются шаг за шагом фазы перемен:
"Люди в век совершенного блага (так переводится дэ – Т.Г.) сладко смеживали очи в краю, где нет границ, переходили в безбрежное пространство. Отодвигали небо и землю, отбрасывали тьму вещей, первоначальный хаос брали в качестве гномона и, поднимаясь, плыли в границах безбрежного. Мудрец вдыхал и выдыхал эфир инь-ян, а вся масса живого ласково взирала на его благо, чтобы следовать ему в согласии. В те времена никто ничем не руководил, ничего не решал, в скрытом уединении все само собой формировалось. Глубокое-глубокое, полное-полное. (Первозданная) чистота и простота еще не рассеялись. Необъятная эта ширина составляла одно, а тьма вещей пребывала в ней в великом согласии. И тогда хоть и обладали знанием Охотника, его негде было применять.
Затем был век упадка. Наступило время Фуси. Его дао было полно и обширно. Впитывали благо, держали за пазухой гармонию. Окутывали милостью, распространяли свет. Тогда-то и появилось знание... От этого их благо взволновалось и утратило единство.
Затем наступили времена Священного Земледельца и Желтого предка (Хуанди). Они рассекли великий корень, разделили небо и землю, расслоили девять пустот, навалили девять земель, выделили инь-ян, примирили твердое и мягкое. Ветви простерлись, листья нанизались, и тьма вещей разбилась на сто родов, каждое получило свою основу и свой уток, свой порядок и свое место. И тогда народ, раскрыв глаза и навострив уши, замерев от напряжения, вооружился слухом и зрением. Так был: наведен порядок, но не стало гармонии (как и предрекал Лао-цзы – Т.Г.).
А потом дошли до хоу Гунь У. Страсти и вожделения привязали людей к вещам, способность к разумению обратила их вовне, и в результате природа и судьба утратили то, чем владели.
Когда же дошло до времен упадка дома Чжоу, истощили (первозданную) полноту, рассеяли (безыскусственную) простоту, смешали дао с ложью, обкорнали благо поступками, хитрость и интриги пустили повсюду ростки. Дом Чжоу одряхлел, и путь царей пришел в негодность. Вот тут-то конфуцианцы и моисты стали разбирать, что есть дао, и рассуждать, разделились на последователей и принялись за споры. Тогда широкую ученость употребляли на то, чтобы ставить под сомнение мудрость, цветистую клевету – на то, чтобы привлечь побольше сторонников. Музыкой и пением, барабанами и танцами, оторочкой на одежде, "Песнями" и "Преданиями" ("Шицзин" и "Шуцзин") покупали славу и известность в Поднебесной. Расплодили обряды, возвышающие и принижающие; нарядились в платья с поясами и шапками. Целые толпы людей не в состоянии исполнить их выдумки, целых состояний мало, чтобы обеспечить их траты. Тогда тьма парода потеряла разумение, обрядилась в украшенные изображением линя-единорога шапки, устремилась за выгодой, возымела самомнение. Каждый захотел пустить в ход свои знания и притворство, чтобы получить от своего поколения и "сверло" и "долото", заполучить имя и выгоду. И тогда простой народ бесконечной чередой покатился со склона порока и утратил корень своего великого единства. Таким образом, природа и судьба погибали постепенно, и началось это давно. Поэтому учение мудрецов основано на стремлении вернуть свою природу к изначалу и странствовать сердцем в пустоте. Учение постигшего (истину) основано на стремлении путем проникновения в природу вещей выйти в свободное пространство и очнуться в нерушимой тишине. Но не таково учение грубого мира. Выкорчевали благо, стиснули природу вещей, внутри изнуряют пять органов, вовне утруждают глаза и уши. Тогда и начинают теребить и будоражить тончайшее в вещах" [115].
Хочешь и не можешь остановиться. Все тут сказано, и все на месте, ни убавить, ни прибавить, и еще будет о себе напоминать. Так было и так есть, и на Востоке, и на Западе. Чем более распадалось Единое, тем тяжелее становилось жить. (Не все мне ругать переводы – есть и такие, и без них не обойтись). Лишь одно смущает: почему "Единое" переводится как "хаос"? И ведь сказано, что это великое согласие и ласка, первозданная чистота и свет. Долго ли нам пребывать в плену у заимствованных понятий?
Состояние Единого напоминает скорее рай, а упадок дао – грехопадение. По сути, произошло то же, что с Первочеловеком, Адамом, вкусившим с древа познания добра и зла. Нарушив запрет, нарушил человек целокупность мира и дал возможность лукавому уму или падшему сознанию разъять все на части, сталкивать "за" и "против", оглядываться и искать выгоду, пока это сознание само себя не разъяло. Только в Китае все происходило постепенно и естественно, в христианском же мире – одноактно (козни Дьявола).
Вспомним, как описывает тот же процесс падения нравов и как представляет Хаос спустя восемь веков после Гесиода и около пяти веков после Платона римлянин Овидий, современник "Хуайнань-цзы", в начале "Метаморфоз":
Не
было моря, земли и над всем распростертого неба, –
Лик был природы един на всей широте мирозданья, –
Хаосом звали его. Нечлененной и грубой громадой,
Бременем костным он был, – и только, где собраны были
Связанных слабо вещей семена разносущные вкупе.
Миру Титан никакой тогда не давал еще света...
Воздух был света лишен, и форм ничто не хранило.
Все еще было в борьбе, затем что в массе единой
Холод сражался с теплом, сражалась с влажностью сухость,
Битву с весомым вело невесомое, твердое с мягким,
Бог и природы почин раздору конец положили.
Он небеса от земли отрешил и воду от суши.
Воздух густой отделил от ясного неба.
После же, их разобрав, из груды слепой их извлекши,
Разные дав им места, – связал согласием мирным.
Хаос, в отличие от Единого даосов, лишен Света и форм, все еще "нечлененная и грубая громада", что не мешало всему бороться со всем. У Лао-цзы Единое очистило Небо и успокоило а Землю, а у Овидия "бог некий – какой, неизвестно":
Только
лишь расположил он все по точным границам, –
В оной громаде – слепой – зажатые прежде созвездья
Стали одно за одним по своим небесам загораться.
Нужно ли убеждать, сколь мало похожи представления об Изначальном у тех и других? Но там и здесь движение во времени идет по нисходящей, у Овидия (как и у Гесиода) металлы сменяют друг друга по мере утраты своего благородства, а с ними и поколения людей: от золотого века, "не знавшего возмездии", соблюдавшего "без законов и правду и верность", к веку серебряному, разделившему четыре времени года, что и вынудило людей строить дома, перепахивать поля. Затем наступил век медный:
Духом
суровей он был, склонный к ужасающим браням, –
Но не преступный еще. Последний же был из железа,
Худшей руды, и в него ворвалось, нимало не медля,
Все нечестивое. Стыд убежал, и правда, и верность;
И на их место тотчас появились обманы, коварство,
Козни, насилье пришли и проклятая жажда наживы [116].
Кстати, подобная зависимость от металла – "люди гибнут за металл" – не могла появиться в Китае; "металл" входит в число пяти "первоэнергий", но он не деградировал вместе с людьми). И в "Метаморфозах", и в "Хуайнань-цзы" движение во времени идет по нисходящей, но одни предаются отчаянию, ибо им не на что опереться, не на что уповать: за ними – Хаос; другие, напротив, не теряют надежды, имея Основу. Греческие боги утратили доверие, вера в Христа еще не окрепла и каралась с редкой даже для римлян жестокостью. По мере того как сгущался мрак жизни, сгущался и мрак Хаоса (в отличие от раннего образа Хаоса, скажем, у Гесиода). Человеческое воображение отождествляло Хаос со злом: кто-то должен отвечать за неустроенность мира. Человек привык искать причину бед вне себя. У Овидия человек подобен богу – "из сути божественной создан", а какая у богоподобного может быть вина? Вот он и ищет причины бед вне себя, но почему-то не находит и все винит кого-то, сначала Хаос, потом Сатану, почитая себя их жертвой.
Не отсюда ли желание вырваться, уйти от прошлого, от ужаса перворождения, замешенного на крови титанов, а потом – искупить первородный грех, очиститься от страшного кошмара в душе своей? Но без этого Страха не было бы и того, что им порождено, – богоборческой и богочеловеческой культуры. Страх перед Хаосом, безликим, безразличным, перед "слепой", косной силой, зловещей, ненавистной, не отпускает человека более двух тысячелетий. Не в этом ли комплексе берет начало жажда борьбы с невидимым врагом, который чудится повсюду? (Но вспомним Августина – сама ненависть опаснее всякого врага. Значит, не так уж безобиден этот страх перед Хаосом).
В Китае не было страха перед Небытием и желания очиститься от первородного греха, потому что не произошло самого грехопадения. Было доверие к прошлому, как говорил о том Конфуций, а раз к прошлому, значит, и к будущему – "все возвращается на круги своя" (чтобы уж не повторять, что "возвращение к истоку есть свойство дао"). В отличие от греков китайцы находили опору в прошлом и дорожили связью с Единым. В Китае не появился жанр трагедии, потому что не было трагического мироощущения, чувства "безосновности", безысходности. Это противоречило бы самой сути их взглядов на мир. Нет того, с чем нужно бороться, что нужно преодолевать, кроме собственного несовершенства. Дао действует во благо, потому что "не-действует", ничего не навязывает, не признает насилия и признает за каждым право быть самим собой, приобщаться к "радости" Бытия, возможности общения с Небом.
"Великое
дао растекается повсюду.
Благодаря ему все сущее рождается и процветает.
Оно совершает добрые дела, но славы себе не ждет.
С любовью воспитывает все существа,
но не считает себя их господином"
("Даодэцзин", §34).
Так можно ли роптать на дао, если оно никому не причиняет зла и несет всему благо? Таков и дао-человек:
"Слава
и позор подобны страху.
Знатность подобна великому несчастью в жизни.
Что значит: слава и позор подобны страху?
Это значит, что нижестоящие люди
приобретают славу со страхом и со страхом теряют ее.
Это и называется – слава и позор подобны страху.
Что
значит: знатность подобна великому несчастью в жизни?
Это значит, что я имею великое несчастье,
потому что я привязан к себе.
Когда я не буду привязан к себе,
тогда у меня не будет несчастья.
Поэтому знатный самоотверженно служит людям
и спокойно живет среди них.
Гуманный самоотверженно служит людям
и живет в мире с ними"
("Даодэцзин", §13).
Культура (вэнъ) – тоже послание дао, или Неба (тянь вэнь – небесные письмена). И можно ли искушать "волю Неба" ничтожными заботами? Культура, следуя дао, соединяет настоящее с прошлым, и все грядущие дела лишь продолжают начатое раньше. Образец уже задан, нужно лишь не терять его из виду и сверять его с Переменами. В каком-то смысле все последующие тексты представляют собой развернутый комментарий начальных, потому мудрец и следует Недеянию.
Как у Лао-цзы:
"Не
выходя со двора, знаешь Поднебесную.
Не выглядывая наружу, видишь небесное дао.
Чем дальше идешь, тем меньше узнаешь.
Поэтому мудрый не ходит, а знает,
не видя, называет, не действуя, совершает"
("Даодэцзин", §47).
И в Упанишадах сказано:
Пребывая
в глубине незнания, (но) считая себя разумными и учеными,
Блуждают, скитаются дураки, словно слепцы, ведомые слепцом...
Лишенный стремлений, свободный от печали, видит (человек)
это величие Атмана благодаря умиротворенности чувств.
Сидя, он далеко идет; лежа, он движется повсюду
("Катха упанишада", I, 2, 5, 20-21).
Нет достовернее знания, чем то, которое является в созерцании непроявленного.
Конечно, Китаю и Японии знакомы ситуации социальной аритмии, хаоса. И там были беспорядки и междоусобные войны. У Конфуция и у Лао-цзы не было иллюзий на этот счет:
"Если
бы я владел знанием,
то шел бы по большой дороге.
Единственная вещь, которой я боюсь, –
это узкие тропинки.
Большая дорога совершенно ровна,
но народ любит тропинки.
Если
дворец роскошен, то поля покрыты сорняками
и хлебохранилища совершенно пусты.
(Знать) одевается в роскошные ткани,
носит острые мечи,
не удовлетворяется (обычной) пищей
и накапливает излишние богатства.
Все это называется разбоем и бахвальством.
Оно является нарушением дао
("Даодэцзин", §53).
Так и было. И все же не случаен факт культурно-исторической непрерывности, чему немало способствовали мировоззренческие установки. Можно согласиться с авторами "Предисловия" к сборнику "Этика и ритуал в традиционном Китае", в котором идет речь об уникальной роли социокультурного генотипа в воспроизводстве и автономном саморегулировании общества, государства и всей культуры Китая. Этот "социокультурный генотип, лежавший в основе механизма воспроизводства цивилизации, гарантировавший ее адаптирующую и преобразовательную мощь, ее блистательно проявлявшие себя в нужный момент регенеративные функции, стал формироваться еще в эпоху Чжоу, в начале I тысячелетия до н.э." [117].
Таким образом, в Китае было представление о "хаосе" как нарушении естественного порядка вещей, естественного ритма, который сообщает всему дао и которому следует дао-человек.
"Веление судьбы, развитие событий: рождение и смерть, жизнь и утрату, удачу и неудачу, богатство и бедность, добродетель и порок, хвалу и хулу, голод и жажду, холод и жару – он (воспринимает) как смену дня и ночи" ("Чжуан-цзы", гл. 5).
Мудрец сообразует свои действия с Переменами. В "Ле-цзы" рассказывается, как Конфуций, возвращаясь из Вэй в Лу, залюбовался водопадом. И тут, увидев, что какой-то человек собирается войти в воду, встревожился:
"– Водопад ниспадает с высоты в тридцать жэней, водоворот бурлит на девяносто ли, ни рыбе не проплыть, ни черепахе, ни кайману... Тому, кто вздумает через него перебраться, – придется нелегко!
Но человек не послушался: он перешел через поток и выбрался на другой берег.
– До чего же вы ловки! – воскликнул Конфуций. – У вас, видно, есть свой секрет? Как это вам удалось войти в такой водоворот и выбраться оттуда невредимым?
И человек ответил так:
– Как только вступаю в поток – весь отдаюсь ему и вверяюсь. Так, отдавшись и вверившись, следую за ним до конца. Отдавшись и вверившись, располагаю свое тело в волнах и течениях, не смея своевольничать. Вот почему могу войти в поток и снова выйти.
– Запомните это, ученики! – сказал Конфуций. – Воистину, даже с водой, отдавшись ей и вверившись, можно сродниться, – а уж тем более с людьми!" [118].
Вот что и значит не идти наперекор, следовать Недеянию, зная законы естества. Люди и в самом деле погибают оттого, что не чувствуют Закон (ли) поды и губят себя суматошными движениями, не сообразуясь с ее течением; барахтаясь, впадают в панику, теряют силы и идут ко дну. И так во всем. Нужно действовать в соответствии с природой вещей и с ситуацией. Это и значит Недеяние (увэй). Нет правил на все времена, что в одно время хорошо, в другое – плохо, потому Чжуан-цзы и говорит:
"Не действуй всегда одинаково, разойдешься с путем"
("Чжуан-цзы", гл. 17).
"Юй, прокладывая русла, следовал за (природой) воды, считая ее своим учителем; Священный земледелец, посеяв семена, следовал (естественному развитию) ростков, считая их своим наставником... Природу вещей нельзя менять, место обитания нельзя переносить"
(Хуайнань-цзы, гл. I).
Ле-цзы рассказывает поучительную историю. У человека по имени Ши были два сына. Один был сведущ в науках, другой – в военном искусстве. Первый отправился служить в Ци, второй – в Чу. Оба хорошо были приняты правителями, и их семья благоденствовала.
Сыновья соседа Мэн решили последовать их примеру. Один, знаток наук, явился к правителю Цинь, но тот был поглощен сражениями, и ему было не до наук. Он приказал оскопить и прогнать пришельца. Второй сын, знаток военного дела, отправился в Вэй, и тоже неудачно, ибо правитель Вэй как раз полагался не на силу, а на политику невмешательства и за неуместный совет велел отрубить советчику ноги.
Когда искалеченные сыновья вернулись, то стали поносить семейство Ши. Но тот им ответил:
"Всякий, кто удачно выберет время, преуспеет. Всякий, кто его упустит, пропадет. Путь вам тот же, что и у нас, а итоги совсем другие. Не оттого, что действовали неверно, а оттого лишь, что упустили время. Ведь нет среди законов Поднебесной таких, чтоб всегда были правильны, и нет среди ее деяний таких, чтоб всегда были ошибочны. То, что годилось прежде, нынче могут и отвергнуть. А то, что отвергли нынче, позже может и пригодиться. Для того, что пригодно, а что непригодно, нет точных правил. И нет рецептов – как пользоваться случаем, ловить момент и поступать по обстоятельствам. Это зависит от смекалки. А уж коли ее не хватает, то будь вы столь же многознающи, как сам Конфуций, и столь же искусны, как Люй Шан, – всюду, куда ни пойдете, попадете впросак.
Гнев Мэна и его сыновей утих, а с лиц их сошло выражение досады. И они сказали:
– Мы все поняли. Не стоит повторять" [119].
Значит, одно и то же действие приводит к разным результатам, одних возвышает, других унижает, если не ко времени. И это глубоко вошло в сознание, стало нормой поведения (недаром говорят о "ситуационной этике" японцев). Закон соответствия, подвижного равновесия (яп. ва, кит. хэ) координировал поведение и художественные законы. Скажем, в композиции икэбана важны не столько цветы, сколько правильное их расположение, равновесие с окружающей средой. Тяжелый цвет (инь) уравновешивается легким (ян), заполненное пространство – пустотой. Цветы выбирают в соответствии с сезоном и настроением; гостей.
Мастер книжного дела XVIII в. японец Нисикава Сукэнобу писал:
"В изображении трав и деревьев или людей всюду в картинах есть что называется ян и инь. Например, когда изображается дерево с очень густой листвой, надо знать, что то, что видимо на поверхности, – это ян; то, что находится за нею, – это инь. Так же как и у деревьев, так и у скал, даже у человека или узора одежды есть ян и инь. И надо научиться их различать".
Так в любом деле. "Короткие стихи" (танка) – поэзия экспромта, но тема, кисть, бумага, тушь, время года, человеческие чувства – все должно быть созвучно. Когда мастер Но Сэами, решил оставить потомкам свои тайные наставления, то особое внимание уделил принципу правильного равновесия: актер тогда достигает мастерства, когда ощущает единство времени года, местных обычаев и времени суток. Вечером, когда царит сумрачная атмосфера (инь), следует играть оживленно, в стиле ян, чтобы уравновесить вечернее настроение. В дневное время, наоборот, нужно играть приглушенно, в стиле инь, чтобы снять излишнюю яркость.
"В Тайном учении говорится: следует знать, что совершенство в чем бы то ни было зависит от равновесия инь-ян. Дневная энергия – это ян-ци. Спокойная игра – инь-ци. Душа (кокоро) уравновешенности инь-ян приводит к тому, что энергия ян-ци порождает инь-ци. В этом залог успеха Но" [120].
Актер входит в ритм времени, которое движется то туда, то обратно (дзюн-гяку). В тот момент, когда силы соперника на подъеме, следует играть в сдержанной манере, а когда силы соперника на исходе, нужно играть в полную силу, и успех обеспечен. Мастерство – это владение искусством подвижного равновесия (ва), умение, ощущать ритм Вселенной. В этом суть даосской традиции, унаследованной дзэн.
"(Я), Шан, слышал от учителя, что (человек, который обрел) гармонию, во всем подобен (другим) вещам. Ничто не может его ни поранить, ни остановить. Он же может все – и проходить через металл и камень, и ступать по воде и пламени" ("Ле-цзы", гл. 2).
Знаменитый поэт Японии Мацуо Басе в беседе с учеником Кёрай говорил, что истинная красота рождается, когда время и пространство встречаются в одной точке.
Об уходящей весне
Сожалею
Вместе с жителями Оми.
Это хайку Басё из сборника "Соломенный плащ обезьяны" позволяет пережить очарование тепло-желтых полей сурепки, ощутить аромат лотосов, расцветающих в провинции Оми весной. Ученик Басе, Сёхаку, предложил заменить Оми на Тамба, а конец весны на конец года. Но Кёрай возразил: подернутое дымкой озеро в Оми позволяет острее пережить уходящую весну: "Правду говорят, лишь истинный вид трогает сердце человека". Басё остался доволен: "С тобой, Кёрай, можно говорить о прекрасном... Красота (фурю) рождается сама в соответствующий момент. Важно уловить этот момент".
"Уловить" или не упустить момент рождения Красоты, ощутить ее дыхание, биение сердца – тогда и рождается Искусство.
В исследовании "Слово о живописи из Сада с горчичное зерно" Е. В. Завадская обращает внимание на роль взаимодействующих сил инь-ян, пустого-заполненного в китайской живописи:
"Ян и инь есть переход от пустого до заполненного, от высокого до низкого. Ровная поверхность вмещает чистое ян – тогда нет тонировки. Если же есть возвышенное, тогда есть и тонировка; если же есть пониженное, тогда только возникает живопись. Когда на ровной поверхности есть углубления, то ям – ровное – оставляется белым. Когда есть выпуклость, место очень возвышается, его тонируют, оттеняют, чтобы было видно высокое. Так, – круглая жемчужина на стене – вся светлая, но со стороны видны в ней ян и инь – (светотень). Кто понял это, тому можно пояснить, как кистью передать пустое и заполненное.
Изучи особо ян и инь, пустое и заполненное – сюй, ши. Тогда кисть передаст подлинное начало десяти тысяч образцов. Постигни закономерности вещей – тогда совсем не будет тайны. В каждом штрихе душа человека сама воплотится [121].
И сами собой вспоминаются "шесть законов" живописи Се Xэ (479-542), которые в переводе С. Кахила звучат следующим образом: "Рождение (чувства) движения через гармонию духа; применение кисти "костяным методом"; сообразовываться с вещами, изображая их формы; согласованность с родом (вещей) при применении краски; разделение и распределение мест и упорядочение; передача и связь с древними образцами путем копирования и подражания" [122].
Но, наверное, все шесть законов уже присутствуют в первом, который можно перевести как "созвучное ци рождает жизнь" (циюнь шэндун). Дайсецу Судзуки, знаток дзэн, говорит о законе "созвучного ци":
"Когда озарение (сатори) находит художественное воплощение, оно рождает вещи, вибрирующие в одном духовном ритме (циюнь, яп. киин). Благодаря этому и возникает таинственно-прекрасное (мё), сокровенная красота (югэн)... Уловить этот духовный ритм и значит пережить сатори" [123].
Такое состояние сопереживания достигается, когда становишься един с вещью, как тот удачливый пловец, преодолевший воды водопада. (Если для нас выражение "плывет по воле волн" звучит нарицательно – так говорят о людях безвольных, неспособных сопротивляться волнам жизни; то в китайско-японском варианте метафора "по воле волн" означает иное: разумный человек вверяет себя волнам, зная природу воды, не борется, а действует с ней заодно). Недаром образ волны полюбился даосам: "Вместе с волной погружаюсь, вместе с иеной всплываю, следую за течением воды, не навязываю ничего от себя. Вот почему я и хожу по воде" ("Чжуан-цзы", гл. 19). Потому и верили в благодатные свойства единения с природным ритмом, что оно исцеляет болезни, продляет жизнь.
Искусство – и есть дао, непрерывная нить, соединяющая все между собой, – Путь к просветлению, и нужно лишь довериться ему. Преисполненный силы пребывает в Покое, и дела сами собой совершаются. Вот что значит Недеяние.
"(Если) только ты предашься недеянию, вещи будут сами собой развиваться. Оставь свое тело, свою форму, откажись от зрения, от слуха, забудь о людских порядках, о вещах, слейся в великом единении с самосущим эфиром. Освободи сердце и разум, стань покойным, будто неодушевленное (тело, и тогда) каждый из тьмы существ (станет) самим собой, каждый вернется к своему корню"
("Чжуан-цзы", гл. II).
Речь идет о той самой благодатной Пустоте, в которой нет принуждения, нет границ, и оттого каждый может быть самим собой.
"Недеянием небо достигает чистоты, недеянием земля достигает покоя. При слиянии недеяния их обоих развивается тьма вещей... Поэтому и говорится: "Небо и земля бездействуют и все совершают". А кто из людей способен достичь недеяния?" ("Чжуан-цзы", гл. 18).
Этим же вопросом задавался Лао-цзы, скажем, в §38 "Дао-дэцзина":
"Человек с высшим
дэ не старается делать добро, но делает его.
Человек с низшим дэ старается делать добро, но не делает его.
Человек с высшим дэ, следуя недеянию, ничего не предпринимает;
человек с низшим дэ деятелен и нарочит – но от этого никому не легче.
И дальше:
"Небытие
проникает всюду.
Поэтому я знаю пользу от недеяния.
Редко что в Поднебесной может сравниться с учением без слов
и с пользой от недеяния"
("Даодэцзин", §43).
А почему так? Потому что все Едино и все самоестественно, следует своей природе, своему дао и ничто не нужно подталкивать, принуждать, нужно лишь не мешать, проявить себя, тогда и рядом стоящее может жить спокойно, своей жизнью. Как сказано в §2 "Даодэцзина":
"Бытие
и небытие взаимопорождаются.
Трудное и легкое создают друг друга.
Длинное и короткое взаимостановятся.
Высокое и низкое друг к другу склоняются.
Звуки и голоса согласуются.
Предыдущее и последующее следуют друг за другом.
Поэтому совершенномудрый придерживается недеяния
и обучает без слов".
Если Хаос не изначален, а вторичен, творится неведением, то можно, стало быть, его избежать, как это и делает вставший на Путь, сообразующий свои действия с Переменами. Мудрец, пребывая в Покое, не возмущает ни. Он центрирует энергию в определенной точке тела, потому способен мгновенно ответить на любой вызов и направить ни в нужном направлении, потому что он внутренне невозмутим. А можно пребывать во внешнем покое, скажем в сидячей медитации, и не преодолеть хаоса в себе, если мысли не упорядочены, воля не сконцентрирована. Мэн-цзы говорит: укрепляйте волю и не вносите хаоса в ци:
"(Гунсунь Чоу заметил): "Коль скоро (Вы) сказали, что воля – главное, а ци – второстепенное, то что означает: "Укрепляйте волю и не вносите? хаоса в ци?"
(Мэн-цзы) сказал: "(Когда) воля (сосредоточена) на одном, (она) приводит в движение ци, (когда) ци (сосредоточено) на одном, (оно) приводит в движение волю. Представим теперь человека, падающего или бегущего. Это (связано с проявлением) ци и приводит к утрате невозмутимости духа"" [124].
Ситуация Хаоса возникает от неразумных действий, нарушающих естественный ход вещей, о чем говорится уже в ранних памятниках, например в "Шуцзине". В главе "Великий закон", повествующей о древних правителях, живших в XII в. до н.э.
"У-ван обратился к сановнику Цзи-цзы за советом, как лучше править страной. И тот ответил, сославшись по обычаю на прецедент: "Я слышал о том, что в давние времена Гунь преградил путь водам потопа, чем привел в хаос пять (движущих) начал: (имеются в виду усин – вода, огонь, дерево, металл, земля – Т.Г.). Тогда небесный владыка сильно разгневался и не пожаловал ему Великого закона в девяти разделах, из-за чего этичеческие нормы и правила взаимоотношений пришли в упадок. В итоге Гунь умер в ссылке, (а его сын) Юй продолжил (дело отца) и успешно закончил (борьбу с наводнением). И тогда небо ниспослало Юю Великий закон в девяти разделах, которым устанавливался порядок в этических нормах (поведения каждого отдельного человека) и в правилах отношений между людьми".
Эта запись знаменательна, по крайней мере в трех отношениях. Во-первых, логикой прецедента. Во-вторых, взглядом на хаос как следствие неразумного поведения человека, не сообразующего свои действия с меняющейся ситуацией, не принимающего во внимание, какая из упомянутых энергий в данное время преобладает: сам человек вносит диссонанс в естественный порядок вещей. В третьих, существовала вера в моральность естественного закона-дао; этической стороне жизни придавалось первостепенное значение.
Какие же это правила поведения, провозглашенные "Великим законом"?
"В первом разделе (Великого закона) говорится о пяти началах; во втором – об уважительном отношении к пяти способностям (человека); в третьем – о серьезном отношении к восьми государственным делам; в четвертом – о гармоничном отношении к пяти основам времени; в пятом – о созидательном отношении к совершенству правителя (в комментарии поясняется – "великий средний путь поведения" – Т.Г.); в шестом – об умелом отношении к трем моральным качествам; в седьмом – о разумном отношении (к сомнениям); в восьмом – о вдумчивом отношении к различным указаниям (явлений природы); в девятом разделе говорится о воодушевляющем отношении к пяти (проявлениям) счастья и трепетном отношении к шести (несчастливым) крайностям".
Дальше объясняется, что следует понимать под определениями "пять норм", "пять способностей" и т. д. Эти тексты доступны, поэтому не буду на них останавливаться. Хочу лишь подчеркнуть, насколько рано начали китайцы принимать во внимание единство человека и Природы, взаимосвязь вещей: если нечто нарушается в одном месте, неизбежно отзывается в другом, если ослабевает одно звено, страдают остальные, даже совсем, казалось бы, друг с другом не связанные. Иначе говоря, никакой поступок или проступок не может остаться без следствия, не замеченным тонко реагирующей на любое возмущение космической энергией ци. Аморальный поступок противоестествен, ведет к нарушению природных явлений, скажем чередования жары холода (ян-ци и инь-ци), что, в свою очередь, приводит к стихийным бедствиям и голоду. Недаром стихийные бедствия в Китае воспринимали как знак неблагополучного правления, что могло привести к свержению монарха.
Словом, в китайских учениях речь идет о "хаосе" как вторичном, производном явлении, порождаемом невежеством людей, которые по незнанию законов бытия провоцируют аритмию социоприродного организма. Все связано между собой, непосредственно или опосредованно: в одном месте натянешь, в другом оборвется. Лишь небесное дао, согласно Лао-цзы, подобно натягиванию лука:
"Чем больше
поднимается верхняя его часть,
тем более прогибается нижняя.
Оно отнимает лишнее
и отдает тому, кому не хватает"
("Даодэцзин", §77).
Не знающий законов Природы не знает человеческого Пути, и ему нельзя доверить управление страной, ибо правитель, который не в состоянии уразуметь законов бытия, ведет народ, к гибели. Этой мыслью пронизаны канонические книги от "Ицзина", "Даодэцзина", "Великого учения", "Учения о Середине" до "Хуайнань-цзы" и др. Потому и провозглашается принцип "недеяния" или следования естественному пути – не личным интересам и пристрастиям, а естественным законам. Все идет своим чередом, и не нужно "действовать наперекор" [125].
Потому Лао-цзы говорит в §17 "Даодэцзина":
"Лучший
правитель тот,
о котором народ знает лишь то, что он существует.
Несколько хуже тот правитель,
который требует от народа его любить и возвышать.
Еще хуже правитель, которого народ боятся,
и хуже всех те правители, которых народ презирает.
Поэтому, кто не заслуживает доверия, не пользуется доверием (у людей).
Кто вдумчив и сдержан в словах, успешно совершает дела,
и народ говорит, что он следует естественности".
Или §57:
"Страна
управляется справедливостью, война ведется хитростью.
Поднебесную получают во владение посредством недеяния.
Откуда я знаю все это? Вот откуда:
когда в стране много запретительных законов,
народ становится бедным.
Когда у народа много острого оружия,
в стране увеличиваются смуты.
Когда много искусных мастеров,
умножаются редкие предметы.
Когда растут законы и приказы,
увеличивается число воров и разбойников.
Поэтому
совершенномудрый говорит:
"Если я не действую, народ будет находиться в самоизменении;
если я спокоен, народ сам будет исправляться.
Если я пребываю в недеянии, народ сам становится богатым;
если я не имею страстей, народ становится простодушным""
Не столько "простодушным", сколько "исконно чистым", не подверженным страстям.
Конфуций сравнивал мудрого правителя с "полярной звездой", которая пребывает в покое, поэтому остальные звезды притягиваются к ней. Каждому – свое место:
"Циский Цзин-гун спросил у Конфуция, как правильно управлять (государством). Конфуций ответил: "Правитель должен быть правителем. Чиновник – чиновником. Отец – отцом. Сын – сыном". Цзин-гун сказал на это: "Как это верно! Поистине, если правитель не будет правителем, чиновник – чиновником, сын – сыном, то даже если и будет рис, им не накормишь"" ("Луньюй", XII, II).
Кстати, и это высказывание Конфуция было истолковано по-своему тем сознанием, которое все ставило на "свои" места (и самого Конфуция), обвиняя его в консерватизме: не переходить границ своего сословия и рамки дозволенного. Но со времен "Ицзина" известно, что порядок в Поднебесной зависит от того, когда отец бывает отцом, сын – сыном, муж – мужем, жена – женой, когда устанавливаются отношения взаимности и доверия. И Конфуций имел в виду эту простую истину – "от каждого по способностям, каждому по труду": каждый должен заниматься своим делом, соответствовать своему месту и назначению, и тогда в государстве воцарится порядок [126]. Потому и поразил Цзин-гуна, правителя государства Ци, ответ Конфуция, что был он прост и самоочевиден.
В гл. 12 "Луньюя" (XII, 17) Конфуций не раз возвращается к вопросу о том, в чем суть "правильного правления государством" (все три слова, кстати, пишутся одним иероглифом – чжэн, яп. мацуригото):
"Управлять –
значит поступать правильно.
Если делать все правильно, то откуда возьмется неправильность?".
Поучителен и §19 той же главы:
"Цзи Кан-цзы спросил Конфуция об управлении государством: "Нельзя ли убивать тех, кто нарушает путь, и добиться, чтобы его не нарушали?" Конфуций ответил:
"Если правильно
управлять, то зачем убивать?
Если вы устремлены к добру, то и народ станет добрым.
Дэ истинного человека – ветер,
дэ мелкого человека – трава.
Когда ветер дует, трава склоняется"".
И §22 из той же главы:
"Фань Чи спросил о том, что такое жэнь (человечность). Учитель ответил: "Любовь к человеку". "А Знание?" Учитель ответил: "Знать человека". Фань Чи не совсем понял. Тогда Учитель добавил: "Поднимать прямоту, пригибать кривизну. Если так долго делать, то кривое станет прямым".
Фань Чи удалился. Встретив Цзы-ся, поделился с ним: "Я видел Учителя и спросил его о Знании. Учитель ответил: "Поднимать прямоту, пригибать кривизну. Если так долго делать, то кривое станет прямым. Что это значит?"
Цзы-ся воскликнул: "О, как глубоки его слова! Когда Шунь получил Поднебесную, то, выбрав из народа, возвысил Гао-яо, а нечеловечных (не обладавших жань) удалил. Когда Тан получил Поднебесную, выбрал из народа и возвысил И Иня, а нечеловечных удалил"".
Правильное управление государством, по Конфуцию, невозможно, если речи расходятся с делом, если вещи не называют своими именами, слова не соответствуют своему смыслу. Потому и предлагал он "исправление имен":
"Цзы-лу спросил: "Вэйский правитель ждет Вас.
С чего Вы начнете
управление государством?"
Учитель ответил: "С исправления имен".
Цзы-лу сказал: "Вы говорите непонятно. Зачем их исправлять?"
Учитель ответил: "Как ты неотесан, Ю!
Цзюньцзы не судит о том, чего не знает.
Если имена неправильны, то и слова неверны
(букв. – не следуют правильному порядку – шунь).
Если слова неверны, то и дела не делаются.
Если дела не делаются, то ритуальная музыка не исполняется.
Если музыка не исполняется, то наказания не соответствуют.
Если наказания не соответствуют, то народ теряется
(букв. – не знает, куда приложить руки и ноги).
Поэтому настоящий человек, зная, как что называется,
должен непременно так и называть.
А называя, непременно исполнять то, что говорит.
В словах настоящего человека не может быть ничего лишнего"
("Луньюй", XIII, 3).
Настолько мне кажутся поучительными эти рассуждения, что приведу еще одно – из "Хуайнань-цзы". Л. Е. Померанцева посвящает этому целую главу – "Учение об обществе и государстве". За идеальный образец берется прошлое, когда "все чиновники были справедливы и не знали корысти. Высшие и низшие жили в гармонии, и никто не превосходил другого. Законы и распоряжения были ясны, и не было в них темного. Советники и приближенные радели об общем благе и не разделялись на партии". Но век от века жили все хуже. "Когда наступило время упадка, то стали сверлить горы и камни, резать металл в нефрит, вскрывать жемчужные раковины, плавить медь и железо... Уже у людей не хватало орудий, закрома ломились от запасов, – а тьма вещей не успевала завязать завязь; слабые ростки, утробные зародыши, не успевшие дозреть, составляли больше половины... возводили крепостные стены и делали укрепления, стали держать на привязи животных, превращая их в скот. И тогда инь и ян стали беспорядочно сталкиваться, четыре времени года утратили порядок, гром и молния стали уничтожать и расщеплять. Бьет град, падает снег, туманы и иней не прекращаются, а тьма вещей гибнет, не созрев". Чем дальше, тем больше, – дошло до того, что люди начали истреблять друг друга.
Каков правитель, таков и народ: "Яо был добр, и все доброе пришло к нему; Цзе был неправеден, все неправедное собралось вокруг него" [127]. Совершенное правление возможно, когда правитель знает Всеобщее, и тогда Поднебесная "сама приходит к гармонии" и "никто не погибает преждевременно".
Хаос возникает на уровне явленного дао (постоянное дао пребывает в Покое), когда люди не ведают, что творят, не сообразуют свое поведение с естественным порядком вещей. Тот, кто знает закон Перемен, знает и Постоянство; чтобы сохранить Постоянство, нужно меняться вместе со временем, следовать ритму дао [128].
Это – основная мысль "Ицзина": единство Неизменного и Изменчивого. Она присутствует уже в начертании иероглифа "Перемены": "солнце" и "луна" постоянно чередуются, но их путь неизменен. "Движение и покой имеют постоянство" ("Сицычжуань", I, 1). Само движение двуедино – туда-обратно, в прямом и обратном порядке; чередуясь и совмещаясь, присутствуя друг в друге, пульсируют инь-ян, как пульсирует сердце.
Сознание, склонное к статике, которое менее всего назовешь диалектическим, не представляет одновременности разного и трактует движение "туда-обратно" (яп. дзюн-гяку) по-своему: движение вперед – это хорошо, а движение назад – это плохо. И "Большой японо-русский словарь" не избежал этого стереотипа. "Дзюнгяку" – "хорошее и дурное", со ссылкой на фразу: "Дзюнгяку-но ри (кит. ли) – о вакимаэру" – "(Уметь) распознавать (отличать) хорошее от дурного" [129]. На самом деле, хотя принято называть первый тип движения (шунь) "правильным (соответственно иероглифу), а второй иероглиф означает "идти в противоположном направлении", это в нашем сознании ассоциируется с правильным и неправильным: идти вперед хорошо, идти назад плохо; китайцы же имели в виду закон самой природы: прилив-отлив, вдох-выдох. Это неизбежная стадия жизнедеятельности любого организма, в том числе и социокультурного. Все чередуется в природе: свет – тьма, холод – тепло, и человек разумный ведет себя сообразно с переменами, а в противном случае приходит в противоречие с космическим ритмом со всеми вытекающими отсюда последствиями... В высшем смысле это закон, о котором говорил Чжу Си:
"Движение
и покой не имеют начала.
Инь и ян не имеют начала, это – небесный путь.
Получать начало в ян и завершаться в инь,
иметь свою основу в покое и расширяться в движении –
это путь человека" [130].
Японцам идея колебательного движения знакома с давних пор. Вот как описывает народные танцы Японии А. Е. Глускина:
"Скользящее движение по сцене также можно увидеть и в земледельческих представлениях. В храмовых синтоистских мистериях оно называется дзюн гяку дзюн ("вперед-назад-вперед"). Это определенный замкнутый круг троекратного повторения движения, а иногда и целой сложной системы движений, из которых первый или третий комплексы совпадают, а второй комплекс является их противоположностью. Это троекратное магическое движение также рассматривается как символическое изображение удара мотыги о землю, успокаивающее духа поля: движение, направляемое вперед, – дзюн, назад – гяку, опять вперед – дзюн, т.е. повторение движений при работе мотыгой на рисовом поле" [131].
В "Сицычжуань" (I, 8) сказано: "Счастье-несчастье есть образ (сям) обретения и потерь... Изменения есть образ движения вперед-назад". И японские ученые следовали этому правилу и связывала порядок в государстве с умением двигаться в естественном ритме. Ито Тогай (1670–1736), например, ставил в прямую зависимость порядок в Поднебесной от умения правильно продвигаться вперед, правильно отступать назад, следовать "ритуалу" (ли, яп. рэй). По сути, это и есть движение дао (то инь, то ян), которое ведет к Добру.
Одни, таким образом, ориентированы на прямое, по преимуществу одностороннее движение и Действие (вэй), на переустройство мира, ибо он их не устраивал; другие – на прямое и обратное движение, на Недеяние (увэй), не-противоречие с Изначальным образом (в японской поэтике – принцип тонкадори – "следование изначальной песне"), ибо первосуществование мира и есть Образец, заслуживающий доверия и подражания.
Если не было идеи изначального Хаоса, то и нет необходимости в идее изначальной Власти (архе). А если не было идеи изначальной Власти, то и не должно было возникнуть неравенства, деления на субъект-объект, на господина-раба. Если не было представления об изначальной неупорядоченности мира, то и не могло появиться желания его переустройства или враждебного к нему отношения. Осознание неизбежности и одновременно бессмысленности борьбы с Хаосом рождает трагическое мироощущение, для которого восточное мировосприятие не давало повода. Для того и понадобился Логос, чтобы противостоять Хаосу, выправить положение, созидать Космос ("Украшение мира"). В Китае же идеальный порядок (Космос – Небесный узор) уже задан, есть свойство Неба (тянь вэнь), которое самоестественно реализуется, если человеку доступна мудрость Недеяния, ненарушения естественного порядка вещей.
Значит ли это, что следование естественности неведомо грекам? Можно еще раз вспомнить Гераклита: "Мышление есть величайшее превосходство, и мудрость состоит в том, чтобы говорить истину и прислушиваться к (голосу) природы, поступать согласно с ней" (В 112). И он ценил превыше всего Единое, всеобщий Логос, и упрекал поэтов, Гомера и Гесиода, и философов, Фалеса и Пифагора, что "единому знанию всего" они предпочли многознание, которое "уму не научает". Для Гераклита, как позже для Плотина, Единое есть "мудрое", или "бог", в коем противоположности едины: "Бог – это день и ночь, зима ; и лето, война и мир" (фр. 67). Но сколь ни ценили греки и идущие за ними Единое, выделяли они что-то одно, скажем огненную мысль, т.е. всем стихиям предпочитали Огонь, а всем состояниям души – Мысль. По Эмпедоклу: разумен "огонь Единого", все части огня, как видимые, так и невидимые, обладают мышлением и причастны разуму. И Парменид говорил об огненности души.
Предполагают, что поклонение огню пришло из Индии (или вернулось, придя в Индию с ариями), что римская богиня Огня Веста восходит к индоевропейской традиции. В ведийской мифологии, действительно, чтили бога Огня – Агни. В древних гимнах "Ригведы" поется:
Един (ekam) Огонь,
многоразлично возжигаемый,
Едино Солнце всепроникающее,
Едина Заря, все освещающая,
И едино то, что стало всем (этим)
(VIII, 58, 2).
Вселенная была
проглочена, сокрыта мраком,
Солнце явилось взорам, когда родился Агни.
Боги, земля, небо, а также воды
И растения возрадовались в дружбе с ним
(X, 88, 2) [132].
Брахман сравнивается с "устами огня":
"Поистине вначале это как бы не было ни не-сущим, ни сущим. Вначале это поистине как бы было и как бы не было. Это было лишь мыслью... (Сущестует) тридцать шесть тысяч огней, лучей; из них каждый отдельно столь велик, сколь велик был тот прежний (огонь)" ("Шатапатха-брахмана", X, 5, 3) [133].
Но, по индийским поверьям, Огонь не живет смертью воды, первичная вода рождает Агни, и они пребывают не в борьбе, а в дружбе, – Агни и Сома. Уже в "Ригведе": "Правда обитает в этих водах" (V, 62, 1), а возникшая сама по себе трещина, яма в земле находится во власти Неправды. Агни, согласно "Ригведе", прокладывает дорогу вдохновению, исходящему из изначальных вод в сердце человека (IV, 58, 5) [134].
И это отличается от гераклитовского Огня-Логоса, "недостаток" которого приводит к образованию мира, "избыток" же – к мировому пожару (В 65). Одна противоположность живет смертью другой ("или-или"), и все борется между собой и на всех уровнях: чувство-разум, дух-материя, страсть-бесстрастие и даже химические элементы [135]. Конечен Космос Гераклита: "Вечно живой огонь, в полную меру воспламеняющийся и в полную меру погасающий" (В 30), – и это предопределило характер мировоззрения. По учениям стоиков (Сенека, Марк Аврелий), в конце каждого мирового цикла начинается воспламенение и все поглощается огнем. В начале нового цикла "творческий Огонь" или "осеменяющие логосы" вновь порождают четыре стихии (огонь, воду, воздух, землю) и созидают все сущее. Образуемая от соединения творческого огня с воздухом пневма связует все вещи в единое целое. Так движется материя Истории – большими скачками или стежками, то сокращаясь до предела, то возникая вновь, все начиная заново.
Идеи стоиков, в свою очередь, оказали влияние на неоплатоников и христианство. Но еще до того Огонь служил метафорой для описания самого бога: Яхве – "огонь поядающий" (Втор., 4, 24), явление духа святого – "разделяющиеся языки, как бы огненные" (Деян., 2, 3). Причастие сравнивается в православных молитвах с огнем, очищающим достойных и опаляющим недостойных. По существу, нет особого адского огня, но все тот же огонь и жар Бога, составляющий, блаженство достойных, мучительно жжет чуждых ему и холодных жителей Ада (согласна сирийскому мистику VII в. Исааку Сирианину). И у апостола Петра есть предсказание о гибели мира через огонь, об очищении рода человеческого в Великом пожаре, который испепелит грешных людей, но не затронет "испытанных в вере" [136].
Другое отношение к Огню в буддизме. Мир сравнивается с "горящей обителью", но люди не видят огня и беспечно снуют по дому, объятому пламенем. Цель учения Будды – указывать путь к спасению, к просветлению сознания, нирване (переводится как "угасание") – к очищению сознания от иллюзий, тех ментальных функций, которые ассоциируются с огненной стихией, разрушают единый разум [137]. И это едино для буддизма и даосизма: путь спасения – путь преодоления страстей, огненных стихий. Их угасание, успокоение позволяет ощутить в себе "тело будды", или изначально чистую природу. (Изначальная природа и чувства соотносятся в некоторых даосских трактатах как "дерево и "огонь", т.е. страсти сжигают человека).
Ситуация жертвенности – когда одно существует за счет другого – исключается Великим Пределом, на грани которого движение начинает обратный путь. Явление не исчерпывается, не доходит до крайности, а, достигая высшей точки, поворачивает вспять, чтобы не оборвалась нить Единого. И это, как говорилось, не могло не сказаться на историческом ритме, на характере культуры. Западный ум отдает предпочтение символу Огня, восточный (даосско-конфуцианский) – символу Воды. Не потому ли, что Огонь не знает Великого предела, не может вовремя остановиться, начать обратный путь, не знает прилива-отлива, не знает покоя и идет на погибель, восходит до полного самоуничтожения.
Для Лао-цзы немыслимо представить Космос в виде "вечно живого огня в полную меру воспламеняющегося и в полную меру погасающего", потому что мир следует дао, сохраняющему все в равновесии. (В "Даодэцзине" нет упоминания об Огне). Дао не имеет формы, поэтому Лао-цзы не может назвать дао какой-то из энергий, но по своей сути дао подобно воде. Высшее дэ, словно вода, "приносит пользу всем существам, не прибегая к силе";
"Вода – самое
мягкое и слабое существо,
но в преодолении твердого и крепкого непобедима.
На свете нет ей равного.
Слабые побеждают сильных,
мягкое преодолевает твердое.
Это знают все, но мало кто осуществляет"
("Даодэцзин", §8, 78).
А. Уоттс назвал свою последнюю книгу "Дао: Путь Воды": "Кто может выпрямить воду? Вода – сущность жизни, любимый образ Лао-цзы" [138]. Не только даосы предпочитают образ воды, но и конфуцианцы, скажем Мэн-цзы: "Стремление природы человека к добру подобно стремлению воды (течь) вниз" [139]. И как могло быть иначе, если не "борьба", а "самоестественность" берется за образец?
Согласно "Хуайнань-цзы" (гл. 1),
"ничто в Поднебесной не может сравниться с водой по мягкости, но она велика беспредельно, глубока безмерно... Ее получает тьма вещей, и нет здесь ни первых, ни последних... Нет для нее ни правой стороны, ни левой – свободна в изгибах и переплетениях. С тьмой вещей начинается и кончается. Это и есть высшее благо. То, с помощью чего вода может вершить свое благо в Поднебесной, – это ее способность все проникать...
Поэтому бесформенное – великий предок вещей, беззвучное – великий предок звука. Его сын – свет, его внук – вода, оба они родились от бесформенного. Свет можно видеть, но нельзя зажать в ладони, воде можно следовать, но нельзя ее уничтожить. Вот почему среди всего, что имеет образ (сян), нет более достойного, чем вода".
Для стоиков же вода – воплощение Хаоса: разряжаясь или сгущаясь, она образует тела. И Библейский Потоп – "выпущенная на волю бездна хаоса". Но понятие "вода" (как и огонь, да и все на свете) имеет разные аспекты – высокий, созидательный, божественный, и низкий, разрушительный. Что уж говорить о христианстве, где вода один из почитаемых символов: "И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него" (Мф., 3, 16). И Иоанном же сказано: "Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня... Он будет крестить вас Духом Святым и огнем" (Мф., 3, II). В Евангелии же от Иоанна (7, 38): "Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой". Плотин же говорил, что мир покоится в "мировой Душе, как невод в воде, и как невод пропитан водой, так и мир проникнут Душой во всех частях своих" (Энн., 3, 4, 9).
То, что человек получает в созерцании,
он должен вернуть в любви.
(Экхарт)
Я беру на себя смелость назвать главу "Что есть Истина?", хотя, говорят, боги карают тех, кто посягает на знание высшей Истины. Но, во-первых, "излагаю, а не творю", пытаюсь донести мудрость древних, а, во-вторых, со времени этого предостережения Сократа много воды утекло и, надо думать, люди поумнели. Можно сказать, само Время поставило вопрос: "Что есть Истина?" – и, значит, должен быть ответ. Собственно, его знали, да забыли, если верить тому же Сократу, утверждавшему, что истинное знание "есть припоминание того, что некогда видела наша душа, когда она сопутствовала богу, свысока смотрела на то, что мы теперь называем бытием" (Федр, 249 С).
Но "боги карали", наверное, за незнание или утрату высшего знания, за то, что человек не умел и не хотел заглянуть в себя, а все тщетно искал, на кого бы положиться, кому предъявить счет, и на это уходили последние силы. Испил опору вовне, ждал помощи от кого-то и, чем больше ждал ее, тем менее получал. Сейчас другое дело, что-то изменилось в самом человеке, он начинает ощущать, что причастен Целому и ответствен за него. Думается, и Наука подходит к тому порогу, когда начинают искать не относительные истины, которым нет конца, а абсолютную, памятуя, что Целое и есть Истина. Идет поиск утраченного Целого, ибо без Целого нет Истины и нет Единства.
Восток – хранитель Единого, потому я с чистой совестью возвращаюсь к своим мудрецам. И, наверное, не очень рискую (хотя как уж без риска). Если в самом деле реальна Ноосфера, т.е. сфера, центрированная Умом-Нусом, который был в Начале, а "возвращение к корню есть свойство дао", – то есть на что надеяться.
Итак, мы уже знаем, что у китайцев не было представления об изначальном Хаосе, что и позволило им избежать порождаемых этим представлением комплексов, а ведомо было Единое. Но что конкретно означает это Единое, которое, лежит в основе вещей, всему предшествует и к которому все возвращается? Мы знаем, что не Хаос, а что? Что представляет собой то "Одно", которое породило "Два", потом – "Три", потом – все вещи, чтобы они, пройдя круг развития, опять вернулись в "Одно" уже на другом витке спирали?
Есть тексты (их не так много), в которых все сказано. Нужно лишь уметь их читать, принимая текст в целом, не что-то принимая, а что-то нет. Принять же в целом может лишь целое, – войти в текст целиком, без оглядки, не только умом по и сердцем. Только так, по-моему, прочитываются древние тексты, которые потому и называют "священными", – будь то Библия или Коран, буддийские сутры или притчи даосов. Зато, говорят, научившись читать, можно обрести "дар ясновидения" (мин дэ – ясное дэ, позволяющее видеть вещи сквозь пространство и время). Для этого небесполезно еще раз задуматься над §21 "Даодэцзина". Но для того, чтобы правильно понять его, нужно набраться терпения, ибо это один из самых глубоких и трудных чжанов, позволяющий, однако, судить о том, что же прозрел Лао-цзы в изначальном Едином. Переводов немало, но вряд ли мы могли раньше подойти к его пониманию. Сознание, похоже, меняется скачком. (Я говорю "мы", хотя всегда избегала этого местоимения, которое ассоциировалось у меня с анонимностью, коллективной безответственностью; теперь же имею в виду если не "коллективное бессознательное", то "коллективное сознательное", или некий качественно новый уровень сознания, о котором свидетельствуют пока немногие факты, по свидетельствуют как-то очень очевидно. В сущности, все тот же закон – перехода количества в качество – информационная перенасыщенность требует целостного подхода. Это "в воздухе носится". И действительно, может быть, носится. Мне лично новое сознание слышится и в песнях, которые обильным дождем, а то и градом, хлынули на иссушенную пашню культуры, сметая пыль и питая ее).
Итак, имеет смысл сосредоточиться на этом фрагменте "Даодэцзина" и шаг за шагом, не спеша, попробовать понять, что хотел сказать мудрец, видевший больше нас. Это уж несомненно. Можно без преувеличения сказать, что Лао-цзы сосредоточен на человеке, потому и решился произнести свои "афоризмы" (числом 81), чтобы раскрыть некие тайные законы природы и человеческого сердца. Отдадим должное его мудрости и его человеколюбию (то, что получают в созерцании, возвращают в любви), доверимся его мысли.
Даю буквальный перевод, чтобы точнее донести смысл, да и не уверена, что смогла бы дать хороший, ритмически организованный вариант:
"Великое дэ и есть дао.
Дао – это нечто зыбкое (хуан, яп. ко – скрытое, невидимое),
неясное (ху, яп. коцу; но интересно, что слово, образованное соединением этих
определений – яп. кокоцу – означает "восторженность",
"очарованность", "экстаз").
Неясное, зыбкое, в них – образы (сян, яп. сё).
Зыбкое, неясное, в них – вещи (у, яп. моно).
Глубинное (глубинное с оттенком прекрасного – яо, яп. ё),
темное, внутри – семена (цзин, яп. сэй – переводится и как
"настоящий", "чистый"; "дух", "душа",
"энергия", но также "семя", "молоки").
Эти цзин (все же лучше оставить китайское название – Т.Г.)
и есть сама Истина (чжэнь, яп. син-макото – "истина",
"правда", "реальность"),
в ней – Искренность (синь, яп. син – "честность",
"искренность", "истина").
С древности и поныне это имя не проходит.
Благодаря ему узнаем о причине вещей.
Откуда мы знаем о природе вещей?
От этого"
("Даодэцзин", §21) [1].
(Гераклит же объявил "сущностью судьбы логос, пронизывающий субстанцию Вселенной. Это эфирное тело, сперма рождения Вселенной и мера назначенного круга времени" [2]). Что сообщает японский комментарий? Лао-цзы и в других местах говорит о дао (в §1, 4, 14), но здесь дан образ совершенномудрого человека, имеющего, как и сам Лао-цзы, Великое дэ. Этот совершенномудрый объясняет, как претворять изначальную Истину, или дао, следуя правильному пути. В противоположность тем определениям дао, которые даются в §1 – "От одного глубочайшего (сюань, яп. гэн) к другому – врата во все сокровенное (мяо, яп. мё – а также "удивительное", "прекрасное")" – или в §14, где дао – "мельчайшее", "все соединяющее", "форма без формы, образ без образа", в §21 дао – "неясно-чарующее" и "глубинно-скрытое".
"Семя" (цзин) японцы понимают как "сперму", считая, что в §21 присутствует и сексуальная подоплека.
"Человек с Великим дэ
следует только Пути.
В глубинной неясности существуют тончайшие духовные ци (цзин ци).
Эти духовные ци и есть высшая Истина (яп. синдзицу).
В ней содержится творящий Свет.
Это неизменно, с древности и поныне, и именуется дао.
Если спросить: чем управляется все это?
Путем (дао)... "
У Чжуан-цзы есть рассуждение о Великом дэ (в главе "Небо и земля"): Человек "благодаря дэ освещает путь... видит невидимое (мэй-мэй – тайное, скрытое), слышит неслышимое", "тысячи вещей приходят в движение, следуя ему"; "Таков человек с Великим дэ". "Дао – это нечто зыбкое, неясное", это рассеянность, неопределенность. С точки зрения психики – блаженное, экстатическое состояние не-я (яп. муга, санскр. анатман), прострация (яп. юмэ – букв. "мечтательность", "грезы").
Под "образом" понимается то, что в §14 называется "образом без образа". Рассеянность, неопределенность вовсе не означают полное отсутствие чего бы то ни было. Нет, там есть образ, или "образ без образа".
"Зыбкое, неясное в них – вещи". Значит, нечто существует невидимо. "В ней (Истине) – Искренность", "Глубинное, темное", значит, есть нечто еле различимое в глубине. "Цзин" (семена) – это сущность-ядро, которое обладает удивительной силой порождать все вещи. Если говорить о человеке, то эти цзин-ци и есть ядро его устремлений, которые формируют его жизненный путь. А под "самой Истиной" надо понимать высшую чистоту, беспримерность, незагрязненность внешним. Как Чжуан-цзы определяет "Истину" – "Истина – это истинное цзин".
"В ней – Искренность", – значит, что в проявлениях дао не может быть никакой неправды – лишь светлое, прозрачное. Как у Чжуан-цзы, в главе "Великий Учитель", сказано, что "дао имеет чувство (цин, яп. дзё – сочувствие), имеет Искренность, потому не действует (следует недеянию – увэй) и не имеет формы"...
"С древности и поныне это имя не проходит" – т.е. оно всегда называлось дао. Благодаря ему мы узнаем о Переменах в Поднебесной, о вращении солнца и луны, инь-ци и ян-ци. Поэтому совершенномудрый благодаря Великому дэ, во всем следуя Пути, может созерцать все образы в их истинном виде" [3].
Кстати, во Вступлении к тексту Лао-цзы (яп. Роси) цитируются слова известного японского философа Нисида Китаро: "Не скрыто ли в основе культуры Востока то, что можно назвать стремлением видеть форму бесформенного, слышать голос беззвучного? Наши сердца постоянно стремятся к этому". В Китае Лао-цзы первый начал обучать этому – "видеть форму бесформенного, слышать голос беззвучного" [4].
Странно, не правда ли? А на буддийско-даосском Востоке мало кто сомневался в существовании невидимого мира, мира непроявленных форм, или Небытия, Пустоты. Можно вспомнить слова Будды:
"Существует, монахи, нерожденное, неставшее, несотворенное, неоформленное. Если, монахи, не существовало бы нерожденного, неставшего, несотворенного, неоформленного, то не было бы спасения от рождения, становления, сотворения, оформления. Но так как, монахи, существует нерожденное, неставшее, несотворенное, неоформленное, то и можно избежать рождения, становления, сотворения, оформления" [5].
Не только существует вера в непроявленный мир, мир Пустоты, Покоя, Небытия, но достижение этого состояния сознания и есть цель Пути. Будда видит в мире проявленных форм источник страдания (дукха). Что уж говорить о даосах, устремленных к Пустоте, где можно странствовать, не зная преград, и быть самим собой.
"Учитель Ле-цзы улыбнулся и ответил: "Существуют рожденный и нерожденный, изменяющийся и неизменяющийся. Нерожденный способен породить рожденного, неизменяющийся способен изменить изменяющегося. Рожденный не может не родиться, изменяющийся не может не изменяться. Поэтому всегда рождаются и всегда изменяются. Всегда рождающиеся, всегда изменяющиеся все время рождаются, все время изменяются. Таковы жар и холод (ян и инь), четыре времени года.
Нерожденнный как будто единственный, неизменяющийся (движется) то туда, то обратно...
Пустота – бессмертна, назову ее глубочайшим началом. Вход в глубочайшее начало назову корнем неба и земли...
Поэтому-то порождающий вещи не рождается, изменяющий вещи не изменяется"" [6].
Нерожденный пребывает в Покое, рожденный – в постоянном изменении, в колебании, в движении (туда-обратно – шунь-ни).
"Соберется (эфир – ци), образуется жизнь, рассеется – образуется смерть... (Для всей) тьмы вещей это обще.
Поэтому и говорится: "Единый эфир пронизывает всю вселенную", поэтому мудрый ценит Единое"
("Чжуан-цзы", гл. 22).
И насколько все перекликается и переплетается в китайских учениях, так что одно невозможно понять без другого, как ци без ли, а дао без дэ [7]. Все резонирует, порождает отклик. Насколько устойчив этот взгляд на мир, свидетельствует искусство японцев, умеющих, как никто, пенить эфемерность, любоваться переходом форм и находить красоту в "непостоянстве" (мудзё), потому и называют разные виды искусства одним словом – "Путь" (до-мити). Японский художник может рисовать на воде, или на песке, или на худой конец – на асфальте и тут же стирать нарисованное. Красота – в мимолетности, в неповторимости, – неповторимо каждое движение души, каждый взгляд глаз, пульсирующих в ритме созерцаемого: это то и не то, остается тем же и меняется каждое мгновение. Потому и мгновение ценимо [8].
Эту особенность подметил Танидзаки Дзюньитиро в эссе "Похвала тени":
"В одной нашей старинной песне говорится: "Набери ветвей, заплети, завей – вырастет шатер. Расплети – опять будет пустовать лишь степной простор". Слова эти хорошо характеризуют наше мышление: мы считаем, что красота заключена не в самих вещах, а в комбинации вещей, плетущей узор светотени" [9].
Может быть, оттого так и ценимо Единое, чтобы не прервалась нить – дао? Иероглифы "пронизывать", "проходить через" (тун, яп. тосу) и "ходить туда-обратно" (каеу) означают: двигаться туда-обратно, вместе с Переменами, чтобы хранить Постоянство. Эта парадигма берет начало в "Ицзине" и получает развитие в сунской школе. По наблюдению А. С. Мартынова: "В стройной системе Чжоу Дунь-и – и тун (и – единица – или Единое. – Т.Г.) – пронизывание имеет значение начального движения, за которым следует ответное движение противоположного начала фу (возвращение)" [10]. Форма волнообразного движения характерна для культуры Китая: интонационный строй языка, тональности, как бы колышущиеся движения в сценическом искусстве, в музыке, в боевых искусствах, в психофизических упражнениях, скажем тайцзи-цюань, – в ритме жизни. Недаром говорят: "Дао – это жизнь".
Мудрый ценит Единое и потому пребывает в нем. Он свой во Вселенной, ее реализованная потенция, и потому управляет ветрами и молниями. Таково Великое дэ. "Великое да и есть (Великое) дао", полное преодоление "двойственности", даже ритма движения туда-обратно, который позволяет сохранять равновесие, но еще не есть Покой. Великое дэ – врата в "постоянное", или истинное, дао.
Недаром японцы, комментируя §21 "Даодэцзина", говоря о человеке с Великим дэ, пишут иероглифы не шунь-ни ("туда-обратно"), а суй-шунь (яп. дзуй-дзюн), что означает полное слияние с дао, пребывание в Покое: при внешнем движении внутренняя невозмутимость. Великое дэ есть высшее состояние просветленности. Уже не скажешь: "Одно инь, одно ян и есть дао", хотя их чередование и ведет к Добру. Великое дэ есть само Добро, сама Истина, а не Путь к ней (подобно буддийской Нирване: Всемудрость – Праджня и Всесострадание – Каруна, или словам Христа: "Я семь путь и истина и жизнь" (Ин., 14,6)).
Значит, и само дао двойное, неявленное и явленное, постоянное и временное (образ "как бы двойного бытия"). Есть дао-функция (явленное, изменчивое) и дао-сущность – постоянное, неявленное. Сунские философы подчеркивали мысль, что в каждой вещи есть две природы: единая и единичная. Единая (тянь-ди чжисин) – природа Неба и Земли, неявленная в форме, форма без формы; и единичная, явленная в ци (цичжи чжисин). В первой природе все вещи едины, во второй – различны. Закон един, формы его выражения разные. Так и дао. Постоянное дао пребывает в Покое – неявленное, невидимое, но всеобъемлющее; явленное дао – проявляется в форме, в слове, в действии. По и явленное дао устремлено к Покою.
В буддизме махаяны говорится о "двух Истинах" [11], у японских буддистов встречаются рассуждения о "двух телах" Будды, например у проповедника Синрана (1173-1262) (хотя обычно речь идет о "трех юлах" будды [12]). Синран учил: одно тело – бессмертное, непроявленное, пустое; другое – явленное в форме, смертное. Первое не имеет ни цвета, ни формы, поэтому недоступно для понимания, невыразимо словами. Bтopoe – проявляется в добрых делах, рассеивающих тьму. Истинное просветление достигается в Пустоте "первого тела", когда ничто не тревожит, нет ненужных мыслей, эмоций, сознание совершенно чисто, ничем не омрачено, тогда и приходит ощущение полной свободы (как рыба в воде, на к птица в небе). Но между двумя телами нет непроходимых границ. Сансара и Нирвана одно и то же, говорят последователи Срединного пути (мадхьямика). Японский проповедник Догэн (1200–1253) говорил:
"Истинное просветление и
обычная жизнь – одно и то же,
если оно не в тебе, то где же?
Осознав это, переживешь Просветление".
И это характерно для дзэн. Можно вспомнить учение о внезапном просветлении шестого патриарха чань в Китае, Хуэйнэна (638–713):
Великий наставник сказал: "Ваша собственная природа никогда не ошибается, не подвержена волнению, не омрачена неведением, каждая ваша мысль светится озаренностью праджни и всегда свободна от (внешних) признаков вещей. Так зачем же нужно на что-то опираться?" [13].
Надо думать, чередование, движение туда-обратно – необходимая, но промежуточная фаза движения к Покою (что разными народами понималось по-разному – как пребывание в Истине, в Боге, в Дао). В учении "О Срединности" сказано:
"От дао нельзя отступить. Если можно, то это – не дао. Поэтому цзюньцзы не смотрит на то, что не соответствует дао, не слушает того, что не соответствует дао... Когда не дают выхода восторгу и гневу, печали и радости, это называется Срединностью (чжун). Когда эти чувства в равновесии, это называется Гармонией (жэ). В Срединности – Великий корень Поднебесной. В Гармонии – Путь Поднебесной"
("Чжун-юн", I, 2, 4).
Срединность – Великий корень Поднебесной – пребывание в Покое. Из Покоя все само собой, самоестественно зарождается. Эмоции, если они не уравновешены, не центрированы, рождают хаос, беспорядок. Ци возмущается, теряет изначальную гармонию, и начинаются беды. Поэтому совершенномудрый пребывает в Покое, в бесстрастии. С этого Лао-цзы начинает:
"Дао, которое может быть
дао, не есть постоянное дао.
Имя, которое может быть именем, не есть постоянное имя.
Не имеющее имени – начало Неба и Земли.
Имеющее имя – мать всех вещей.
Тот, кто не позволяет страстям овладевать собой,
видит его таинственную силу.
Тот, кто живет страстями, видит только поверхностное
(одну его сторону, яп. акарасама [14] – "очевидное", "что на
поверхности" – Т.Г.).
Оба они одного происхождения, только именуются по-разному.
То и другое назову глубочайшим (сюань, яп. гэн).
От одного глубочайшего к другому – врата во все сокровенное"
("Даодэцзин", §1).
Японский комментарий дает разное варианты прочтения иероглифа сюань: гэммё – таинственное, чудесное; фукасиги – непостижимое, удивительное; югэн – красота скрытого, сокровенного, тайного. Однако и явленное и неявленное дао содержат это таинственное, чудесное, которое недоступно пониманию и человеческим словам и которое иначе не назовешь, как югэн [15].
На этом понятии стоит остановиться особо, ибо югэн – одно из организующих начал японского искусства, особый тип эстетики, обусловивший характер художественной манеры, скажем, японской антологии XIII в. "Синкокинсю", театра Но. Последний не утратил своего значения, как и предвидел Сэами: "Есть предел человеческой жизни, но нет предела Но". Дух югэн вечен, через югэн происходит соприкосновение с невидимыми образами, что вызывает отклик в душе зрителей, и не только японцев. Пожалуй, ни один образованный иностранец но упустит случая посетить старинный театр, чтобы погрузиться в необычную атмосферу замедленных ритмов, дающих свободу движению и звуку.
Цель искусства Но – сделать невидимое видимым, дать пережить "образ без образа". Для этого актер овладевает разными стилями игры, видами мономанэ (букв. – подражание вещи), стремясь не к внешнему сходству, а к полному перевоплощению: в воина, демона, безумную женщину, кипарис. Главное – передать извечное в преходящем, скажем, мужество само по себе, или любовь, или скорбь в их полноте. Актер перевоплощается, его игра становится самоестественной, и все подчиняется естественному ритму. Все само по себе – и жест, и маска, и голос, и застывшие позы-ката, и все созвучно: "одно во всем, и все в одном". Единый ритм обусловливает прерывную непрерывность. В момент паузы открываются "глаза души". Движение лишь предваряет Покой, как слово – молчание. Во время паузы сообщаются души (в дзэн это называется движением мысли "от сердца к сердцу"). Утихающее, угасающее действие (одно из определений нирваны – угасание, успокоение вибраций дхарм – абсолютный Покой).
Искусство Но – условно, и нужно иметь представление о символике движений, жестов, чтобы понять смысл пьесы. "Движение веером – это целая система символической передачи самых разнообразных действий, это особый язык жестов, немой разговор, дополняющий сценическое действие. Веер символизирует меч, пишущую кисть, волшебный жезл или сосуд с вином, но он может также изображать дождь, падающие листья, проносящийся ураган, текущую реку, восходящее солнце; он может передавать умиротворение и гнев, торжество и ярость" [16].
Любой предмет в руках актера символичен, служит общему замыслу и вместе с тем независим. Спектакль Но – это макрокосм, каждый из элементов – микрокосм, то же целое в уменьшенном размере. Таков закон Единого. Каждое движение живет и существует как бы само по себе, но едино с другими, – на сцене и за ее пределами. В этом жизненность Но: отдельное есть Целое, единичное – есть Единое. В каждой позе – Прабытие. Центр – везде, в каждой точке, и они согласуются, вовлекая каждого в запредельную атмосферу зала [17].
На одном уровне все точечно – отдельный жест, отдельный звук, все дискретно, независимо, не соединяется с другим жесткой связью. На другом – все континуально, точки свободно сообщаются между собой, образуя единое поло. Между ними нет преград, все беспрепятственно перетекает из одной формы в другую (яп. дзидзимугэ). И потому каждое движение важно само по себе, каждое – приближает к цели. Актер Но, если он мастер своего дела, шаг за шагом ведет зрителя к тому состоянию, которое позволяет пережить "красоту Небытия", увидеть невидимое, услышать неслышимое.
Структура сознания, ощущение точечности мира (сингулярности) не могли не сказаться на структуре языка. По свидетельству А. А. Холодовича, "японское имя – это слово, в котором отражено единство целого и части, т.е. то понимание, где единица и множество если и имеют место, то присутствуют на заднем плане, в тени, "вне светлого поля сознания". И это – господствующее отношение в японском языке" [18].
Истинное искусство – всегда вхождение в неведомое – в себе и вовне. Просыпается нечто дремлющее в человеке, но неведомое ему, что обычно так и остается скрытым на протяжении жизни, но, бывает, открывается в момент сильного потрясения или высшего напряжения духа. Озаренное сознание разверзается, освобождается из оков времени, и все озаряется Светом. Человек видит новыми глазами, или впервые видит вещи в их истинном виде (яп. дзиссо – истину всех вещей, татхату). Оттого и сам становится другим – каков он есть в глубине своей.
Но для этого нужно "забыть себя", свои будничные заботы, пережить состояние "не-я", целиком, без остатка, уйти в то, что делаешь. Полная самоотдача, полная сосредоточенность на Деянии – будь это игра актера или рождение хайку. Лишь полный покой, ничего лишнего, постороннего, как в чайной церемонии: встреча душ в полном безмолвии, тишине, – лишь бульканье воды в котелке. Эти звуки уносят в иное пространство – в горное ущелье или на берег моря. И цветок откликнется, и дерево, если целиком на нем сосредоточиться, забыв о себе. Обратите внимание, как священнодействует мастер икэбана: отрешенное лицо, мысли где-то далеко – прямое общение с душой цветка. Он не навязывает себя, свою волю цветку, а вникает, прислушивается к нему и располагает цветы таким образом, чтобы один не мешал другому, а оттенял его красоту. Без свободы, простора нет Красоты. Все, что рядом, свободно общается: цветок, ваза, время года, свиток, интерьер чайной комнаты, настроение гостей. Соритмичны явления природы, человеческие чувства, предметы искусства. Кавабата Ясунари счел возможным, произнося Нобелевскую речь, уделить место чайной церемонии, или – Пути чая:
"Цветы для чайной церемонии выбирают по сезону, зимой – зимние, например гаультерию или камелию "вабисукэ", которая отличается от других видов камелий мелкими цветами. Выбирают один белый бутон. Белый цвет – самый чистый и насыщенный. На бутоне должна быть роса. Можно побрызгать цветок водой. В мае для чайной церемонии особенно хороши бутон белого пиона и ваза из селадона. На нем должна быть роса" [19].
Искусство потому и называется Путем (дао), что преображает человека, расширяет его сознание до ощущения Всеединства (то, что японцы называют словом дзидзимугэ, букв. – "между одним и другим нет преград", все беспрепятственно сообщается между собой). Лишь в Пустоте (буд. шунья), в свободном общении проявляется индивидуальная природа каждого. Каждый становится самим собой, ибо нет преград. Это напоминает образ "Аватамсака сутры", исповедуемой школой Кэгон [20], где мир сравнивается с огромной сетью из драгоценных камней и хрусталя. Словно паутина, блестит она на восходе солнца, и каждая драгоценность отражает, все остальные. Ничто не мешает им сиять отраженным светом. Это и есть высший закон Вселенной – дхарма-дхату [21]. Или, говоря словами третьего патриарха чань Сэн Цаня: "Нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего... одно во всем, и все в одном" [22]. И этот тип единства постигается лишь целостным мышлением.
Можно сказать, это – всеобщее свойство Ума [23]. Достоевский ощущал Единое и находил спасение в Красоте, врожденной миру: "Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут".
Но у одних это видение культивировалось как отвечающее мировоззренческому настрою (скажем, сёгуны покровительствовали театру Но, видя в нем средство умиротворения нравов. Но словам Сэами, искусство Но продлевает жизнь и способствует благоденствию). У других не только не культивировалось, но и даже каралось как противоречащее духу религии или нормам морали – нравственным устоям общества. (Так или иначе, у большинства мистиков Запада жизнь сложилась трагически).
"Все близки по природе, далеки по привычкам" ("Луньюй", XVII, 2). Буддизм и даосизм воплощали идею Единого: все равно по природе (бёдо), ибо изначальная природа всего и есть природа будды. Различие же, разделение (сябэцу) влечет за собой разрушение связей, дисгармонию, как переводят иногда слово "дукха" (страдание).
В Махаяне все различия иллюзорны, сконструированы непросветленным умом. Цель искусства – дать понять это, высвободить сознание, ибо лишь свободное сознание способно переживать Единое. И лишь неожиданное, мгновенное дает почувствовать вечное: каждый раз новый всплеск все того же океана Бытия.
Мгновение за мгновением, ступень за ступенью, "от одного глубочайшего к другому" наращивается опыт души. И не раз к этому понятию начального чжана "Даодэцзина" возвращается японский комментарий. Гэн (входящее в югэн) – темное, неясное, туманное. Уже в начертании иероглифа заключена идея постепенного перехода от одного витка к другому, в движении ума к высшему Знанию
(знак гэн — — напоминает иероглиф
касанэру [24],
— напоминает иероглиф
касанэру [24], 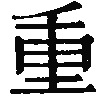
как бы являясь его сокращенным вариантом, и оба напоминают спираль). Если говорить о цвете, то "черный". Но не абсолютно черный, а с примесью – скажем, черный, окаймленный красноватым оттенком. Или – "сумрачный", "неясный"; это означает, что дао рождает все вещи каким-то непостижимым образом. Действительно, ведь когда накапливаются годы, накапливается и опыт, то бледность исчезает. Поэтому мастера и называют курото (тот же иероглиф гэн плюс человек, по созвучно "черному" – курой, – и получается "темный человек", а означает – мастер, знаток). Вот Лао-цзы и понимает дао как переход "от одного глубочайшего к другому" по мере накопления опыта и знания.
"Это особенная темнота, такая, что способна просочиться в сердце человека" (по словам японского эстетика Хисамацу Сэньити). Дзэнское искусство тушью, рисунки сумиэ позволяют почувствовать это "глубочайшее". Но это и есть изначальное Единое, которое несет в себе всевозможные перемены. Из Единого рождаются все вещи, одна за другой появляясь в этом мире [25].
(Вспомним "Хуайнань-цзы" (гл. 2): "В древности люди обитали в центре струящейся тьмы. Их дух и эфир не изливались вовне. Тьма вещей спокойно и безмолвно пребывала в безмятежном покое").
И хотя в японском комментарии говорится, что особое место в искусстве Китая, например в искусстве лака, занимает черный цвет, это относится и к самим японцам. Напомню эссе Танидзаки Дзюньитиро "Похвала тени":
"Приходилось ли вам видеть такой "озаренный светом мрак"? Он представлял собой материю совсем иного свойства, чем ночной мрак на улице. Мне он показался наполненным мельчайшими крупинками похожего на золу вещества, каждая крупинка которого блестела всеми цветами радуги".
Такое видение, думается, связано с той же традицией поиска Истины и Красоты в "глубочайшем" и единичном, будь то красота югэн – таинственная, сокровенная, или саби – красота уединенности, покоя, просветленной печали, в стиле хайку Басё:
"Темнота, входящая основным элементом в Но и рождающая своеобразную красоту, в наше время создает какой-то особый мир "тени", который можно увидеть лишь на сцене, но в старое время этот мир не был разобщен с реальной жизнью. Темнота, царящая теперь в Но, прежде царила в каждом жилище японца... Подчиняясь естественному требованию, сцена для Но поэтому остается, как и в старину, слабо освещенной. Помещение для Но также подчиняется этому требованию: чем оно старее, тем лучше. Самым идеальным местом для Но будет такое, где полы приобрели натуральный блеск, столбы и доски потолка отливают черным глянцем и где тьма, начинаясь у потолочных балок и разливаясь во все стороны к карнизам, нависает над головами артистов, словно огромный колокол".
И совсем из другой области:
"Говорят, что японские блюда предназначены не для того, чтобы их вкушать, а для того, чтобы ими любоваться. Я бы сказал даже – не столько любоваться, сколько предаваться мечтаниям. Действие, ими оказываемое. подобно беззвучной симфонии, исполняемой ансамблем из пламени свечей и лакированной посуды. Когда-то мой учитель, писатель Сосэки... посвятил восторженные строки цвету японского мармелада ёкан. Не находите ли вы, что цвет его тоже располагает к мечтательности? Эта матовая, полупрозрачная, словно нефрит, масса, как будто вобравшая внутрь себя солнечные лучи и задержавшая их слабый грезящий свет, эта глубина и сложность сочетания красок, – ничего подобного вы не увидите в европейских пирожных... А когда еще ёкан положен в лакированную вазу, когда сочетание его красок погружено в глубину "темноты", в которой эта краски уже с трудом различимы, то-навеваемая им мечтательность еще более усугубляется. Но вот вы кладете в рот холодноватый, скользкий ломтик ёкана, и вам кажется, как будто вся темнота комнаты собралась в одном этом сладком кусочке... Разве не говорит все это об одном: что наши национальные блюда неразрывно связаны с темнотой и основным тоном своим имеют "тень"" [26].
Кстати, в комментарии к §1 "Даодэцзина" речь идет о том же свойстве: яркому, цветущему предпочитается темное, скрытое; острым вещам – тупые; бурным переменам – спокойствие; шумным проявлениям – уединенность (тот же иероглиф саби), цивилизации – простота (собоку – наивность, безыскусность), продвижению вперед – возвращение назад [27].
Правда, эта безыскусность недешево обходилась японским мастерам в прямом и переносном смысле. Знаменитый Рикю (1522–1591), мастер чайной церемонии, был приглашен на службу военачальниками, правителями Японии – сначала Ода Нобунага, потом Тоётоми Хидэёси. Веря, что вышедший из простонародья вождь сможет оценить движение души, Рикю срезал все цветы своего сада, оставив один-единственный в вазе сунских времен ("один цветок лучше, чем сто, передает цветочность цветка"). И Хидэёси оцепил его жертву. Однако природа брала свое: воитель предпочитал блеск золота мудрой простоте. Это не могло не огорчать сопровождавшего его в походах Рикю. В конце концов их пути разошлись, и молчаливое неповиновение дорого обошлось мастеру. Хидаёси повелел Рикю уйти из жизни, совершив почетное харакири.
"Повеление есть повеление – достаточно намека. Семидесятилетний мастер сделал харакири по всем правилам ритуала, не спеша, с достоинством, оставив потомкам прощальную танку:
Семь по
десять –
Человеческая жизнь,
Рикиикитоцу! [28]
Священным мечом
Убиваю будд и патриархов!
Улыбнувшись, Рикю отошел в страну тьмы" [29].
Этим заканчивает Окакура свою "Книгу о чае", и оживают слова чаньского мастера IX в. Линьцзи:
"О ревнители Истины! Если хотите узнать, что такое дзэн, не позволяйте другим овладевать вами. Если натолкнетесь на препятствие, внешнее, внутреннее, разбейте его без сожаления. Встретишь будду, убей будду! Встретишь патриарха, убей патриарха!.. Не позволяйте чему-либо завладеть собой, но поднимайтесь выше, проходите мимо и будьте свободны!" [30]
(этот призыв к измененному, очищенному сознанию, неподготовленному уму – во вред). Линьцзи же принадлежат слова: "Закон будды и есть югэн" – или скрытая в вещах красота.
И все же если бы склонность к уединению, покою не стала свойством души, то вряд ли Окакура Какудзо четыре века спустя увещевал иностранцев: "Дайте нам спокойно потягивать наш чай и любоваться бамбуковой рощей в бликах полуденного солнца, прислушиваясь к журчанию родника и шороху сосен, которые чудятся нам в бульканье котелка. Позвольте нам испытывать наслаждение от мимолетности и чарующей бесполезности вещей".
А идет это издалека, наверное, более далекого, чем время "Даодэцзина", ибо цзин – та "нить", на которую нанизаны мысли – как в "Ицзине", "Шуцзине", "Шицзине". Тот же иероглиф цзин (яп. кё) означает "сутра". Скажем, "Хокэкё" – "Сутра Лотоса" (сокращенно). Один из элементов иероглифа цзин – "нить", а иероглиф в целом означает "правило", "закон", "проходить сквозь" (как и иероглиф тосу – "пронизывать", образуя Единое), а также имеет смысл "продольный": нечто "продольное", соединяющее "поперечное". Надо думать, одно поперечное вслед за другим нанизывается на непрерывную продольную нить, которая соединяет их вместе, прокручиваясь, прогибается. Так же "прогибаются", или пульсируют слова текста: "зыбкое-неясное", "неясное-зыбкое". Слова повторяются то в прямом, то в обратном порядке, как волны, накатываются, приходят – уходят (Будда-Нёрай – тот, кто приходит и уходит ТАК).
Уходят и приходят, как будто хотят раскачать сознание повторным ритмом, туда-сюда (или убаюкать, успокоить, как успокаивают ребенка), чтобы оно забыло, что знало, забыло частное, вспомнило вечное. И сознание начинает "раскачиваться" в ритме текста, восстанавливать себя, припоминая забытое ("созвучное ци рождает жизнь"). Если мысли приходят в созвучие с текстом, то начинают двигаться вслед за словами, успокаивая пульс, вибрацию ци. Успокаиваясь, сознание проясняется, и становится видимым то, что раньше видимым не было (лишь в спокойной воде просматривается дно).
Может быть, дело и не в сознании, а в каком-то внутреннем состоянии души, которому пока нет названия. А может быть, именно потому, что нет ему названия, "имени", оно и волнует пас? Дух движется от одного неизвестного к другому неизвестному.
Но вернемся к §21, ибо далеко не во всем мы там разобрались, а без этого идти дальше не имеет смысла. Высказанное там прямо определяется: "зыбкое-неясное", "неясное-зыбкое", но в нем все уже есть – и "вещи", и "образы", и "Истина", и "Искренность". Все прямо так и называется, только непосвященному здесь делать нечего. Все же подумаем. Начнем по порядку. Что же увидел Лао-цзы в этом "темном и неясном"? Образы (сяк). Не те ли, которые видели Великие предки, запечатлевшие их в гексаграммах "Ицзина", те образы, о которых и "Сицычжуани" (I, 14) говорится:
"На небе рождаются образы. На земле образуются формы. Так происходят Перемены...; совершенномудрые поднимали голову вверх, чтобы наблюдать небесные знаки (тянь вэнь), опускали вниз, чтобы исследовать законы земли. И так узнавали причины тайного и светлого. Найдя начало, возвращались к концу. Так узнавали о жизни и смерти. Жизненная энергия (цзин ци) созидает вещи, странствующая душа (хунь, яп. тама) творит Перемены. Так распознавали чистые души и нечистые".
В японском комментарии о цзин ци сказано, что это та витальная энергия (vitality – так в тексте), которая создает все вещи. Речь идет о двух душах человека, которые после смерти отправляются в разные стороны: высокая, легкая (хунь, яп. тама) душа (шэнь, яп. коми) поднимается к небу; тяжелая душа (по) уходит в землю.
О значении и о месте Образа в этой системе мышления говорится уже в упомянутом комментарии к "Ицзину":
"Учитель сказал: "Письмо не до конца выражает речь, как речь не до конца выражает мысль. Но если это так, то не были ли неизреченными до конца мысли совершенномудрых?" Учитель сказал: "Совершенномудрые люди создали образы, чтобы в них до конца выразить мысли. Они установили символы, чтобы в них до конца выразить воздействия мира на человека и человека на мир. Они приложили афоризмы, чтобы в них до конца выразить свои речи" [31].
Мысль, сконцентрированная в §1 "Даодэцзина": явленный Путь, явленный в любой форме – в слове, знаке, в красках, в жесте, – не есть истинный Путь, обусловила парадигму восточной культуры. Естественно, и для Чжуан-цзы Путь неслышим (если слышим, то не Путь) и невидим (если видим, то не Путь):
"Люди в мире считают форму и цвет, название и голос достаточными, чтобы постичь природу другого; а воистину формы и цвета, названия и голоса недостаточно, чтобы постичь природу другого. Разве в мире понимают, (что) "знающий не говорит, говорящий не знает""
("Чжуан-цзы", гл. 13).
И понятно желание Чжуан-цзы встретить человека, с которым можно поговорить без слов.
Здесь в Начале было Молчание, Образ, Звук (Аум – в Индии), но не Слово, не Смысл (Логос) [32]. Это культура молчания: "Слова будды бессловесны". Громовым молчанием ответил Вималакирти (просветленный мирянин) на вопрос о природе недуальной реальности. И в традиции адвайты: "Язык атмана – молчание" (Шанкара) [33]. Дзэнские мастера следуют наитию, как бы и вовсе не творят, а дают природе самоосуществиться, форме самовыразиться. Истину можно передать лишь спонтанно – вне намерения, вне учения, "не опираясь на слова и знаки" (фурю мондзи), ибо Истина невыразима в слове, передается "от сердца к сердцу". Кавабата Ясунари, читая в Гавайском университете лекции о японской литературе, о чувстве прекрасного, говорил об этой традиции бессловесного общения – на невербальном уровне (в чем я лично убедилась, беседуя или не беседуя с участниками симпозиума, посвященного Кавабата Ясунари, в ноябре 1988 г. [34]).
И зачем слова, если совершенномудрые считывали с Неба "небесные знаки" и запечатлели их в Книге Перемен? Эти вечные знаки, "узоры" (вэнь), легли в основу понятия "культура" (вэньхуа, яп. бунка), что буквально значит "меняться к лучшему под воздействием вэнь", т.е. тех книг (цзин), в которых воплотились "небесные письмена".
О вэнь со знанием дела рассказывает И. С. Лисевич, приводя слова Лю Се (465–522) из трактата "Дракон, изваянный в сердце письмен":
"Велика сила дэ словесности вэнь – вместе с Землею и Небом рождена она! Как это понимать? А так, что слились воедино фиолетово-черный цвет (Неба) и желтый цвет (Земли), прямоугольное и круглое разделилось; пара нефритовых дисков – Солнце и Луна – повисли в небе ради его украшения; сверкающая парча гор и рек легла на землю ради ее устроения – это-то и было узором дао – дао чжи вэнь... Человек... поистине сердце Земли и Неба. Когда же сердце рождается, появляется речь, а речь появилась – и вэнь становится ясно видна. В этом – Путь естества!" [35].
Недаром в 22-й гексаграмме "Ицзина" сказано: "Наблюдая небесное вэнъ, постигаешь смену времен, наблюдая человеческое вэнь, можно изменить Поднебесную" (здесь вэнь можно перевести как "поведение").
Разумеется, и в европейской традиции знают язык изначального Образа и глубину Молчания. Не говорит ли Шекспир устами Лира: "Развей прообразы вещей и семена людей неблагодарных"(?), и в отчаянии, прозревая: "Чтобы видеть ход вещей на свете, не надо глаз". Но для этого нужно было пережить то, что пережил Лир. Бывает и иначе. Это, действительно, всеобще. "Тщетно, художник, ты мнишь, что творений твоих ты создатель. Вечно носились они над землею, незримые оку" (А. К. Толстой).
И все же можно ли сомневаться, что западная культура – культура Слова, которое пришло от Бога? Не обращал ли свои мысли к Слову уже Эмпедокл (согласно комментарию Ипполита):
"Между миром, управляемым Любовью, и миром, устроенным Враждой, стоит справедливое слово, по которому разделенное Враждою соединяется и приспособляется к единому по Любви. Называя это справедливое слово, помогающее Любви, Музою, Эмпедокл и сам призывает ее себе на помощь" [36].
А что уж говорить о Сократе, который был одержим Словом и убеждал юные сердца: "Заговори, чтоб я тебя увидел, ибо только посредством слова открываются нам душа и бог этого микрокосма".
Но это особый разговор. А пока вернемся к недосказанному. Попробуем еще раз разобраться в том, что увидел Лао-цзы в неясном и зыбком. Комментарий к §21 возвращает к словам Лао-цзы о том, что приверженные желаниям видят только лежащее на поверхности, но не видят глубочайшее. Непросветленному уму доступны лишь мир форм, лишь поверхностное, очевидное (вот вам и дао, которое сравнивают с логосом).
Ну а теперь посмотрим, что думал по этому поводу сам Лаоцзы. Мудрец признавал, что оба дао, неявленное и явленное, одного происхождения, но между ними мало общего. Лишь неявленное, истинное дао таит в себе таинственно-прекрасное (мё), или истинные вещи (дзиссо – буд. истинно-сущее [37]) – глубокое, далекое, тайное, мельчайшее; а неистинное проявляется в явленных формах (в том, что лежит на поверхности). Значит, существует изначально Единое, не имеющее формы, не имеющее Имени, Изначальное и есть конечная реальность, не имеющая ни формы, ни имени. И можно убедиться в этом, созерцая глубоко скрытое, далекое, еле различимое – истинные вещи. Но чтобы увидеть невидимое, человек должен освободиться от желаний, порождаемых формой и именем (букв. формой, которая привязывает, и именем, которое порабощает) [38]. В основе вещей, имеющих форму, лежат вещи, не имеющие формы; в основе вещей, имеющих имя, лежат вещи, не имеющие имени. Словом, все, и человек, рождается из Этого и туда же возвращается. И лишь дао ведет к пробуждению (яп. мэдзамэ). И наоборот, в этом мире где человек привязан к форме, порабощает себя именами, которые постоянно порождают в нем желания, – в его глазах отражается лишь поверхностное, очевидное (кё) [39]. На поверхности же феноменов – лишь различия и противоречия. Глаза, затуманенные желаниями, прикованы к этому миру различий и противоречий, порождаемых именем и формой, и это делает человека слепым.
Ложный мир противостоит миру дао, конечной реальности, не имеющей имени и формы, но лежащей в основе всех вещей [40]. Интересен вывод. Если европейская мысль под влиянием Библии из Тьмы извлекает Свет, а из не имеющего формы – Форму, из Небытия – Бытие, то философия Лао-цзы из Света извлекает Тьму, из имеющего форму – бесформенное, из Бытия – Небытие и прозорливо видит в этом Изначальное. И дальше те слова, которые уже упоминались: "Светлому, процветающему предпочитает темное, скрытое; острым вещам – тупые; бурным переменам – спокойствие; шумным проявлениям – уединение; цивилизации – простоту; движению вперед – возвращение назад". Можно сказать, это целостное мировоззрение, действительно, являет обратную проекцию господствующего на Западе мировоззрения, его зеркальное отражение.
Комментарию при этом свойственно и то, что мы называем историческим подходом, – найти место учению Лао-цзы в контексте времени: это философия человека, оказавшегося в трясине китайской истории. Но жизненность философии Лао-цзы обусловлена стремлением показать, что все человеческие деяния, разрушения и падения – все возвращается в конце концов в Ничто. Эту философию, появившуюся в смутное время междоусобиц, можно назвать бесстрашной и даже дерзкой. Впервые в Китае появились дух и логика отрицания. Впервые прозвучала предостерегающая критика цивилизации и образа жизни человека.
Лао-цзы задавался вопросом, что же нужно человеку для счастья? Он усомнился в действительности тех ценностей, которые проповедовали конфуцианцы. Конфуцианское учение о человечности (жэнь), справедливости (и), благожелательности (ли), музыке Лао-цзы отвергал как искусственный путь, основанный на просвещении и городской жизни, отдавая предпочтение простоте и естественности деревенской. Ведь все человеческие дела рано или поздно разрушаются, исчезают, продолжает японский комментатор, не разрушается одна лишь Природа. Поэтому он и призывал человека к естественной жизни среди природы, взяв ее за образец. Это дало бы человеку спокойствие, которого он лишился в беспокойное время.
Человек пробуждается, пережив озарение (сатори) и впервые начинает понимать смысл слов об истинном Пути, противостоящем искусственному, ограниченному миру. Лао-цзы отвергал нее другие пути – религии, философии, науки и искусства, если они предавали забвению природу, потому что "явленный путь" не есть "постоянный", или "истинный", путь. Однако он критиковал цивилизацию, по не отвергал культуру.
Говоря иначе, философия Лао-цзы – отрицание упорядоченности и утверждение иррационального Единого (букв. контон, что у нас систематически переводится как "хаос"). Можно сказать, это великий черный эйдос, который позволяет увидеть, как рождается еле заметная краснота. Тот Покой, который таит в себе движение, скрывает его, заключая в тьму, в зыбкое, спокойное [41]. Это и есть врата во все чудесное, откуда постоянно самонарождаются явления этого мира. По мере того как успокаиваются беспокойные краски мира, успокаивается, растворяется в Великой пустотности и то, что сопутствует цивилизации, – тщеславие, чиновничья суета, похоть, распущенность, и сам по себе становится виден цвет без цвета, слышен голос без голоса.
Но это Единое не есть успокоение в смерти, продолжается легкое, еле заметное дыхание. Может быть, как у Лермонтова:
Но не тем
холодным сном могилы
Я б желал навеки так уснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь.
Так говорит сама Великая Природа. И когда начинаешь видеть ее Исток, избавляешься от заблуждений (кёмо). Человек перестает замечать очевидное, поверхностное (кё), "возвращает зрачок на место" и начинает видеть "глубочайшее" (гэн).
Философия "глубочайшего" Лао-цзы есть философия человека, который стоит одиноко в ночной долине [42].
А теперь вспоминается Басе:
На голой ветке
Одинокий ворон!
Осенний вечер...
Нам покажется удивительным столь явное несовпадение идеалов Востока и Запада, но это потому, что все еще ищем Целое не там. Расширенное сознание, в неизбежность которого я верю, воспримет эту "обратность" как естественную и благую – животворящую. Всякое Целое открыто другому Целому, а что целостно, то и истинно, а что истинно, то и едино с другим. А единое и есть всеблагое.
Убоявшись себя, собственной "бездны", человек отгородился от Бытия понятиями, открестился от "мистики" (чур меня!) и вздохнул облегченно, а легче не стало. И этому комплексу, страху перед ноуменальным миром, есть объяснение, и в нем предстоит разобраться, раз уж настало время "нового мышления" (если, конечно, у психологов дойдут руки до человека). А ведь проблема старая:
"Цюй Боюй проповедовал шесть десятков лет, а в шестьдесят лет изменился. То, что в начале утверждал, под конец изгонял и отрицал. (Он) еще не понял, не отрицал ли пятьдесят девять лет то, что называет ныне истинным!
(Вся) тьма вещей живет, а корней не видно; появляется, а ворот не видно. Все люди почитают то, что познано знанием; а не ведают, что познание начинается лишь после того, как, опираясь на знания, познают непознанное. Разве не назовут (это) великим сомнением? Оставь, оставь! Ведь от этого никуда не скроешься! Это и есть так называемая истина? Да!"
("Чжуан-цзы", гл. 25).
И в Евангелии от Иоанна сказано: "Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны" (Ин., 3, 19–21).
Но не будем искушать судьбу и тормошить время или сознание, а будем потихоньку двигаться дальше, от одного неизвестного к другому.
Итак, "дао Лао-цзы – это не свет, который лежит в основании тьмы. Он уловил тьму в основании света, а в основании мира слов – мир бессловесный" [43]. Изначальна Тьма, но в ней просвечивает Свет (волей-неволей хочется сказать наоборот, но правильно ли хочется?).
Собственно, можно обратиться к уже сделанному теми исследователями, которые посвятили годы изучению памятника древности (кстати, есть у наших востоковедов привычка искать далеко и не очень далеко, но не видеть то, что рядом). Обратимся еще раз к "Поздним даосам":
"Тьма связывается в тексте "Хуайнаньцзы" с представлением о глубочайшем смысле, запрятанном так далеко и являющемся такой тонкостью, что овладение им не под силу чувственному знанию. Поэтому искать знания этого смысла с помощью глаз и ушей означает "отказаться от яркого света и дать дорогу темному мраку. Это означает утратить дао" (Ле-цзы). Здесь-то мы и встречаемся со сложным значением термина "тьма". В самом деле, из приведенного фрагмента явствует, что следование тьме есть незнание, а свет значит знание. По все дело в том, что и глубочайшая тьма обладает светом, доставляющим знание. Есть свет и свет. Различие между ними раскрывается в диалоге Тени и Полутени, где Тень говорит: "На Фусане (священное дерево, на котором, согласно мифологическим представлениям, отдыхает солнце, свершив свой очередной круг по небу. – Л. П.) происходит смена дня и ночи. Солнце освещает космос. Лучи света заливают пространство меж четырех морей. По закрой двери, прикрой окна – и этот свет не сможет проникнуть. Божественный же свет льется сразу с четырех сторон, пет места, которого бы он не достигал. Вверху граничит с небом, внизу доходит до земли. Преобразует и пестует тьму вещей, но не имеет образа... Разве сравнится с его светом (солнечный) свет!". Но "божественный свет" – это божественный разум" дао. Солнечный свет способен "проливать свет" на материальный мир, смысл которого может быть истолкован в речах, но есть нечто неподвластное ему, неподвластное речам. Оно доступно только мудрецам, постигшим божественный свет, или разум дао. Поэтому мудрец "внутри темного мрака один видит свет", он "выходит из света и вступает во тьму, чтобы проникнуть в дао"...
Но в мире есть множество вещей, скрытых от света и потому недоступных зрению. Прежде всего тот смысл, который не дается простым наблюдением и не лежит на поверхности вещей и явлений, а предполагает глубокое вхождение в их внутреннюю суть, познание тончайших нитей, связывающих все разнообразие и множество вещей и явлений в один тугой узел. Этот смысл, это идеальное есть "тьма", однако такая, которая обладает своим светом, не физическим, а тоже "идеальным". Высшей же формой идеального являются небытие и дао, таящие в своей глубокой тьме и высший свет – "божественный свет (разум)". Тот, для кого открылся высший свет, оказывается и в краю физического света видящим более, чем это доступно простому зрению" [44].
Только и этот Свет не "идеален", а реален, он тоже существует, доступен Великому дэ, и его называют "светящимся дэ", или дэ, излучающим свет (мин дэ), благодаря которому, согласно. "Великому учению" ("Дасюэ"), Поднебесная пребывает в мире.
Итак, интуиция Лао-цзы и есть Истина, и потому к ней постоянно возвращаются и во времена "Хуайнань-цзы", и в наши дни (до сих пор выходят переводы "Даодэцзина" на европейских языках, и нас ожидает новый перевод И. С. Лисевича).
Действительно, существует один Свет и другой, одна Тьма и другая, как и в любом деле, – подлинное и мнимое, сотворенное, скажем человеческим неведением, и естественное. А еще существует непостижимое, невидимая Тьма, извечная, о которой говорил Лао-цзы, – "корень" вещей. И, может быть, стоит, как любят делать китайцы, называть одно "великим", а другое "малым". А нам и вовсе удобно: писать одно с маленькой, другое – с заглавной буквы, как это и делается с начала века: "Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали через него. Он но был свет, но был послан, чтобы. свидетельствовать о Свете" (Ин., 1, 7-8).
У Лао-цзы малый свет позволяет увидеть малое, то, что называется "очевидным", лежащим на поверхности, и есть великий Свет, проницающий тьму, который доступен лишь Великому дэ.
Изначальная Тьма внушает у Лао-цзы не ужас, а надежду. В ней брезжит Свет, она окаймлена сиянием. Великое Инь не одиноко, в нем есть Великое Ян, и оба пребывают в Покое, в Великом Пределе (Тайцзи) – в нем "обе формы коренятся", – в Великом Сосредоточении, Срединности (чжун). "Срединность – Великий корень Поднебесной". Изначальна Тьма, в ее созерцании – путь к освобождению, к очищению сознания от "загрязнений" (так и пишется – "загрязненное", а не "затемненное" сознание, как мы по привычке переводим). Из этой Тьмы, из Небытия и рождается истинный Свет.
Это, конечно, отлично от культурной традиции, унаследованной Западом, придавшей всему свою окраску. Когда Л. П. Толстой называет одну из своих последних пьес "И свет во тьме светит", он имеет в виду под "тьмой" зло мира, невежество – "власть тьмы". Однако эта тьма не может затмить Свет духовный, потому писатель и берет слова из Евангелия от Иоанна: "И свет во тьме светит, и тьма не объяла его" (Ин., 1, 5). Но все же – "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков" (Ин. 1, 1-4). Бог есть Свет, и нет в нем никакой тьмы. "Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал" (Ин., 1, 9-10). Христос явил Себя миру как Свет: "Я – свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме" (Ин., 12, 46). Люди же убоялись Света, не вняли Его словам.
Можно и в христианской традиции найти близкое даосско-буддийскому понимание светлой печали, светлой Тьмы: "Божественный мрак – это тот недосягаемый свет, в котором, как сказано в Писании, обитает Бог. Свет этот незрим по причине чрезмерной ясности и недосягаем по причине преизбытка сверхсущностного светолития" ("Ареопагитики") [45]. И еще раз обратимся к Августину: "Я не сомневаюсь, что темнота писания предусмотрена божественной мудростью, пожелавшей трудом смирить человеческую гордость и спасти человеческий ум от пренебрежения к тому, что он "легко постигает"" ("О христианском учении", II, 6, 7). Можно вспомнить и мистиков. И все же вела за собой, если можно так выразиться (здесь "слова останавливаются"), идея Света: "Да будет свет; покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Покайтесь, да будет свет" Быт. I, 31). Традиция, воплощенная словами Пушкина:
Да
здравствует солнце,
Да скроется тьма!
Речь шла о "мудрости сотворенной, то есть разумной природе, ставшей светом от созерцания света" ("Исповедь Блаженного Августина"), или о Мировой душе – как "свете от света" (Энн., 4, 3, 17).
Есть на Западе и традиция, идущая от Платона:
"Занебесную область не воспел никто из здешних поэтов, да никогда и не воспоет по достоинству. Она же такова (ведь надо наконец осмелиться сказать истину, особенно когда говоришь об истине): эту область занимает бесцветная, бесформенная, неосязаемая сущность, подлинно существующая, зримая лишь кормчему души – разуму; ее-то и постигает истинное знание" (Федр, 247 С).
Неудивительно ли: прозревают одно и то же столь различные умы, которые идут к Истине разными путями: одни – через Слово, другие – через Молчание (по крайней мере через сжатое до предела слово). Действительно, как говорил Конфуций, "высший ум един", не подвержен переменам (кстати, проникновение в суть умственной жизни этих веков – VI–IV до н.э. – приоткрыло бы многие тайны). А говоря на языке христианской традиции: "Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух... Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа" (Ин., 3, 6, 8). Есть нечто, чему не препятствуют пространство и время, – не препятствуют гению, не препятствуют святому, мудрецу: в разной форме они прозревают одну Истину.
В чем-то близко восточным мудрецам, в чем-то далеко рассуждение Сократа: "Душа, видевшая всего больше, попадет в зародыш будущего философа и любителя красоты, преданного Музам и Эроту" (Федр, 248 Д) [46]. Сократ объясняет Федру, почему души устремляются к Истине (что уж никак не стал бы делать Лао-цзы); душа, если "увидит хоть частицу истины, остается невредимой вплоть до следующего кругооборота" (248 С). Но у Истины нет "частиц", истинно-сущее неделимо. И потому неприемлема для восточных созерцателей логика греческой философии, то, что Сократ назвал "диалектикой", как ее в те времена понимали: "Я, Федр, и сам большой любитель такого подразделения на части и сведения в одно целое; благодаря ему" я могу говорить и мыслить" (Федр, 266 В).
А вот, для сравнения, как ведут диалог даосы:
"Сын Ласточки встретился с Никого не Стесняющим, и тот его спросил:
– Что посоветовал тебе Высочайший?
– Высочайший сказал, что мне следует, склонясь, подчиниться милосердию и справедливости и (тогда я) стану верно" судить об истинном и ложном, – ответил Сын Ласточки.
– И зачем только ты пришел (ко мне)? – задал ему вопрос Никого не Стесняющий. – Если Высочайший наложил на тебя клеймо своего милосердия и справедливости, отрезал тебе нос (своим суждением) об истинном и ложном, разве сумеешь ты странствовать в области безграничного наслаждения, необузданной свободы и бесконечного развития?
– И несмотря на это, я хочу вступить за ее ограду, – ответил Сын Ласточки.
– Это невозможно! – воскликнул Никого не Стесняющий. – Незрячему незачем (толковать) о красоте глаз, бровей, лица; слепому не познать ни темное и желтое, ни красоты (орнамента) расшитых царских одежд"
("Чжуан-цзы", гл. 6).
Не нужно ни разделять, ни противопоставлять, ни сравнивать, ибо все относительно, как в известной притче Чжуан-цзы о бабочке (гл. 2):
"Однажды Чжуан Чжоу приснилось, будто он бабочка: он беззаботно порхал, ликовал от восторга и не знал, что он – Чжоу. А когда вдруг проснулся, то даже удивился, что он – Чжоу. И не знал уже: Чжоу ли снилось, будто он бабочка, или бабочке снится, будто она – Чжоу. Но ведь между Чжоу и бабочкой несомненно есть разница. Значит, то было превращение".
Или из гл. 2 "Чжуан-цзы":
"Полутень спросила у Тени:
– То пойдешь, то остановишься, то сядешь, то встанешь – отчего ты так непостоянна?
– Может, я от чего-то завишу? – ответила Тень. – А то, от чего я завишу, тоже от чего-нибудь зависит? Может, я завишу от чешуек на змеином брюхе или от крылышек цикады? Как узнать, что это так? И как узнать, что это не так?"
В такой полушутливой форме говорил Чжуан-цзы о вещах не менее серьезных и глубоких, чем Лао-цзы. Он только и серьезности не позволял завладеть собой.
"Свет спросил у Небытия:
– Вы, Учитель, существуете? Или вас нет?
И, не получив ответа, стал вглядываться в вид его и облик: что-то темное, пустое; хоть целый день гляди – не углядишь, слушай – не услышишь, дотрагивайся – не дотронешься.
– Да это просто совершенство! – воскликнул Свет. – Кто еще на такое способен? Я могу лишь присутствовать или отсутствовать – но не могу совсем не быть. Я дошел лишь до отсутствия – а как же стать таким, как вы?"
("Чжуан-цзы", гл. 22) [47].
И все же сколь ни скромен Свет, лишь ему суждено осветить Истину, скрытую в Небытии, все же человеческие суждения "за" и "против", убеждают даосы, – лишь сотрясение воздуха, нет им конца, потому совершенномудрый не прислушивается к мнениям и не вступает в споры, а сосредотачивается на невидимом, истинно-сущем. Обретая Великое дэ, начинает прозревать невидимое, слышать неслышимое. А почему? Потому что во Тьме есть Свет, о чем свидетельствует вслед за Лао-цзы "Хуайнань-цзы":
"В то время, когда небо и земля еще не обрели формы, все было парение и брожение, струилось и текло. Назову это – Великий Свет. Дао возникло в пустоте и туманности. Пустота и туманность породили пространство и время. Пространство и время породили эфир (ци). Эфир разделился: чистый и светлый взметнулся вверх и образовал небо, тяжелый и мутный сгустился и образовал землю. Чистое и тонкое легко соединяется, тяжелое и мутное трудно сгущается. Поэтому небо образовалось раньше, а земля установилась позже (у греков наоборот – Т.Г.). Соединившись в одно, частицы цзин неба и земли образовали инь и ян. Концентрированные частицы цзин образовали четыре времени года. Рассеянные частицы цзин четырех времен года образовали тьму вещей. Жаркий эфир скопившихся (масс) ян породил огонь, а из частиц цзин огненного эфира образовалось солнце. Холодный эфир скопившихся (масс) инь образовал воду, а из частиц цзин водяного эфира образовалась луна. Частицы цзин, истекавшие от солнца и луны, образовали звезды и созвездия"
("Хуайнань-цзы", гл. I).
Речь идет о тех самых цзин, о которых говорится в "Сицы-чжуани" и в §21 "Даодэцзина": "Темное, таинственное – в нем цзин. Эти цзин и есть Истина. В них – Искренность" (яп. сэй – энергия, дух, идея; семя, молоки).
Итак, что же это за цзин-семена, которые содержат в себе Истину и Искренность. (Запомним, у мудреца и слова нет лишнего, и если нам что-то кажется несообразным, противоречивым, то дело не в мудреце, а в нас). Цзин – это тончайшие ци, самые высшие, те, которые образуют светила – солнце, луну, звезды, а также такие явления природы, как ветер, дождь, молнию. В жизнедеятельности человека они играют главную роль, концентрируясь в пяти органах: сердце, легких, печени, желчном: пузыре и почках. Благодаря цзин, согласно Ле-цзы, глаза видят, уши слышат, речи разумны, мысли проницательны. И, значит, лежит на этих "семенах" великая нагрузка, а выполнять они ее могут до тех пор, пока не утратили своей чистоты. Цзин, и в этом оно схоже с Единым, Небытием и с самим дао, прозрачно-чистое, беспримесное, неделимо, целостно (цюань). И тот, кто умеет пребывать в Покое и сосредоточиваться на Одном, может проникнуть духом до Девятого Неба и достигнуть самого Совершенного цзин. Как сказано в гл. 6 "Хуайнань-цзы":
"И образ Совершенного цзин никто не призывает, он сам приходит; никто ему не приказывает, он сам уходит. Глубокая, глубокая тьма. Кто здесь творит – неизвестно, а все само успешно свершается".
Так как эти тончайшие цзин отвечают за главное, что есть в мире и человеке, то они и не могут ни с чем смешиваться, – беспримесны. "Прозрачная чистота" (цин цзин) – их свойство. Так и сказано в первой главе "Хуайнань-цзы" – "Об изначальном дао":
"Поэтому тот, кто постиг дао, возвращается к прозрачной чистоте, кто проник в вещи, уходит в недеяние. В покое пестует свою природу, в безмолвии определяет место разуму – и так входит в Небесные врата. То, что называю небесным, – это беспримесная чистота, безыскусственная простота, изначально прямое и белоснежно-белое, то, что никогда ни с чем не смешивалось. То же, что называется человеческим, – это заблуждение и пустые ухищрения ума, изворотливость и ложь, которыми пользуемся, чтобы следовать своему поколению, общаться с пошлым миром".
Из "Хуайнань-цзы" (гл. 2) узнаем, что приводит к разрушению цзин:
"Тот, у кого разум преступает границу (тела), говорит цветисто; у кого благо (дэ) выходит из берегов – поступает лживо. Совершенное цзин погибает внутри, а обнаруживается это в речах и поступках. И тут неизбежно тело становится рабом вещей.
Тот, чьи поступки лживы, заставляет свои частицы цзин устремляться вовне. Но частицам цзин есть конец, а поступки не имеют предела, и потому волнуется сердце, замутняется разум, корень приходит в смятение".
Куда уж яснее! Не оттого ли гибнет планета? Будто сошла с Пути – воздуха не хватает. Не потому ли, что люди утратили духовную энергию? Сами разрушили тонкий слой цзин, которые питают сердце и разум. Но если разрушить тонкие энергии, разрушаются и плотные, если в опале дух, в недуге тело. Знали бы, сколь тесно связаны между собой психическое и физическое, не разрушили бы среду обитания [48] (но все еще поправимо, если Ум начнет действовать).
В цзин – Истина и Искренность, значит, отступая от того и другого, уничтожаем "семена" жизни [49]. Если люди перестали быть искренними, из страха или из апатии, то гибнут те "семена", благодаря которым бьется их сердце, работает печень. Не отсюда ли, кстати, столько сердечных заболеваний в мире? Не есть ли это (как и СПИД) расплата за неискренность, за неправедность и бездуховность, порождающие недуги духа и тела? Случайно ли стали вспоминать Босха, изобразившего в "Корабле дураков" формы падшего сознания: "Сон разума рождает чудовищ" (надпись к офорту Ф. Гойи).
Настало время осмыслить связь духовного с физическим. Ведь эти цзин есть в каждом человеке, у каждого – пять органов, и, значит, каждому от рождения дана тончайшая, умная энергия, и нужно уметь пользоваться ею. Только не о печени нужно заботиться, а о разуме, тогда и печень будет в порядке и сердце не станет беспокоить. Может быть, действительно – "Все боги живут в человеческой груди" (Блейк), – все в самом человеке. Если он разумен, то и здоров, и здоровым будет его потомство, которому пока передается не лучшее ци. Может быть, раньше человек не мог понять этого, знания и опыта не хватало, теперь же знания и опыта не занимать, и, значит, нет оправдания, некого винить. Не захочет думать, утруждать себя и никакое лекарство не поможет от иммунной беззащитности. Природа отторгает то, что чуждо ей, ее Закону – Нусу.
Мы меньше бы блуждали, если бы лучше знали дороги древних. "Большая дорога совершенно ровна, но люди любят тропинки". Не только склонные к чудачествам последователи Лао-цзы радели об Истине, но и рациональные конфуцианцы. В этом можно убедиться, обратившись к "Великому учению" (1, 4):
"Те, кто хотел передать светлое дэ (мин дэ) древних Поднебесной, прежде учились управлять своей страной. Тот, кто хотел управлять своей страной, прежде устанавливал порядок в своей семье. Тот, кто хотел установить порядок в своей семье, прежде учился владеть самим собой. Тот, кто хотел владеть самим собой, прежде исправлял свое сердце. Тот, кто исправлял свое сердце, прежде делал искренними свои мысли. Тот, кто хотел сделать искренними свои мысли, прежде развивал свой ум. Развитие же ума зависит от постижения вещей".
И дальше в японском комментарии сказано: "Сердце – это хозяин тела. Искренность – это Истина. Мысль – то, что движет сердцем" [50]. Как видим, мудрецы наставляли в одном, обращаясь к изначальному Разуму.
Велика была забота древних о человеке: "Сыны человеческие, доколе отягощаете сердце свое, зачем любите суету и ищете ложь?" (Пс., 4, 3); "Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего" (Рим., 12, 2). Пути разные, но цель одна – спасение Человека.
"Подобный, глыбе, он (мудрец) хранит естественность; опирается на благо (дэ) и воплощает правоту. Поднебесная следует ему, как эхо – звуку, как тень – форме, ибо то, что он совершенствует, – это корень. Наказаний и штрафов недостаточно, чтобы изменить нравы; казни и убийства не могут пресечь зло. Только там, где чтят преобразование духа, совершенные частицы цзин становятся духом. Ведь окрик не слышен далее ста шагов, в то время как воля способна распространяться на тысячу ли"
("Хуайнань-цзы", гл. 9).
Столько веков прошло, а как современно звучат мысли древних! Не потому ли, что знание накапливалось, а сознание не менялось?
Но, может быть, и Знание было неполным, ибо Сознание не расширялось, воспринимало лишь "очевидное", то, что лежит на поверхности, и оттого не открылась Истина. Если бы знание было полным, то и сознание не было "усеченным" и наоборот. Раз сознание усечено (мозг задействован на какие-то 10%), то не может не быть усеченным и Знание. Одно другое обусловливает. Усеченный ум живет одним днем. Если же ум живет одним днем, он вообще не живет, и один день не может прожить как нужно.
Иначе говоря, настало время иного мышления. Раз существует прямая связь между уровнем сознания и жизнью на земле, значит, невозможно об этом не думать и не интересоваться тем, что знали древние.
Поклоняюсь я Истине, лучшей из вер
(Ибн Сина)
Смело смотреть в глаза истине,
верить в силу духа –
вот первое условие философии
(Гегель)
Попробуем вспомнить, что называли Истиной на Востоке и на Западе и верили ли в возможность ее постижения. Для Гегеля Истина и есть предмет философского поиска:
"Философия хочет познать неизменное, вечное, сущее само но себе; ее цель – истина... Если мы исходим из того, что истина вечна, то она не входит в сферу происходящего и не имеет истории... ибо истина не есть минувшее" [51].
Здесь нет расхождений с восточной мудростью, хотя на Востоке мастера постоянно имели в виду, что "без неизменного нет основы, без изменчивого нет обновления".
Без "основы", не на что опереться, не на "безосновность" же, устрашающую бездну. Впрочем, "бездна" на Востоке не внушала ужаса, напротив: "Совершенный путь подобен бездне, где нет ни большего, ни меньшего" ("Доверяющий разум" Сэн Цаня). Бездна вызывает чувство неограниченной свободы, не ограниченной даже собственным "я". "Если хочешь узнать, что такое истинное не-я, опусти руки над бездной", – предлагал японский поэт Хакуин. "Внизу, погруженное в бездны, лежит в неизменнейшей правде, вверху, облеченное в свет, – вечный закон всего", – "Лунная поэма" Сэ Чжуана [52].
Что уж говорить об Индии? Ее философию можно обозначить словом "даршана" – "видение истины" [53]. Не тоска ли по Истине, которой мы обязаны всем, что есть достойного на земле, притягивает умы к Востоку? В Индии говорят: "Нет религии выше Истины (дхармы)". В это верили тысячелетия назад, верят и сейчас. И в Ведах почиталась Истина: "Истину должно почитать, как Брахмана" ("Шатапатха-брахмана", X, 6, 3, 1), и в Упанишадах, и древнеиндийские афоризмы говорят о том же: "Нет добродетели выше правдивости, нет порока хуже лжи" [54].
Кто неистинное выдает за истинное, зло за добро, тот теряет связь с Реальностью. Но тот, кто способен "постигать ритм истины, таящийся в самом сердце реальности", тот испытывает блаженство. "Мы узнаем истину по ее музыке, по той радости, с какой она приветствует истину, сокрытую в нас". Благотворно все, что стоит по эту сторону Истины, и гибельно, что стоит по другую, оттого верность Истине ставят превыше всего. Река истины протекает через каналы заблуждений, но "все, что истинно, – реально. Реальность неотделима от Истины, как полотно неотделимо от картины" [55]. Реальность – это "гармония, которая всем составным частям вещи придает равновесие целого. Вы нарушаете его, и вот перед вами толпа блуждающих атомов, бьющихся друг о друга и потому не дающих никакого смысла" [56]. В этом – причина возникновения хаоса; лишаясь естественного центра, мир теряет способность к жизни (как он теряет ее при наличии противоестественного, противоречащего структуре Бытия централизма).
Что уж говорить о Ганди, избравшем путь служения Истине. "Ищите истину, – говорил Махатма Ганди, – и вы откроете для себя и добро, и красоту", – этими словами заканчивает своё Предисловие к книге "Открытие Индии" президент Литературной академии Индии В. К. Гокак [57]. В июне 1986 г. приезжая в Москву от "Миссии Рамакришны" директор ее Института культуры Свами Локешварананда, рассказавший об исконной для Индии вере в единое космическое сознание. Каждая человеческая личность представляет собой "фокус" этого сознания. "До мира, – по этим представлениям, – было некое предсуществование, которое могло быть как проявленным, так и непроявленным. Первым проявлением этой изначальной сущности является эфир, затем следует воздух, потом – огонь, вода и земля". И мы видим, как это близко воззрениям даосов об изначальном Едином. Члены "Миссии Рамакришны" следуют веданте, системе индуизма, согласно которой "мы все едины, и если вам больно, то больно и мне", и, поскольку мы все едины, эту боль кто-то непременно почувствует.
"Освобождение – это идентификация индивидуума со всем Космосом. Нужно понять, что каждый из нас божествен. Бог есть человек в лучших своих проявлениях. Каждый из нас – потенциальный Бог, и каждый из нас становится Богом, когда божественное в нем наиболее проявлено" [58].
Неудивительно, что эти мысли нашли отклик в России на рубеже веков. Достаточно вспомнить семью Рерихов: живопись Николая Рериха, возвышающую дух; книги-откровения, пробуждающие сознание, Елены Ивановны; подвижничество ученого, знатока буддизма, Юрия Николаевича; живопись и миротворческую миссию Святослава Николаевича. Феномен Рерихов, средоточие Индии и России – свидетельство глубинной связи народов, столь непохожих по обычаям и столь близких по духу. Созвучна Индии мысль Николая Рериха:
"Истина не познается расчетами, лишь язык сердца знает, где живет великая Правда, которая, несмотря ни на что, ведет человечество к восхождению".
Французу Р. Роллану доступна истина адвайты (букв. – "недвойственность", "не имеющее подобия"): существует одна единственная Реальность, реальность Брахмана. И не имеет значения, как называть ее – бог, бесконечность, абсолют, Атман, Брахман, – важно одно, что это Едино, присутствует в каждом. "Единственно существующее в этом потоке призрачных "я" – это настоящее Я, Параматман, Единый". Писатель сравнивает индийскую философию с идеями досократиков, – "неопределяемым", "беспредельным", из которого вышло, отделившись, все сущее (Анаксимандр); или с Единым без подобия, исключающим всякое движение, всякую множественность (Ксенофан).
По мысли Рамакришны, все три больших течения метафизической мысли: Дуализм, Монизм смягченный и Монизм абсолютный – три этапа на пути, ведущем к высшей Истине. Они не противоречат, а дополняют друг друга. Каждый – перспектива, открывшаяся определенной группе людей. Массам людей, подчиняющихся чувствам, полезны дуалистические формы религий – с обрядом, музыкой, изображениями, символами. Чистый разум может дойти до "смягченного монизма"; он знает, что есть что-то вовне, но ему не дано "почувствовать" это. Адвайта же – это Абсолют бесформенный, непередаваемый, его преддверие – учение йогов; он вне границ логических средств слова и разума. Это последнее слово богопознания, тождество с единой действительностью.
Путь Рамакришны – путь великой гармонии, – чтобы человек целиком полюбил человека, слился с существом всего человечества. "Вы ищете бога? Ну так ищите его в человеке! Божественность проявляется в человеке больше, чем в чем-либо другом" ("Евангелие Рамакришны"). Только невежда, говорящий: "Я закован", в конце концов становится закованным.
С не меньшим вдохновением говорит французский писатель и о другом сыне Индии, пришедшем в решающий момент ее Истории. Где бы ни выступал Вивекананда, в Америке, в Европе, он будил сознание людей, пробуждая тягу к Истине, желание понять ее глубинные истоки. Из жизненной энергии праны (Р. Роллан называет ее пневмой) исходит тремя ступенями мысль: а) сознательная, б) подсознательная, в) надсознательная – вне разума. "Учитесь узнавать Мать и в Зле, в Ужасе, в Страдании, в Небытии, как в Кротости и Радости!" В этом, по мнению Роллана, основное различие, отделяющее Индию и героическую Грецию от англосаксонского оптимизма. Они смотрят в лицо Действительности, – все равно, принимают они ее, подобно Индии, или борются с ней, подобно Греции, и стремятся ее подчинить. И напрасно противопоставляют реализм Запада идеализму Индии. Это два реализма. В Индии все существует благодаря универсальному Уму, единому и неделимому, имя которому Брахман. В нем рождаются различные облики разнообразных предметов, наполняющих Вселенную. Людей вводит в заблуждение Майя, иллюзия, которая, не имея начала и существуя вне времени, заставляет считать вечной реальностью то, что есть лишь поток преходящих образов, истекающих из невидимого источника – единственно существующей, истинной Реальности [59].
Действительно, не случайно в прошлом веке, на рубеже Истории, обращается к Индии европейская философия, видя в ней хранительницу истинного знания, душевной ясности, которые на своем пути в стремительном беге утратила Европа. Можно вспомнить, с каким восторгом говорил об Упанишадах Шопенгауэр. Не потому ли
"то, что здесь, в человеке, и то, что там, в солнце, – одно. Кто, зная так, уходит из этого мира, тот достигает этого Атмана, состоящего из пищи, достигает этого Атмана, состоящего из дыхания, достигает этого Атмана, состоящего из разума, достигает этого Атмана, состоящего из распознавания, достигает этого Атмана, "состоящего из блаженства".
("Тайттирия упанишада". Раздел Бхригу, 8, I).
И Атман живого существа не отличен от высшего Атмана:
Атман, подобный пространству,
состоящий
из тонкой сущности, внутренний
Атман невидим, подобно ветру.
Этот Атман недвижим извне и изнутри.
Внутренний Атман зрит с помощью знания.
("Пайнгала упанишада", 4, 12).
Единый Атман существ пребывает в каждом существе.
"Он представляется одним
или во множестве,
словно (отражение) месяца в воде".
("Брахмабинду упанишада", 12).
Теперь – о высшем Атмане:
"Он – (тот, которого) следует почитать как священный слог (Ом); (который открывается) думающему о высшем Атмане в размышлении и йоге – сдерживании дыхания, прекращении деятельности чувств и полном слиянии; (подобный) семени смоковницы, зерну проса, стотысячной части расщепленного кончика волоса; (который) недостижим, непостижим, не рождается, не умирает, не засыхает, не сгорает, не дрожит, не разрушается, не рассекается, лишен свойств, свидетель (всего), чистый, неделимый по природе, единственный тонкий, лишенный частей, незапятнанный, без самомнения, лишенный звука, прикосновения, вкуса, вида, запаха, лишенный сомнения, лишенный ожидания, всепроникающий. Он, немыслимый и неописуемый, очищает нечистое и оскверненное, (он) – бездеятельный, нет (у него) связи с прошлыми существованиями. Этот пуруша зовется высшим Атманом".
("Атма упанишада", 3).
Это и позволяет объединить учения Индии и Китая в одно целое – в понятие "Восток", ибо расхождения в частностях, в оттенках, а общее – в признании неделимого Единого и в понимании Пути постижения Истины, что можно передать формулой Упанишад – "Ты – одно с Тем" (тат твам аси): "И тогда Пайнгала спросил его, Яджнявалкью: "Поведай объяснение великого изречения". И Яджнявалкья сказал: "Ты – одно с Тем. Ты и То – одно. Ты – обитель Брахмана. Я – Брахман. Пусть это исследуют". Здесь непостижимый, смешанный, наделенный всезнанием и прочими признаками, лежащий за иллюзией, чьи признаки – бытие, мысль, блаженство; источник мира обозначается словом "То". Соединенное со способностью разумения, поддерживаемое опорой этого постижения, оно обозначается словом "ты". Оставив иллюзию и незнание – свойства высшего жизненного начала, отделившись от обозначаемого словами "То", "ты", (существо становится) Брахманом".
Ну а как же достигается это высшее состояние Ума, когда можно созерцать "образ без образа"?
"Тщательное сосредоточение мысли лишь на одном предмете-смысле, постигнутом слушанием и обдумыванием, бывает глубоким размышлением. Мысль, оставившая (различия между) размышляющим и размышлением, подобная светильнику в безветренном месте, занятая одним лишь предметом размышления, бывает высшим завершением. Тогда состояния, возникшие в связи с Атманом, не познаются – они выводятся из памяти. Здесь, таким образом, уничтожаются мириады действий, накопленных в вечном круговороте бытия"
("Пайнгала упанишада", 3, 1-2).
Неразделение на пары, не противопоставление – сквозная мысль Упанишад:
(Со словом) "мое"
существо связывается узами;
(со словом) "не мое" – освобождается,
Ибо у вознесенного над разумом
разум не постигает двойственности.
("Пайнгала упанишада", 4, 20).
Разум первичен, тождествен чистоте, заблуждения же вторичны, плод неведения, вкусив который человек обрекает себя на вечные муки круговращения:
Кто непонятлив, неразумен,
всегда нечист,
Тот не достигает того места и возвращается в круговорот бытия.
Кто же понятлив, разумен, всегда чист,
Тот достигает того места, откуда он больше не рождается
("Катха упанишада", 3, 7-8).
Самый страшный грех, проступок вселенского масштаба – убить в себе душу:
(Мирами)
асуров называют те миры, покрытые слепою тьмой;
В них после смерти идут люди, убившие (в себе) Атмана.
Неподвижное, единое, оно – быстрее мысли;
чувства не достигают его, оно двигалось впереди (их)...
Оно движется – оно не движется, оно далеко – оно же и близко,
Оно внутри всего – оно же вне всего.
Поистине, кто видит всех существ в Атмане
И Атмана – во всех существах, тот больше не страшится
("Иша упанишада", 3-6).
В Китай и Японию древние учения Индии пришли главным образом в виде буддийских сутр и проповедей буддийских монахов. Зародившись в Индии в VI в. до н.э., примерно в I в. н.э. буддизм (речь идет о северном ответвлении – махаяне) проник в Китай, а около VI в. – в Японию. Махаяна признает истинно-сущим то, что не возникает и не исчезает, – дхармату – изначальную природу дхарм [60]. Слово "дхарма" многозначно, поначалу – носитель какого-то постоянного признака, качества; потом – Закон, Истина, учение Будды; а так же – добрые дела, справедливость. Наконец, дхарма – это Вселенная как объект мысли. В последнее время дхарма трактуется преимущественно как психофизическая структура, элемент сознания, – дает каждому шанс освобождения. Поток мгновенно меняющихся дхарм обладает стабильностью, формирует сознание личности. "Вплывая" в мир феноменов, дхармы вступают в различные комбинации, формируемые кармой [61]. Истинные дхармы не возникают и не уничтожаются. Это и есть дхармата, изначальная природа сущего. Просветление Будды – в постижении дхарматы. Школой Кэгон она отождествляется с Татхатой (Таковостью).
Вечно может существовать лишь то, что не имеет причины, не имеет возникновения, а потому – не подвержено гибели, исчезновению. И о дхарме (как и о дао) можно сказать – явленная дхарма (лакшана-дхарма) не есть истинная, постоянная дхарма (свабхава-дхарма) [62]. Мгновенные дхармы – лишь отблеск Света, но не сам Свет. Истинная дхарма, единое космическое сознание, имеет два "постоянства", два качества – Всезнание (праджня) и Сострадание (каруна), которые находятся в состоянии полного покоя, невозмутимости. Потому одно из значений слова "Нирвана" – успокоение, угасание вибраций дхарм.
Конечная цель Пути – достижение Нирваны ("состояния сердца, лучшего в мире", – по "Метта сутре"). Успокоение дхарм снимает страдание – дукху, в которое ввергает человека неведение (авидья), привязанность к имени и форме, зависимость от иллюзорного мира – майи. Прекращение вибрации дхарм дает возможность видеть вещи в их истинном виде (как дает эту возможность и Великое да). Но между нирваной и сансарой нет непроходимых границ. "Нирвана и есть сансара, сансара и есть нирвана" (Нагарджуна). По определению О. О. Розенберга, Нирвана – это "безатрибутная абсолютная сущность, или пустота, каким-то непостижимым образом развернута и проявляется в образе эмпирического бытия ("сансары"), в виде существ и их миров" [63].
Не зная буддизма, нельзя понять и одну эпитафию поэта: "Дхарма не рождается, а появляется посредством мысли, она такова, что ее нельзя потрогать, но дхарма и есть Истина". Это посвящение Ван Вэя шестому патриарху чань, Хуэйнэиу, проповедовавшему не-умствование (я-нянь). Ничего не должно стоять на Пути, мешать беспрепятственному общению одного с другим: мысли текут свободно, не имея препятствий на пути, приходят и уходят ТАК. Зачем старания, хлопоты, когда видение Истины требует Покоя, концентрации мысли на Одном. Праджня – всевидение – пребывает в изначальной природе каждого, приходит сама, когда дух свободен и ум не угнетен; тогда и является проницаемость – самадхи [64].
Самадхи и праджня – есть истинно-сущее. В Прямоте (чжи) открывается Истина (чжань). Чаньский патриарх умел прямо ткнуть ум человека в Истину, не водить его за руку вокруг да около (как это делал, скажем, Сократ). Чаньский мастер не подводил к ответу, не облегчал задачу, а бросал вызов, ошарашивая ум.
Легче говорить о буддизме, поразмышляв о дао и его проявлении – дэ. "Истина (чжэнь) и есть обитель дао", – сказано в "Вималакирти сутре". Истину видит тот, кто не расчленяет Единое, избегает двойственности, даже той, которую вносит одно лишь слово (потому Вималакирти и ответил "громовым молчанием" на вопрос о недуальной Реальности). По определению В. М. Алексеева, дао "есть сущность, есть нечто статически абсолютное, есть центр круга, вечная точка, вне познавании и измерений, – нечто единственно правое и истинное" [65]. Потому буддизм свободно адаптировался в Китае, что был близок пути даосов [66].
Но вернемся еще раз к Лао-цзы. Итак, согласно §21, Истина присуща изначальному, пребывает в цзин, Истина и Искренность – одного нет без другого [67]. Все вещи сами собой появляются и сами собой возвращаются к Истоку, к Покою. Пребывающий в Покое видит их возвращение. Знающий Постоянство видит Свет, не знающий – видит лишь хаос и зло. Потому Лао-цзы и говорит, что истинное дэ не нарочито, и сравнивает владеющего совершенным дэ с младенцем (§28), у которого разум совершенно чист. "У кого совершенное дэ, тот похож на новорожденного" (§58). И в Упанишадах сказано:
"Да будет он подобен ребенку. Природа ребенка – свобода от уз и непорочность... Да будет он подобен дереву – не гневается и не колеблется, даже когда (его) рассекают. Да будет он подобен цветку лотоса – не гневается и не колеблется, даже когда (его) рассекают. Да будет он подобен пространству – не гневается и не колеблется, даже когда (его) рассекают. Да пребывает он в истине, (ибо) истина – это Атман".
("Субала упанишада", 13,1).
И как могло быть иначе, если даосы следуют естественному Пути? И для Чжуан-цзы Истина – это Высшая искренность, Высшее чистосердечие – свойства самого дао:
"Того, кто не отделяется от праосновы, называют небесным человеком; того, кто не отделяется от духовного начала, называют святым человеком; того, кто не отделяется от истины, называют совершенным человеком. Начальник заставы (записавший со слов Лао-цзы "Даодэцзин" – Т.Г.) говорил: "Тому, кто не замыкается в себе, формы и вещи сами становятся понятными. Движения такого человека (естественны), как течение воды, его покой (чист), как зеркало, его ответ (быстр), как эхо. Такой человек туманен, будто несуществующий; чист, будто прозрачный; объединяясь (с тьмой вещей, он) пребывает в гармонии; приобретенное (тут же) теряет; не опережает других людей, а всегда за ними следует".
("Чжуан-цзы", гл. 33).
Где же тут взяться неискренности? "Смысл перехода в состояние "искренности" (чэн) – мыслился как состояние согласованности с основным мировым законом – дао" [68]. В далекой древности, во времена Великого единства (Датун) и Великой чистоты, люди были искренни и доброжелательны.
Естественно, и Конфуций не мыслит Путь вне искренности:
"Учитель сказал: "Не знаю, как можно, чтобы у человека не было правдивости. Это подобно тому, что у большой повозки нет скрепы, а у малой – нет поперечины. Как можно ехать?"" ("Луньюй", II, 22). Чтобы не нарушать Путь, не навлекать беды, слова людей должны быть правдивы, не расходиться с делом. Для этого он и предлагал "исправление имен". "Учитель сказал: "Я не хочу больше говорить". Цзы-гун спросил: Если учитель не будет больше говорить, то что мы будем передавать?" Учитель сказал: "Разве небо говорит? А четыре времени года идут, и вещи рождаются. Разве небо говорит?""
("Луньюй", XVII, 18).
Что касается Мэн-цзы, он потому, видимо, и говорил о четырех, а не о "пяти постоянствах" (учан), опустив Искренность, что считал ее само собой разумеющейся, без искренности невозможны остальные четыре постоянства: человечность, мудрость, справедливость и благожелательность: "Небо обнаруживает искренность (чэнь), а человек должен постоянно думать и стремиться к ней. Искренность – путь неба, а размышления о ней – путь человека". Для человека нет большей радости, чем следовать Истине-Искренности. "Все вещи находятся в нас. Нет большей радости, чем при самопостижении обнаружить искренность (чэнь)" ("Мэн-цзы", VII, I). А 15 веков спустя Чжу Си говорил об Искренности, что она подобна Земле, одной из пяти энергий, но, если бы не было Земли, не было бы и остальных четырех.
И как могло быть иначе, если сама природа этих учений исключает возможность неискренности. То же отношение к Искренности находим и у японцев, для которых Искренность и Истина обозначаются одним словом – "макото". Верность Истине – закон жизни и искусства – от ранних стихотворений Маньёсю (VIII в.) до наших дней. Истина – едина, но многолика, чтобы сохранять ее, нужно менять форму ее выражения. Сначала верность Истине понимали как верность тому, что "видишь и слышишь", потом – как верность неясным предощущениям души, тому, что присутствует незримо, – верность духу; Истину выражали языком символа (театр Но). Истина и в светлом очаровании (аварэ), и в неизреченной красоте Небытия (югэн), и в красоте просветленной печали (саби).
Полная Искренность – в этом суть дзэнского искусства, поэзии, живописи, "пути воина" (бусидо), воинских искусств, самого образа жизни – полная отдача тому, что делаешь. Спонтанность, внезапность, непредсказуемость, прямота. Рука, как и мысль мастера, движется сама по себе, самоестественно, без указаний разума. В своих эссе о дзэн Д. Судзуки рассказывает, как один монах задал Линьцзи вопрос:
""Говорят, когда лев бросается на свою жертву, будь то заяц или слон, он употребляет всю свою силу. Что это за сила?"
"Дух искренности!" – ответил Учитель, – полная отдача тому, что делаешь (яп. дзэнтай саю)". Активизация всего существа, рея сила выбрасывается в этот момент, ничего не остается про запас. Это и есть полная Искренность.
Искусство уподобляется самой реальности. "Поскольку все мы принадлежим одной Вселенной, созданное нами может напоминать увиденное в природе. Но не это главное в искусстве... Если кисть художника движется сама по себе, рисунок сумиэ становится завершенной в самой себе реальностью, а не копией. И горы на рисунке реальны в том же смысле, как реальна Фудзияма, и облака, ручьи, деревья, волны, люди – все реально, так как дух художника побывал в этих линиях, точках, мазках... Сумиэ сохраняет вещь живой, будто художник переносит ее на бумагу. Мастеру сумиэ удается этого добиться только потому, что его кисть движется одним лишь внутренним духом. Ни замысел, ни что постороннее не участвует в творческом процессе. Только дух, водя рукой, скользит по бумаге. И рисунок сумиэ сам становится реальностью" [69].
Можно вспомнить неоплатоников. Разве не испытывал Плотин подобное состояние души, когда, забыв о себе, в чистой интуиции, соприкасался с Единым: "Ум должен... как бы отпускать себя, не быть умом" (Энн., 3, 8, 9). Запад не менее радел об Истине. Уже древний Вавилон знает "древо истины" наряду с "древом жизни". А евангельская максима: "И познаете истину, и истина сделает вас свободными" (Ин., 8, 32). Истина от Бога: – "Слово Твое есть истина" (Ин., 17, 17); "Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Пилат сказал Ему: что есть истина? И сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем" (Ин., 18, 37-38).
А "Исповедь" Августина (VII, 17, 23): "Я нашел, что над моей изменчивой мыслью есть неизменная настоящая и вечная Истина". И обращается к словам Христа: ""Я семь путь и истина, и жизнь" (Ин., 14, 6). Есть удивительные совпадения ищущего ума: "Да придем к покою, превосходящему все, когда переправится душа наша через воды, лишенные субстанции" (Пс. 123) [70]... Душа может познать единую истину многими способами, сказать о ней и выразить ее с помощью телесных движений". Но Августин же мучительно размышлял, почему люди не идут путем Истины? Речь не о том "большинстве", которое всегда идет не туда, которое, скажем, осудило на смерть Сократа, на разумение такого большинства наивно полагаться. И Сократ говорит об этом в предсмертном слове:
"И вы на меня не сердитесь за то, если я вам скажу правду: нет такого человека, который мог бы уцелеть, если бы стал откровенно противиться вам или какому-нибудь другому большинству и хотел бы предотвратить все то множество несправедливостей и беззаконий, которые совершаются в государстве"
("Апология Сократа", 31 Е).
О демонической силе толпы написано немало, хотя отношение к ней разное.
"Человек высшей учености,
узнав о дао,
стремится к его осуществлению.
Человек средней учености, узнав о дао,
то соблюдает его, то его нарушает.
Человек низшей учености, узнав о дао,
подвергает его насмешке.
Если оно не подвергалось бы насмешке,
не являлось бы дао.
Поэтому существует поговорка:
кто узнает дао, похож на темного;
кто проникает в дао, похож на отступающего;
кто на высоте дао, похож на заблуждающегося;
человек высшей добродетели похож на простого;
великий просвещенный похож на презираемого;
безграничная добродетель похожа на ее недостаток;
распространение добродетели похоже на ее расхищение;
истинная правда похожа на ее отсутствие"
("Даодэцзин", §41).
Законы черни, носителя тьмы, везде одинаковы: все переворачивать вверх дном – ложь выдавать за истину, истину за ложь; достойных выставлять на посмешище, недостойных превозносить. Она есть разрушительная сила, источник хаоса. Но не о ней сейчас речь. Речь о том, что в китайской древности об Истине не спорили. Она независима от мнения, всем открыта, по не всем доступна. Живущих в Истине не надо убеждать, и они не убеждают, ибо Истина – вне слов: "Кто говорит – не знает, кто знает – тот не говорит".
Не только даосы, но и истинные конфуцианцы не вступают в споры:
"Учитель сказал: "Ю, я научу тебя (правильному отношению) к знанию. Зная что-либо, считай, что знаешь; не зная, считай, что не знаешь, – это и есть (правильное отношение) к знанию"".
И в той же, второй главе "Луньюя" Конфуций говорит о пройденном пути:
"В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к учебе. В тридцать лет я обрел самостоятельность. В сорок лет я освободился от сомнений. В пятьдесят лет я познал волю неба. В шестьдесят лет я научился отличать правду от неправды. В семьдесят лет я стал следовать желаниям моего сердца и не нарушать ритуала (ли)".
("Луньюй", II, 17, 4).
Лао-цзы и Конфуций не стали бы, тем более публично, доказывать согражданам их неправоту, вступать в разговор с теми, кто не может их понять. "Учитель сказал: "Лишь с теми, кто выше посредственности, можно говорить о возвышенном"" ("Луньюй", VI, 19). ("И не оспаривай глупца", – по Пушкину).
Разным историческим фазам и разным мировоззренческим ареалам соответствуют разные типы цивилизаций. В силу "запоздалости" греки находились на той стадии, которую миновали китайцы. Как всякая "вторичная" цивилизация, получив в готовом виде культуру древних народов, греки действительно чувствовали себя на земле уверенно (испытывали страх разве что перед Хаосом и мойрами). Ничто не мешало им уверовать в богоподобие человека, они и уверовали, хотя и преждевременно. Богоподобному же все доступно, все дозволено, и слово – его орудие. Греки ощутили себя властелинами земли, опираясь на силу власти (архе) [71]. "Разделяй и властвуй", – провозгласили наследники греков римляне, помышляя о власти уже не только в пространстве (новые территории), но и во времени (над мыслью). "Разделяй и властвуй!" – и поступаются природным Целым ради изучения его частей. Мысль и слово – всесильны, значит, могут соединять разрозненное, и соединили, только по-своему, не на природной основе; мысль обогнала самое себя. Человек еще не окреп нравственно, чтобы дотянуться до собственной, божественной сути.
Этот процесс не мог не смущать души тех, кто способен предвидеть последствия. Проницательный ум Августина смущала склонность к расчленению – нарушение "единого целого", сотворенного Богом (в отличие от даосского Порядка, изначально присущего миру):
"Бог привел все к единому порядку; этот порядок и делает из мира "единое целое" – universitas. Эту целостность человек "разрывает", предпочтя ей, из личной гордости и личных симпатий, "одну часть", "мнимое единство": он таким образом ставит "часть" выше "целого", достоинством, принадлежащим "целому" – universitati, – он облекает "часть"".
("Исповедь Блаженного Августина", III, 8, 16, примеч. 4).
Не оттого ли все это произошло, что "душа в своих грехах в гордой, извращенной и, так сказать, рабской свободе стремится уподобиться Богу. Так и прародителей наших оказалось возможным склонить на грех только словами: "Будьте, как боги"" ("О Троице", 11, 5, 8). Малое возомнило себя великим, не успев стать им; непросвещенный человек вообразил себя "мерой вещей"; научившись глядеть вовне, не научился смотреть в себя.
Этот настрой ума не мог не сказаться и на характере европейской науки. После "открытия дверей", последовавшего в результате переворота Мэйдзи (1868), японцы не случайно настороженно отнеслись к европейским новшествам, наводнившим Японию. Даже сторонники европейского знания, предостерегали соотечественников от чрезмерного увлечения механистической цивилизацией Запада, которая может разрушить их мораль, ибо для этого типа цивилизации нет ничего святого, и потому провозгласили принцип "вакон ёсай" ("японская душа – европейские наука и техника"). Так один из популяризаторов европейской пауки, Накамура Масанао, переведший в 70-е годы "Самопомощь" Смайлса и "Принципы свободы" Милля, предупреждал:
"Наука и моральное учение... – все равно, что два колеса у колесницы, два крыла у птицы. Взаимно помогая друг другу, они ведут жизнь человеческую к благу. Одни науки, хотя и проникают в сферы чудесного, все же в условиях одного материального развития не могут, как это и случилось в Египте и в Греции, предотвратить порчу нравов; необходимо, чтобы процветало и моральное учение: именно оно действует там, куда влияние науки не проникает" [72].
Одно без другого, наука без нравственности, как и разум без гуманности, начинает саморазрушаться, как всякая односторонность. Японцы, веками следовавшие закону Равновесия (ва), особенно остро ощущали это.
Целостный ум В. Эрна подметил эту закономерность – когда нет ничего святого, то все дозволено – богоборчество, святотатство, националистическая спесь ведут к погибели:
"Греки с непревзойденной глубиной чувствовали, что в основе трагической гибели лежит некая скрытая, часто неведомая вина, и одной из любимых завязок трагедии... была для греков... надменность, спесь, направленная не против людей, а против богов" [73].
Оборотная сторона самонадеянности – есть рабство души. Собственно, рабство во всем, по мнению другого русского философа, Н. Бердяева, – в познании, в морали, в религии, в искусстве, в жизни политической и социальной.
"Бог-господин, человек-раб; церковь-господин, человек-раб; государство-господин, человек-раб; общество-господин, человек-раб; семья-господин, человек-раб; природа-господин, человек-раб; объект-господин, человек-субъект-раб. Прекращение рабства есть прекращение объективизации... Господство есть оборотная сторона рабства. Человек должен стать не господином, а свободным. Платон верно говорил, что тиран сам раб. Порабощение другого есть также порабощение себя" [74].
И разве не ощущается духовная связь В. Эрна и Н. Бердяева с Августином по вечному, "осевому времени"?
"Старайся дознать, что такое высшее согласие: вне себя не выходи, а сосредоточься в самом себе, ибо истина живет во внутреннем человеке; найдешь свою природу изменчивою – стань выше самого себя. Но, становясь выше себя самого, помни, что размышляющая душа выше и тебя. Поэтому стремись туда, откуда возжигается самый свет разума... А если ты не понимаешь, что я говорю, и сомневаешься, верно ли все это, обрати внимание по крайней мере на то, не сомневаешься ли ты в самом этом сомнении своем, и, если верно, что сомневаешься, разбери, отчего оно верно; в этом случае тебе навстречу идет свет, конечно, не солнца, а свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в сей мир (Ин. 1, 9). Этот свет невозможно видеть телесными глазами".
(Августин. Об истинной религии, XXXIX).
Царь Соломон изрек когда-то: есть время говорить, есть время молчать [75]. Мысли мудрецов не умирают, годятся на все времена и для всех народов. Если не так, то это не мысли мудрецов. На каком-то этапе, скажем предваряющем истинное Знание, идет его проговаривание на всех уровнях и на всех языках. Процесс накопления фактов – это длинный, витиеватый путь, но важно на нем не зациклиться (как человеку, так и человечеству: человек повторяет путь человечества). На каком-то этапе жизни умудренный опытом человек начинает понимать бессмысленность словопрений и тяготится изобилием слов. Этот процесс идет и в историческом плане – по горизонтали: по мере расширения сознания все менее ощущается потребность в словах; и в личностном – по вертикали: восхождение к мудрому молчанию. Человечество и в этом отношении движется туда-обратно, то восходит, то нисходит по ступеням Знания, но не в одной плоскости, а по восходящей, надо думать, спирали. Это было открыто Конфуцию:
"Если естественность (простота) побеждает культуру (вэнь), получается дикарь. Если культура побеждает естественность, получается книжник. Когда культура и естественность в равновесии, появляется истинный человек (цзюньцзы)"
("Луньюй", VI, 16).
Во все времена бывали те, кому являлись откровения в процессе молчаливого думания, благодаря чему созидалось духовное знание – основа жизни. Похоже, для западной цивилизации завершается вторая стадия – "книжника", когда "культура побеждает, естественность" (о чем свидетельствуют, в частности, и рецидивы докультурного начала, скажем, в музыкальных шоу – бунт против культуры). Последние века доминировали научное мышление, знаковые системы в ущерб природному началу. Но закон Единого берет свое, и доминанта смещается в противоположную сторону, уравновешивая крайности. Похоже, завершается стадия "говорения" и на смену словосфере вместе с биосферой (порядком истощившей себя за минувшие тысячелетия) идет Ноосфера – царство Разума вместо "царства слов" [76]. Приближается стадия молчаливого размышления, не того, которое от незнания, когда и сказать нечего, а того, которое от полноты знания.
А клоню я к тому, что путь, пройденный европейской цивилизацией и породивший ощущение "Заката Европы", если и был неизбежен, то не был единственным, т.е. всеобщим. Видимо, и не мог им быть – по закону высшей Необходимости, по закону Целого. Были на Востоке свои проблемы, свои недуги, и войны, и нищета, и ученых-конфуцианцев закапывали в землю, и применялись изощрённые пытки (о чем коротко, но убедительно рассказано в "Предисловии" И. С. Лисевича к переводам "Из книг мудрецов") [77], но не было тех недугов, о которых говорил в давние времена Августин, а в нашем веке В. Эрн и Н. Бердяев, т.е. не было того, когда "разрывали" Целое, предпочтя "одну часть", "мнимое единство". Разделения и противопоставления более всего избегали мудрецы, идеи которых постоянно воздействовали на сознание (стремление сохранить Единое не могло не сказаться, как уже говорилось, на непрерывном характере Истории и Культуры).
Традиционное мировоззрение в Индии и Китае не располагало к субъектно-объектным отношениям, потому не привело к тотальной объективизации, порождающей отчуждение и рабскую психологию, к тем формам отчуждения, которые, с моей точки зрения, берут начало в идее изначального Хаоса. Бездна Хаоса отделила человека от Бытия. "В Христовой Церкви ты найдешь бездну, найдешь и горы: найдешь в ней малое число хороших людей – ведь гор тоже мало – бездна же широка: она означает множество худо живущих" ("На псалмы", 3, 5, §10). Пока еще бездна призывает бездну" ("Исповедь Блаженного Августина", XIII, 13, 14).
Подобного разделения не знал Восток (не только бытие определяет сознание, но и сознание определяет бытие, и никакую из сторон нельзя умалить без ущерба Целому). Вспомним еще раз последние слова Будды: "Состоящее из частей подвержено разрушению. Трудитесь прилежно!" Он имел в виду тот труд, который ведет к Истине.
Потому не было разделения на части в восточных учениях, что исходной была идея Небытия, которое неделимо в принципе. Восточные учения (даосизм, буддизм) следуют пути недвойственности, непротивопоставления одного другому, неделения на части (часть теряет природу Целого), и потому не появился метод анализа – синтеза, которому следовала европейская мысль, начиная от Аристотеля, а по мнению Гегеля, – от Парменида, с которого началась философия в собственном смысле слова: он впервые допустил абстрагирование, исключив опыт из теории познания и положив в основу системы знания аксиому как основу доказательств [78].
Цель восточных учений (по крайней мере тех, о которых шла речь) – знание не объекта, а Пути: как прожить жизнь, чтобы очистить сознание и достичь спасения. Не изучение объектов, а избавление человека от неведения (авидьи), порождающего страдания (дукху), от привязанности к имени и форме, сконструированным человеческим незнанием и засоряющим изначально чистое сознание [79]. Цель Пути – очищение сознания от клеш [80], не знание об Истине, а пребывание в Истине – постороннее к ней отношение. Жизнь в Истине и делает человека Свободным, Целостным. У Свободного же человека все происходит самоестественно. Это не философия в строгом смысле слова, не "любовь к истине", а путь к Истине, жизнь в Истине (что сближает восточные учения с европейской философией последнего века).
Избегаю называть восточные учения и религией, потому что в строгом смысле слова это ни то, ни это, а нечто третье – Срединное [81] (и не могло быть иначе, если изначально – Единое, Небытие). Мне могут возразить: всякая религия (в отличие, скажем, от науки) как путь спасения, избавления человека от страданий, от греховности аккумулирует нравственный опыт. И Библия не ведает "онтологии", а знает "хаяту" (жить): "В вечности ничто не проходит, но пребывает как настоящее но всей полноте; время, как настоящее, в полноте своей пребывать не может" ("Исповедь Блаженного Августина", XI, 11, 13). С точки зрения Вечности – все Едино, с точки зрения Времени – все различно.
И Время движется по-разному. На Западе – последовательная смена господствующих форм сознания, в соответствии с законом отрицания отрицания: мифологического, религиозного, научного. Каждую эпоху преобладает что-то одно в процессе восхождения к земле обетованной, и это не могло не привести к идее прогресса, определившей на пару веков исторический ритм Европы. Медленнее, незаметнее течет Время на Востоке, где разные формы сознания – мифологическое, религиозное, научное – существуют одновременно или параллельно, и это не может не сказаться на характере каждой из форм.
В центре восточных учений – даосизма, конфуцианства, буддизма – не Бог, а Человек. О Лао-цзы и Конфуции что и говорить, но и Будда (Пробужденный) не сотворил мир, а понял его, пережив Просветление. Ему открылась причина человеческих страданий (дукха) – она в привязанности к собственному "я" [82]. От того, что имеет причину, есть избавление – Путь преодоления страданий. В буддизме существуют разные школы, но суть их одна – очищение сознания от ложного знания, достижение изначальной незамутненности. Подобное учение не могло возникнуть, если бы существовало представление об изначальном Хаосе.
Будда не сотворил мир из ничего или из инертной материи, а увидел в Ничто – Все, то совершенное состояние, где все пребывает в своем истинном виде, в своей Таковости. Когда само сознание уподобится Ничто, или Пустоте (шунье), обретет Покой и Свободу, тогда и самопроявится изначальная праджня, мудрость, которая всеобща и индивидуальна, она заполняет Вселенную и дана каждому. Существует два типа знания: праджня – всезнание, или недифференцированное знание (континуальное мышление); и виджняна – условное знаковое знание, допускающее разделение на субъект и объект (дискретное мышление). Истина доступна лишь целостному мышлению – праджне. Виджняна – лишь условие, предваряющее истинное знание, – накопление и работа, тренировка ума. Но когда другой берег достигнут. плот отбрасывается, сказано в Алмазной сутре (Ваджрачхедика праджня парамита сутра). Виджняна лишь предваряет праджню: "Многознание уму не научает". Говоря словами Августина: "Мудрость имеет отношение к созерцанию вечного, а знание – к действию" ("О Троице", 12, 14, 22).
Человеческое сознание неисчерпаемо. Величайшая потенция Вселенной – психическая энергия (ци) – в ней залог могущества человека, если он научится пользоваться ею, – своим умом, резервами памяти. По мнению Д. Т. Судзуки, люди много говорят о праджне, но не умеют обнаружить ее в своем сердце. Праджня заполняет Вселенную и присуща каждому. Наука и философия пока не могут познать Реальность, она доступна лишь целостному мышлению, праджне, но ее приход нельзя ускорить, нельзя сократить Путь. Праджня приходит сама, когда ум достигает полноты, раскрывается, как цветок. Стремление же овладеть праджней, не натрудив душу, – все равно что сорвать бутон, не дождавшись, когда он раскроется. (Многие ныне увлечены Востоком, мало кто понимает это).
Пришло, однако, время для обновления Науки. Овладев за два с половиной тысячелетия инструментом анализа, разработав методику, научная мысль способна воспроизвести полузабытое знание, не повредив сосуды живого, но дремлющего организма, – восстановить связь времен. Не осовременить учения мудрецов (это значило бы утратить их), а сделать мудрость древних доступной современникам. Каждая из сторон сможет тогда выполнить свое назначение: праджня (мудрость, женская ипостась Знания) найдет свою пару – упая (метод, мужская ипостась Знания), и сойдутся наконец две половины Целого: Творчество и Исполнение (так можно понять две первые гексаграммы "Ицзина": абсолютное Творчество-Ян и абсолютное Исполнение Инь – свойства Целого человека). Всякое истинное знание общечеловечно, безусловно, иначе зачем оно?
Истина неизменна, но меняется Язык, чтобы эта Истина была доступна новым поколениям. Как сказано у Августина: "Душа может познать единую истину многими способами, сказать о ней и выразить ее с помощью телесных движений" ("Исповедь", XIII, 20, 27). Не подменять функции культур, а понять их назначение. Почему, скажем, греки "любили мудрость"? Так и называли себя "философами". Сократ рассуждает о занебесной сфере: "Эту область занимает бесцветная, бесформенная, неосязаемая сущность, подлинно существующая, зримая лишь кормчему души – разуму; ее-то и постигает истинное знание" ("Федр", 247 С). Лишь мыслящей душе доступно подлинное бытие. Неизменное – безвидные вещи "нельзя постигнуть решительно ничем, кроме рассуждающей мысли... Безвидные всегда неизменны, а зримые беспрерывно меняются" ("Федон", 79 В). Когда душа "ведет исследование сама по себе, она направляется туда, где все чисто, вечно, бессмертно и неизменно, и так как она близка и сродни этому бытию, то всегда оказывается вместе с ним, как только остается наедине с собою и не встречает препятствий" ("Федон", 79 Д). Лишь тогда душа может видеть подлинное Бытие, когда ее не тревожат зовы тела – ни слух, ни зрение, ни боль, ни удовольствие, что близко восточной идее бесстрастия:
"У любой радости или печали есть как бы гвоздь, которым она пригвождает душу к телу, пронзает ее и делает телесною, заставляя принимать за истину все, что скажет тело. А разделяя представления и вкусы тела, душа, мне кажется, неизбежно перенимает его правила и привычки, и уже никогда не прийти ей в Аид чистою – она всегда отходит, обремененная телом, и потому вновь вскоре падает в иное тело и, точно посеянное зерно, пускает ростки. Так она лишается своей доли в общении с божественным, чистым и единообразным". ("Федон", 83 Е).
Разве не напоминает идея метемпсихоза закон кармы? Только буддисты, считая, что зрение и слух – препятствие на пути, мешают истинному прозрению, все же причину видят не в теле, а в замутненном сознании, которое направляет взоры не туда (на то, что не соответствует Пути, не смотри и не слушай).
Можно вспомнить и "Хуайнань-цзы":
"Радость и гнев – это отступление от дао; печаль и скорбь – утрата дэ; любовь и ненависть – неумеренность сердца; страсти и вожделения – ауты человеческой природы. Человек, охваченный гневом, разбивает инь, охваченный радостью – разбивает ям, ослабление духа делает немым, возбуждение вызывает безумие... Высший покой в том, чтобы постигать, но не меняться; высшая пустота в том, чтобы не обременять себя страстями; высшее равновесие в том, чтобы ни любить, ни ненавидеть; высшая чистота в том, чтобы не смешиваться с вещами... Когда ничто не радует, не гневит, не несет ни наслаждения, ни горести, то тьма вещей приходит к сокровенному единству. Тогда нет ни истинного, ни ложного, изменения происходят подобно сокровенным вспышкам".
("Хуайнань-цзы", гл. I).
Возможно, греки называли себя "философами", а не мудрецами (я не имею в виду досократиков), ибо душа способна видеть вещи в их подлинном виде, соприкасаться с подлинным бытием лишь тогда, когда разлучается с телом:
"Душа туго-натуго связана в теле и прилеплена к нему, что она вынуждена рассматривать и постигать сущее не сама по себе, но через тело, словно бы через решетки тюрьмы, и погрязает в глубочайшем невежестве".
("Федон", 82 Е).
Лишь расставаясь с телом, обретает она Свободу и Истину:
"У нас есть неоспоримые доказательства, что достигнуть ясного знания о чем бы то ни было мы не можем иначе, как отрешившись от тела и созерцая вещи сами по себе самою по себе душой... Очистившись, таким образом, и избавившись от безрассудства тела, мы, по всей вероятности, соединимся с другими, такими же, как мы, бестелесными сущностями и собственными силами познаем все беспримесное, а это и есть истина. А нечистому касаться чистого не дозволено".
("Федон", 67 В).
Но если так, то и нет надобности в Пути и в учениях о нем. Восточные мудрецы ставили своей задачей избавить человека от неведения при жизни, потому и учили, как следовать Пути. "Нескончаемая нить" Пути непрерываема, не двоится, и потому невозможно одно противопоставить другому, скажем душу телу, которые взаимопроникаются, едины. Тело – школа духа, по состоянию тела можно знать о состоянии души. Могло ли быть иначе, если одни и те же "семена"-цзин составляют и разум, и органы тела? А значит, невозможно пренебречь ни тем, ни другим, ибо если разум не в порядке, то и тело страдает, и наоборот.
Если дхармы, образующие все существа и все явления этого мира, и есть психофизические структуры, то они доступны восприятию. Значит, и высшая Истина, законы Бытия, доступны смертному, если он следует правильному Пути, расширяет сознание. Одни называют это высшим дэ, другие – праджней, но суть одна: человек обретает Свободу и полную ясность мысли, Всевидение.
У Сократа философ может "припомнить" то, что некогда видела его душа:
""Познавать" означает восстанавливать знание, уже тебе принадлежавшее. И называя это "припоминанием", мы бы, пожалуй, употребили правильное слово".
("Федон", 75 Е).
"Теперь подумай, Кебет, согласен ли ты, что из всего сказанного следует такой вывод: божественному, бессмертному, умопостигаемому, единообразному, неразложимому, постоянному и неизменному в самом себе в высшей степени подобна наша душа, а человеческому, смертному, непостижимому для ума, многообразному, разложимому и тленному, непостоянному и неверному самому себе подобно – и тоже в высшей степени – наше тело".
("Федон", 80 В).
Сократ умел убеждать и убедил не только тех, кто пришел проститься и в последний раз насладиться беседой с ним. Подобное отношение к телу укоренилось на века, принимая порой крайние формы: от аскезы до телесной распущенности. От распущенности нравов и распущенность тела, не регулируемого разумом.
Отторжение тела от духовной сферы привело к тому, что разум был лишен своего регулятора, а тело – своего наставника, и появилась неустойчивость здоровья, беззащитность перед болезнями, унаследованными и обретенными.
При таком отношении к телу, к своей физической структуре человек и не мог претендовать на мудрость, потому что мудрость есть знание Целого через Целое. Собственно, Платону кто откажет в мудрости ("высший ум един"). Дело в другом – в той самой склонности к дихотомии, в представлении об изначальности власти-архе, о правомерности господства одного над другим, предопределившим тип мышления и парадигму западной цивилизации. Судите сами:
"Когда душа и тело соединены, природа велит одному подчиняться и быть рабом, а другой – властвовать и быть госпожою. Приняв это в рассуждение, скажи, что из них, по-твоему, ближе божественному и что смертному? Не кажется ли тебе, что божественное создано для власти и руководства, а смертное – для подчинения и рабства?"
("Федон", 80 А).
Вот отсюда все и пошло. И, видимо, этот императив, обусловивший западный психотип на многие века, включая наш, обусловлен самой действительностью.
Я не люблю прибегать к формуле "бытие определяет сознание" не потому, что она неверна, а потому что одностороння. К ней потеряно доверие, как ко всякой односторонности, к тому же часто эксплуатируемой. Но в данном случае она находит подтверждение. Видимо, рабство, действительно, занимало такое место в жизни греков, что большинство философов (может быть, за исключением киников) не сомневалось в его естественности и справедливости.
Таков закон природы: одним дана власть, другим – повиновение. Иначе зачем эта власть? (Аристотель, как уже упоминалось, распространяет действие закона господства-подчинения и на химические элементы).
В понимании взаимоперехода жизни и смерти (одна противоположность переходит в другую, так возникает и все вообще – противоположное из противоположного) Платон сближается с даосами и с буддистами.
"Если бы возникающие противоположности не уравновешивали постоянно одна другую, словно описывая круг, если бы возникновение шло по прямой линии, только в одном направлении и никогда не поворачивало вспять, в противоположную сторону... все, в конце концов, приняло бы один и тот же вид, приобрело одни и те же свойства, и возникновение прекратилось бы".
("Федон", 72 В).
И это рассуждение помогает понять диалектику небытия и бытия у Платона, которые также переходят друг в друга, бытие переходит в свое "иное". Согласно "Пармениду", бытие, рассматриваемое само по себе, едино, вечно, неизменно, неподвижно и не подлежит страданию. Напротив, бытие, рассматриваемое через свое "иное", или небытие, – множественно, возникает, изменчиво, подвижно и подлежит страданию.
Но тогда Платон понимает под бытием то, что восточные мудрецы понимали под Небытием, и наоборот. Платон принимает Бытие в его полноте: оно одновременно едино и множественно, вечно и преходяще, неизменно и изменчиво, покоится и не покоится, движется и не движется, действует и не действует, страдает и не страдает. Именно Бытию, которое всегда тождественно самому себе и само по себе двойственно, отдается предпочтение.. Небытие же для Платона – лишь "иное", лишь условие становления – "материя", или "мать", "кормилица", которая оплодотворяется, получая в свое лоно "идеи": "Каждая из идей действительно существует и... вещи в силу причастности к ним получают их имена" ("Федон", 102 В). ("Имя-форма" – нама-рупа – в буддизме – неведение – те самые ниточки, за которые дергают марионетку-сознание. А Конфуций предлагал "исправлять имена", не соответствующие действительности).
Собственно, и с "противоположностями" нет полной ясности. С одной стороны, они у Платона переходят друг в друга, с другой – та же самая противоположность не может стать своей собственной противоположностью, уничтожаются обе или одна из них (что исключается моделью инь-ян: то инь преобладает, то ян, но они не уничтожают друг друга, а успокаиваются в Великом пределе). Обратимся еще раз к "Федону":
"И вообще ни одна из противоположностей, оставаясь тем, что она есть, не хочет ни превращаться в другую противоположность, ни быть ею, но либо удаляется, либо гибнет... Сама противоположность никогда не перерождается в собственную противоположность. Ни в нас, ни в своей природе".
("Федон", 102Е, 103В).
Это обусловило характер методологии, "аналитику" Аристотеля и всей последующей философии. И хотя В. Асмус в "Предисловии" к "Избранным диалогам" Платона убеждает: "Греки были далеки от воззрения Френсиса Бэкона, требовавшего от науки, чтобы она умела "пытать" природу, чтобы она была способна силой, и притом в особых, создаваемых самим исследователем условиях, вырывать у нее тайны и заставлять ее служить интересам и власти человека" [83]. Но "из ничего ничто не возникает", и исследователь не случайно вспомнил в данной связи о греках.
Какие уж могут быть претензии к мировым процессам! Хочу лишь разобраться, в чем же их несоответствие, рождающее тем не менее Единство. Все есть во всем, каждая сторона имеет в зародыше все, речь идет лишь о том, что чему-то отдается предпочтение, т.е. о преобладании какого-то из элементов, о доминантности. У неоплатоника Плотина ярче проступает то, что менее явственно у Платона: "Склонность выбирать между противоположностями обнаруживает неспособность оставаться на уровне высшего совершенства". ("Эннеады", VI, 8, 21). Именно потому, что для Плотина Реальность "уже есть, поскольку она будет, но ее бытие только в будущем". ("Эннеады", II, 5, 3–5).
Итак, греческие философы достигли такой высоты ума, что последующие поколения – и ученые, и священнослужители – постоянно обращались к ним и обращаются по сию пору. Похоже, их Ум не имеет предела. И все же это была именно "философия", а современность, по-моему, больше нуждается в Мудрости. Дело, конечно, не в том, что философы Греции по рангу ниже мудрецов Востока, дело в ином подходе, в качественно различных формах Знания. У греков были другие заботы, иные задачи: познавать мир и господствовать над ним. А человек – он и так "богоподобен", ему лишь надобно освоить законы диалектики, диалога, чтобы быть убедительным в доказательствах своей правоты (недаром такое место в греко-римском мире заняло искусство риторики). Та истина, на которую претендовали греки, видимо, и не требовала других примеров. Но, получается, что, "любя мудрость", они все же изменяли ей, не забывали о себе, отделяя себя от мира (субъект от объекта) во имя овладения последним. Тем самым нарушили Целое, а сделав это, лишили себя возможности познавать Истину (Целое достигается Целым, и то, что получаешь в созерцании, отдаешь в любви).
Другое дело, что не будь такого раздвоения, объективации, не было бы и науки, и возникшей на ее основе цивилизации. В этом отношении, что и говорить, Запад обошел Восток (если можно, конечно, обойти того, кто идет по другой дороге). Но ощущение Триумфа в XX в. вдруг сменилось ощущением Конца, "Заката Европы", после которого уже не наступит Восход. Многие философы усомнились – стоила ли игра свеч, нужно ли было отрываться от Основы ради триумфа той цивилизации, которую не назовешь человеческой? И большая часть философской мысли, если не вся, оказалась в оппозиции к этой цивилизации. Достаточно вспомнить немецких философов: Шеллинг, Шопенгауэр, Шпенглер, Ницше, не говоря о русской философии (к которой мы еще подойдем). Рождалось новое мироощущение, его возвещали философы и поэты, не всегда, правда, подозревая об этом, лишь отталкиваясь от существующего, как не вызывающего доверия.
И в наше время немало антисциентистов задаются вопросом: нужно ли, нет – развивать Науку в ущерб Человеку, в ущерб Целому? Так или иначе, принявшая тотальный характер "объективация" более не устраивает индивида, ощутившего себя одиноким, отчужденным от мира и решившего восстановить утраченную целостность, чего бы это ни стоило.
К тому времени, когда Платон, вдохновленный Сократом, создавал свои диалоги, восточная мысль прошла уже долгий путь и успела пережить несколько "превращений" (скажем, индуизма в буддизм). Сознание подошло к тому пределу, когда частные знания, наблюдения над явлениями природы, то, что сами мудрецы называли "наукой", перестало их устраивать [84]. Судя по Чжуан-цзы, давно уже прошло то время, когда они полагались на технику:
"От своего учителя я слышал: "У того, кто применяет машину, дела идут механически, у того, чьи дела идут механически, сердце становится механическим. Тот, у кого в груди механическое сердце, утрачивает целостность чистой простоты. Кто утратил целостность чистой простоты, тот не утвердится в жизни разума. Того, кто не утвердился в жизни разума, не станет поддерживать Путь"".
("Чжуан-цзы", гл. 12).
И это говорилось в IV в. до н.э.
Или, как сказано в "Мундака упанишаде" (I, I, 4-5): "Два знания должны быть познаны, – говорят знатоки Брахмана, – высшее и низшее". Низшее – "это Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Атхарваведа, (знание) произношения, обрядов, грамматики, толкования слов, метрики, науки о светилах. Высшее же – то, которым постигается непреходящее".
Иначе говоря, накопленные в Китае и Индии знания позволили перейти уже на другую ступень Эволюции. Вставшие на Путь думали не о том, как устроен мир, а как правильно прожить в этом мире человеку, чтобы самому избавиться от страданий, не предназначенных человеку, и помочь другим. Для этого мало "любви к истине", нужно возлюбить и самого человека, и все сущее. Как иначе поможешь страждущему миру? Понадобилось знание не об объектах, а знание самой Истины – как все связано между собой, каковы отношения всего со всем, что есть причина каждого явления в отдельности и мира в целом? [85]
Понять же это невозможно при делении на части, и мудрецы постигали не части Единого, а закон Перемен. Буддизм сосредоточился на невидимом, недоступном анализу – на природе сознания, не поддающегося членению, дабы научить человека управлять собой, быть независимым от майи, от закона причинного возникновения (пратитья самутпада), где одно с неизбежностью порождает другое, от круговорота бытия, движимого законом кармы ("обусловленного действия"), неведением (авидьей). Человеку остается проникнуться мыслью: все устремлено к прекращению вибрации дхарм, к своему истинному состоянию, Покою. В Покое наступает "Ничтойность", появляется ощущение Всеединого, все обретает свою подлинную природу. Поэтому в махаяне Реальность отождествляется с татхатой ("таковостью", – а Будда называется Татхагатой – "кто приходит и уходит ТАК", спонтанно). Истинный мир – тот, который не расчленен понятиями, знаками, символами, и в этом смысле есть Небытие.
Мировоззрение, в основе которого лежит представление о Едином, нераздвоенном на субъект-объект, об изначальности Небытия, формирует соответствующий тип мышления и форму поведения. Его особенность – внимание к внутреннему, к духовной реальности, к миру тонких энергий, изначальных структур, к миру "образа без образа", который доступен не внешнему взору, а внутреннему, чистой Интуиции. Так активизируются резервы сознания, если человек становится на путь сосредоточенного размышления и благого делания.
Разумеется, нельзя упрощать проблему. И на Востоке, как говорилось, все было не так просто, и немалая пропасть отделяла мудрецов от немудрецов. Спасения достигали немногие. В любой социальной среде, исторически ограниченной, учения мудрецов теряют, как правило, первоначальный смысл (как теряет его любая идея, переходя с уровня сущности на уровень функции). Учения мудрецов доступны немногим (кстати, в этом одна из причин распространения простонародных форм религии). Функцию посредничества между мудрецами и непросвещенной массой взяли на себя даосские и буддийские проповедники, странствующие монахи, а также храмовая служба, ритуал, обряды, монастырские празднества, чтение популярной буддийской литературы на доступном народу языке. С целью приобщения к мудрости обожествлялись мудрецы, в честь которых возводились храмы (как, скажем, храм Конфуция). Тем не менее мудрецов было мало, о чем сетовал проницательный правитель Японии VII в. Сётоку Тайси в первых же статьях своей "Конституции" (604 г.):
"1. Цените согласие, ведь основа (всего – дух) непротивления.
Все люди входят в группировки, (наносящие вред государству), а мудрых мало...
2. Ревностно почитайте три сокровища; (эти) три сокровища суть: Будда, дхарма и сангха (буддийская община – Т.Г.).
(Они) – последнее прибежище (созданий) четырех рождении и наивысшие (объекты) поклонения во всех странах.
Все миры, все люди почитают дхарму. Мало людей очень плохих; если (их) наставлять хорошо, то (они) последуют (по истинному пути).
Исправить (их) можно только с помощью этих трех сокровищ" [86].
Пути Истины следовали немногие не только в Японии, но и в Китае, о чем скорбит Тао Юаньмин (365–427). О нем проникновенно рассказал в своей книге знаток Китая Л. Э. Эйдлин: "Вспомним третье стихотворение (Тао Юаньмина) "За вином": "Скоро тысячелетье, как заброшен путь правды, дао: люди, люди обычно слишком любят свои заботы..." Чжэнь (Истина) – это я путь правды – дао, и определяемые последним качества настоящего, праведного человека" [87].
Но настоящий мудрец шел своим путем не оглядываясь. "Истина пути в том, чтобы совершенствоваться самому, все остальное – сор: и (управление) царством, и управление Поднебесной" ("Чжуан-цзы", гл. 28). И тот же Чжуан-цзы говорит: "Умеющий довольствоваться (малым) не станет отягощать себя... тот, кто совершенствует в себе внутреннее, не стыдится остаться без службы" (там же). Подобная ориентация ума давала свои плоды; просвещенные люди Китая и Японии отказывались от неправедной службы и нередко уходили в отшельничество, посвящая себя Пути.
Что говорить, один мудрец не похож на другого, но и один мудрец похож на другого, иначе он – не мудрец. Мудрец – это когда "одно во всем и все в одном". Здесь обычные критерии не годятся. Скажем, в чем-то мудрец, в чем-то не-мудрец – так не бывает: мудрец видит "глубочайшее" (чэн). Между даосизмом, буддизмом и конфуцианством есть разница, и путь даоса отличен от пути конфуцианца, но цель одна: приобщить к Истине, изменив сознание, очистив от неправды, от эгоцентризма, эту неправду порождающего. Поэтому Лао-цзы говорил: человеческое дао "отнимает у бедных и отдает богатым, что отнято", в противоположность небесному дао, которое "отнимает у богатых и отдает бедным, что отнято" ("Даодэцзин", §77). "Когда народ не боится могущественных, тогда и достигается Великое могущество. Не притесняйте народ, не оскорбляйте его презрением. Кто не презирает, тот не презираем. Совершенномудрый, все понимая, не выставляет себя, ведая любовь, не ищет почестей" (там же, §72). И все же, заключает Лао-цзы, "мои слова легко понять и легко им следовать. Но их не понимают и им не следуют в Поднебесной" (там же, §70).
Пусть Конфуций придавал больше значения внешней, обрядовой стороне жизни – приличиям, ритуалу, но не ради них самих, а ради того же нравственного очищения, совершенствования человека, чтобы возобладала в нем изначально чистая природа (син). Потому и говорил: "В учении нет различий" ("Луньюй", XV, 38). Заострял внимание на мотивах поведения, на человеческих отношениях, от которых зависит мир и спокойствие в Поднебесной. "Согласие – взаимность" – это те слова, которыми можно руководствоваться всю жизнь: "Не делай другому того, чего не желаешь себе" (там же, XV, 23). Мудрец считает возможным сослаться на мнение ученика: "Ю-цзы сказал: "Следует придерживаться ритуала, он приводит к согласию"" (там же, I, 12). Но согласие возможно, если имеешь дело с истинным человеком (цзюньцзы), и невозможно, если имеешь дело с низким человеком (сяожэнь). Конфуций понимал, что "не идущие одним путем не находят согласия" (там же, XV, 39). (Вспомним проницательную мысль Августина: "И все то, что взаимно не согласуется, согласуется с низшим миром" ("Исповедь", VII, 12, 18). Не случайно в "Луньюе" (IV, 11, 16, II, 12, XV, 20) Конфуций сосредоточил внимание на двух категориях людей: на мелком, низком человеке (сяожэнь) и благородном, истинном человеке (цзюньцзы). "Цзюньцзы думает об истине, сяожэнь – о собственном благе. Цзюньцзы думает о том, чтобы не нарушить путь, а сяожэнь – извлечь выгоду"; "Цзюньцзы знает лишь долг, сяожэнь – лишь выгоду". Истинного человека нельзя использовать как средство: "Цзюньцзы – не орудие"; "Истинный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим".
Жизненные наблюдения убедили Конфуция, что мелкие люди; любят объединяться, но объединяются ради собственной выгоды. Истинный человек ни с кем не объединяется, но служит всеобщему благу, живет со всеми в согласии и обо всем заботится: "Истинный человек не коллективен, но всеобщ. Мелкий человек – коллективен, но не всеобщ" (там же, II, 14). Мелкий человек руководствуется мелкими, частными или ведомственными интересами и неизбежно наносит ущерб целому, общему делу. "Цзюньцзы держит себя строго, но не вступает в споры. Живет со всеми в согласии, но не идет на сговор" (там же, XV, 21). Конфуций не раз возвращается к этой мысли: "Цзюньцзы живет в согласии, но не следует за другими, сяожэнь следует за другими, но не живет в согласии", поэтому цзюньцзы предназначено восходить, идти наверх, а сяожэню опускаться вниз (там же, XIII, 23, XIV, 23). И в "Учении о Середине" сказано: "Цзюньцзы следует Срединности, сяожэнь ее нарушает" ("Чжуньюн", 2, I). Значит, цзюньцзы живет по закону Целого, он – Целый человек, и за ним будущее.
Истинный человек не подобен другим, потому и Един со всеми; идет своим Путем и, очищая хомосферу, очищает и биосферу. Как говорят буддисты, спасая себя, спасаешь других; очищая свое сознание, очищаешь весь мир. Дао-человек брал за образец природу, но и истинный конфуцианец брал за образец Небо. И Конфуций мог сказать: "Если утром познаешь Путь (дао), вечером можно умереть" ("Луньюй", IV, 8). Нетрудно почувствовать разницу, сравнивая, например, путь даосов – путь естественности (цзыжань) и восьмеричный путь буддизма [88], или путь дзэн, ведущий к озарению (сатори). Даос стремится к невозмутимости: ничто не должно препятствовать Свободе, изначальной гармонии, нарушать чистоту цзин. "Тот, кто постиг Высшую гармонию, – говорит Ле-цзы, – подобен пребывающему в чистом опьянении, сладко засыпает, чтобы странствовать в сердцевине" ("Ле-цзы", гл. 3). Но и чаньский мастер Хуэйнэн сообщает, что природа человека подобна пространству и мысли и чувства проплывают в изначальном сознании как птица в небе, не оставляя следа. И те, и другие устремлены к Свободе, но идут к ней разными путями. Даосы не утруждают себя "сидячей медитацией" (дзадзэн), предпочитают странствовать с "ветром и потоком" (дбэмлю) [89]. Дао повсюду, говорил в "Новых речах" Лу Цзя (216–172); если оно пронизывает все сущее, значит, "дао близко и нет нужды углубляться в древнее и далекое. Овладей главным – и успех обеспечен" [90].
Различные Пути ведут к Одному – к достижению полной невозмутимости, состояния "не-я" (яп. муга), "не-думания" (яп. мусин), Всевидения. Различаются лишь формы, приемы, но не цель Пути. Потому китайцы и говорят о "триедином учении" (сань-цзяо), имея в виду единство даосизма, конфуцианства и буддизма. Другое дело, что сказывались и личные пристрастия. Скажем, синтоистскому монаху Есида Канэтомо (1434–1511), проповедовавшему "единство трех учений" (яп. санкё итти), кажется, что "буддизм – это цветы и плоды всех вещей, конфуцианство – их ветви и листья, синто же – корень всех вещей" [91].
В Японии все имеет свое божество (коми), и это божество участвует в жизни каждого и страны в целом. (Кстати, в этом одна из причин интереса к японской модели, которую можно назвать полицентричной, сингулярной). Все целостно, все исходит из Одного и сохраняет с ним преемственную связь [92]. Все пребывает в Едином – "одно во всем, и все в одном", и если не было представления о противоположностях (хотя бы в платоновском смысле), то и не могло одно противопоставляться другому.
Так мы шаг за шагом подходим к идее изначального Небытия, неделимого, невидимого. В том, что оно изначально, убеждают тексты (как и в том, что оно неделимо – "природа будды не знает делений", но это, очевидно, не требует доказательств; невозможно делить то, чего нет).
Начиная разговор о кардинальной проблеме Небытия, я не буду углубляться в ее генезис, не буду и останавливаться специально на буддийском учении о Пустотности (шуньяте) (чтобы не злоупотреблять вашим терпением). Скажу лишь, что Пустотность, несубстанциональность сущего – одна из главных идей Махаяны (нет того, к чему можно прикрепиться). Шунья подобна Нулю, не имеет собственной ценности, к ней неприложимы обычные определения, ибо все "пустотно", и определения в том числе (они могут обрести смысл лишь в точке, где неповторимым образом пересекаются связи причины-следствия). Учение о Пустоте идет от "Праджня парамита сутры" [93] и широко распространилось в Китае и Японии, свидетельствуя о несубстанциональности мира: "Нет ни одной вещи" (выражение Хуэйнэна – яп. Эно). Все в этом мире непрочно, непостоянно (мудзё), все есть вспышка дхарм (что не помешало японцам опоэтизировать непостоянство, воспеть его красоту – мудзё-но-би). Видение истинно-сущего возможно в особом состоянии ума, когда он раскрывается в момент вспышки, озарения – сатори. Уже существует изначальная просветленность (хонгаку), и очищая сердце-сознание, постигаешь ее.
Изначально все уже есть; и формы, и вещи, и образы – все пребывает в Небытии в неявленной форме. Неявленное и есть истинно-сущее (ибо "явленное дао" не есть "постоянное" дао). В Небытии все пребывает в истинном виде, не искаженном человеческими пристрастиями – представлениями о прекрасном или полезном. Значит, задача – научиться проникать в это невидимое, "считывать информацию" "с Неба". В этом назначение учений и всех видов искусства, выросших на их основе. Существует наука психотренинга – владения собой, своей энергией" своим сознанием – йога, или сидячая медитация в дзэн (и несидячая, активная: сатори можно пережить в момент наивысшей активности, скажем в самурайском поединке) [94]. "Стремителен, но недвижим – свойство дао и мудреца" ("Хуайнань-цзы", гл. I). В буддизме – это свободное, спонтанное, необусловленное действие (акарма – четвертая ступень восьмеричного пути), отождествляемое с даосским недеянием (увэй, яп. муи). Или то, что в буддизме школы Тэндай называется муса (несотворение), и означает – быть совершенно естественным: все феномены существуют так, как они существуют, и никто их не создал. Иногда муса – не-сотворение отождествляют с Нирваной. Японский же буддист Синран (1175-1262) говорил: "Вселенская пустота – это природа будды. Природа будды – это нёрай (санскр. татхагата). Нёрай – это недеяние".
А у Лао-цзы: "В мире все вещи рождаются в бытии, а бытие рождается в Небытии". "Небытие проникает везде и всюду. Вот почему я знаю пользу от недеяния. В Поднебесной нет ничего, что можно сравнить с учением без слов и пользой от Недеяния" ("Даодэцзин", §40, 43). Мы уже знаем, что в Небытии (строго говоря, его можно писать только с заглавной буквы, потому что оно есть Все), в зыбкости и неясности пребывают все вещи, все образы, семена-цзин – в них Истина, Искренность. И потому неудивительно слышать от Чжуан-цзы. что "врата природы – небытие. (Вся) тьма вещей выходит из небытия. Бытие не способно стать бытием с помощью бытия, (оно) должно выйти из небытия. Небытие же владеет единственным небытием" ("Чжуан-пзы", гл. 23). Или от Ле-цзы: "Heт ничего лучше покоя, нет ничего лучше пустоты. В покое, в пустоте, обретаешь свое жилище, (в стремлении) взять, отдать, теряешь свое жилище" ("Ле-цзы", гл. I). Как говорится в преданиях о Желтом Предке (Хуанди):
Пустота – бессмертна, назову
ее глубочайшим началом.
Вход в глубочайшее начало назову корнем неба и земли.
Глубочайшее начало бесконечно и потому действует без усилий.
"Поэтому-то порождающий вещи не рождается, изменяющий вещи не изменяется. (Вещи) сами рождаются, сами развиваются, сами формируются, сами окрашиваются, сами познают, сами усиливаются, сами истощаются, сами исчезают". Ле-цзы же говорит: "Светом наполнена пустота Ничто" (там же).
И в "Хуайнань-цзы" не может быть иного отношения: "Авторы "Хуайнань-цзы" страстно выступают против "деяний" (вэй), в основе которых лежит противопоставление человеческого произвола непреложности естественного "пути" ...рождение, формирование и гибель вещей не подвластны ничьей воле, а только общему движению всего целого, направляемому дао" [95], – комментирует Л. Е. Померанцева. Небытие даже выше Света, как мы уже знаем:
"Свет решил вступить в
это небытие и отступил, растерявшись.
И сказал: "Я могу быть и не быть, но не могу абсолютно не быть""
("Хуайнань-цзы", гл. 2).
Но если так, если Небытие выше Света и содержит в себе Высшую истину, то как же, в самом деле, действовать в согласии с ней, если она невидима и неслышима? Лао-цзы отвечает – следовать Недеянию. (Думаю, не стоит вновь объяснять, что речь идет не о "матери всех пороков" и не о чем-то ей противоположном, не о бездеятельности и не о безудержной деятельности, о которых не знаешь – что хуже). Недеяние – это не своевольное, а умное действие, сообразуемое с природой вещей (потому и пишу это слово с заглавной буквы). Лао-цзы говорит: "Совершенномудрый опирается на Недеяние и учит без слов"; "Не выходя со двора, узнаешь Поднебесную. Не выглядывая в окно, видишь Небесное дао" ("Даодэцзин", §2, 47). И зачем мудрецу ходить куда-то, предпринимать что-то, когда все уже есть, существует невидимо и неслышимо, и нужно лишь в предельном сосредоточении проникнуть в Это. Тогда я различишь неразличимое. Не выдумывать, не конструировать несуществующее ("искусственные дхармы"), а научиться видеть то, что есть, скрыто в "глубочайшем мраке". И получишь истинное Знание.
Недеяние – это когда внутренний Покой, прекращается вибрация дхарм, сознание просветляется. Тогда и возможно "действие вне действия" (вэй увэй), или самоестественное действие, порождаемое природной Необходимостью, а не человеческим хотением. "Дао постоянно в Недеянии, но нет того, чего бы оно не делало". Лишь в покое начинаешь видеть невидимое. На это способен человек с высшим дэ: "Человек с высшим дэ недеятелен, следует Недеянию; человек с низшим дэ деятелен и нарочит". Поэтому совершенномудрый говорит: "Если я не действую, народ сам изменится к лучшему; если я пребываю в Покое, народ сам исправится" ("Даодэцзин", §37, 38, 57).
Естественно, Недеяние исповедовал и Чжуан-цзы, взявший за образец Природу:
"Небо и земля обладают совершенной красотой, но не ведут об этом речи; четыре времени года обладают ясными законами (чередования), но не обсуждают их; тьма вещей обладает (определенными) правилами становления, но не излагает их. Мудрый ищет источник совершенной красоты неба и земли и постигает правила (становления) тьмы вещей. Поэтому совершенный человек бездействует, а совершенномудрый ничего не создает – это значит, что они небо и землю берут за образец. Священный разум (неба и земли) совершенен в своей тонкости и вместе (с тьмой вещей проходит) бесконечные изменения. Вещи сами собой умирают и рождаются, сами по себе квадратные или круглые, и не известно их начало"
("Чжуан-цзы", гл. 22).
(Устремление к не-действию можно найти и в древнеиндийских учениях. Скажем, первоначальную энергию, когда она пребывала в Покое, называли Брахманом, когда она проявляла себя в созидании и разрушении, называли шакти ("мощь", "сила"). Согласно "Бхагаватгите", шакти – энергия, творящая мир, соединяет в себе неизменность Брахмана и изменчивость явленных с помощью майи вещей).
Труднопостижимо для человека западной культуры подобное отношение к Небытию, к Недеянию. Трудноуловимо единство Небытия-Бытия, неощущение их границ. Все вещи существуют и несуществуют одновременно, пребывают в Пути, в процессе перехода из Небытия в Бытие, и наоборот. Отсюда взгляд на несубстанциональность, несуществование вещей. Вещь не реальна в том смысле, что каждый свой миг она уже иная, приближается к Небытию, к растворению в Едином, но вечны законы ее изменений. Реально то, что не подвержено воздействию пространства и времени, что Над бытием. Вещь временна, процесс ее изменений вечен, и потому акцент ставится не на том, что есть, а на том, чего нет, что пребывает в Покое, но порождает жизнь, акцент не на явленном, а на неявленном. "Явленное дао не есть постоянное дао", – в то же время оно есть постоянное дао, ибо дао само по себе не существует.
Вот эта мировоззренческая установка – неразделение истинно-сущего и эмпирического – обусловила недуальную модель мира, недуальный принцип мышления [96]. Явленное есть лишь временное проявление неявленного. Акцент на творящей функция; Небытия не мог не сказаться на психологии людей, в чем нетрудно убедиться, читая восточные тексты. Мир есть процесс безостановочных изменении и потому непознаваем, непостижим, но в своей невидимой основе он неколебим, покоен и потому доступен проницанию. Восприятие мира как Процесса на феноменальном уровне и как Покоя, Пустоты на уровне истинно-сущего обусловило соответствующий метод познания и форму, стиль восточных учений. Процесс, заданный мировой пульсацией, саморегулирующимся Путем, невозможно постичь рассудком. Взор совершенномудрого устремлен за пределы видимого, в Пустоту Небытия, которое и есть истинная Реальность. "Глядя вверх, совершенномудрые наблюдали небесные письмена, глядя вниз, узнавали законы земли". Говоря словами китайского поэта Лу Цзи (261–303), "я вникаю теперь в пустоту и безжизненный нуль, чтоб потребовать там бытия: я стучусь в безмолвие мрака, хочу, чтоб звучал он" [97]. Образ текуч, не фиксируется сознанием; он обволакивает мысль, как инь обволакивает ян. Идея и образ недуальны (как недуальны сущность и существование, число и символ). Все есть аспекты Одного, разные функции Дао.
А. Уоттс в книге "Путь дзэн" говорит о том, что еще "Ицзин" настроил ум китайцев на подобный лад, приучил к спонтанности, к умению "отпускать" свой ум, предоставляя ему действовать самому по себе. Это и есть Недеяние (увэй). Лишь свободному, неугнетенному сознанию доступно дао. По мнению исследователя,
"важнейшее отличие дао от обычного представления о Божестве в том, что Господь создает мир актом творения (вэй), тогда как дао создает его "несотворением" (увэй), что приблизительно соответствует нашему слову "произрастание". Ибо вещи сотворенные – это отдельные части, собранные воедино, как механизм, или предметы, членение которых навязано извне, как, например, скульптура. Развитие же всего растущего происходит изнутри и направлено вовне" [98].
С точки зрения английского синолога Дж. Нидэма, человеческое мышление развивалось двумя путями – греческим и китайским. Греческий привел к признанию закона механической причинности, причинно-следственной связи, китайский же – к взгляду на Вселенную как на живой организм, следующий закону стихийной гармонии.
"Мир – это громадный континуум, в котором то один, то другой компонент становится ведущим, – он спонтанный, никем не созданный, и все его составляющие свободно кооперируются во взаимном служении. Притом большие или меньшие "части" играют свою роль в соответствии со своим положением, "ни до, ни после других". Этот взгляд созвучен современной науке" [99].
Действительно, уже "Ицзин" в своих гексаграммах соединил то, что разделяли греки. Мир, по "Ицзину", – органическое Целое, живой континуум, где все существует в единстве неявленного и явленного, неизменного и изменчивого, непрерывного и прерывного. Идея континуума естественно и неизбежно вытекала из идеи изначального Небытия, и наоборот – представление о дао порождало ощущение небытийности сущего. Континуальность не поддается логическому анализу, не выстраивается в ряд. Можно вспомнить "Сицычжуань":
"В Поднебесной различные пути приводят к одному, а многие размышления возвращаются к Единому. К чему Поднебесной размышления! Солнце заходит, луна восходит. Луна заходит, солнце восходит. Солнце и луна взаимодвигают друг друга, и свет рождается. Холод уходит, тепло приходит. Тепло уходит, холод приходит. Холод и тепло взаимодвигают друг друга, и год завершается"
("Сицычжуань", 2, 21).
И потому мудрые правители избегали что-либо навязывать, "исправлять природу". Они знали, что если их действия разойдутся с Путем, с велением Неба, то недолгим будет их правление: они "притянут" бедствия, стихийные и не стихийные. Потому в "Хуайнань-цзы" и говорится:
"Когда к разуму применяется деяние, он уходит, когда его оставляют в покое – он остается... Пребывать в недеянии, наставлять без речей – в этом заключается искусство владык. Чистый и спокойный, он недвижим; соразмеряется с единым и не колеблется... Во всяком своем предприятии он соразмеряется со временем, в движении и покое следует (внутреннему) закону вещей (ли)"
("Хуайнань-цзы", гл. 2, 9).
Мы уже знаем, что Конфуций сравнивал мудрого правителя с полярной звездой, которая находится в покое, потому остальные звезды притягиваются к ней. Конфуций, веривший в силу вэнь, в благотворное воздействие на человека музыки и поэзии, знает пользу и от Недеяния: "Шунь управлял, не действуя. Как он это делал? Он ничего не делал другого, кроме как почтительно сидел, повернувшись лицом к югу" ("Луньюй", XV, 4). Переводчик "Луньюя" В. А. Кривцов комментирует это место:
"Конфуций выдвигает в качестве примера идеального управления государством "недеяние", т.е. управление без вмешательства в естественный ход событий (у вэй). Характерно, что "недеяние" совпадает здесь с теорией "недеяния" школы даосизма. Комментаторы считают, что "недеяние" означает управление государством с помощью морали (так было принято переводить дэ. – Т.Г.)" [100].
И все же характернее для Конфуция уже упоминавшееся высказывание:
"Учитель сказал: "В любви к Учению опирайтесь на Искренность, цените Учение выше жизни. Не посещайте государства, где неспокойно; не живите в государстве, где идет смута. Если Поднебесная пребывает в покое, будьте на виду. Если нет, удалитесь. Если государство следует Пути, стыдно быть бедным и не в чести. Если государство не следует Пути, стыдно быть богатым и в чести""
("Луньюй", VIII, 13).
Конфуций на личном опыте убедился, что не все благополучно в его государстве, не хватает мудрых правителей, потому и напоминал о правильном управлении.
Метод ненасилия над природой вещей, невмешательства в естественный ход событий, определил на многие века духовную доминанту Китая и способ познания мира. Сунские мыслители 15 веков спустя шли тем же путем. Разбирая подробно "Историю (династии) Сун", где особое место занимает "Наука о Дао" ("Даосюэ"), Н. И. Конрад останавливается на формуле Чжу Си – "познавание вещей – созидание знания": самое важное – "раскрытие добра и подведение себя к истине". Таким образом, сунцы продолжали традицию "Великого Учения" ("Дасюэ"), в комментарии к которому Чжу Си разъясняет сущность своего подхода:
"Что такое "созидание знания заключается в познавании вещей"? Чтобы создать в себе знание, следует приникнуть к вещи и постигнуть ее закон. Ибо у человека есть духовное знание его сердца, у вещей Поднебесной – их закон. Если закон не постигнут, звание – недостаточно. Поэтому первое, чему учит "Дасюэ", это – побудить учащегося стремиться к тому, чтобы, приникнув к какой-либо вещи Поднебесной на основе познания: ее закона, идти по пути постижения все дальше и дальше и дойти до предела ("от одного глубочайшего к другому", – по Лао-цзы – Т.Г.). Когда усилия будут приложены в течение долгого времени, в один прекрасный день все в вещах – их лицевая сторона и обратная, тонкое в них и грубое, – все, как озаренное светом, станет ясным для нашего сердца и в своей сущности (субстанции), и в своем проявлении (акциденции). Это и есть "познание вещей", это и есть "созидание знания"" [101].
Иначе говоря, китайцы не прибегали к методу "аналитики", анализа и синтеза, которым шла научная и философская мысль. Запада, а избрали путь ненарушения Единого, или целостный подход. Поэтому речь и идет о "приникании" или сосредоточении на чем-то ради постижения его закона (ли).
Н. И. Конрад приводит рассуждение предшественника Чжу-Си, И-чуаня:
"Один человек спросил меня: "В практике самосовершенствования это является самым первым?" Я ответил г "Самое первое – сделать свое сердце правым, привести свои мысли к истине. Приведение же своих мыслей к истине состоит в; познании вещей. В каждой вещи есть ее закон. Необходимо проникнуть в этот закон" (почти буквально повторяется упоминавшееся место из "Великого Учения", заменен лишь иероглиф "сердце" на иероглиф "закон" – ли, что характерно для сунской мысли – Т.Г.). Тогда этот человек спросил: "Познавать вещи – что же это значит? Нужно познать все вещи? Или же познание одной вещи дает знание всех законов?" На это я ответил: "Как можно познать все? Познаешь сегодня одно, завтра – другое и, когда накопленное знание будет достаточно велико, сразу проникаешь во все"" [102].
Насколько подобное отношение, "логика Небытия" (если воспользоваться термином Нисида Китаро) укоренились в сознании, свидетельствует и характер восточного искусства. Кавабата Ясунари посвятил раскрытию этой логики свою Нобелевскую речь, напомнив о том, что в дзэнских храмах, в залах для медитации "сидят молча, неподвижно, с закрытыми" глазами, "пока не наступит состояние "не-думания" (мунэн), "не-видения" (мусо). Тогда исчезает "я", наступает "Ничто". Но это не то, что понимают под ним на Западе, скорее наоборот. Это – Пустота, где все существует само по себе, – беспредельная вселенная души". В конце речи Кавабата вновь возвращается к Ничто: "Критика находит в моих произведениях Пустоту – Ничто. Но это совсем не то, что называют нигилизмом на Западе. Думаю, что отличаются наши духовные истоки (букв. – корни сердца – кокоро)" [103]. А чем именно отличаются духовные истоки двух цивилизаций, можно почувствовать, сопоставив канонические и не канонические, вполне современные тексты (даже со скидкой на перевод, который не всегда отвечает духу оригинала). Возьмем всего лишь два отрывка из эссе Кавабата "Элегия":
"Наверное, душа, проходящая через бесконечное множество смертей и рождений, – душа мятущаяся и несчастная. Ведь и Шакья Муни учил род человеческий высвободиться из круговорота перевоплощений и обрести покой в нирване. И все же нет на свете сказки более удивительной, мечты более фантастической и чарующей, чем учение о перевоплощении. Это самая прекрасная элегия, когда-либо созданная человеком. Корни этого учения надо искать на Востоке, в далеких-далеких веках, во всяком случае, в Индии оно восходит к временам Вед. Но и на Западе легенд о перевоплощении больше, чем звезд на небе. Жил человек, умер и стал растением, или животным, или птицей. В древней Греции сколько угодно таких мифов. И даже Гёте устами бедной Гретхен, томящейся в тюрьме, говорит об этом...
И все же человек стремился и сейчас стремится противопоставить себя всей остальной природе, и древние святые, и современные спириты, короче, все, кто пытается размышлять над тайной жизни и смерти и постоянно возвеличивает душу человеческую, пренебрегая душами животных и растений. Вот и получается, что человек тысячелетиями идет в одном направлении, по проторенной дорожке, и ему даже в голову не приходит оглянуться по сторонам.
Может быть, поэтому и стал человек таким одиноким, и душа его одиноко блуждает в пустынном мире.
Я думаю, когда-нибудь он все же поймет, и тогда придется ему повернуть и пойти обратно по тому же длинному пути, которым он шел до сих пор".
Вот и ответ.
Вместе с тем писатель преисполнен восторга перед греческим искусством; хотя воспринимает его несколько на буддийский лад:
"От греческой мифологии, воспевавшей божественную сущность всего земного, где все божественно – и цветок, и звезда, и маленький зверек, и луна, где боги хохочут и рыдают, как люди, веет таким душевным здоровьем, такой полнотой жизни, словно ты пляшешь совершенно обнаженным на зеленой лужайке под чистым небом...
Вот я и думаю, может быть, мне тоже дозволено видеть Вас в алом цветке сливы, распустившемся в нише моей комнаты? Я говорю с цветком – я говорю с Вами...
Чудеса... В пылающем пламени восходит лотос... В любострастии приходит высшее прозрение" [104].
Так уж получилось, греки, в отличие от китайцев, дерзнули упорядочить природу как стихийную силу. Процесс этот оказался необратимым. В результате природа утратила свое божественное предначертание. Дух обитает, где хочет, но он не хочет обитать там, где его не чтят. Когда разрушается Природа, человек отпадает от Бытия. Возомнив себя богоподобным без достаточных на то оснований, человек взял на себя функцию устроителя мира, с его точки зрения неустроенного. (Всякое обобщение чревато упрощением; в любой традиции есть высокое и низкое; но вопрос в том, почему стало доминировать именно то направление ума, за которое мы в XX в. расплачиваемся Жизнью? Потому и возвращаюсь кругами к тому, с чего начала).
Итак, почему на Западе возникли предубеждение и даже страх перед Небытием? Уже Ветхий завет утверждает примат Бытия: "Создающий свет и творящий тьму, делающий мир и творящий зло, – я, Яхве, делающий это" (Исх., XIV, 7). В христианской традиции "живой бог" Библии описывается теологами как идея абсолютного блага, абсолютной истины, как "чистое бытие" [105].
Для греков Небытие (меон) есть космическая тьма, существовавшая до творения. Парменид назвал ложным мнение о том, что "бытия нет, небытие есть" (стало быть, такое мнение существовало), противопоставив ему свое: "Бытие есть, небытия нет", Согласно Пармениду, бытие присутствует в каждом элементе действительности – оно вечно, неизменно, неподвижно, не возникает и не исчезает, в противоположность чувственной природе, которая изменчива, непостоянна и потому иллюзорна, недействительна. Знание, основанное на чувственном опыте, не может быть истинным. Истинное знание – это знание истинного Бытия. (Похоже, Парменид называл Бытием то, что древние китайцы называли Небытием, но противопоставил одно другому, абсолютизировал необходимость). Атомисты, в противоположность элеатам, считали, по словам Аристотеля, что "небытие существует ничуть не меньше, чем бытие". О Платоне мы уже говорили, он уподобляет небытие инертной материи или пространству; вещи в своем преходящем земном существовании пытаются уподобиться идеям, первообразцам, что, однако, редко им удается, поэтому" видимый мир полон нелепостей.
Согласно Плутарху, материя, из которой возник мир, есть вечный субстрат; она не произведена демиургом, но была предоставлена ему, и демиург "в меру возможности уподобил ее себе". В меру возможности – потому что косная материя сопротивляется воздействию божественных эйдосов, и свет Нуса постепенно меркнет, погружаясь во мрак меона. Греки и римляне немало озабочены проблемой бытия-небытия. "Из ничего ничто не возникает", – говорили и Ксенофан, и Эмпедокл, а пять веков спустя – Лукреций.
Ибо из вовсе не бывшего сущее
стать неспособно;
Также и сущее чтобы пришло – ни на деле, ни в мысли
Вещь невозможная: ибо оно устоит против силы...
Нет во Вселенной нигде пустоты: и откуда ей взяться?
(Эмпедокл. О природе, 12, 14).
Если же будем мы знать, что
ничто не способно возникнуть
Из ничего, то тогда мы гораздо яснее увидим
Наших заданий предмет: и откуда являются вещи,
И каким образом все происходит без помощи свыше...
Словом, не гибнет ничто, как будто совсем погибая,
Так как природа всегда возрождает одно из другого
И ничему не дает без смерти другого родиться
(Лукреций. О природе вещей, I, 146, 262).
(И, согласно буддийским представлениям, из ничего не может возникнуть нечто, но потому что нечто сначала существует, а потом возникает). Софист Горгий утверждал, что небытие не может одновременно и существовать и не существовать, и если небытие существует, то бытие не существует, ибо бытие и небытие противоположны друг другу. По словам Секста, "в сочинении, носящем заглавие "О несуществующем, или О природе", он устанавливает три главных положения, непосредственно следующих одно за другим: ...первое – ничто не существует; второе – что если (что-либо) и существует, то оно непознаваемо для человека; третье – что если оно и познаваемо, то все же... непередаваемо я необъяснимо для ближнего" [106].
Поистине, "в Греции есть все", можно найти и "за" и "против", и тех, с точки зрения которых все едино, и тех, с точки зрения которых все не-едино, множественно, существуют лишь атомы и пустота. Противоположным суждениям подвел итог Аристотель. Он претворил в своих трудах провозглашенную им же методику, дав анализ греческой философии. Отвергая одно, утверждал другое, соответствующее его собственному представлению о должном, и делал это с такой убедительностью, что предопределил характер философской, а в некотором смысле религиозной и художественной мысли на два с половиной тысячелетия.
Аристотель дал оценку идее неизменного бытия элеатов:
"Парменид, как представляется, понимает единое как мысленное (logos), а Мелисс – как материальное. Поэтому первый говорит, что оно ограниченно, второй – что оно беспредельно; а Ксенофан, который раньше их (ибо говорят, что Парменид был его учеником) провозглашал единство... утверждал, что единое – это бог". Аристотель остановился лишь на мнении Парменида, отдавая дань его проницательности: "Полагая, что наряду с сущим вообще нет никакого не-сущего, он считает, что с необходимостью существует (только) одно, а именно сущее, и больше ничего"
("Метафизика", 1, 5).
Что говорить, на Западе и к Небытию отношение неоднозначно – то его отождествляли с Хаосом, то возносили до Бога. В апофатической традиции изначально тождество Ничто и Бота; и сама природа "божественного ничто" двойственна: недоступность божества, его безосновность (Ungrund) – Бог как бездна, та божество как изначально не изреченное, не имеющее имени.
Можно вспомнить традицию "Ареопагитик", восходящую к неоплатоникам. Для Плотина материя есть сущность, мыслимая вместе с находящейся при ней идеей и как целое, озаренное светом. Иначе была бы некая исчезающая в не-сущем сущность; точно так же ставшее не пришло в (состояние) сущего из полностью не-сущего. "Единое есть все и ничто, ибо начало всего не есть все, но все – его, ибо все как бы возвращается к нему, вернее, как бы еще не есть, но будет". В отличие, скажем, от изначального Тайцзи (Великого Предела), в котором "обе формы коренятся", в едином, в тождественном, согласно Плотину, нет какого-либо разнообразия, какой бы то ни было двойственности: "Именно потому, что в нем ничего не было, все – из него и именно для того, чтобы было сущее" ("Эннеады", II, 4, 5–8, V, 2, I). Плотину же принадлежит мысль, что вторжение ничто в бытие порождает зло; зло есть недостаток бытия.
Свое отношение к Небытию – в "Ареопагитиках":
"Божественный мрак – это тот недосягаемый свет, в котором, как сказано в Писании, обитает бог. Свет этот незрим по причине чрезмерной ясности и недосягаем по причине преизбытка сверхсущностного светолития, и в этот мрак вступает всякий, кто сподобился познавать и видеть бога именно через не-видение и не-познавание, но воистину возвышается над видением и познаванием, зная то, что бог – во всем чувственном и во всем умопостигаемом, и возглашая вместе с псалмопевцем: "Дивно знание твое для меня, укреплено оно, и не могу я подняться к нему""
(Письма, V, "Послание к священнослужителю Дорофею", 1074 А).
И тому же автору принадлежит мысль:
"Всякое бытие (происходит) из прекрасного и благого, все же не-бытие сверхсущностно (пребывает) в прекрасном и благом"
("Об именах божиих", IV, §10).
Традицию апофатического богословия продолжают немецкий мистик Мейстер Экхарт (ок. 1260–1327) и его последователи, признающие божественное Ничто как основу сущего, которая, чужда всему, ей основанному, а потому по отношению к самой себе является "безосновным" (ungrund). Но не случайно Экхарт объявлен еретиком.
Небытие внушает скорее ужас, страх, который унаследован от далеких предков, когда греки воспринял Небытие как Хаос – конец, исчезновение, меон, косную материю. Такой взгляд и такое ощущение Небытия просуществовало вплоть до нашего времени. Скажем, у В.Соловьева "меон" – чистый хаос, не-сущее, неоформленное, в космогоническом процессе происходит постепенное собирание хаоса в первичное единство силою всемирного тяготения. Согласно "Большой Энциклопедии" начала века: "Ничто (лат. nihil), букв. противоположность чему-либо, чисто отрицательное понятие, получающее свой смысл лишь при сопоставлении с чем-нибудь положительным. Как всякое отрицание, ничто есть или противоположность какой-нибудь определенной вещи: относительное ничто, представляющее в остальном нечто положительное, или общее отрицание всех вещей и всякого существования: абсолютное ничто" [107]. И тот нигилизм (от слова nihil), который объял души просвещенных людей конца века, похоже, проистекает именно от ощущения Ничто как Хаоса.
Доведенная до крайности точка зрения неизбежно вызывает желание утверждать обратное. Проблема Ничто приобрела остроту в наше время, – понятию возвращается онтологический смысл: "Ничто и бытие принадлежат друг другу" (Хайдеггер) [108]. По мысли Сартра, само по себе Ничто не может существовать, для его выявления необходим особый род бытия – человеческое сознание.
В начале века обостряется резко отрицательное отношение к небытию, особенно в среде русских философов, – но именно как к меонизму – универсальному отрицанию. Можно вспомнить отношение П. А. Флоренского:
"Какое пустое, ничему не соответствующее слово меон – "небытие"! Но в конкретном религиозном мышлении как без него обойтись? Меон – все то, что не входит в состав сознания, что из него извергается... небытие – все-бытие, тьма внешняя, то есть вне Бога, – тьма же, ибо не просвещена светом Истины... – и, по существу, не может быть познана, и как не имеющая в себе ничего умного – геена. Небытие в собственном смысле слова предельно – это последнее внебытие, т.е. бытие вне Бога, во тьме внешней". И если бы "оторванное от всякого культа сознание стало строить свою философию, то оно, в свою очередь, анафемствовало бы культ, ориентируясь на нем отрицательно, и обратилось бы к себе самому, к пустоте своей, делая ее предметом ориентировки положительной... Первая правда всякого бытия – само оно, данность его, и первая неправда – несуществование. И первое же благо есть бытие, первое же зло – небытие" [109].
Такое уж сложилось отношение с давних пор. Существовало латинское изречение "боязнь пустоты", или страх перед пустотой (horror vacui; fuga vacui – "избегать пустоты"). По сути, страх перед необозримым пространством – Хаосом – привел в конечном счете к агарофобии, к боязни пространства. Отсюда, видимо, склонность к замкнутости; стремление воздвигать пределы, отгораживаться заборами, стенами домов; или воздвигать преграды в душе, ждать приказов, указаний, советов. Страх перед пространством, по сути, – страх перед собой, перед пустым пространством внутри себя, "внутренней бездной". Самоощущение человека не может не сказаться на том, что он делает, что возводит своими руками: на градостроительстве, архитектуре, на законах композиции – в музыке, живописи, прозе, поэзии, которые, в свою очередь, оказывают обратное воздействие на психику человека.
Очень интересно сравнить отношение к Пустоте Аристотеля и его восточных соседей. Аристотель не случайно озабочен этой проблемой и уделяет ей не один раздел "Физики", "О возникновении и уничтожении" и других работ. Перебирая все возможные взгляды, он возвращается к мнениям древних (главным образом элеатов, Парменида и Мелисса):
"Некоторые из древних думали, что сущее необходимо должно быть единым и неподвижным, потому что пустота есть не-сущее, а если нет отдельно существующей пустоты, то движение невозможно; с другой стороны, и множественности (вещей) не может быть, если нет того, что отделяет (предметы друг от друга)". Аристотель разъединяет единое, переносит акцент на разделение и движение, которое предпочтительнее покоя. И это определило, как уже говорилось, ход мысли на ближайшие тысячелетия. "Исходя из таких доводов, они... объявили Вселенную единой, неподвижной, а некоторые и бесконечной. Ведь (всякая) граница соприкасалась бы с пустотой. Вот так и по таким причинам некоторые высказывались об истине. В рассуждениях это, по-видимому, выходит складно, однако на деле подобные взгляды близки к безумию. Ведь нет человека столь безумного, чтобы считать, что огонь и лед – это одно"
("О возникновении и уничтожении", I, 8).
Логика "исключенного третьего", следуя которой Аристотель объявил бы восточных мудрецов "безумцами", потому что они считали, например, огонь и лед разными проявлениями одного – энергии ци, а "точку" – коррелятом Пустоты, вопреки мнению Аристотеля: "Нелепо при этом считать пустотой точку: она должна быть местом, в котором имеется протяжение осязаемого тела" ("Физика", 4,7). Конечно, нельзя не учитывать, что Аристотель исходил главным образом из физических критериев Пустоты, а восточные мудрецы – из метафизических. Но и это не случайно. Возможно, мысль греков прорабатывала те понятия, которые для восточной мысли были уже пройденным этапом, т.е., пройдя через разрозненное, они подошли к целостному мироощущению. Но те акценты, которые привнес в греческую философию Аристотель, вызваны, видимо, и особой задачей: развить научное мышление, техническую цивилизацию, поэтому ему волей-неволей пришлось поступиться Единым и Бесконечностью, поставить пределы:
"Из сказанного ясно, что не существует пустоты ни в отдельности, (ни вообще, ни в редком), ни в возможности, – разве только пожелает кто-нибудь во что бы то ни стало называть пустотой причину движения... Итак, вопрос о пустоте, в каком смысле она существует, а в каком нет, указанным способом разрешен"
("Физика", 4,9).
Кстати, по свидетельству Аристотеля, Платон "утверждает, что пустоты нет" ("О возникновении и уничтожении", 1,8).
В таком случае не прав ли был японский философ Нисида Китаро, утверждая, что в основе европейской культуры и системы знаний лежит идея Бытия и Формы, а в основе восточной – идея Небытия и Бесформенности, или отсутствия Формы. Если прав Платон, что "Гомер воспитал всю Элладу" ("Государство", IX, 606 Е), а Эллада воспитала преемников, то японский философ не так уж далек от истины. "Для Гомера и в значительной мере и для всего греческого миросозерцания, – по мнению Ф. X. Кессиди, – характерны положительное и даже восторженное восприятие земной жизни и представление о загробном мире как о томительном и гнетущем царстве безжизненных теней" [110]. И та же излюбленная Земля была для Гомера "ареной борьбы".
Ну а что думают на этот счет восточные мудрецы, скажем Лао-цзы? Правда, и у него неоднозначное, естественно, отношение к Пустоте, но суть даосского мировоззрения, как и буддийского, в признании Пустотности, Небытийности мира:
"Дао пусто, но в
применении неисчерпаемо.
О глубочайшее! Оно кажется праотцем всех вещей".
И понимание Пустоты как условия жизни, существования вещей:
"Тридцать спиц
соединяются в одной ступице, (образуя колесо),
но употребление колеса зависит от пустоты между (спицами).
Из глины делают сосуды,
но употребление сосудов зависит от пустоты в них.
Пробивают двери и окна, чтобы сделать дом,
но пользование домом зависит от пустоты в нем.
Вот почему полезность (чего-либо) имеющегося зависит от пустоты"
("Даодэцзин" §4, II).
И §5 возвращает к этой идее, но под Другим углом зрения:
"Разве пространство между
небом и землей
не похоже на кузнечный мех?
Чем больше (в нем) пустоты,
тем дольше (он) действует,
чем сильнее (в нем) движение,
тем больше (из него) выходит ветер.
Тот, кто много говорит,
часто терпит неудачу,
поэтому лучше соблюдать меру".
А почему так? А потому, как сказано в том же §5:
"Небо и земля не обладают
человеколюбием
и предоставляют всем существам возможность жить собственной жизнью.
Совершенно-мудрый не обладает человеколюбием
и предоставляет народу возможность жить собственной жизнью".
Здесь выход на кардинальную проблему Свободы, а условие – освобождение от всяческих преград, пристрастий и слабостей, не только от предубеждений, по и от страсти к стяжательству, от заполненности жизни вещами, сознания – идеями.
"Совершенномудрый ничего
не накапливает.
Он все делает для людей и все отдает другим...
Дао совершенномудрого – это деяние без борьбы"
(там же, §81).
Что уж говорить о буддизме, если сами вещи "пусты", не субстанциональны, и дхармы – пустотны. Основное понятие... шунья говорит от изначальной пустоте всех вещей (скажем, каратэ – букв. "пустая рука", значит, свободная от всяких посторонних мыслей и даже желания победить). Допустимо лишь спонтанное, ненамеренное действие – естественное, необусловленное, "пустое", свободное от корысти. Пустота – условие Свободы: мысли, действия, становления человека, каков он есть в глубине своей. В этом смысл "пустого" или "нулевого" пути, как сказано в Аштасахасрика Праджняпарамите:
"Если он пребывает в форме (rupа), то пребывает в знаке (nimitta); если он пребывает в знаке формы, то пребывает в знаке; если он пребывает (в мысли): "форма является знаком", то пребывает в знаке; если он пребывает в возникновении формы, то пребывает в знаке; если он пребывает в исчезновении формы, то пребывает в знаке; если он пребывает в уничтожении формы, то пребывает в знаке; если он пребывает (в мысли): "форма пуста", то пребывает в знаке" (непривычная логика, не правда ли?).
И Л.Э. Мялль, которому принадлежит этот перевод, заключает:
"Таким образом, буддисты не принимали ни пути, ни системы, а выработали совершенно новое учение, настолько оригинальное и уникальное, что вряд ли можно с чем-либо сопоставить. Название этого учения на санскрите – shunyavada, что можно перевести как зерология. Центральным понятием шуньявады является shunyata – термин, представляющий для буддологии огромные трудности". И, наверное, расшифровка этих понятий потребует измененного сознания. Добавлю лишь: "Ноль в буддизме не обозначает отсутствие чего-либо или отрицание чего-либо, а снятие (еще точнее – игнорирование) оппозиций между утвердительными и отрицательными суждениями, между + и –, а это значит, что все взаимосвязи оцениваются как неопределенные" [111].
(это наводит на мысль, что индийская мысль прошла еще более длительный путь, чем китайская, до снятия даже той "оппозиционности", или несоответствия, которые все же в какой-то степени содержатся в китайской модели инь-ян [112]).
Итак, у одних Пустота или вовсе отрицалась, или служила для разделения вещей. У других – ощущение Небытия, Пустоты лежит в основе представления о мире; Пустота как истинно сущее, условие проявления изначальной природы, Единого. Я потому так подробно останавливаюсь на этом понятии, что оно в какой-то степени объясняет поведение людей, их представления о сущем и должном.
Если на Пустоту смотреть как на то, что разграничивает предметы, что нужно заполнить, преодолеть, то, естественно, акцент сместится на деятельное начало. При ориентации на "борьбу", переустройство мира руководящим принципом становится не Недеяние (увэй), а Деяние, действие (вэй). Власть (архе) немыслима без Деятельности и без объекта ее применения, т.е. нужно иметь, над кем и над чем властвовать. Такая установка определила социально-психологическую парадигму на многие века. Но, пожалуй, именно Аристотель поставил "деятельность" во главу угла, отождествив ее с "началом":
"Значит, нет никакой пользы, даже если мы предположим вечные сущности, как это делают те, кто признает эйдосы, если эти сущности не будут заключать в себе некоторого начала, способного вызывать изменения... ведь если это начало не будет деятельным, движения не будет".
("Метафизика", XII, 6).
Восточные же учения, как мы уже знаем, признают изначальность Недеяния, Покоя: "Покой есть главное в движении" (Лао-цзы). В Покое все само собой совершается, движение исходит из Покоя и возвращается к нему.
Правда, деятельное начало у Аристотеля есть Ум, разумная деятельность. Но человек благополучно пренебрег "умной" стороной деятельности, по крайней мере поставил именно "деятельность" на первое место, раз уж она изначальна. Не потому ли действие нередко опережает ум (о чем говорят, например, многочисленные пословицы, ну а более наглядно – катастрофические последствия непродуманных действий, экологические катастрофы, не только у нас, но и на Западе, в цивилизованных странах). А все, может быть, потому, что полагались на Деятельность самою по себе, как и на Труд сам по себе, хотя не всякий труд хорош, а лишь тот, который разумен – осознанный, творческий труд, необходимый самому человеку, ибо созидает его.
Если же "деятельность" изначальна, то с человека как бы снимается ответственность, он начинает полагаться не на себя, а на некое "деятельное начало" вне его, будь то Нус, Бог, Царь, приказ начальника. За него решат, ему остается подчиниться. Такой человек не прислушивается к себе, и из богоподобного становится машиноподобным, из творца – исполнителем (в лучшем случае роботом) или вовсе – винтиком. Но "истинный человек – не орудие" ("Луньюй", II, 12). Значит, если некто только исполнитель, только функционер, не подключен к Творчеству – он еще не человек, не участник всемирного процесса.
Конечно, не Аристотель виноват в том, что так получилось. У Стагирита брали то, что устраивало неразвитое сознание. Он же подчеркивал, что "ум есть деятельность", притом не всякий ум, а Высший, или Разум (есть ум низшего порядка – ограниченный, функциональный, речь же идет об Уме сущностном, о Мудрости).
"И даже если оно будет деятельным, то этого недостаточно, – продолжает Аристотель, – если сущность его только возможность, ибо в таком случае вечного движения (в отличие от вечного Покоя на Востоке – Т.Г.) не будет, так как сущее в возможности может и не быть (в действительности). Поэтому должно быть такое начало, сущность которого – деятельность. А кроме того, такие сущности должны быть без материи: ведь они должны быть, вечными (восточные же мудрецы не отделяли закон (ли), внутреннюю форму вещи, от энергии (ци), ибо они нераздельны, как нераздельны материя-дух, инь-ян, покой-движение – Т.Г.)... следовательно, они должны пребывать в деятельности... Впрочем, если следовать взгляду рассуждающих о божественном, что все рождено из Ночи, или мнению рассуждающих о природе, что "все вещи вместе", то получится такая же несообразность. В самом деле, каким же образом что-то придет в движение, если не будет никакой причины, действующей в действительности? Ведь не материя же будет двигать самое себя... (вопреки мнению восточных мудрецов, с точки зрения которых все самоестественно возникает благодаря циркуляции инь-ян; не существует внешней, отделенной от явления причины [113] – Т.Г.). Поэтому некоторые предполагают вечную деятельность, например Левкипп и Платон: они утверждают, что движение существует всегда... Сам Платон не может сослаться на начало движения, которое он иногда предполагает, а именно на то, что само себя движет, ибо, как он утверждает, душа позже (движения) и (начинается) вместе со Вселенной. Что касается мнения, что способность первое деятельности, то оно в некотором смысле правильно, а в некотором нет... а что деятельность первее, это признают Анаксагор (ибо ум есть деятельность) и Эмпедокл, говорящий о дружбе и вражде, а также те, кто, как Левкипп, утверждает, что движение вечно. Поэтому Хаос и Ночь не существовали бесконечное время, а всегда существовало одно и то же, либо чередуясь, либо иным путем, если только деятельность предшествует способности". И делает вывод: "А так как дело может обстоять таким именно образом (иначе все должно было бы произойти из Ночи, или смеси всех вещей, или из не-сущего), то затруднение можно считать устраненным (не допускалась мысль о рождении сущего из не-сущего – Т.Г.). А именно: существует нечто вечно движущееся беспрестанным движением, а таково движение круговое; и это ясно не только на основе рассуждений, но и из самого дела, так что первое небо (сфера неподвижных звезд), можно считать, вечно. Следовательно, существует и нечто, что его движет... оно вечно и есть сущность и деятельность. И движет так предмет желания и предмет мысли; они движут, не будучи приведены в движение. А высшие предметы желания и мысли тождественны друг другу, ибо предмет желания – это то, что кажется прекрасным, а высший предмет воли – то, что на деле прекрасно. Ведь мы скорее желаем чего-то потому, что оно кажется нам хорошим, а не потому оно кажется нам хорошим, что мы его желаем, ибо начало – мысль. Ум приводится в движение предметом мысли"
("Метафизика", XII, 6–7).
В подзаголовках Аристотель уточняет свои идеи:
"Глава шестая. Вечная неподвижная сущность. Доказательство того, что должны существовать лишенные материи сущности, существо которых – в деятельности"; "Глава седьмая. Причина основного актуального движения – вечное начало, неподвижное и ничему не подверженное, бытие которого – высшая ценность: деятельность чистого мышления, в коем вечный ум мыслит сам себя. Высшее благо не результат других исходных начал (как считают пифагорейцы и Спевсипп), а начало, в высшем совершенстве которого оно обособлено от чувственно воспринимаемых вещей, не имеет никакой пространственной величины и ничему не подвержено".
Здесь напрашивается вопрос: не называл ли Аристотель бытием то, что на Востоке называют Небытием, с той, может быть, разницей, что этот "вечный ум", который "мыслит сам себя", существует в сознании самого человека. И у Аристотеля есть все, есть и идея, для которой только сейчас приходит время, – о присущности материи энтелехии (близко китайскому понятию "ли" – внутренняя форма вещи). В той же "Метафизике" сказано: "Причиной называется... форма, или первообраз, а это есть определение сути бытия вещи" ("Метафизика", V, 2). Если у Платона цель, благо находятся вне чувственного мира, то у Аристотеля сама "материя" есть носитель энтелехии (Там же, VII, 13), т.е. сама материя стремится к реализации заложенной в ней Формы, или осуществляет в процессе своего одухотворения благую цель – Энтелехию (что близко как идее русского космизма – о духовности самой материи, так и современной науке, которая исследует законы самоорганизации материи).
И все же и в этом случае есть принципиальное расхождение у Аристотеля с его восточными современниками. Его сознание тяготеет к теогоническим образам Хаоса и Ночи. Может быть, в этом одна из причин упования на "деятельность" как на возможность выстроить из Хаоса Космос. Для восточных же мудрецов истинный Ум (праждня) пребывает в самом человеке и проявляется в Недеянии. Значит, деятельность не "предшествует способности", а вытекает из нее (хотя ясно, что речь идет о разных уровнях сознания, но праджня, присущая каждому, благодаря Недеянию реализуется). Восточный мудрец не ставит в один ряд "предмет желания и предмет мысли", ибо одно другому противоречит. Сознание очищается от желаний, связывающих его природу, обрекающих на страдания. В западной эйкумене – доминанта "действия", восторжествовала в конечном счете "воля к власти", которая в XX в. воплотилась в крайние формы.
Естественно, при ориентации на Недеяние "воле" не могли придать такого значения:
"Пусть опустошится и исчерпается моя воля, чтобы она никуда не направлялась и не знала, куда пришла; чтобы уходила и возвращалась и не знала, где остановилась. И я бы уходил и возвращался и не знал бы конца (этому движению). Я блуждал бы в бескрайней пустоте, где появляется великое знание, и не знал бы его пределов"
("Чжуан-цзы", гл. 22).
Восточные мудрецы полагались на "волю Неба", которой все следует самоестественно (цзыжань).
Но можно ли сомневаться, что преодоление личной воли требует не меньших усилий, чем ее проявление? (По словам Ганди, Недеяние предполагает высшее напряжение всего существа человека). Личная воля, при зауженном сознании, ведет лишь к хаосу, беспорядку. Потому мудрецы предостерегали от своеволия, эгоцентризма и призывали к работе над собой, к преодолению ложного "я". Лишь забыв себя, в состоянии "не-я", постигаешь Истину. Об этом свидетельствуют самые ранние памятники китайской древности, в том числе "Сицычжуань", по определению Н. Т. Федоренко, "своеобразная энциклопедия древнекитайской культуры, которая знакомит нас с особым типом знания, извлеченного интуитивным мышлением, с априорными доопытными формами познания, свойственными человеческому разуму" [114].
И все же главное расхождение в том, что одни уверены в необходимости действия: упорядочить мир, управлять материей, инертной массой, что приводит к разделению, к дуальной модели мира. Другие, напротив, считают главным сохранить Единое, ради этого признают недуальную модель мира, не-двойственность, неразделение субъекта-объекта ("не-два", яп. фуни) [115].
Насколько эта парадигма устойчива, свидетельствует и современная философия Японии. Принцип недвойственности не только не утратил своего значения, но к нему пробуждается интерес не в одной лишь Японии. Пусть недвойственности, или Срединности, пропагандирует, например, известный буддийский деятель Икэда Дайсаку, разъезжая по свету. Читая лекции студентам Калифорнийского университета в апреле 1974 г., он привлек их внимание к идее Срединного пути буддизма Махаяны. Именно этот путь, отвергающий максимализм, крайности, может, по мнению Икэда, гармонизировать человеческие отношения, уравновесить крайние точки зрения и тем самым вывести мир из кризиса.
Но построить истинно человеческую цивилизацию можно, лишь изменив сознание, преодолев основную, с его точки зрения, болезнь европейской цивилизации – эгоцентризм. В этом вопросе совпали взгляды японского буддиста и английского историка А. Тойнби, с которым Икэда встречался дважды (в 1972 и 1973 гг.). Тойнби также видит в эгоцентризме, в зацикленности) сознания на собственном "я" причину всеобщего упадка и призывает к обузданию этой "дьявольской страсти". Лишь тогда станет возможен, по его мнению, человечный XXI век, когда будет отброшена "дьявольская" цивилизация, управляемая личным "я", как не соответствующая человеческому пути, препятствующая единению людей. Тогда и окажется возможным освобождение подавленного за тысячелетия творческого начала человека, подлинного Я – человека гуманного, гармоничного, целостного.
Более основательно Икэда Дайсаку раскрывает принцип недвойственности в книге "Буддизм: живая философия", где останавливается на учении буддиста XIII в. Нитирэна, чьи идеи исповедует возглавляемое одно время Икэда общество Сокка гаккай [116]. Нитирэн провозгласил принцип сикисин фуни, что переводится как единство (недвойственность) духа и материи. Иероглиф сики (санскр. рупа) означает все, имеющее форму. Если обратимся к Большому словарю буддийских слов, то убедимся, что "рупа" происходит от глагола ру (яп. ковасу) – "разбивать", "разламывать" [117], т.е. рупа означает разъятую, распредмеченную действительность, а второй иероглиф – син (яп. кокоро – "сердце", "душа"). Нитирэн хочет сказать: все формы едины, недвойственны (фуни), ибо объединены единой душой (кокоро), которая у каждого своя и у всех одна (вспомним Сэн Цаня: "Одно во всем, и все в одном").
Известный популяризатор дзэн Дайсэцу Судзуки следующим образом раскрывал смысл недвойственности: реальность может быть постигнута лишь в непосредственном переживании, вне иллюзии пространства и времени, вне множественности ("дурной бесконечности" – одно из толкований майи). В момент озарения (сатори) исчезает сконструированная сознанием сеть иллюзий, и вещи предстают в их подлинном виде. Непросвещенное же сознание продолжает рассекать действительность, "вонзая ей в сердце нож рассудка", и потому не может уловить ее.
С точки зрения Нитирэна, все едино, все суть разные формы проявления одной и той же жизненной силы, и потому все созвучно, резонирует друг с другом, как Луна – "эхо" Земли. Значит, все живое и нет ничего неживого (то, что в России доказывали по-своему Циолковский, Чижевский, Вернадский). Это и дает основание Икэда говорить о близости взглядов Нитирэна современной науке: "Похоже, что научные исследования в скором времени докажут, что не существует непроходимой границы между одушевленными и неодушевленными предметами, и, значит, они подтвердят буддийский взгляд на жизнь, высказанный много веков назад" [118].
Наша задача понять, как двигалась мысль к этому единству, чтобы не выпасть из общемирового процесса, захватившего все формы жизни. Этот синтез открылся полвека назад японскому философу Нисида Китаро.
В молодые годы Нисида пережил озарение, о чем рассказывается в одном из номеров сборника "Беседы в Камакура" конца 30-х годов. Прогуливаясь однажды в парке Канадзава, юный Нисида испытал вдруг чувство освобождения. Его пронзила мысль, что "все сейчас существующее и есть сама действительность (татхата – таковость)" [119]. От этого чувства и родилось его раннее сочинение "Исследование блага" ("Дзэн-но кэнкто"), где он вводит понятие "чистого опыта" (дзюнсуй кэйкэн) как непосредственного переживания "реального бытия", независимо от субъекта-объекта, духа-материи, – понятие, которое служило ему метафорой личного, спонтанно пережитого состояния (в духе традиционного взгляда на "реальное бытие" или Небытие но Хаос, нуждающийся в упорядочении, а Единое, неотъемлемое от человеческого Я). Позже Нисида сформулировал свое понимание "чистого опыта": "Все оттуда и туда!" (вспомните шунь-ни, яп. дзюн-гяку: Будда Татхагата приходит и уходит ТАК).
Свой путь в философии Нисида начал с буддизма дзэн, одновременно изучая, с присущей японцам тщательностью, философию Запада, от греков до Канта, Фихте, Гуссерля. Следуя принципу недвойственности (фуни), или "логике Небытия", "не-я" (муга), он смог увидеть непредвзято то, что увидел. Волей-неволей сопоставляя две системы знания, Нисида убедился, что логика Аристотеля не является "логикой конкретного бытия", а объективный метод Гегеля далек от "логики Небытия" самого Нисида. Не найдя удовлетворения и в кантовской теории познания, он пришел к выводу, что вся европейская теория познания исходит из априорного противопоставления формы и содержания, субъекта и объекта. Это обернулось утратой целостного видения Бытия, доступного лишь непосредственному опыту. Усомнившись в правильности метода классической философии, Нисида предлагает вернуться к "истинному конкретному бытию", которое неотделимо от человеческого Я, к "изначальной сущности", где все вещи, взаимопроникаясь, пребывают в Едином. В центре этого мира находится человеческое Я, когда же Я отделяется от мира, в котором возникло, то ему некуда идти (вспомним Догэна: если Просветленность не в тебе, то где же?).
Размышляя над причиной дихотомии субъекта-объекта, Нисида не принимает аристотелевское определение индивида: "являющееся субъектом не является предикатом". В дальнейшем Нисида сосредоточил свое внимание на проблеме бытия индивида, что и делает его учение небезынтересным нашему времени, ожидающему Целого человека:
"Индивид, который, будучи отражением того, что непосредственно помещено в абсолютную творческую и универсальную сферу, отражением этой сферы, в свою очередь, сам творчески движется (другими словами, творение хотя и абсолютно отлично от единственного творца, но составляет абсолютно одно целое с этим творцом), – это положение явилось самым основным законом, которому подчиняются реально существующие вещи, как таковые. Если существование ограниченной единичности обозначить термином "быть", то ею, по существу, может явиться вещь, которая движется конкретно-фактически и исторически-необходимо, лишь будучи моментом индивидуального проявления абсолютного небытия (абсолютно творческой жизни)" [120].
Согласно Нисида, Я не только не существует вне этой Реальности, но и не существует вне конкретного места и времени, как не существует вне конкретного места и времени жизнь и наука (традиционное недуальное восприятие точки пространства-времени). Настоящее, по словам Нисида, есть "та точка, где будущее и прошлое, отрицая друг друга, становятся едины... Прошлое и будущее, глядя в глаза друг другу, являют диалектическое единство настоящего" [121].
Нисида открыл, что более всего угнетает современного человека, и сделал это открытие достоянием других. Вследствие раздвоения человек ощутил себя одиноким, отторгнутым от мира и глубоко несчастным. Он также видел выход в преодолении эгоцентризма, разъединившего человека с природой и с самим собой. Инструментом или средством преодоления признавал логику Небытия, абсолютно честное, непредвзятое отношение, опирающееся на одну лишь Реальность, а не на априорные представления о ней, за века укоренившиеся в сознании, но не укорененные в Бытии. Логика такого рода естественно вытекала из представления о Небытии как Едином, которое можно пережить, преодолев двойственность. По мнению Нисида, именно от степени расширения сознания зависит степень прогрессивности общества. И, надо сказать, логика Небытия обнадеживала: сколько ни было отклонений в Истории, Целое продолжает свой Путь.
Нужно было иметь немалое мужество и великую цель, чтобы подвергнуть сомнению то, что более двух тысячелетий считалось непререкаемым для европейского ума, сам принцип аксиоматики, метод мышления, укоренившийся в философии. Нисида выразил несогласие с кардинальными для европейской мысли идеями, в том числе с феноменологией неокантианства, в таких сочинениях, как "Интуиция и интроспекция в сфере самопознания", "Проблемы сознания" и др. Следствием этого внутреннего диалога явилась работа "От действия к созерцанию" ("Хатараку моно кара мирумоно э". Токио, 1927), заголовок которой говорит сам за себя. Книга свидетельствует о глубокой проницательности японского философа, увидевшего причину кризиса европейской цивилизации в отсутствии целостного мышления, в том, что действие опережает сознание, что и придает европейской цивилизации взрывной характер. Сам Нисида прибегал к методу "размышления", которое основывается на конкретном опыте, к созерцанию, позволяющему видеть действительность как Целое (по словам Канта, Целое недоступно дискурсивному разуму, но открывается интуиции).
"То, что я называю интуицией, – пишет Нисида, – не мыслилось тогда в объективном плане как переход от Фихте к Шеллингу (проще говоря, как движение из самого сознания во вне его – Т.Г.). Я считал, что интуиция не стоит над действием, скорее действие возникает из интуиции".
Изначальная сущность реальных вещей пронизывает всю нашу жизнь, в которой мы здесь и сейчас живем и которая ожидает, что мы откроем и признаем ее, поясняет автор статьи о Нисида, – Такидзава Кацуми.
"Следовательно, нам также непозволительно пренебрегать под предлогом "безграничности" истории и "современной стадии" науки теперешней обязанностью ясно осознать конечные причины и тенденции человеческой жизни. Следует сказать, что отрицание этого, пусть даже, к примеру, и "представителями диалектического материализма", есть доказательство отсутствия достаточно серьезного признания того факта, что человек и сегодня, как и в первые дни бытия, и в вечном будущем – это одна субстанция". Если человеческое сознание вернется к моменту своего возникновения и устремится дальше, "то и там обнаружится не что иное, как оно само по себе".
Иногда сопоставляют философию Нисида с экзистенциализмом или персонализмом. Что говорить, европейская философия, самоестественно подошла к недвойственному, целостному подходу, и это сблизило ее с восточной традицией. Японские ученые не случайно говорят о современном звучании идей Нисида. По мнению Такидзава Кацуми, Нисида стремился открыть новые перспективы во всеобщей истории природы путем постановки современных научных проблем в области сокровенных тайн человеческой жизни и утверждения последовательной объективной логики.
"Без этого разве можно избежать опасности, что благородные традиции "восточного Небытия" не только отдаляются от предуказанного пути развития современной всемирной истории, но и используются силами, которые направлены против этих традиций?".
Заслуживает внимания вывод автора о том, что ни одна социальная система не может не считаться с единым процессом Эволюции, если хочет иметь будущее. Всякая односторонность обречена на гибель. Вне этого "даже сама по себе борьба рабочего класса за социалистическое общество, вероятно, никоим образом не может быть чем-то полностью разумным и реальным, чем-то имеющим буквально массовый, всенародный масштаб, чем-то стоящим в одном ряду с глубинными течениями совершающейся ежедневно истории. И этот факт, думается, мы должны особенно глубоко осознать сегодня, именно сегодня, когда бы "сосуществования двух миров" невозможен мир во всем мире", – заключает автор статьи, написанной более 30 лет назад [122].
Философия такого рода была поначалу несколько неожиданной для японцев (не говоря уже о наших японистах) и вызвала к себе скорее настороженное отношение. Как говорил поэт-романтик Китамура Тококу, "ныне существует некая философия, или как это еще там называется... В древности же не было иного пути к познанию истинной сущности Вселенной, кроме как через сердце человека. И потому, поддаваясь очарованию цветов, приближаясь душой к явлениям иного мира, здесь под блуждающей луной слушая ветер и созерцая дождь, мы лишь проникаем в сущность единого бытия Природы" [123]. И хотя слова Тококу прозвучали лет на двадцать раньше, чем появились труды Нисида, предубеждение против "философии", как таковой, все еще существовало. Нисида возвысился над временем и, следуя Срединному пути, положил начало новой философии, получившей название "Киотосской школы".
Для меня феномен Нисида свидетельство того, что Восток и Запад самопознаются друг в друге. Взгляд со стороны позволяет увидеть себя, как в зеркале, то, что самому незаметно, не бросается в глаза. Именно свой угол зрения – с позиции традиционной культуры – позволил японскому философу увидеть то, что сами европейцы не замечали.
Новый тип знания при его глубинном усвоении ведет к расширению сознания, а при расширенном сознании все приходит в правильное отношение. Потому Нисида и видел в логике Небытия, в целостном, непредвзятом взгляде возможность взаимопонимания, которое сохранит жизнь на земле. Этот тип отношения он определил формулой "Все оттуда и туда!" – по логике жизни. Именно "оттуда и туда", а не только "оттуда" и не только "туда" (обратная связь предотвращает односторонность). Все живое пульсирует в ритме Жизни, а что не пульсирует, то не живое.
Говоря словами японского публициста Таока Рэйуна, обеспокоенного натиском европейской цивилизации в начале века,
"я отнюдь не хочу умалять достоинств западной литературы и восхвалять восточную... Пусть существуют священные книги евреев и "Фауст", Данте и Шекспир. Но пусть так же существуют Упанишады и буддийские сутры, Шицзин, стихи Ли Бо и Ду Фу наравне с прозой Кэнко-хоси и Бакина. Только читая те и другие произведения, мы сможем оздоровить мировую литературу, сможем заимствовать друг у друга сильные стороны, компенсировать слабые" [124].
Есть в европейской традиции то, что приводило в восторг людей Востока и рождало желание учиться у Европы: независимость, дерзания духа, устремленность в будущее, вера во всесилие человеческого разума. Все то, что восхищало Тагора: "Европейская культура принесла нам не только свои знания, но и свой динамизм. Мы не можем усвоить ее сразу и целиком, и это ведет к бесчисленным ошибкам. Однако европейская культура пробуждает наше сознание от интеллектуальной спячки именно благодаря тому, что не совпадает с нашими традиционными представлениями". Но он резонно добавлял: "Я призываю к усилению всех национальных элементов нашей культуры вовсе не для противодействия западной культуре, а для того, чтобы мы могли по-настоящему понять и принять ее, чтобы она стала нашим хлебом насущным, а не обузой" [125]. Но было и то, чему Запад стал учиться у Востока, и выдающиеся умы XX в. обратились к его мудрости.
Говоря о несовпадении парадигм Востока и Запада, я имею в виду разные мировоззренческие доминанты, которые не только не исключают, но и предполагают друг друга, как принадлежащие Единому. Это особенно заметно в наше время, хотя совсем еще недавно Единое искали на том уровне, где его не было и быть не могло. К Единому идут разными путями, а разные пути, индивидуальные лики подменялись единым образцом. Целое сводилось к части, а все, что не умещалось, отсекалось. И вместо живого Единства, где все непохоже, получалось единообразие (безликая схема, скажем всеобщего Возрождения, или всеобщего Просвещения, которая увела в сторону востоковедную науку и подорвала к ней доверие). Целостная картина доступна целостному уму, на который появляется надежда.
Так явственно из глубины веков
Пытливый ум готовит к возрожденью
Забытый гул погибших городов
И бытия возвратное движенье.
(А. Блок)
Попробуем взглянуть на события умственной жизни Европы накануне XX в. Не есть ли они закономерное следствие предыдущего опыта, определившего характер последующих явлений? Обратимся к нигилизму Ницше – знамению времени, самопризнанию погибающей цивилизации (или одной из ее форм). Эпоха выкрикнула о себе правду устами философа-мученика, книги которого явились логическим завершением пройденного Пути; той мерой Истины, которая доступна большому, но отчаявшемуся уму, потрясенному видом гибнущего мира (прожитый с тех пор век, с его безумиями и болью, делает возможным этот взгляд со стороны).
Задумаемся над последней, посмертной книгой Ницше – "Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей", где собрано написанное философом за 1884–1888 гг. Сто лет назад! В России "Воля к власти", реквием европейской цивилизации, появился в 1910 г.: "Московское книгоиздательство" опубликовало полное собрание сочинений Ницше [1]. В "Воле к власти" мы и в самом деле видим "переоценку всех ценностей", слышим, как и хотел Ницше, "общий приговор" над столетием, над всей современной "цивилизацией". Но только ли?
"Жизнь на земле в целом – мгновение, эпизод, исключение без особых последствий, нечто, что пройдет бесследно для общей физиономии земля; сама земля, подобно остальным созвездиям, – зияние между двумя ничто, событие без плана, разума, воли, самосознания, худший вид необходимости".
Круг замкнулся: из Хаоса вышли, в Хаос вернемся. Абсолютно лишь абсолютное отрицание – вечное становление, в котором нет ни субстанции, ни смысла, ни цели: "хаос, в котором нет ни единства, ни порядка, ни логики, ни целесообразности", – комментирует Г. Рачинский. Бессмысленная математическая игра сил. "Становление лишено всякого смысла: про него нельзя сказать, что оно разумно или неразумно, доброжелательно или беспощадно; оно в высшей степени безразлично и аморально, оно не преследует никакой цели, и Ницше восхваляет его "невинность"" [2] (то самое "безразличие" Хаоса, которое более всего пугало римлян). Становление в конечном счете – всего лишь результат состязания между энергиями, между соперничающими, волями, непрестанно борющимися за превосходство.
"Воля к власти" – вот единственная реальная сила, присущая всем явлениям и двигающая мировой процесс. (Все та же склонность европейского ума выделять и абсолютизировать что-нибудь одно, начиная от греков, предпочитающих одну из стихий, кончая, скажем, Фрейдом. То "одно", которое не есть Единое, сквозное, как, скажем, нить дао, соединяющая явления разного рода. Мыслители Запада, движимые научной или религиозной суперидеей, придавали в общем частному закону всеобщий характер, оттого Наука двигалась, сама себя отрицая, нетерпимость становилась причиной социальных, национальных бед и религиозных войн).
Уже в ранних работах, таких, как "Рождение трагедии из духа музыки" (1872 г.), Ницше признает трагичной изначальную суть бытия в силу ее бесформенности, иррациональности, хаотичности. Он не случайно искал опору в досократовской Греции: Сократ, по его мнению, "своим вкрадчивым, злохитрым мышлением" разрушил великую народную и религиозную философию эпохи трагической культуры Эллады. "Он поставил логику и стремление к рассудочной сознательной "истине" на первое место, направив их на борьбу с инстинктами и страстями, т.е. с основными элементами жизни; он отождествил мораль с логикой, разум с добродетелью и счастьем и тем лишил моральные ценности их природного характера, положив начало искажению и обеднению живого типа "природного человека". Сам Ницше утверждал примат жизни над логикой, надеясь на естественный "поток жизни", примирение двух начал: дионисийского (культ жизненной силы – оргиастической, экзальтированной) и аполлоновского (логически-членящего, односторонне-разумного, спокойного и величавого).
И все же не мог философ XIX в. мыслить человека-разумного первобытным существом, направляемым одними лишь инстинктами, сколь ни верил в стихийность бытия, сколь ни склонялся к языческому натурализму, к идее "вечного возвращения", истоки которой восходят, возможно, к Пифагору:
"Я приемлю тебя, жизнь, какова бы ты ни была: данная мне в вечности, ты претворяешься в радость и желание непрестанного возвращения твоего; но я люблю тебя, вечность, и благословенно кольцо колец, кольцо возвращения, обручившее меня с тобою".
Но что это за "кольцо" и что за ним, и как сочетается вера философа в инстинкт жизни, в идею "вечного возвращения", с его отчаянным нигилизмом, доведшим до душевного расстройства?
К своему нигилизму Ницше пришел через "Человеческое, слишком человеческое" (1878 г.), "По ту сторону добра и зла" (1887 г.), "Антихриста", опубликованного посмертно.
Нет смысла в жизни, потому что нет цели, нет возможности Творчества, есть сплошное "Ничто", не заслуживающее доверия и усердия. Философ не может проповедовать то, во что не верит, что не принимает душа. Все, чему поклонялись два тысячелетия, все моральные, духовные ценности, оказались химерой. На глазах рухнуло грандиозное, продуманное до мелочей здание логических построений, и под ним открылась бездна. Значит, строилось оно в пустоте, на ложной, не существующей основе. "Мы измеряем ценность мира категориями, которые относятся к чисто вымышленному миру". Значит, реальна одна лишь "бездна", дающая и отнимающая жизнь, и не ищи в ней участия, не жди сострадания (последнее вовсе не по душе Ницше – расслабляет волю), а прими жизнь, как она есть.
Выходит, вернулись к тому, от чего в страхе бежали более двух тысяч лет назад. "Не гляди долго в бездну, если не хочешь, чтобы бездна заглянула в тебя" (Ницше не последовал собственному совету). Беда давно надвигалась, и он хочет понять ее истоки, ее генеалогию. Каждая фраза преисполнена боли:
"Семнадцатый век аристократичен, поклонник порядка, надменен по отношению к животному началу, строг к сердцу, – лишен добродушия и даже души... век, враждебный всему естественному и лишенному достоинства... Сильное волей столетие, а также – столетие сильных страстей.
Восемнадцатый век весь под властью женщины, – мечтательный, остроумный, поверхностный, но умный...
Девятнадцатый век более животный, подземный; он безобразнее, реалистичнее, грубее, – и именно потому "лучше", "честнее"..., истинней; зато слабый волею, зато печальный и темно-вожделеющий, зато фаталистичный. Нет страха и благоговения ни перед "разумом", ни перед "сердцем"; глубокая убежденность в господстве влечений".
Сколько иллюзий воздвигла себе человеческая мысль, и все они рухнули одна за другой – вера в определенные цели мирового процесса; вера в великое целое, благо которого требует самопожертвования отдельного. Наступает тяжкое прозрение – убедившись, что реальный мир не имеет ни цели, ни целостности, человеческая мысль начала создавать себе "ряд фиктивных миров, видя в них "истину" бытия; но один за другим, как карточные домики, падали эти миры ее грез; и тогда она потеряла веру в самую "истину, веру в те категории разума, при помощи которых воздвигались эти бесплодные и неустойчивые миры".
Оптимальное выражение закона "отрицания отрицания": Ницше отвергает все, что превозносилось последние века, не только идеи, но и формы, методологию, сам принцип систематики и аксиоматики (что, кстати, сказалось на свободной композиции его афористического стиля).
"Искомый смысл мог бы заключаться в следующем: "осуществление" некоего высшего нравственного канона во всем совершающемся, нравственный миропорядок; или рост любви и гармонии в отношениях живых существ; или приближение к состоянию всеобщего счастья; или хотя бы устремление к состоянию всеобщего "ничто" – цель сама по себе есть уже некоторый смысл. Общее всем этим родам представлений – предположение, что нечто должно быть достигнуто самим процессом – и вот наступает сознание, что становлением ничего не достигается, ничего не обретается... Следовательно, разочарование в кажущейся цели становления как причина нигилизма: разочарование по отношению к вполне определенной цели или вообще сознание несостоятельности всех доныне существующих гипотез цели, обнимающих собой весь путь "развития" (человек более не сотрудник и менее всего средоточие всякого становления)".
И в этом причина неизбежности нигилизма как "психологического состояния" человечества.
Вторая причина возникновения нигилизма – утрата ощущения Целого, того состояния, когда "душа, жаждущая восхищения и благоговения, упивается общим представлением некоторой высшей формой власти и управления (если это душа логика, то достаточно уже абсолютной последовательности и реальной диалектики, чтобы примирить ее со всем...). Какое-либо единство, какая-либо форма "монизма": и как последствие этой веры – человек, чувствующий себя в тесной связи и глубокой зависимости от некоего бесконечно превышающего его целого, – как бы modus божества... "Благо целого требует самопожертвования отдельного"... И вдруг такого "целого" нет! В сущности, человек теряет веру в свою ценность, если через него не действует бесконечно ценное целое: иначе говоря, он создал такое целое, чтобы иметь возможность веровать в свою собственную ценностью.
Наконец, существует и третья причина (и форма) нигилизма – помрачение духа. Если же "принять те два положения, что путем становления ничего не достигается и что под всем становлением нет такого великого единства, в котором индивид мог бы окончательно потонуть, как в стихии высшей ценности, то единственным исходом остается возможность осудить весь этот мир становления как марево и измыслить в качестве истинного мира новый мир, потусторонний нашему. Но как только человек распознает, что этот новый мир создан им только из психологических потребностей и что он на это не имел решительно никакого права, возникает последняя форма нигилизма, заключающая в себе неверие в метафизический мир, – запрещающая себе веру в истинный мир. С этой точки зрения реальность становления признается единственной реальностью и воспрещаются всякого рода окольные пути к скрытым мирам и ложным божествам – но, с другой стороны, этот мир, отрицать который уже более не хотят, становится невыносимым" [3].
Я потому так подробно останавливаюсь на философии Ницше, что в ней видны объективные причины нигилизма как определенной фазы развития человеческого духа и трудно понять XX век, не принимая ее во внимание [4]. Но трудно и жить дальше, принимая во внимание лишь одну сторону вещей, одну сторону мирового процесса – разрушительную, энтропийную (функцию Хаоса) и не видеть другую, созидательную, эктропийную (функцию Логоса), хотя и не так просто научиться смотреть на мир двумя глазами. Сколь ни велик нигилизм Ницше, философ на что-то надеялся, прежде всего на сам "нигилизм", его очистительную функцию.
"Фактически всякое крупное возрастание влечет за собой и огромное отмирание частей и разрушение: страдание, симптомы упадка характерны для времен огромных движений вперед; каждое плодотворное и могущественнее движение человеческой мысли вызывало одновременно и нигилистическое движение. Появление крайней формы пессимизма, истинного нигилизма, могло бы быть при известных обстоятельствах признаком решительного и коренного роста, перехода в новые условия жизни. Это я понял".
Да, Ницше своей философией захватил неподъемный пласт Истории, надорвался, но и обнажил ее нерв. Увидеть им приоткрытое – значит услышать "Прелюдию к философии будущего", понять Время, зачавшее XX век.
"Мир имеет, быть может, несравненно большую ценность, чем мы полагали, – мы должны убедиться в наивности наших идеалов и открыть, что мы, быть может, в сознании, что даем миру наивысшее истолкование, не придали нашему человеческому существованию даже и умеренно соответствующей ему ценности" [5].
Тот же Ницше! Путь к спасению видит в преодолении иллюзий (хотя одного преодоления иллюзий, как показала жизнь, мало для спасения). Увидеть себя обнаженным, как ты есть, без прикрас, увидеть и принять. И, видимо, это более честная и более обнадеживающая позиция, чем тот "оптимизм", который, вслед за Шопенгауэром, отвергал Ницше. Хуже нет проступка перед людьми, чем при надвигающейся катастрофе делать вид, что все в порядке и, пользуясь неведением людей, убеждать их ускорять шаг по дороге к пропасти. (Если воспользоваться образом Акутагава Рюноскэ, которому был близок Ницше, человеческая жизнь напоминала "Олимпийские игры под началом сумасшедшего устроителя" ("Слова пигмея"). Ни тот, ни другой не считали возможным принимать участие в актах обезумевшего мира, ни у того, ни у другого не хватило сил противостоять ему).
Ницше ищет точку опоры, не чтобы перевернуть, а лишь как-то удержать от падения изнемогший от бессмысленной борьбы я сомнительных страстей мир, и самому не пойти ко дну, где ему видится лик Антихриста. "Бог умер!". Значит, не на что положиться. Полное неощущение опоры вовне и в себе (потому, собственно, нет вовне, что нет в себе). Жуткое ощущение бессмысленности человеческой жизни, распятой над бездной Небытия. Если Бог умер, в самом деле, на что надеяться? Жив ли богоподобный человек, или это видимость жизни, всего лишь тени на арене, ведущей в Никуда?
"Бог умер!" Но он умер гораздо раньше. Уже Данте решился на "Божественную комедию". Все доступно, все дозволено любознательному уму человека, – пройти по девяти кругам Ада, попасть в Чистилище, подняться в Рай по девяти небесным сферам. Человек будто забыл, за что был изгнан из Рая ("охота пуще неволи"). Или бог Яхве не повелел ему не вкушать плод с древа познания добра и зла! "И заповедал господь бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть; а от древа познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь" (Быт., 2, 16–17). Ослушался человек и стал смертным, не в силах сделать выбор между добром и злом.
Но, может быть, и не могло быть иначе, и путь к Свободе лежит через заблуждения и очищение, падения и восхождение? Обрекая себя на страдание, ищут избавления от него. Вознестись в гордыне над всей тварью, объявив себя "богочеловеком", не будучи им, стать вровень с нею и даже ниже и на пределе падения очнуться, стать в собственный рост.
Антропоцентризм, как уже упоминалось, идет издалека: "Богоравным кажется мне человек" (Сапфо), утверждался богоборчеством (и праотец Иаков, как сказано в книге Бытия, не устрашился бога, вступил в борьбу с ним; и титан Прометей не убоялся мести Зевса). Всемогущим возомнил себя человек и волей-неволей начал довольствоваться тем, что есть, совершенствовал не себя (он и так хорош), а мир вокруг себя, мир идей и вещей, чтобы уютнее было жить на свете. Так началось шествие "человека разумного", дерзкий ум которого не признавал невозможно-то: все познать любыми средствами, а мир любыми средствами не познается; проникнуть до сути, до дна, а дна не оказалось. И что интересно – чем дерзновеннее становился ум человека, тем больше смущалась душа, чем больше смущалась душа, тем ограниченнее, уже становилось сознание. И "Корабль дураков" Босха, и "Похвала глупости" Эразма Роттердамского символизируют мир страстей человеческих. Что уж говорить о Шекспире? Прервана связь времен – и нет ничего святого, а если "ничего святого", значит, "все дозволено" [6].
Так что у Ницше были основания для нигилизма. И одно из них – теория истощения (все имеет свой предел, критическую точку):
"Порок, душевные больные... преступники, анархисты – все это не угнетенные классы, но отбросы всех классов бывшего до сих пор общества... Усмотрев, что все наши сословия и состояния проникнуты этими элементами, мы поняли, что современное общество не-"общество", не-"тело", но больной конгломерат чандалы – общество, утратившее силу извергать из себя вредные ему элементы... [7] Проблема: как истощенные достигли того, чтобы стать законодателями ценностей? Или иначе: как достигли власти те, которые последние? Как инстинкт зверя-человека стал вверх ногами?" [8].
Смрад бездуховности не пропускает Света, недаром вредоносные элементы во все времена называли "чернью". Заратустра искал спасения вдали от толпы, в уединении: "Как калека, ставший глухим, слепым и немым, так жил и я долго, чтобы не жить вместе с властвующей, пишущей и веселящейся чернью". Чернь по самой своей природе не любит Света и ведущего к нему Творчества. Потому во все времена противоборствует Творцам, сужая сферу ума и чувства, убивая краски Жизни. Ей сродни лишь монотонные, серые тона, они диктуют нормы строительства в любой сфере, свидетельствуя о заболевании общества, как свидетельствует о заболевании человека серый цвет лица. Это не могло но волновать тех, кто способен видеть: жизнь вульгаризуется, поскольку властвует масса, она тиранит исключения, так что эти последние теряют веру в себя и становятся нигилистами [9].
На сей раз деструктурирующую функцию Хаоса взяла на себя непросвещенная, слепая масса, одержимая духом приобретательства. Собственно, просвещенная, не слепая масса людей просто невозможна, – она распадется на отдельные индивиды. Жмутся друг к другу, группируются в кучу те, кто истинно не просвещен, и потому боится Свободы и Света, боится остаться один на один с собой, – люди, себя не уразумевшие. Потому так и страшен во все времена инстинкт и суд толпы [10]. Можно вспомнить тревогу Л. Толстого, которого пугала людская спрессованность:
"Люди, связанные друг с другом обманом, составляют из себя как бы сплоченную массу. Сплоченность этой массы и есть зло мира. Вся разумная деятельность человека направлена на разрушение этого сцепления обмана... Сила сцепления людей есть ложь, обман. Сила, освобождающая каждую частицу людского сцепления, есть Истина. Истина передается людям только делами Истины"
("В чем моя вера").
Чем же вызвано истощение общества, утратившего способность "извергать из себя вредные элементы"? Подвержено ли оно тем же законам, что и любой живой организм, может ощущать усталость, изнашиваться? Или большинство не выдержало (искушения, алчность затмила разум? Одержимость низшим – жаждой обогащения (из всех видов рабства самое, по-моему, постыдное – рабство у денег – оно неизбежно ведет к помрачению духа). Так бывало и раньше, слаб человек, но ничего не может с собой поделать; как пушкинский скупой рыцарь, или гоголевский Плюшкин, или бальзаковский Гобсек – умирают на сундуках. Это болезнь, синдром нищеты, говоря словами Сенеки: "Они нуждаются, обладая богатством, – а это самый тяжкий вид нищеты" ("Письма", XXIV, 4). В буддизме подобное состояние психики называется "миром голодных духов", терзаемых жаждой, – наказание за грех стяжательства. (Любой уклад, как показала жизнь, не свободен от этого недуга).
Ницше устами Заратустры высмеял алчущих:
"Посмотрите же на этих людей! Они крадут произведения изобретателей и сокровища мудрецов: культурой называют они свою кражу – и все обращается у них в болезнь и несчастье!
...Посмотрите же на этих лишних людей! Богатства приобретают они и делаются от этого беднее. Власти хотят они и прежде всего рычага власти, много денег, – эти бессильные!
Посмотрите, как лезут они, эти проворные обезьяны! Они лезут друг на друга и потому срываются в грязь и в пропасть" [11].
Общество – саморегулирующаяся система, и ее здоровые элементы, естественно, не могут не сопротивляться болезни. Сопротивление это выливается в разные формы – ив форму неучастия в жизни общества – под действием иммунитета, инстинкта самосохранения. Люди, не утратившие своего лица, избегают среды, которая обезличивает человека, и бегут кто куда. Так происходит поляризация, расслоение: на одном конце скапливаются вышедшие из недр земли и не успевшие вкусить плодов культуры потребители-мстители, начавшие расправу с Землей за свое вековое унижение, за пребывание в Тартаре (как Крон расправился со своим прародителем). Они разрушают природу, нещадно эксплуатируя ее, как будто мстя ей, – живут одним днем, не отдавая себе отчета в том, что он может стать последним и для них. На другом – утонченная, но обессилевшая аристократия духа, тоже давно забывшая о своей первородной связи с Землей и потому лишившаяся ее силы – инстинкта жизни. Те и другие ждали такого пророка, как Ницше, хотя брали от него разное, кто в чем нуждался: одни – волю к власти в свое оправдание, другие – жизненную энергию и веру в себя. Последние, спасаясь от одиночества, невольно тянулись к тому, что вообще обладало энергией, будь то музыка Вагнера или то, что устами Заратустры проповедовал Ницше. Он и сам нуждался в этом.
А проповедовал Заратустра "сверх-человека":
"Горе! Приближается время, когда человек не пустит более стрелы желания своего выше человека, и тетива луна его разучится дрожать!
Я говорю вам: нужно носить в себе еще хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. Я говорю вам: в вас есть еще хаос".
Долго не возвращалась идея животворящего Хаоса, не только все уничтожающего, но и все порождающего, сообщающего жизни энергетические токи, ощущение здоровья и праздника. Что было делать человеку на пределе истощения? Жизнь оставляла его, и он прибегнул к последнему усилию, чтобы оживить онемевшие члены, вернуть природные свойства, подавляемые веками моралью, религией, наукой. Ему нечего было терять. От отчаяния он преодолел страх перед Хаосом, предпочел Землю надприродному, небесному Храму:
"Я заклинаю вас, мои братья, оставайтесь верны земле и не верьте тем, кто говорит нам о надземных надеждах!
...Некогда смотрела душа на тело с презрением: и тогда не было ничего выше, чем это презрение; – она хотела видеть тело тощим, отвратительным и голодным. Так думала она бежать от тела и от земли.
О, эта душа сама была еще тощей, отвратительной и голодной; и жестокость была наслаждением этой души".
Можно понять этот бунт против не-свободы, насилия, морали, иссушающей ум. И откуда брать силы обществу, которое перестало "извергать из себя вредные ему элементы", как не из недр Земли, от праотцев? Носитель этой силы должен быть независим от общества, чтобы сохранить себя. Заратустра не устает повторять: "Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти его?
Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя; а вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к состоянию зверя, чем превзойти человека?" [12].
Можно понять Ницше: все в этом мире меняется, человек же остановился, утратил личную силу, передоверив ее технике и начальству. Значит, нужно взбодрить его, пробудить волю к жизни, веру не в механическую цивилизацию, не в узурпаторов власти, а в себя. И философ убеждает: все, что вам говорили, неправда, вы не нашли счастья и потеряли волю к жизни; и начал вырождаться человеческий род, уподобившись анемичному существу. Надо дать ему новую жизнь, возродив тело, – волю и чувство (та же логика – "или-или", если не вышло стать богом, займи его место, последнее усилие "фаустовского духа" – вместо бога да будет "сверх-человек" – "свято место пусто не бывает"). А к чему это привело, нам хорошо известно, хотя и нет в этом вины Ницше.
Идея не нова, в обиход немецкой литературы понятие "Super-Humanus" вошло приблизительно в конце XVII в, но Ницше придал ему новый смысл. "Сверх-человек" есть нечто доселе не бывшее: Заратустра и сам Ницше – не типы "сверх-человека", но лишь пророки и провозвестники его. "Сверх-человек" не "идеал" он – ряд, ступень за ступенью в великом восхождении человека. Для расчистки пути к этой едва брезжущей цели и решился Заратустра на борьбу с богами.
Путь, которым следовали предки, будет вести человека за собой до тех пор, пока человек не познает себя. "Ницше сознавал себя пророком и провозвестником грядущей великой и мощной жизни, – заключает свой комментарий Г. Рачинский. – Поставить человечеству эту цель и уговорить человечество устремиться к ней – вот его задача. Но для этого необходимо, чтобы мы решительным актом чувства и воли приняли эту жизнь, как она теперь нам дана, со всеми ее страданиями и муками, со всей ее бессмыслицей" [13]. Ницше попал в точку, и, пока мы не поймем причин его успеха, не поймем и время, трагическое и поворотное. Кто видит, не отводит глаз.
Почему именно "сверх-человек"? Это понятие не могло появиться, скажем, в Индии или Китае, по крайней мере до знакомства с Европой. Да и после него в самом этом понятии ощущали нечто зловещее, угрожающее миру, как, скажем, говорит об этом индийский писатель Раджа Рао в романе "Змея и веревка":
"Сверх-человек – наш враг. Посмотри, что случилось в Индии. Шри Ауробиндо хотел, если угодно, улучшить адвайту Шри Шанкары, которая была попыткой улучшить цифровое положение ноля. Ноль образует все цифры, с ноля начинается все" [14].
Неожиданный поворот мысли, не правда ли? По крайней мере для того, кто не знаком с Востоком, скажем, с тем, что в Индии уже в I тысячелетии до н.э. ноль обозначали словом "шунья" – Пустота, не отягощенная категориями изощренного разума [15]. Ноль – это полнота Бытия, когда ни прибавить, ни убавить, а прибавишь или убавишь – нарушишь полноту, Середину, мировой баланс, вызовешь к жизни анти-бытие – майю. Улучшить положение Ноля – все равно что улучшить положение Бога.
Конечно, можно не соглашаться с отношением к Ауробиндо, заслуги которого перед человеческим самопознанием трудно переоценить. Но сама по себе идея неоспорима: нельзя улучшить то, что совершенно, нельзя прибавить к тому, что и без того полно. Потому Раджа Рао и говорит дальше:
"Но вы не можете улучшить Веданту (все равно что улучшить ноль). Ноль – безличен, в то время как один, два, три – все дуальны. Один всегда подразумевает много, а ноль подразумевает Ничто" [16].
Это настолько существенно для понимания различий Запада и Востока, что стоило бы остановиться на этом подробнее (хотя логичнее говорить о разном восприятии ноля на Западе и на Востоке в разделе о Небытии, однако раскрывается с неожиданной стороны и идея сверх-человека).
Приведу пару примеров для ясности. Мысль индийского писателя плодотворна, справедлива в высшем смысле: нет ничего полнее Человека, человек и есть потенциальное Все – микромир. Поэтому его и не следует улучшать, "надстраивать", а нужно дать ему состояться, проявить Себя. Ни один университет не может дать человеку то, что может он дать сам себе, пробудив свое сознание, генетическую память, резервы которой неисчерпаемы. Но эта память все еще под замком, человеку предстоит подобрать ключ к нему, к сокровищу, которое не исчерпать, которое дороже всех сокровищ мира. И ключ этот – Свобода, не мнимая, истинная: свобода от клеш, иллюзий, от страха, сковавшего человека, – свобода внутренняя, которая зависит от самого человека. Но без знания, без прививки культуры человек не отличает свободы от рабства, не может обрести того, смысл чего ему недоступен.
На Западе, где живо представление об изначальном, устрашающем Хаосе, о Ничто как "исчезновении", естественно, и "ноль" воспринимался соответственно как отсутствие чего бы то ни было. "Нолем" называют никчемного человека, посредственность. Вспомним у Достоевского признание "логического самоубийцы" ("Дневник писателя" за 1876 г.):
"Я не могу быть счастлив, даже и при самом высшем и непосредственном счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества, ибо знаю, что завтра все это будет уничтожено: и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество – обратимся в ничто, в прежний хаос. А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья, – не от упрямства какого-то из-за принципа, а просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля. Это чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его".
Со времен греков жив этот страх. "Понятие ноля совершенно не захватило пытливую мысль греков", – заметил Вернадский. И не случайно. Героизм прошел, а страх перед Пустотой, перед Ничто остался: "Ведь планета наша невечна, и человечеству срок – такой же миг, как и мне. И как бы разумно, радостно, праведно и свято ни устроилось на земле человечество, – все это тоже приравняется завтра к тому же нолю. И это почему-то там необходимо, по каким-то там всесильным, вечным и мертвым законам природы", – продолжает "логический самоубийца" (понадеявшийся на логике въехать в рай, а попавший в ад).
Две вещи нужны человеку для счастья: избавиться от псевдоидеи изначального Хаоса, страха перед Ничто, и тем уже избавиться от безразлично-враждебного отношения к миру: эгоцентризма, самопленения, саморазрушения. Иначе сознание так и будет оставаться "несчастным". Это ощущали русские философы и ученые. Циолковский не случайно интересовался Востоком, изучал санскрит.
"Если ощущение нельзя или затруднительно назвать положительным или отрицательным, то оно безразличное, или нолевое. Нулевые ощущения также бесконечно разнообразны. В идеальном виде это есть небытие. Не смерть, а именно – небытие" [17].
Циолковский уловил суть Срединного пути (вспомните "Учение о Срединности", или оду Сыма Цяня "Скорблю о добром муже, не встретившем судьбы":
"Вперед-назад все движется по кругу, то вдруг появляясь, то вдруг исчезая. Нельзя доверяться рассудку, нельзя искать в знании опору. Не стремись же к счастью, не пытайся избегнуть беды, вверяй себя стихийному движению мира: в конце концов все возвращается к единству" (пер. В. Малявина).
Восток ставил загадки, русский ум подбирал ключи:
"Приходит в голову: да не обусловливается ли радость исключительно страданием, и не равно ли поэтому количество радостей количеству страдательных и отрицательных ощущений? Если так, то алгебраическая сумма количеств всех ощущений жизни, от зачатия до смерти, равно нолю. Но есть ли жизнь только взбаламученный ноль" [18].
"Взбаламученный ноль" – лучше не придумаешь для определения майи. Что касается Ницше, то он категорически не принимал ноля, Небытия.
Ницше надеялся на сверхчеловека, на "самопреодоление" – преодоление всего, внушенного человеку за века, в том числе христианских идеалов любви, смирения, сострадания:
"Близится время, когда нам придется расплатиться за то, что целых два тысячелетия мы были христианами: мы потеряли устойчивость, которая давала нам возможность жить... Мы стремглав бросаемся в самые противоположные оценки, с той степенью энергии, какую всегда возбуждала в человеке такая крайняя переоценка человека". Ницше, конечно, имеет в виду и себя. Но, может быть, и на этот счет прав Достоевский или, скажем, Паскаль, слова которого вспоминает Ницше: "Без христианской веры, думал Паскаль, вы сами в своих глазах, так же как и природа и история, будете – "un monstre et un chaos". Это пророчество исполнилось на нас, после того как малодушно-оптимистическое восемнадцатое столетие прикрасило и рационализировало человека" [19].
Если не бог, то дьявол – третьего не дано. Человек пока не пробудился от тяжкого сна; если свет не проникает в душу, то тьма владеет ею.
Есть то, от чего не уйдешь, пока не изменишься, – чему следуют неосознанно, те самые "первичные структуры сознания" или архетипы, "коллективное бессознательное" или "коллективное эго", но определению Ауробиндо Гхоша, что проявляется помимо воли человека. Само понятие "сверхчеловека", сколь, казалось бы, ни противоречит оно духу христианства, структурно вписывается в него, если иметь в виду устремленность в бесконечность, породившую фаустовскую душу, в сверх-бытие – вопреки земной ориентации языческого мифа. Ницше старался преодолеть всякую зависимость, но, как ни старался, не мог обойти глубинные устои сознания. Что-то извечно существует за счет чего-то, чему-то одному отдается предпочтение – Ницше отдал его "воле к власти". Значит, должно быть то, над чем следует властвовать, в себе и вовне, субъекту над объектом. Язык – форма духа, к словам самоестественно примкнула приставка "сверх" ("сверхбытие", "сверх-естественный", "сверх-сознание", "сверх-душа", "сверх-я") [20]. Искали общения со "сверх-душой" ("Over soul") я члены Трансцендентального клуба, организованного в 1836 г. в Бостоне, и поэты, и философы (Р. У. Эмерсон, Г. Д. Торо). Верили в реальность "сверх-бытия" экзистенциалисты – К. Ясперс, Г. О. Марсель. Поиском "сверх-личного" был занят Н. Бердяев, поиском того, что выше индивидуума и делает человека Личностью: приобщенность к Бытию, индивидуум же подчинен лишь роду и обществу.
Согласно Ницше, путь в "сверх-бытие" заказан никчемному человеку, не обладающему внутренней силой и независимостью, не имеющему "воли к власти". Он не сразу понял эту простую истину, но поняв, решил показать, что же значит "воля к власти" в жизни и в обществе.
Потеряв надежду на природу и человека (если за две тысячи лет хомо сапиенс не поумнел, то уже вряд ли поумнеет), он возлагает надежду на жизненную энергию, которая все пронизывает, на ту прочную, извечную жизненную силу, пусть хтоническую, но силу, на которую можно положиться. Все остальное – видимость, потеряло смысл – мир давно не управляется Логосом. Панлогизм Гегеля вызывает у него раздражение [21].
Так уж бывало: во времена упадка, духовной усталости происходит смена мировоззрений. Догматизируясь, вера теряет приверженцев, как их теряет любая омертвевшая система. Тогда ищут замену, опускаются с небес на землю, – вновь возвращаются к природным чувствам, и природа отвечает на зов, возвращает утраченное, как это произошло, скажем, в эпоху Возрождения. Обращение к греческой Античности, к Природе было естественно и плодотворно для той эпохи, дало миру мощное искусство.
В XIX в. произошел новый поворот от Неба к Земле. И мы уже знаем – к Земле призывает Заратустра: "Оставайтесь верны земле, братья мои, со всей властью вашей добродетели! Пусть ваша дарящая любовь и ваше познание служат смыслу земли! Об этом прошу и заклинаю я вас" [22]. Но когда к греческой Античности обращается философ "конца века", пытаясь найти там ответ, нет ли в этом чего-то противоестественного, некоего фазового несовпадения. В эпоху Возрождения обращались к грекам на взлете, в начале нового витка Истории, теперь – на его закате, когда мир уже вступил в то состояние, которое Т. Гоббс назвал "войной всех против всех" ("bellum omnium "contra omnes"). Не потому ли, что и природа отвернулась от человека, после того как сам "человек отвернулся от нее? "Мы уже не любим ее за ее "невинность", "разумность", "красоту"; мы ее и так порядком "одьяволили" и "оглупили". Но вместо того, чтобы ее презирать за это, мы с тех самых пор стали чувствовать себя в ней больше "дома", она стала нам как-то роднее. Она не претендует на добродетель: мы уважаем ее за это" [23]. Происки "злого духа земли"? Две тысячи лет христианской веры в благость смирения сменились верой и силу Разума, эпохой Просвещения, победным шествием Науки. Идеалы греков не могли уже иметь прежней силы вопреки вере Ницше в "вечное возвращение". О. Шпенглер: "У греков перед глазами был древний Восток, у нас – "падение античного миpa"" [24]. Однако человек не только разорял землю и страдал на ней, но и мужал в страданиях, волей-неволей учился уму-разуму и усомнился в своей безупречности.
Конечно, что уж хорошего, если подавляются инстинкты, чувственная природа человека; и стремление возродить ее было естественным, но не за счет духовности – бросаясь из крайности в крайность. Веками то Чувство подавлялось во имя Разума, то Разум – во имя Чувства, никак не удавалось их совместить: что-то в ущерб чему-то, что-то за счет чего-то. Вспомним высокочтимого Сенеку:
"Высшее благо заключено в разуме, а не в чувствах, Что в человеке самое лучшее? Разум. Силой разума он превосходит животных и идет вровень с богами. Итак, разум в его совершенстве есть благо, присущее человеку, тогда как все остальные чувства – общие с животными и растениями"
(Ер. ad Luc., 76,8–9).
Хорошо, что возвышался Разум, но плохо, что умалялось Чувство (одного нет без другого). Но философы усвоили максиму, "самое достоверное из всех начал": "Невозможно, чтобы одно я то же вместе было и не было присуще одному и тому же в одном и том же смысле". Нет чтобы следовать духу гармонии последнего трактата Аристотеля "Никомахова этика". Путь к счастью человека видится в разумной деятельности души (псюхе), которая рациональна и иррациональна одновременно: Мудрость (София) – в единстве "научного знания" (эпистеме) и интуитивного разума (нуса), что достигается уравновешенным состоянием духа, "серединой" между "избытком" и "недостатком", аскетизмом и гедонизмом, при "жизни созерцательной". (Не сближает ли это Стагирита со "Срединным путем", как понимали его на Востоке?)
Шедшие за ним следовали более раннему Аристотелю. (Не в этом ли одна из причин вечной молодости западного мира?) Предпочли единице двоицу, противопоставив одно другому: Разуму – Чувство, Чувству – Разум ("третьего не дано"). От избытка энергии, присущей молодости? Колебания порой набирали такую силу, что уже не было видно ни того, ни другого. Если одна сторона возносится, другая умаляется, то страдают обе. Чувству так же неуютно без Разума, как Разуму без Чувства. Одного действительно, нет без другого, по крайней мере это другое лишается смысла и источника существования.
Страх перед Небытием, перед прошлым и потому перед будущим, не оставил Ницше, и он идет с Хаосом на мировую. Хаос, так Хаос – раз уж он вечен, по крайней мере – живая материя, само естество – на фоне мертвой цивилизации. И поворот на 180°, упование на "волю к власти". Задумав оживить инстинкты, загнанные в подсознание, как титаны в подземелье, возжелав не бороться с земными духами, а брать от них силу, которой лишился человек в постоянной борьбе с ними, Ницше не обрел Свободы. Она оказалась призрачной, хотя взбодрила почитателей Заратустры.
Ницше ощущал противоестественность происходящего, социальную аритмию, которая привела к разрыву всего со всем: "Вся наша европейская культура уже с давних пор движется в какой-то пытке напряжения, растущей из столетия в столетие, и как бы направляется к катастрофе: беспокойно, насильственно, порывисто, подобно потоку, стремящемуся к своему исходу, не задумываясь, боясь задуматься". Этот неровный, скачкообразный ритм придавал историческому процессу динамизм и нервозность, ощущение трагичности происходящего, предчувствие конца ("благо целого требует самопожертвования отдельного"). Природа не расположена к аритмии, диссонансам любого рода (которые ей приписывала наука). Природные и социальные ритмы соотносимы, им должно пребывать в равновесии, иначе приходит в действие защитный механизм Природы, отторгая то, что мешает росту. Природа в отличие от Общества не теряет способности "извергать из себя вредные" ей элементы.
Есть, конечно, в максимализме устремлений нечто притягательное: верность чему-то одному позволяет пережить "одно" в. полной мере, испытать наивысшее наслаждение – радость экстаза. На взлете социальной энергии появляются романтики, и, может быть, иначе не знать нам Байрона и Шелли, Бетховена и Вагнера. Но незнание Великого Предела, Меры истощает энергию, как истощают ее стрессовые состояния; наступает усталость духа – нигилизм.
Случилось то, что и должно было случиться (если противоположности способны уничтожать друг друга). Во взаимной вражде обессилели и Чувство и Разум, на какое-то время парализовав, друг друга. И тогда неизбежно должно было появиться нечто – третье. Этим "третьим" оказалась Воля, пришедшая им на смену, ибо ни упоение чувством, ни восхищение разумом не дали желаемых результатов. Она начинает доминировать в философия XIX в. (по закону парадокса – превозносят то, чего не имеют).
Идея "свободной воли" вынашивается христианской традицией. Вспомним еще раз Августина: "Воля Божия присуща Богу и предваряет всякое творение; никакого творения не могло бы быть, если бы не предшествовала воля Творца, Воля Божия принадлежит к самой сущности (Substantia) божественной" ("Исповедь. Блаженного Августина", XI, 10). Бога не стало, и человек присвоил себе его волю, будучи, по Ницше, всего лишь "мостом" между животным и сверхчеловеком; и удивительным образом содеянное человеком обернулось против него. Без Творчества человек – не человек, а его подобие. Потому и понадобился Ницше "сверхчеловек", что человек обыкновенный перестал быть Творцом. Но где взять этого "сверхчеловека", если им не был даже Заратустра? Остается уповать на Волю, но именно "волю к власти", в чем Бог не нуждался – его воля необусловлена, свободна. "Воля к власти" могла зародиться лишь в человеческой душе. Поставив себя на место Бога, человек за века настолько уверовал в свое совершенство, что остановился в своем развитии и все связи в конечном счете перевернулись; низ оказался сверху, мешая проникать свету.
Для Гераклита "борьба" – путь к гармонии ("Не понимают, как расходящееся с самим собой приходит в согласие, самовосстанавливающуюся гармонию лука и лиры" (В 51)). Для Ницше, или для философии "конца века", – "борьба", "воля к власти" призываются не для гармонии, а для независимости от нее, для приобщения к "сверх-бытию". Философская доминанта смещается из сферы Духа и Разума в сферу Воли, как и положено по закону отрицания отрицания, которому следовал европейский ум во все времена. Греческий субстрат возрождается и отвергается одновременно, происходит его переоценка. "Свобода воли" есть отрицание Рока вместе с отрицанием христианской любви, смирения. Сверхчеловек независим ни от рока, ни от Бога (вновь идея доводится до сверх-идеи). Мысль о всемогуществе Воли упала на благодатную почву, и всходы не заставили себя ждать. Но эти бурные всходы не обладали могуществом и на глазах погибали от самой же "воли к власти".
Если "сверх-человек" просто сильная личность, вне нравственного закона, вне представления о чистой совести, которая волновала Ницше, то о чем тут говорить. Тогда эта идея не возымела бы такого действия на умы людей. Сверх-человек – попытка выпрыгнуть из действительности, вернуть человеку мужество и уверенность, достичь свободы любой ценой (но Свобода любой ценой не достигается). Древнее, как мир, желание ослабить удила, стать "поверх" человеческих слабостей, победить себя, преодолеть страх и зависимость и воспарить над миром ("и дух божий носился над водою"). Существует нечто Над преходящей индивидуальной жизнью, что не подвержено секире времени.
Казалось бы, что плохого в желании Свободы? Ведь жаждала душа Ницше "человека будущего", видела в человеке "великое обещание". Но свобода – во имя чего? Действительная ли это свобода? "Свободен от чего? Какое дело до этого Заратустре! Но пусть ответит мне свет очей твоих: свободен для чего?" Вот и ответ. Если некое существо, обладающее силой и уверенностью, независимое от слабостей и похотей, отрывается от человеческого, становится "по ту сторону добра и зла", оставаясь все же человеком, не богом, пребывая в человеческом теле и в человеческом обществе, которое все еще живет по законам добра и зла (лишь мудрому не нужен закон), этот "сверх-человек" волей-неволей причиняет простым людям боль и страдание. И это уже было:
"Итак, два града созданы двумя родами любви: земной – любовью к себе, доведенною до презрения к Богу, и небесной – любовью к Богу, доведенной до презрения к самому себе. Первый затем полагает славу свою в самом себе, последний – в Господе. Ибо тот ищет славы от людей, а для этого величайшая слава Бог, свидетель совести... Над тем господствует похоть господствования, управляющая и правителями его, и подчиненными ему народами; а в этом по любви служат взаимно друг другу и представители, руководя, и подчиненные, повинуясь. Тот в своих великих людях любит собственную силу, а этот говорит своему богу: возлюблю тя, господи, крепосте моя (Пс., XVII, 2)"
(Августин. О граде божием, XIV, 28).
Еще до того, как идея Ницше завладела умами, Шеллинг пророчествовал:
"Человек, который вымолил себе существование в сверхчувственном мире, превратится в этом миро в мучителя человечества, неистовствующего против себя и других. За унижение в мире ином он хочет быть вознагражден господством над, этим миром. Пробуждаясь от блаженства потустороннего мира, он возвращается в этот мир, чтобы превратить его в ад" [25].
Насколько этот вопрос мучил в ту пору людей (да и теперь мучает), свидетельствует Акутагава Рюноскэ незадолго до того, как покончить с собой:
"Это было во втором этаже одного книжного магазина. Он, двадцатилетний, стоял на приставной лестнице европейского типа перед книжными полками и рассматривал новые книги. Мопассан, Бодлер, Стринберг, Ибсен, Шоу, Толстой...
Перед ним стояли не столько книги, сколько сам "конец века". Ницше, Верлен, братья Гонкуры, Достоевский, Гауптман, Флобер...
Борясь с мраком, он разбирал их имена... Он посмотрел с лестницы вниз на приказчиков и покупателей, которые двигались среди книг. Они были удивительно маленькими. Больше того, они были какими-то жалкими.
– Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера...
Некоторое время он смотрел с лестницы вниз на них, вот таких" [26].
Можно вспомнить и афоризм Акутагава:
"Лягушка, прыгнувшая в старый пруд в саду, разбила столетнюю печаль [27]. Но лягушка, выпрыгнувшая из старого пруда, может быть наделена столетней печалью".
"Ад одиночества" – назвал писатель один из рассказов.
"Согласно буддийским верованиям, существуют различные круги ада. Но, в общем, ад можно разделить на три круга: дальний ад, ближний ад и ад одиночества. Помните слова: "Под тем миром, где обитает все живое, на пятьсот ли простирается ад". Значит, еще издревле люди верили, что ад – преисподняя. И только один из кругов этого ада – ад одиночества – неожиданно возникает в воздушных сферах над горами, полями и лесами. Другими словами, то, что окружает человека, может в мгновение ока превратиться для него в ад мук и страданий" [28].
Идея "сверх-человека" долго вызревала, чтобы иметь короткую жизнь, и ни одну душу призвала к действию. Эти действия слились в едином порыве к обновлению жизни, и мы знаем, чем это кончилось, И кончилось ли? Все зависимо в зависимом мире,
Не восприимчив человек к урокам Истории, инстинкт забвения, похоже, сильнее в нем инстинкта памяти. И глобальная, почти детская доверчивость к указующим идеям вместо потребности думать самому, "внимая Логосу".
Почему все же сомнительна идея Ницше, хотя не избавился мир от завороженности ею? Разве хомо сапиенс не "промежуточная стадия", разве не должен превзойти себя? Но идея не имеет жизни, если не имеет опоры в Бытии. Философия Ницше – не вся правда о человеке, а лишь часть ее, так же как "нигилизм" Ницше – не вся правда о человечестве, а лишь часть ее. Судите сами! "Человек – это канат, натянутый между животным и сверх-человеком, – канат над пропастью" (значит, сверх-человек не должен останавливаться, идя по этому канату, чтобы не рухнуть вниз).
"Опасно прохождение, опасно остаться в пути, опасен взор, обращенный назад, опасны страх и остановка.
В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он переход и уничтожение...
Смотрите, я провозвестник молнии и тяжелая капля из тучи; но эта молния называется сверх-человек. Но если человек – "мост", то молния может испепелить его.
"Я стремлюсь к своей цели, я иду своей дорогой; через медлительных и нерадивых перепрыгну я. Пусть будет мой путь их гибелью". И он стал их гибелью.
"Я призываю вас не к работе, а к борьбе. Я призываю вас не к миру, а к победе. Да будет труд ваш борьбой, и мир ваш победою!
...Вы говорите, что благая цель освящает даже войну? Я же говорю вам, что благо войны освящает всякую цель.
Война и мужество совершили больше великих дел, чем любовь к ближнему. Не ваша жалость, а ваша храбрость спасала доселе несчастных"" [29].
Как легко перевернуть правду в неправду, – и миллионы жертв на поле Идеи, родившейся от отчаяния. Нужно иметь мужество, чтобы смотреть Правде в глаза, не отвести взора (мы слишком долго отводили и разучились видеть). Ницше нелегко достался двойной бунт: против бога и против человека (не отверг бы бога, не понадобился бы "сверх-человек"). Но вспомним, Блаженный Августин говорил: "Когда человек живет по человеку, а не по богу, он подобен дьяволу" ("О граде божием", XIV, 4). Тот самый случай, когда "да-да, нет-нет, что сверх того, то от лукавого", – если не бог, то дьявол, третьего не дано. "Человеческое, слишком человеческое – это всегда нечто животное", – вслед за Ницше повторяет Акутагава. А Заратустра вещал:
"С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх, к свету, тем глубже простираются корни его в землю, вниз, в мрак и глубину, – к злу".
Что говорить, человек, действительно, не ангел.
"Поистине, человек – это грязный поток, – молвил Заратустра. – Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым.
Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он – это море, где может потонуть ваше великое презрение.
В чем то самое высокое, что можете вы пережить? Это час великого презрения.
Час, когда ваше счастье становится для вас отвратительным, так же как ваш разум и ваша добродетель.
Час, когда вы говорите: "В чем мое счастье? Оно – бедность и грязь и жалкое довольство собою. Мое счастье должно бы было оправдывать само существование!"
Час, когда вы говорите: "В чем мой разум? Добивается ли он знания, как лев своей пищи? Он – бедность и грязь и жалкое довольство собою!" [30].
В самом деле. Разве тупость и пошлость, дряблость и трусость не вызывают отвращения, "великого презрения", как, скажем, вызывали у Э. Золя: "Тщетно мы стряхиваем с себя этих бездарностей: они напирают на нас, душат, прилипают к нам... Мир устал от наглого господства посредственностей. Я ненавижу их". Так и назвал свое эссе – "Что я ненавижу?" [31].
Параллельно утверждается христианский идеал – "свет во тьме светит" – Толстого, Достоевского.
"Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга" (Ин., 34). Отвечая на зло злом, лишь увеличиваешь зло мировое. Человеку нужна одна сердечность, и не ради другого, а ради своего же спасения. Однако в XIX в. в Европе популярен культ силы, сильной личности, противостоящей посредственности.
Ницше уповал на Человека. Но Человек только еще ждет своего часа, своего рождения, он еще не стал собой, и правота Ницше в том, что он не хотел мириться с не-человеком или до-человеком. Но вот в чем вопрос: способно ли "море" поглотить грязь? Ведь и море погибает, когда в него вливаются грязные потоки. Нам ли этого не знать: почти уж не осталось здоровых, не "заболевших" морей. Значит, не пряв Ницше: море не может бесконечно "принимать в себя грязный поток и не сделаться нечистым". И, значит, нет другого выхода, как самоочиститься каждому потоку. Над дурным человеком может возвыситься лишь дурной сверх-человек.
Но вернемся на двадцать пять веков назад, когда человеческому морю еще не угрожала гибель. "Когда дао находится в мире, (все сущее вливается в него), подобно тому как горные ручьи текут к рекам и морям" ("Даодэцзин", §32). Для этого не нужно быть ярким, как молния, а нужно быть тихим, как вода. Дао-человек следует "естественной честности" (дуань чжэн), ни над кем не возносится, ощущая равное ко всему отношение.
"Великое дао растекается
повсюду, вправо и влево.
Благодаря ему все сущее рождается и растет.
Имея заслуги, не имеет имени.
С любовью воспитывая все существа,
не считает себя их господином.
Оно никогда не имеет желаний,
поэтому его можно назвать ничтожным.
Все возвращается к нему,
но оно не становится их владыкой.
Его можно назвать Великим.
Оно становится Великим,
потому что не считает себя таковым"
(там же, § 34).
Но не восточному мудрецу предстояло появиться на европейской сцене, а Ницше. Не думал Ницше, что взбунтуется "грязный поток" и захлестнет землю, после чего уже ничто хорошее не возродилось бы, если бы ему не преградила путь некая сила, которую он не предвидел, хотя и верил:
"Есть тысячи дорог, по которым еще никогда не ходили, тысячи здоровых натур и скрытых островов жизни. Все еще не исчерпаны и не открыты человек и земля человека" [32].
Нужно ли в таком случае сжигать мосты? Разве всякий огонь очищает, несет спасение? Разве дал он спасение герою "Жертвоприношения" А. Тарковского? И не слишком ли много жертв, а искупления нет. Жизнь – вечный круговорот, говорит вслед за Ницше бывший учитель истории, почтальон Отто. Человек умирает и вновь рождается, только не помнит своей прежней жизни и потому ничего не может изменить. Но человек уже не помнит и настоящей жизни, ощутив свое бессилие перед надвигающимся, которое давно уже отпало от Логоса. И, может быть, надоели Господу жертвы, когда и жертвовать нечем, разве что собственным бессилием, бесплодием. Кому нужны такие жертвы? В растерянности и страхе смотрит человек на этот мир, ставший ему чужим и непонятным, где он, как некое антитело, выталкивается космосферой. Он сам за века уверовал в его хаотичность, а теперь бежит от хаоса, им же сотворенного, – куда попало, хоть в Зону, где и вовсе ничего не понять, но все же нет бессмысленной упорядоченности, движения туда-обратно по неизменной колее, никуда не ведущей. Но раз Тарковский разглядел этот гибнущий мир, значит, сам он находился в другом пространстве; не физически – духовно (физически мы все в плену у времени), значит, шел другой дорогой, и шел не оглядываясь. Не из того ли он племени "здоровых натур", "скрытых островов жизни", до которых еще нужно дотянуться, чтобы встать вровень с ними, – войти в духовную реальность, которую они созидают, несмотря ни на что [33].
"Но самым опасным врагом, которого ты можешь встретить, будешь всегда ты сам; ты сам подстерегаешь себя в пещерах и лесах, – пророчествовал Заратустра. – Одинокий, ты идешь дорогою к самому себе! И твоя дорога идет впереди тебя самого и твоих семи демонов! Ты будешь сам для себя и еретиком, и колдуном, и прорицателем" [34].
Понять Ницше невозможно вне Истории и вне конкретной среды: не зная тех, кто ему предшествовал и кто жил рядом. Преемственность и одновременно постоянное желание утверждать обратное, отрицать все то, во что верили другие. Так уж организовано сознание, принявшее за аксиому борьбу противоположностей, ориентированное на вечный спор. Ни один европейский философ не может быть понят вне этой парадигмы. Я говорю "европейский философ", потому что, скажем, китайские не знали о борьбе противоположностей и обходились без нее. Для них Истина не рождается в споре, она вообще не рождается, а существует и открывается в молчании, в сосредоточенном размышлении, а в "суждениях и беседах" – шлифуется, проясняется. Для европейцев же борьба – удел Бытия, ей повинуется все сущее, не только люди, но и атомы. Потому и Шеллинг задавался вопросом: "Каким же образом эти химические процессы все время воспроизводят одну и ту же материю и форму, или какими средствами природа сохраняет разъединение элементов, борьба которых есть жизнь, а соединение – смерть?" [35].
(Наверное, нынешние химики, ученые высокого ряда, уж не говорю о В. И. Вернадском, для которого мир – Целое, воплощение живой, мыслящей материи, иначе оценивают связи элементов, но, похоже, не все еще освободились от старого комплекса, имея дело с химией, иначе не губили бы посевы, леса, реки и их обитателей).
Рискую оказаться навязчивой, но напомню еще раз Аристотеля:
"Ведь властвование и подчинение не только необходимы, но и полезны, и прямо от рождения некоторые существа различаются (в том отношении, что одни из них как бы предназначены) к подчинению, другие – к властвованию... И во всем, что, будучи составлено из нескольких частей, непрерывно связанных одна с другой или разъединенных, составляет единое целое, сказывается властвующее начало и начало подчиненное. Это общий закон природы, и, как таковому, ему подчинены одушевленные существа. Правда, и в предметах неодушевленных, например в музыкальной гармонии, можно подметить некий принцип властвования... Так же и мужчина по отношению к женщине: первый по своей природе выше, вторая – ниже, и вот первый властвует, вторая находится в подчинении. Тот же самый принцип неминуемо должен господствовать и во всем человечестве"
("Политика", XI, 2).
Вот программа на двадцать четыре века. Подобной программы не знал даосско-буддийский мир. Одна и та же природа окружала человека, но разные ее аспекты, разные связи выделило сознание; одни узаконили принцип властвования, подчинения, другие – "взаимности", "равновесия" (кит. хэ, яп. ва) – "дао – не господин".
Принцип ненасилия, невластвования распространялся не только на человеческие отношения (по крайней мере в теории), но и на законы искусства врачевания, живописи, музыки, на строй языка, где не могло, например, появиться главных и второстепенных членов предложения (каков человек, таков и язык, каков язык – такова и жизнь).
А может быть, это еще от Эмпедокла: под действием Вражды сталкиваются первоэлементы (их у Эмпедокла четыре, при пяти труднее соперничать, вступать в поединок – один остается не у дел). Столкновение первоэлементов порождает Хаос, который, однако, под воздействием Любви, а именно она изначальна, переходит в Гармонию. Важно переждать фазу Хаоса, не потерять человеческий облик, способность Любви.
Может быть, героическая, но бессмысленная борьба с мифическими фантомами не только возвысила, но и унизила человека? Привычка к борьбе вошла в плоть и кровь, – к борьбе с Хаосом, с Роком, с Дьяволом, по инерции – с соседями, с народами, с человеками, с самим собой. Процесс необратимый. Привычка к борьбе превратилась в потребность, а потом – в болезнь. Неважно, что не с кем бороться ("кто ищет, тот всегда найдет"); начавший истреблять не может остановиться, нет выбора, истребляет культуру, гомосферу, жизнь, самого себя. Бороться с Жизнью, противопоставив ей вещи: "быть, чтобы иметь", – отнять жизнь у другого. При этом жертвуют единственным благом, достойным человека – Свободой. Комплекс, ставший свойством натуры, породил соответствующее отношение ко всему, как к объекту, которым можно распоряжаться по своему усмотрению, манипулировать. Чем дальше, тем больше: врагом становилось все – леса, горы, реки, животные, люди, народы.
И лишь когда культивируемый веками страх перед "невидимым врагом" стал и в самом деле превращаться в реальность – слишком много аномальных явлений увидел XX век (тоталитаризм, фашизм, лагеря смерти, братоубийственные войны), – на пределе существования человек вдруг ощутил, что поле Истории усеяно трупами невинно погибших. А ощутив, начал мало-помалу понимать, что и сам повинен в возникновении "образа врага", и в самом себе начинает видеть врага человечества. Бывает преступно забвение. И от культуры "вражеские силы" требовали повиновения, борьбы не на жизнь, а на смерть, инстинктом чувствуя ее укор. А она, вечная женщина, – недоумевала, пожимая плечами, – что от нее хотят эти пасынки, которых она готова усыновить, захоти они этого, но они ее не слышат, как зачумленные. Она родилась в Любви, не по насилию, – потому и выжила ("слабые побеждают сильных"). Что уж говорить о Философии, последние силы отдавшей борьбе "материализма с идеализмом" – "вынь да положь" или с глаз долой. Есть о чем вспомнить – "бездна призывает бездну". Перемололи зерна и на посев не оставили. Но кто выстоял, тот выстоял. – Все в человеке.
"Образ врага" не обошел и востоковедение, где на моей еще памяти орудовали по принципу рычага – "или-или": если даосизм хорошо, конфуцианство – плохо, и наоборот. И обязательно подавай борьбу противоположностей – "как это инь-ян едины, если все борется?!" (да еще в этом биноме ян, как более понятный и близкий уму знак – активность, движение – ставился на первое место, хотя у китайцев наоборот). Логика "рычага" была сильнее здравого смысла и свидетельств текстов (в знании которых, кстати, тем же ученым не откажешь, только "не в коня корм").
Инь-ян (и об этом мне приходилось писать) не могут "бороться", потому что не могут сталкиваться, ибо следуют друг за другом, как солнце и луна. В худшем случае, в ситуации Упадка, происходит их разрыв, но не столкновение, как о том свидетельствует 12-я гексаграмма "Ицзина" (Пи – Упадок). В ней три целые ("янские") черты сверху, три прерванные ("иньские") внизу – в противоположность предыдущей 11-й гексаграмме – Расцвету (Тай), где "янские" черты внизу, а "иньские" – сверху, что и позволяет им благополучно взаимодействовать, ибо ян – это чистые, легкие ци, они устремляются кверху, а инь – мутные, тяжелые ци, они тянутся вниз. В благоприятной ситуации инь-ян взаимопроникаются, оплодотворяют друг друга, в неблагоприятной – не сталкиваются, а расходятся в разные стороны, что и приводит к переворачиванию структуры, к разрыву всеобщих связей в природе и обществе, к смещению Функций (что у нас и произошло). Скажем, ян-Творчество и инь-Исполнение меняются местами, и начинается нарастающее разбалансирование – все идет вкривь и вкось. Подмена Функций неизбежно ведет к социальному гнету и краху. Если вовремя не поменять местами Творчество и Исполнение, не нормализовать всеобщие отношения ("от каждого по способностям, каждому по труду"), то процесс разложения станет необратимым (надо отдать должное китайцам, они умели в прежние времена учиться у Природы и добивались социальной стабильности).
Похоже, однако, что стадия отчуждения, Вражды, даже не по отношению друг к другу, а по отношению ко всему, ко всем парам (пространство-время, прошлое-будущее, Запад-Восток, искусство-наука), если не миновала, то идет на убыль. (Не случайно последние работы по Китаю интересны как раз в методологическом плане – поиском метода адекватного китайской действительности).
Но вернемся к Ницше. Он отрицает не только чуждого ему Гегеля, но и близкого по духу Шопенгауэра. И то, как он это делает, позволяет понять, какие же перемены произошли в сознании и как эволюционировал нигилизм, задававший тон литературе и философии XX в. (иррационализму, интуитивизму, прагматизму, экзистенциализму).
И Шопенгауэр, и Ницше сосредоточили внимание на мировой воле, но по-разному. По словам Ницше, "воля к власти" и есть жизнь: "Везде, где находил я живое, находил я и волю к власти; и даже в воле служащего находил я волю быть господином"... "Только там, где есть жизнь, есть и воля: но это не воля к жизни, но – так учу я тебя – воля к власти!" [36]. "Воля к власти" становится для Ницше методологической потребностью, законом Бытия, движущей силой Мировой эволюции. Верховный принцип, управляющий этим мировым процессом, не есть самосохранение или постоянство энергии; сила стремится не к устойчивости, а к росту: каждый атом силы и каждое специфическое тело желает распространить свою власть на пространство во всем его объеме.
Для Шопенгауэра же мировая воля не благоприятна человеку, и Ницше ему возражает:
"Коренное непонимание Шопенгауэром воли, (как будто вожделение, влечение, инстинкт – самое существенное в воле) – типично: умаление ценности воли вплоть до полного непонимания ее. Вместе с тем ненависть к воле, попытка в "неволении", в "пребывании бесцельным субъектом" (в "чистом, безвольном субъекте") усмотреть нечто более высокое, – даже самое высшее, самое ценное по существу. Великий симптом усталости или ослабления воли: ибо она и есть то, что господствует над вожделением, указуя ему меру и путь его" [37].
То, что предлагал Шопенгауэр, не мог принять Ницше, мечтавший "вдунуть" жизнь в человека. У Шопенгауэра мировая воля восходит по ступеням объективации, начиная от простых энергетических взаимодействий, кончая сложными – самим человеком. Объективируясь, воля проявляет себя в борьбе противоположностей, устремляясь к абсолютному господству, что и приводит в конечном счете к "войне всех против всех". Организованный социум не избавляет человека от главного недуга души – эгоизма, напротив, совершенствует его, делает более изощренным. Воля, по своей природе слепая, злая сила, не оставляет человеку надежды на благополучный исход, счастье. И оттого свое учение он назвал "пессимизмом" (в отличие от "нигилизма" Ницше), в противоположность Лейбницу считая этот мир "наихудшим из возможных".
Со времени Лейбница прошло уже более века, и, по мнению Шопенгауэра, цивилизация успела обнажить себя не с лучшей стороны: "Если, например, каждому из нас воочию показать те ужасные страдания и муки, которым во всякое время подвержена вся наша жизнь, то нас объял бы трепет; и если провести самого закоренелого оптимиста по больницам, лазаретам и камерам хирургических истязаний, по тюрьмам, застенкам, логовищам невольников, через поля битвы и места казни; если открыть перед ним все темные обители нищеты, в которых она прячется от взоров холодного любопытства, и если напоследок дать ему заглянуть в башню голода Уголино, то в конце концов и он, наверное, понял бы, что это meilleur des mondes morribles ("наилучший из возможных миров" – по выражению Лейбница). Да и откуда взял Данте материал для своего ада, как не у нашего действительного мира?"
По мнению Шопенгауэра, человек обречен на муки и одиночество. Он заряжен волей и потому не может не испытывать желания. Неискоренимость страдания проистекает от самой "воли к жизни", которая имманентна миру. Только через преодоление "воли к жизни" можно избавиться от желаний, но для) этого нужно самоустраниться, перейти в Ничто, когда вместе с субъектом исчезает и мир. При этом не мир избавляется от зла, а человек избавляется от мира. Говоря словами самого философа, "всякое счастье имеет лишь отрицательный, а не положительный характер... поэтому оно не может быть прочным удовлетворением и удовольствием, а всегда освобождает только от какого-нибудь страдания и лишения, за которым должно последовать или новое страдание, или languor, беспредметная тоска и скука, – это находит себе подтверждение и в верном зеркале сущности мира и жизни – в искусстве, особенно в поэзии. Всякое эпическое или драматическое произведение может изображать только борьбу, стремление, битву за счастье, но никогда не самое счастье, постоянное и окончательное". В отличие от греческих трагедий, от героизма греков, бросивших вызов судьбе, современная жизнь напоминает ему фарс: "Судьба, точно желая к горести нашего бытия присоединить еще насмешку, сделать так, что наша жизнь должна заключать в себе все ужасы трагедии, но мы при этом лишены даже возможности хранить достоинство трагических персонажей, а обречены проходить все детали жизни в неизбежной пошлости характеров комедии".
И остается человеку, подавив желания и эгоизм, самоустраниться, перейти в состояние Небытия:
"Перед нами остается, конечно, только ничто. Но ведь то, что противится этому растворению в ничто, наша природа, есть именно только воля к жизни, которой являемся мы сами, как и она является нашим миром. То, что нас так страшит ничто, есть лишь иное выражение того, что мы так сильно хотели жизни и сами не что иное, как эта воля, и не знаем ничего, кроме нее" [38].
Лишь достигая полного самопознания, "воля" сама себя отрицает, и вместо вечного перехода от желания к страху и от радости к страданию, как проходит сон жизни проявляющего такую волю человека, – он узнает тот мир, который выше всякого разума, – полную тишь духа, о которой мы можем иметь представление, глядя на лики тех, кто изображен на картинах Рафаэля и Корреджо. Говоря словами Августина, "небо небес", небо духовное, или мир существ духовных, "где свойственно этим существам видение и знание не от части и не по частям, не якоже зерцалом в гадании а не переменчивое... но целостное и всеобъемлющее, в ясном явлении лицом к лицу, всегда одинаковое, полное и совершенное, без всякой изменяемости времен" ("Исповедь Блаженного Августина", XII, 13). Лишь гений способен на "незаинтересованное созерцание", все остальные, как считает Шопенгауэр, погрязли в корысти (в этом же одна из причин апологии воли у Ницше).
Древний страх перед недоброжелательным миром, инертной материей, вековая усталость от Борьбы, себя не оправдавшей. То ли усталость сказывается, то ли "первичные структуры сознания" дают о себе знать, то ли вводит в заблуждение привычка мыслить в одном измерении, линейно, не ощущая глубинного Бытия, – не только грубый, но и тонкий, эфирный мир, невидимый для внешнего взора. В таком случае естественно быть пессимизму, для которого видимая действительность дает более чем достаточно оснований [39]. Не избавился человек, по мысли В. Соловьева, от трех искушений: от искушения плоти, искушения духа и искушения власти – в этом суть и зло человеческого мира.
Прибытия глухое естество
Разорвано для творческого спора...
Но путь назад, к своим первоосновам,
Отыскивает мир, рождает числа,
Соразмеряет шествие планет
И славить учится начальный свет
Сознаньем, мерой, музыкой и словом,
Всей полнотой любви, всей силой смысла
(Г. Гессе. "Игра в бисер")
Любопытно, что пессимизм Шопенгауэра приписывают влиянию буддизма, которому философ отдал дань. Он обращался к древнеиндийским учениям в надежде найти ответ на мучившие его вопросы, но воспринимал эти учения по-своему, как диктовал его ум [40]. Видимо, не без влияния буддизма пришел философ к идее Ничто, Небытия, как единственной возможности избавиться от той Воли, которая стала источником человеческих страданий, от "несчастия Вселенной". В самой "воле к жизни", в вечной неудовлетворенности видит философ причину страданий. Удовлетворенное желание рождает новое желание, и наступает в конце концов пресыщенность и скука. Мир – слепая, безосновная "воля к жизни", воплощается во множестве "объективации", которые устремлены к абсолютному господству (все та же боль Вселенной, изнемогающей от распрей).
Такой взгляд на мир, убежденность в неискоренимости зла, не могли не привести к пессимизму. Максимум, что может сделать человек, – покинуть этот мир, превратиться в Ничто; индивидуальная воля растворится во всеобщей. С переходом человека в Небытие превращается в Ничто и весь остальной мир, ибо без субъекта нет объекта. И получается, сколько ни старался Шопенгауэр найти выход в буддизме, он не мог это сделать уже потому, что разделял мир на этот и тот, объект и субъект, обреченным возвращаться к изначальному Хаосу. И это выглядело естественно для философа того поколения. Обратившись к "Учению о Логосе" С. Н. Трубецкого, и там найдем созвучные идеи:
"Но если начало мира есть хаос и ночь, то и конец его – в хаосе и ночи, и в настоящем они должны господствовать. Хаос сам из себя родил сознание и разум в процессе своего движения; ночь сама из себя родила свет,
Тот гордый свет, что матерь
свою, ночь,
Стремится низложить и с места гонит прочь,
Но безуспешно: – сколько свет ни тщится,
К телам он лепится, телам красу дает
И вместе с ними гибель его ждет.
Как случай хаоса и ночи, свет сознания, разум, никогда не может победить окончательно хаос и ночь темную, бессознательную основу существования. В самом деле, в глубине своего духа человек находит эту основу в безотчетном стремлении к жизни, в слепом инстинкте самоутверждения, который Шопенгауэр сводил к бессознательной воле" [41].
Философия Шопенгауэра, несмотря на тягу к буддизму и упанишадам, все же далека от того и другого. Буддизм и упанишады – не пессимизм. Буддизм учит не самоуничтожению и не избавлению именно от страданий, а лишь избавлению от причины, эти страдания порождающей, – от невежества, порабощенности сознания иллюзорными представлениями. А это во власти человека, способного очищать свое сознание и регулировать поведение.
На буддийском Востоке сложилось, как уже ясно, противоположное отношение к Небытию. С точки зрения восточных учений, изначальная природа всего чиста, совершенна, она есть природа Будды, есть Брахман, есть Дао, и нужно лишь выявить ее, освободив сознание от того, что мешает ее видеть, – от клеш, заблуждений – истинного источника страданий. Неведение (авидья), незнание законов Бытия, приводит к разбалансированности всех связей, к дисгармонии мира. Иными словами, страдание не изначально, не укоренено в Бытии, не имманентно миру, а творится непросвещенным умом; и потому возможно Спасение.
Это знакомо и раннехристианское традиции, но было со временем вытеснено иными веяниями. Обратимся еще раз к "Исповеди" Августина (VII, 13): "Зла нет ни в Тебе, ни во всем творении Твоем; потому что нет какой-либо чуждой субстанции, которая могла бы поколебать и нарушить установленный Тобою порядок. Злом нам представляется иногда относительное несовершенство тварей, находящихся между собою в дисгармонии; но те же самые творения, будучи поставлены в другое соотношение, образуют собою гармонию, и потому уже они добры, и независимо от сего они добры сами в себе". По сути, близкие мысли выражаются в разной форме: "Ты же возлюбил eси правду, ибо делающий ее грядет ко свету" (Псал., 1, 6. Иоан. III, 21). И разве это не близко известному месту из "Сицычжуань": "Тот, кто следует Дао, идет к Добру".
Причина всеобщего страдания открылась Будде. Он не сотворил мир, он понял его и то, что понял, передал тем, кто способен услышать. А открылись ему четыре "Благородные истины": мир есть страдание – дукха. Есть причина страдания, оно не изначально, возникает. Но раз возникает, значит, исчезает, ибо подвержено исчезновению все возникающее. Избавляются от страданий, устраняя причину – неистинные привязанности, искажающие Истину (нельзя устранить лишь то, что не имеет причины, не имеет возникновения). Избавляются от страданий, следуя правильному "восьмеричному пути":
"Вот, о бхикку, Благородная Истина (saccam) о страдании (dukkham): рождение это страдание, старость – страдание, болезнь – страдание, смерть – страдание. Соединение с тем, что неприятно, – страдание, разъединение с тем, что приятно – страдание. Отказ от желанного – страдание...
Вот, о бхикку, Благородная Истина о возникновении страдания. Это жажда (tanha)... жажда чувственного опыта, жажда бытия (bhavo), жажда гибели (yibhavo).
Вот, о бхикку, Благородная Истина о прекращении страдания (dukkha-nirodho): это полное прекращение жажды через успокоение (virago), непривязанность, освобождение от нее.
Вот, о бхикку, Благородная Истина о Пути, который ведет к прекращению страдания. Это Благородный Восьмеричный Путь. Правильный взгляд, правильное намерение, правильное слово, правильное дело, правильный образ жизни, правильная устремленность, правильная память (sati) [42], правильное сосредоточение (samadhi)".
Это и значит следовать Срединному пути, который приводит к полному успокоению, "пробуждению сверх-сознания (abhinna), совершенному просветлению (sambodhi), к нирване (nibbanuin)" (Dhamma-chakka-pavattana Sutta, 4-8).
Есть и другие Пути освобождения, очищения сознания, скажем дзэн – внезапное озарение, открывающее истинное видение, или всевидение (правда, в индийской дхьяне – в японской транскрипции дзэн – имеется в виду постепенность очищения сознания, восемь его ступеней: преодоление желаний, преодоление дискурсии, достижение полной уравновешенности, отсутствие реакций – положительных или отрицательных, достижение неразличения форм, мира, "лишенного форм" – arupa, ощущения бесконечности пространства, бесконечности сознания; достижение состояния Ничто, Нирваны).
Вопрос об отношении к Небытию настолько важен не только для понимания разных типов мышления, но, главное, для выправления сознания, что обратимся к нему еще раз. Мы уже знаем, что на Западе, со времен греков Небытие (меон) воспринималось главным образом как неупорядоченное, изначально хаотическое состояние мира, как бездна, космическая тьма, внушающая ужас. Знаем слова Парменида: "Бытие есть небытия же нет".
Но древний ум, внимающий богам, далек от противопоставления, и это очевидно Аристотелю:
"Парменид, как представляется, понимает единое как мысленное (logos), а Мелисс – как материальное... Ксенофан, который раньше их... провозглашал единство... утверждал, что единое – это бог"
("Метафизика", 1, 5).
А в предыдущей главе Аристотель сравнивает Парменида с Гесиодом: "Ведь и он (Парменид – Т.Г.), описывая возникновение Вселенной, замечает:
Всех богов первее Эрот был ею замышлен.
А по словам Гесиода:
Прежде всего во Вселенной Хаос
зародился, а следом широкогрудая Гея.
Также – Эрот, что меж всех бессмертных богов отличается,
ибо должна быть среди существующего некая причина,
которая приводит в движение вещи и соединяет их"
(там же, 1, 4).
По Псевдо-Плутарху же, Парменид
"объявляет, что согласно истинному положению вещей, Вселенная вечна и неподвижна... Возникновение же относится к области кажущегося, согласно ложному мнению, бытия. И ощущения он изгоняет из области истины. Он говорит, что если что-нибудь существует сверх бытия, то оно не есть бытие. Небытия же во Вселенной нет. Вот таким-то образом он оставляет бытие без возникновения"
(Псевдо-Плутарх, Strom., 5).
Но это Бытие похоже на восточное Небытие, или Вакуум современной физики. Может быть, последующие толкователи и "ложные мнения" развели точки зрения до неузнаваемости? Сам Парменид дает повод для такого сомнения:
Путь же есть небытие, и
небытие неизбежно.
Путь этот знанья не даст...
Не доказать никогда, что небытие существует.
Не допускай свою мысль к такому пути изысканья.
Небытия ни познать... не сможешь,
Ни в слове выразить
("О природе", IV 5, 7; VII I).
Что ж, и для Лао-цзы Небытие, или "постоянное дао", невыразимо в слове, но оно доступно дао-человеку.
Есть бытие, а небытия вовсе
нету;
Здесь достоверности путь, и к истине он приближает
("О природе" IV З).
Что же беспокоило Парменида? Предостерегал против мудрствования во имя реального знания или верил в единство и проницаемость невидимого, уверяя: "Одно и то же есть мысль и бытие" ("О природе", VI)?
Не возникает оно, (бытие), и
не подчиняется смерти,
Цельное все, без конца, не движется и однородно.
Не было в прошлом оно, не будет, но все в настоящем.
Без перерыва, одно. Ему ли разыщешь начало?
("О природе", VIII З).
С каких пор занимал этот вопрос ум человека! Случайно ли? Все есть у древних – "все во всем", по Анаксагору, в последние же века "зауженное" сознание предпочитало что-то одно, и это "одно" вытягивало до тех пор, пока не превращало в свою противоположность. Случайно ли интуиция древних философов элейской школы, Эмпедокла, Анаксагора, привлекает умы в наше время?
Вспомним Эмпедокла:
Нет никакого рожденья, как нет
и губительной смерти:
Есть лишь смешенье одно с размещеньем того, что смешалось.
Что и зовут неразумно рождением темные люди.
Глупые! Как близорука их мысль, коль они полагают,
Будто действительно раньше не бывшее может возникнуть
("О природе", VIII II).
Расхождения усугубляются после Аристотеля. Силой своего ума он направляет мнения, мысли людей, и они конструируют действительность в соответствии со своим представлением о ней, не достигая, однако, высшего плана Бытия, который за дальностью открывался немногим. Постулат "из ничего ничто не возникает (Ex nihilo nihil fit)" воспринимался по-разному, но древние его понимали главным образом как Единое: если что-то возникает, значит, возникает из чего-то.
В Греции "все есть", как в "семенах" Анаксагора, значит, речь может идти лишь о господствующей форме сознания, которое, сколько ни опирается на мнения, в конечном счете движимо Истиной. В Греции "все есть", но "колесо дхармы", повинуясь закону "отрицания отрицания", или, попросту говоря, духу противоречия, вращалось быстрее, чем ему положено вращаться по законам Природы.
У Платона и Аристотеля акцент (доминанта) смещается с Целого на соединенные в нем противоположности, что и позволило Аристотелю сказать:
"Платон был до известной степени прав, когда указывал, что не-сущее – это область софистики... а ведь очевидно, что привходящее есть нечто близкое к не-сущему"
("Метафизика", VI, 2).
Вспомним софиста Горгия, "дерзнувшего говорить, что ничто из существующего не существует". А Исократ дополняет: "Горгий же (учил, что) совершенно нет никакого бытия". По свидетельству Секста, в сочинении "О несуществующем, или О природе" Горгий устанавливает три главных положения: первое – "ничто не существует"; второе – что если (что-либо) и существует, то оно непознаваемо для человека; третье – что если оно и познаваемо, то все же оно непередаваемо и необъяснимо для ближнего.
У Платона и Аристотеля "ничто" есть "иное", противоположное Бытию (которое они понимали как единство эйдосов). Плотин же отождествляет ничто и зло, видя во зле недостаток бытия. Он возрождает Единое как первоначало сущего, отождествляет его с Богом, однако Сущее находится "за пределами сущности". Сущему противоположна темная и бесформенная материя, низшая граница бытия, источник зла. Материя повинна в переходе от высшего уровня иерархии универсума к низшему, есть не-сущее, небытие.
Вслед за Плотином Августин, обращавшийся к "Эннеадам", видел в "ничто" материю, из которой сотворен мир:
"То, из чего бог создал все, не имеет никакого вида и никакой формы, есть не что иное, как ничто. Ибо то, что по сравнению с совершенным называется бесформенным, если только оно имеет сколько-нибудь формы, хотя бы самую малость, хотя бы в зачаточном состоянии, не есть уже ничто; а по тому самому и оно, насколько существует, существует не иначе как от Бога.
Поэтому если даже мир создан из какой-нибудь бесформенной материи, то сама эта материя создана совершенно из ничего; ибо и то, что еще не получило формы, однако так или иначе находится в зачатке, чтоб могло оформиться, – и оно способным к форме делается по благости Божией"
(Августин. "Об истинной религии", XVIII).
В схоластике акцент и вовсе смещается на Бытие: "Бог есть бытие" ("Deus est esse"). Это доказуемо с точки зрения Фомы Аквинского (1225–1274). В "Сумме теологии" он выводит бытие Бога из бытия вещей, опираясь на интерпретацию священных текстов и на авторитет Аристотеля, пытаясь силой интеллекта упорядочить множество в единство. И богословы упрекали его за то, что "таинства веры" он подменяет логическими доказательствами.
Неудивительно, что уже через два-три десятилетия акцент в сфере мышления смещается в противоположную сторону (по закону маятника, но каждое новое отрицание вело к следующему витку спирали, не всегда по восходящей, но всегда к другому, соединяя и то, и это; по прямой же туда-обратно, говорят, передвигается лишь нечистая сила, неспособная к восхождению по вертикали). Всякое утверждение, достигая своего предела, порождает свое отрицание, о чем свидетельствует и учение немецкого мистика Иоганна Экхарта (Мейстер Экхарт, ок. 1260–1327), положившее начало немецкой апофатической мистике XIV-XVII вв. (Николай Кузанский, Лютер, Бёме) и оказавшее влияние на немецкую философию (Фихте, Гегель, Шеллинг), на Хайдеггера [43].
С одной стороны, Экхарт придерживался тезиса схоластики – "Бог есть бытие", с другой, – продолжая линию апофатического богословия, развивал учение о божественном Ничто: оно выше всякого бытия, являя вечный творческий принцип мира, к которому неприложимы какие-либо определения. Сказать: бог – это "то" или "это" – значит отрицать бога. Экхарт вводит понятие "основа" (Grunt), но "основа" сущего чужда всему ей основанному и сама по себе является "безосновной", бездной (abgrunt). Божественное Ничто и есть единство праосновы (Urgrunt) и бездны. Экхарту же принадлежит мысль о присущности человеку божественной сути, божьей "искорки" – "безосновной" основы души, подобно тому как божество есть "безосновная" основа Бога. Это делает возможным "прорыв" души человека к божественному Ничто – в воспарении духа "узреть" Истину [44].
Так или иначе, учение Экхарта, объявленное ересью, послужило толчком для нового направления мысли. Шеллинг (1775–1854) развивает учение о двойной природе Бога. Зло возникает вследствие отпадения "я" от Абсолюта, но, значит, в Абсолюте есть нечто, что не есть Бог. Или в боге кроме самого бога таится некая темная, иррациональная основа, бессознательная воля, которую Шеллинг называет "бездной", "безосновностью" (Ungrund). Абсолют, таким образом, ни дух, ни природа, а полное безразличие, Ничто, наподобие центральной точки между двумя полюсами магнита, которая, будучи совершенно нейтральной, содержит в себе все возможные формы.
"Но так как не может быть что-либо вне бога, то это противоречие может быть уничтожено лишь тем, что вещи имеют свою основу в том, что в самом боге не есть сам бог, т.е. в том, что есть основа его существования. Если мы хотим сделать эту сущность понятнее для человеческого представления, мы можем сказать: это – ощущаемое вечным Единым влечение к саморождению. Это влечение не есть само Единое, но вечно слито с ним" [45].
Природа в боге приводит к самораздвоению первоосновы и к возникновению зла, материя есть не что иное, как бессознательная часть бога. Принято считать, что идея темной природы в Боге идет от Бёме, но, думается, и этот. взгляд имеет более ранние истоки, восходит к древнегреческим представлениям о Хаосе как первозданной, всепорождающей и всепоглощающей силе – "Из ничего ничто не возникает", смещаются лишь акценты, мифологические структуры дают о себе знать и в христианском видении мира. Каков человек, таков и мир, им воссозданный.
Человек не может смириться с бесчеловечностью мира, его к нему равнодушием, не может не испытывать тоску по любви и участию, на то он и человек. И это, видимо, имеет свой космический смысл – в конечном счете человек призван облагородить, одухотворить материю, в чем Шеллинг видел цель Истории. Свободная воля самоутверждается через раздвоение Абсолюта и отпадение от него, с тем чтобы в процессе исторического очищения воссоединиться с ним и воссоединить сам Абсолют.
Отсюда взгляд на Природу как сущее, целесообразное Целое, форму бессознательной жизни Разума, назначение которой – порождать сознание [46].
"Греческие боги, – по Шеллингу, – находились еще внутри природы. Их власть не была незримой, недоступной человеческой свободе... Чем страшнее представлялась грекам область сверхъестественного, тем ближе к природе были они сами. Чем слаще грезит народ о сверхчувственной силе, тем презреннее, тем дальше от природы он сам" [47].
Уже не выглядит столь безусловной ветхозаветная максима:
"И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, (и над зверями), и над птицами небесными, (и над всяким скотом, и над всею землею), и над всяким животным, пресмыкающимся по земле" (Быт., I, 27, 28).
И не хочет человек совсем лишиться права господства над природой, хотя и начинает осознавать это право иначе, как обратную связь с природой, с Космическим целым. Начинает признавать не только право, но и обязанность, перестраивать свои отношения с природой и с тем, что Над нею, ибо то, что Над нею, есть и в Ней. "Все единое" – это ощущение не оставляло Шеллинга.
"Пока человек пребывает в области природы, он в собственном смысле слова – господин природы, так же как он может быть господином самого себя. Он отводит объективному миру определенные границы, которые ему не дозволено преступать. Представляя себе объект, придавая ему форму и прочность, он властвует над ним. Ему нечего его бояться, ведь он сам заключил его в определенные границы. Однако, как только он эти границы устраняет, как только объект становится уже недоступным представлению, т. е. как только человек сам преступает границу представления, он ощущает себя погибшим. Страхи объективного мира преследуют его. Ведь он уничтожил границы объективного мира, как же ему преодолеть его? Он уже не может придать форму безграничному объекту, неопределенный, он носится перед его взором; как остановить его, как схватить, как положить границы его могуществу?
До тех пор, пока греческое искусство остается в границах природы, нет народа, который был бы ближе к природе, но нет народа и ужаснее, как только оно преступает эти границы!" [48].
Шеллинг, прошедший путь от "философии тождества", "всеединства" до "философии откровения", в самой Природе видит высшую цель, в ее способности к восхождению: "Величайшая цель и тенденция целого состоит в том, чтобы природа перешла в духовное". Этапы, которые проходит сознание, суть следующие: "От первоначального ощущения до продуктивного созерцания, – комментирует учение Шеллинга А. В. Гулыга; – от продуктивного созерцания до рефлексии; от рефлексии до акта воли – на этом завершается теоретическая философия. "Практическая" философия проходит ступени морали, права, религии, искусства. Искусство возвращает человека к природе, к изначальному тождеству объекта и субъекта".
Все предшествующие философские учения, по Шеллингу, были "негативными", объясняли мир исходя из логических взаимосвязей. Грядет время "позитивной" философии. "Негативная философия – это только philosophia ascendens (поднимающаяся снизу)... позитивная философия – philosophia descendens (спускающаяся сверху). Лишь обе вместе они завершают полный круг философии".
В философском завещании (1853 г.) Шеллинг проясняет свою мысль:
"В негативной философии, т.е. в науке разума, первичным является сущее, а содержание сущего (бог) вторично. Конец негативной философии наступает тогда, когда Я требует перестановки, которая вначале представляет собой простой акт воли... Эта воля только начало. Воля, поднявшаяся над сущим, и наука о ней (позитивная философия) оказываются новым сущим, которое теперь выступает уже как вторичное и производное" [49].
Но этой перспективе, моменту Встречи, предугаданной Шеллингом "перестановки", которую требует Я и которая лишь накануне III тысячелетия н.э. становится если не фактом сознания, то тенденцией развитого ума, предшествовала еще не завершившаяся до сих пор эпоха "нигилизма", подытожившая в лице Ницше путь "негативной" философии. Вместе с тем всеобъемлющий нигилизм по-своему расчистил путь новому сознанию, которое предвосхитил гений Шеллинга. Этому свидетельство и русская философия. Согласуется с Экхартом мысль С. Л. Франка о том, что не только человек рождается в боге, но и бог рождается в человеке; лишь в богочеловечестве реализуется полнота человечности ("Свет во тьме", Париж, 1949 г.). И в последней своей книге "Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия" (Париж, 1956 г.) русский философ, вслед за Бёме и Шеллингом, видит источник зла человеческого мира в раздвоенности абсолюта, в духе учения о "безосновности" (Ungrund).
И это характерно для русских философов, по крайней мере тех, кто объединился вокруг книгоиздательства "Путь" (Г. А. Рачинский, Е. Н. Трубецкой, В. Ф. Эрн, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский), тех, кто был причастен к обществу памяти В. Соловьева. Явственно звучат эти мотивы в "Философии свободы" Н. Бердяева, относящейся к тому же, 1911 г., когда вышла и книга Эрна "Борьба за логос".
"Отпала от Бога мировая душа, носительница соборного единства творения, и потому все и всё в мире участвовали в преступлении богоотступничества и ответственны за первородный грех, в нем свободно участвовало каждое существо и каждая былинка".
Мнимая свобода привела к отпадению от Абсолютного Разума, к образованию стихии иррациональной и хаотической.
"Это отпадение разделяет субъект и объект и делает восприятие мира смутным и нездоровым. Но отпадение не есть полная потеря связи с Абсолютным Разумом, с Логосом; связь эта остается, и в ней дан выход к бытию и познанию бытия в его абсолютной реальности. Всякое знание абсолютного бытия есть акт самоотречения отпавшего индивидуального разума во имя Разума универсального, и благодать интуиции дается этим смирением, отказом от самоутверждения в состоянии, отпавшем от Логоса. Мы познаем абсолютную действительность, лишь приобщаясь к абсолютному Разуму" [50].
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь,
Взрывая, возмутишь ключи, –
Питайся ими – и молчи
(Тютчев)
Русская философия, естественно, принимала в немецкой то, что было ей созвучно, и не случайно именно Шеллинг оказался ей близок. А. В. Гулыга отводит этому целую главу "Шеллинг и Россия" во Вступительном слове к т. 1. Сочинений философа, говоря о его влиянии на духовную жизнь России. Не потому ли, что сам Шеллинг, по словам А. Григорьева, есть "жизнь, а не теория". Ни один из классиков немецкой философии, по мнению А. В. Гулыги, "не относился к России с таким интересом и с такой любовью", предрекая ей великое будущее [51]. Что-то глубинное роднило его с русскими. Может быть, чувство Природы, ощущение ее всеприсущности, интуиция Целого, стремление предотвратить отпадание от Бытия человека:
"Существует только одна судьба всех вещей, одна жизнь, одна смерть; ничто не опережает другое, существует лишь единый мир, единое растение, и все, что есть, составляет лишь его листья, цветы и плоды, отличающиеся друг от друга не своей сущностью, а ступенью своего развития" [52].
Вместе с тем русская философия противостояла процессу "обезбоживания" мира (прежде чем преградить путь "нечистой силе" физически, она сделала попытку противостоять ей духовно). Это стремление подвигло Эрна на книгу "Борьба за логос" (М., 1911 г.). На ней и на более поздних работах мне хотелось бы остановиться, чтобы понять причину вспыхнувшего в России интереса к Логосу, тем более что речь идет о проблемах насущнейших для нашего времени. Эрн предчувствовал приближение всемирной катастрофы, видя в милитаризации Германии следствие философского феноменализма, т.е. той самой односторонности, зацикленности на земном, отпадении от Небесного, которое настраивает ум на вседозволенность. Ничего святого – значит, все дозволено, – святотатство издревле страшило: теряя душу, человек уподобляется зверю. ("Небо и земля не связаны, будет упадок" – "Ицзин"). Бездуховность захватывает все сферы культуры и опустошает жизнь.
Есть несомненная связь между "смертью бога" и тем, что вскоре произошло в Германии. Что-то умерло в человеке, что развязало ему руки. Эрн произнес речь на публичном заседании Религиозно-философского общества памяти В. Соловьева 6 октября 1914 г., т.е. вскоре после начала войны, и назвал ее "От Канта к Круппу":
"В плане истории теоретическое богоубийство... неизбежно приводит к посюстороннему царству силы и власти, к великой мечте о земном владычестве и о захвате всех царств земных и всех богатств земных... Если весь внешний опыт абсолютно феноменалистичен, тогда на арене истории ничего не значит святыня, ничего не значит подлинная онтологическая Справедливость, ничего не значит божественный Промысел".
Они оттеснены идеей мирового господства. Мы как-то странным образом обходим вниманием мировоззренческие или психологические предпосылки фашизма, хотя многих бед можно было бы избежать, поняв его природу, осознав его неслучайный характер, предвидя его приход (издержки определенного типа цивилизации). Можно не разделять запальчивость Эрна (еще бы ее не было, когда сознание потрясено безумием войны). Разве образ мышления не предопределяет образ действия? ("Каков человек, таков и мир", – говорит другой великий немец). И Эрн, естественно, ведет речь не о врожденном свойстве немецкого мышления, а о его временном недуге, от которого не гарантирована ни одна нация (нам ли этого не знать!). Более того, он говорит о недуге всемирного масштаба:
"И это величавое трагическое зрелище, в котором участвует in corpore (в полном составе) чуть ли не стомиллионный народ, имеющий за спиной своей века напряженной и интенсивной культуры, полно глубочайшего вселенского смысла. Путь германского народа, приводящий к неминуемой катастрофе, есть достояние и внутренний опыт всего человечества. Люциферианская энергия с крайним напряжением, особенно в последнем столетии, аккумулировалась в немецком народе – и вот, когда теперь нарыв прорывается, все человечество в согласном порыве ощущает всемирно-исторический катарсис (оптимизм по-русски! – Т.Г.)" [53].
Но путь был предуготован, ни одно, тем более масштабное, явление не возникает на пустом месте.
Помните: "Свободен от чего? Какое дело до этого Заратустре! Но пусть ответит мне свет очей твоих: свободен для чего?" И то, что подготавливали предшественники, "в истекающем кровью Ницше переходит в трагическое безумие". Безумие Ницше закономерно, фатально – доказывал Эрн за несколько лет до начала войны, о чем свидетельствует его "Борьба за логос". Попрание святости карается онтологической Справедливостью, или самим Бытием, внутренним Законом человека, если жива его душа ("Всякая неупорядоченная душа сама в себе несет свое наказание" – любимая мысль Августина). И то же самое происходит с нацией, народом, как и с отдельным человеком.
Потому русская мысль на рубеже веков и восстала против отпадения от духовного мира, предрекая явление Антихриста, и так настойчиво призывала к возвращению в лоно Бытия, к Единому. Она направляла к Реальности "стрелу" разума, устремленную фаустовским духом в бесконечность, предоставив Жизнь на попечение рассудка. Началась "борьба за логос" во имя спасения гена жизни. Эрн восстал против онтологического нигилизма, или меонизма, парализовавшего Разум, как парализует его всякая односторонность.
Его книга не была неожиданностью для русских. С. Н. Трубецкой в "Учении о Логосе в его истории" определил конечную цель человеческого существования, как преодоление меона:
"Те, кто верят в прогресс и в разум, видят в муках человечества родовые муки и верят, что оно породит из себя всечеловеческое Великое Существо, которое осуществит в себе конечный идеал.
С такой точки зрения работа народов представляется как теургическая работа, а исторический процесс – как длинный мучительный теогонический процесс, завершением которого должно быть рождение последнего высшего божественного зона мира. Древние теогонии указывали начало этого процесса в хаосе и тьме, из которых родились и первые боги народов; он протекает через ряд эонов, через поколения борющихся богов, исполинов и чудовищ, которые побеждали друг друга, царствовали та падали, сменяя друг друга во власти над миром" [54].
Эрн верил в восхождение к высшему эону – от цивилизации к культуре. Для этого и начал борьбу за Логос, который имманентен миру, но от которого мир отпал. И в этой борьбе он был не одинок. В те же годы Н. Бердяев обратился к Логосу:
"В основе мышления и в основе бытия лежит тот же Логос, Логос – субъект и объект, тождество субъекта и объекта. Все великие философы древнего: и нового мира признавали Логос как начало субъективное и объективное, как основу мышления и бытия... Логос не есть отвлеченное рациональное начало, Логос – органичен, в нем процесс познания есть функция живого целого, в нем мышление есть само бытие".
И все же Логос в понимании людей со временем утратил свою универсальность, связь с истинно-сущим, ноуменальным миром. Рационалисты уподобили его функции, отвлеченному понятию. Ум отошел от Логоса – человечество избегло самопознания, как некогда Зевс предотвратил рождение Мудрости Метидой. Теперь русская мысль стала на защиту Логоса:
"Учение о Логосе, составляющее душу онтологической гносеологии, сталкивается с иррациональностью и греховностью бытия, которые для гегелевского панлогизма были непостижимы... Разум по природе своей интуитивен, а не дискурсивен, и в нем созерцается действительность".
Предчувствуя недоброе, явление Антихриста, который "есть новый бог творения, тварь, подменившая Творца" [55], философы начали борьбу с бездуховностью, отвлеченностью, голой рациональностью во имя спасения Целого. На Западе Эрн отрицал не историю, "не великие культурные достижения – как настойчиво не понимает... С. Франк, а лишь рационализм – начало... антикультурное". Причину гибели духовности Эрн видит в господстве рационализма, равнодушного ко всему, кроме самого себя, в отрицании ноуменального, истинно-сущего, всего, что выходит за рамки абстракции. "Если бы я не видел в рационализме – этом кумире современности – смерти и величайшей духовной опасности, я бы не боролся с ним столь настойчиво и упорно". Он ведет борьбу действительно настойчиво и упорно, ибо бездуховность, феноменализм равносильны смерти, угрожают всему миру, и России в том числе. Не случайно "последние гении" Запада – Гюисманс, Бодлер, Ибсен, Ницше – отвергали эту действительность. Судьба Ницше символизирует судьбу европейской культуры:
"Над Европой восстала трагическая фигура Фридриха Ницше. Магистраль исторического развития всегда идет через гениев... В нем творит, вздыхает и болеет душа мира, – проницает философ истоки недуга. – Болезнь гения страшнее холеры, чумы, самой губительной эпидемии. Она свидетельствует, что самые истоки, от которых все мы пьем, поражены недугом. Болезнь гения всегда есть скрытая наша болезнь... Безумие Ницше обосновано всей историей новой философии. Основной принцип этой философии ratio в корне своем поражен болезнью дурной отвлеченности.
Минуя действительность, ratio с необходимостью вовлекается дурной своей логикой в пустой схематизм... Философия становится абсолютно вне-жизненной, вне-действительной... Гносеологический дуализм принимает небывалые абсолютные формы.
И этот дуализм коррелятивен с безумием Ницше".
Таково предощущение Эрна, пронизавшее книгу, а может быть, всю русскую философию на рубеже веков, которая жива Интуицией, предвестием Целого. В односторонности рационализма они видят причину всеобщего кризиса. Есть нечто обнадеживающее в их бунте против заземленности мысли, против понятий, оторванных от Реальности. Если мысль отпадает от Бытия, зачем она?
"Кардинальный, конструктирующий его (меонизма – Т.Г.) признак (по содержанию) – отрицание природы как сущего. Спиноза в своей философии меоничен, ибо отрицает природу, как Сущее своим смешением природы с Богом. Deus sive natura. Бог или природа! Для Спинозы природа не самостоятельна по отношению к Богу и потому не есть Сущее наряду с Богом, т.е. природы как самостоятельно Сущего нет. Природа для Спинозы геометрична, механична, мертва и потому призрачна".
Истоки меонизма Эрн находит у Беркли, Декарта, Канта. Именно Декарт, по мысли Эрна, закладывает основы того "механического созерцания, которое в продолжении трех столетий лишь развивается и детализируется" [56].
Вспомним, что и Шеллинг упрекал европейскую философию в отчуждении от Природы:
"Общий недостаток всей новоевропейской философии, начиная с учения Декарта, в том, что для нее не существует природы и что у нее нет живой основы. Реализм Спинозы благодаря этому так же абстрактен, как и идеализм Лейбница. Идеализм есть душа философии; реализм – ее тело; лишь в своем сочетании они образуют живое целое. Реализм никогда не сможет дать философии ее принцип, но он должен быть основой и средством осуществления идеализма, его претворения в плоть и кровь. Если у какой-либо философии нет этой живой основы... она разменивается на те системы, жалкие понятия которых о самосущности, модификациях и тому подобное находятся в самом резком контрасте с жизненной мощью и полнотой действительности. Там же, где идеальное начало действительно избыточествует, но не может найти примиряющей и посредствующей основы, оно порождает темный и дикий энтузиазм, выливающийся в самоуничтожение или, как у жрецов фригийской богини, в самооскопление, в области философии проявляющееся в отречении от разума и науки" [57].
Апофатизм таких мыслителей, как Абеляр, Альберт Великий, Эриген, Мейстер Экхарт, Николай Кузанский, не смог, по выражению греческого богослова X. Яннарса, изменить, "исторический курс западного атеизма", превратившего бога в разумную причину, нравственный первопринцип, прогресс, в двигателя "машины мира". Взгляд на Бога как стража миропорядка, а после Декарта – гаранта субъекта и индивида предрешил "смерть" Бога и подвел западную историю к порогу Ничто [58]. Любовь к Небу не знает корысти, а если знает, то не любовь, и все тем и кончается, с чего началось,
Собственно, дуализм претил духу и гегелевской диалектики:
"Картезианская философия выразила в философской форме повсюду распространившийся дуализм культуры, характерный для повой истории нашего северо-западного мира, дуализм, который означал гибель всей прежней жизни" [59].
Не вина великих мыслителей, что их идеи выворачиваются наизнанку обыденным сознанием, что частный, односторонний разум видит лишь частное, одну сторону вещей. Сколь бы ни были благими намерения овладеть неведомым, но, если они направлены против природы, они направлены и против человека. Отпадение человека от Природы привело к отпадению человека от самого себя, к разобщению всего со всем, ибо единство – монада, некий разум, а разделенность – диада, "это гнев в преступлениях и похоть в пороках ("Исповедь Блаженного Августина", IV, 14, 24).
Если Природа не есть сущее, значит, есть нечто не-существенное, что можно отбросить. И отбросили. Теперь спохватились, если еще не поздно. Предвидя последствия распада, породившего нравственное варварство, Эрн настойчиво напоминал, что Природа есть сущее, что она полна творческих энтелехий, сперматических логосов, а не исчерпывается тем, что в ней видит человек, ведет самостоятельную глубоко скрытую и таинственную жизнь. Теряя связь с Природой, человек неизбежно теряет себя. Видя в Природе средство, он сам становится средством. Ф. Бэкон провозгласил:
"Наша главная цель – это заставить природу служить делам и потребностям человека для того, чтобы человек простер свою власть над природой, которая ему принадлежит по божественному дару" [60].
Природа как субъект для Бэкона не существует, она лишь объект, на ниве которого можно делать открытия, увеличивающие господство человека над природой. Но оборотная сторона господства есть рабство. В борьбе за власть все теряет смысл, становится функцией-фикцией – и властители и подвластные. Стремление покорить материю приводит к покоренности материей. По закону парадокса, односторонность, доведенная до крайности, превращается в свою противоположность, разрешается взаимоуничтожением сторон, или меонизмом, по Эрну.
Таково неизбежное следствие неравенства, в смысле не-равного отношения: господства-подчинения, господства субъекта над объектом, центра над периферией – моноцентризма любого рода. При таком отношении субъект неизбежно становится объектом. Этот закон отсутствует в Природе, он приписан ей человеком. В результате все переворачивается вверх дном, сама мыслимая структура бытия: материя господствует над духом, хаос над логосом, энтропия над эктропией, объект над субъектом. Все приносится в жертву всему, разъятая материя лишает человека надежды на то, что когда-то Хаос сменится Космосом. Исходящее из Хаоса к нему возвращается. Так завершается путь Власти, берущий начало в стремлении древних греков покорить природу и богов, прислушиваясь к собственным "даймонам".
Развивая принципы философии Беркли, Юм с неизбежной логичностью приходит к признанию, что душевная субстанция не существует совершенно так же, как и материальная: "Материя не существует – вот последовательный, парадоксальнейший вывод, неизбежно вытекающий из Бэконо-Декартовского отрицания природы, как сущего" [61]. Рационализм, утверждает Эрн, приводит к расцвету универсального меонизма.
Идеал всеединства обернулся практикой всеотрицания. Значит, что-то неверно, что-то нарушено в самом подходе; в том, как человек воспринимает мир и строит с ним свои отношения. Выход философ видит в обращении к изначальному Логосу, к полноте Бытия: в воссоединении человека с природой, ума и сердца, в снятии дуализма, порождающего губительную односторонность, в полном совпадении субъективно-переживаемого с объективным порядком и строем Вселенной (то, что Н. Бор назвал "согласовать наше положение как зрителей и как действующих лиц в великой драме существования"). Животворящий Логос может оживить сущее, противостоять рационализму, почти завершившему круг своего развития, дойдя до "чистого хаоса и безумия".
Логос не есть абстракция, "мир в самых тайных недрах своих логичен", т.е. сообразен и соразмерен Логосу. Жизнь, утратившая связь с Логосом, утрачивает смысл, форму, уподобляется чистому Хаосу. Не тому, "зиждительному, родному" хотя и страшному", который воспевается Тютчевым, не первоначальному Хаосу, темной мощи творящей природы, "живому корню всякого бытия", как в космогонии древних греков. Нет, новоявленный Хаос, по мнению философа, – уже абсолютная тьма, погашение жизни в мертвящей атмосфере меонизма. Этот Хаос уже ничего не рождает, но все уничтожает, все сводит на нет, чему свидетельство философия и культура, ибо "рационализм не понимает в культуре самого главного. Ведь корень культуры – Творчество. Созидается культура лишь Творчеством" [62]. Рационализм лишил даже Хаос его творческих потенций, а культуру – живительной силы.
Истинная философия, по Эрну, таит в себе две стороны: Эрос и Логос (платоновские веяния). Эрос в своем стремлении рождать и творить оплодотворяется лишь Логосом, который имеет три аспекта: космический, божественный и дискурсивно-логический. Логос божественный открывается индивиду через искусство, поэтическое слово, звук, цвет; Логос космический – через "натуральные религии". В поэтической интуиции, в акте "умственной воли" мысль восходит к абсолютному смыслу вселенского бытия. В процессе Эволюции совершается проникновение Логоса во все сферы и элементы существующего – происходит одухотворение материи [63].
Но есть и те, кто противится всемирной Эволюции, кто вызывает из темных недр земли зверя – Антихриста. Из носителей духа Антихриста нарождается "стадо людей без человеческих душ, которое будет куплено хлебом". И лишь человеческой Личности под силу снять извечное противоречие между царством свободы и царством природы (необходимости), ибо в своей ноуменальной сущности она принадлежит к царству свободы.
Человек – средоточие энергий – может и должен, явиться действительным посредником между двумя, мирами, той точкой, в которой оба мира реально соприкасаются, а без этого, без признания именно за человеком назначения утвердить царство свободы в царстве необходимости, не может быть осмыслен процесс вселенского освобождения, ибо это освобождение совершается через людей.
В. Эрн, как и Н. Бердяев, видевший смысл Истории в поступательном движении к богочеловечеству, возлагал надежды на Россию, единственную наследницу Логизма. Именно Россия, с его точки зрения, в состоянии осуществить идеал христианского социализма в силу ее общинного уклада, духа соборности, того, что Достоевский называл "вселенскостью", а Е. Н. Трубецкой – "интуицией всеединого сознания". России, по убеждению Эрна, назначено восстать против бездуховности века, всепоглощающего онтологического нигилизма (меонизма), вернуть веру в сущее, в Разум-Логос, в целого Человека. "Историческое столкновение ratio и Логоса, неминуемое и неизбежное, может произойти лишь в России".
И потому, что философская мысль России избегала "дурной отвлеченности", была всегда существенно конкретна, т.е. проникнута онтологизмом, естественно вытекающим из основного принципа Логоса, она достигает "всечеловеческих вершин" в глубоко философском творчестве Тютчева, Достоевского, Толстого. Отсутствие стремления к "дурной отвлеченности" обусловливает любопытную черту: отсутствие систем. "Всякая система искусственна, лжива и, как плод кабинетности, меонична". В порабощенности схемой Эрн видел "корень всех искажений".
Русская мысль, так уж повелось, искала Правду и Истину но столько в научных штудиях, сколько в духовном подвижничестве, "духовидении", православном строительстве, что отразилось на трепетном Слове философов. Эрн верит в перспективу русской философии, именно в силу ее принципиального онтологизма, ориентированности на Целого человека, которого жаждала душа Г. С. Сковороды.
Русская мысль, по словам философа, дорога ему "не потому, что она русская, а потому, что во всей современности, во всем теперешнем мире она одна хранит живое, зацветающее наследие антично-христианского мировоззрения" [64].
У каждого народа свое назначение, свой Путь. Но, в самом деле, все рождающееся в душе, "будучи истечением единой силы, составляет одно большое целое, и все единичное, словно овеянное тою же силой, должно нести на себе признаки связи с этим целым". Иначе немыслимо всечеловечество, если какой-то из голосов заглохнет. У каждого народа свой звездный час, своя мелодия. Иначе зачем он со своей неповторимой судьбой?
Естественно, речь идет не о преимуществах какого-то народа или какого-то пути (кому дано судить об этом?), хотя мне ближе по духу русская философия, как русскому человеку, так же как немцу ближе немецкая. Но вряд ли кто станет оспаривать, что чувство целостности, поиск Целого человека характерны для русской философии, и в этом основная причина интереса к ней. Это не значит, что Человек этот уже есть, это значит, что по нему тосковала душа Сковороды: "Мы целого человека лишены".
Для украинского философа П. Д. Юркевича (1826–1874), учителя В. Соловьева, именно сердце – глубочайшая духовно-нравственная основа человека, источник знания; "не древо познания есть древо жизни", лишь целостная душа рождает знание: ум есть вершина, а не корень духовной жизни человека [65].
Эрн, стало быть, продолжал не им начатое, делал "общее дело", предназначенное остановить надвигавшийся хаос псевдознания. К этой теме обращался мощный ум В. Соловьева (1853–1900). Его магистерская диссертация 1874 г. так и называлась – "Критика западной философии (против позитивистов)", а докторская – "Критика отвлеченных начал". Пафос его работ так же направлен против рациональности, дискурсивного ума, признающего лишь механическую причинность. Истина теряется оттого, что сущее подменяется его предикатами, Целое – частью. В этом суть.
В момент творения, по Соловьеву, произошло ниспадение мировой души в Хаос, ее "материализация". Чистый хаос – меон, не-сущее, есть "сумрачное лоно" земной красоты, "темный корень бытия". В процессе космической эволюции происходит утончение, одухотворение материи – через художественное осмысление мира, красоту и духовную устремленность человека. Но по мере восхождения к духу возрастает и сопротивление темного, хаотического начала, что делает реальным пришествие Антихриста (почти все русские философы предсказывали его приход). Однако Человек, богочеловек, посредник между божеством и природой, призван преодолеть непроницаемость и тленность материального бытия, что он может сделать, черпая силы у Природы, слушая голос Мировой души, "божественной премудрости" – Софии. Наука не может быть последней цепью жизни, уверен Соловьев. Высшая, истинная цель жизни другая – нравственная (или религиозная), для которой и наука служит одним из средств.
Этот взгляд разделяют просвещенные люди России. Можно вспомнить Е. Н. Трубецкого (1863–1920), считавшего, что русская земля, веками жившая без просвещения, напоследок сподобилась той высоты святого просвещения, какое не было явлено в других странах, раньше ее принявших христианство. "Этой несравненной высоты Русь достигла благодаря подвигу святого Сергия. Страна, где были явлены такие светильники, уже не нуждается в иноземных учителях веры" [66].
Свет России Трубецкой видит в духовидцах, которые мысли свои выражали не в словах, а в красках. Именно в иконе XV в. Россия получила наиболее прекрасное и наиболее цельное свое выражение. После уклонения греков в унию и падения Константинополя она стала в глазах наших предков "единственной хранительницей неповрежденной веры православной". (Поражаешься, писал Трубецкой в "Умозрении в красках", насколько русская иконопись согрета чуждой грекам теплотою чувства). В то же время Россия на собственном опыте убедилась, что без просвещения, без культуры, без возрождения и развития нравственных начал ей просто не быть: она найдет способ себя разрушить и уже окончательно.
В работе "Два мира в древнерусской иконописи" Е. Н. Трубецкой высказывает убеждение, что наш мир – не рай, не ад, а смешанная среда, где происходит ожесточенная борьба того и другого. Признак всеобщего упадка Е. Н. Трубецкой видит в новом стиле церковной архитектуры:
"В этом ужасающем сходстве новейших церковных глав с предметами домашней утвари отражается то беспросветное духовное мещанство, которое надвинулось на современный мир... Все в нем говорит только о здешнем, все выражает необычайно плоскостное и плоское мироощущение... То самое духовное мещанство, которое усилило огонь церковных глав, заковало в золото иконы" [67].
Есть в этом жесткая правда и жестокое следствие.
Так что не только превозносили духовность русские философы, но и говорили о ее упадке как о неизбежном следствии падения нравов. Знаток русской и немецкой философии А. В. Гулыга в статье о В. Соловьеве делится своими мыслями:
"Двести лет назад немецкие философы раскрыли тайну познания, указав на активную синтезирующую деятельность нашего интеллекта. "Критика чистого разума" Канта, "Наукоучение" Фихте, "Система трансцендентального идеализма" Шеллинга, "Феноменология духа" Гегеля – вот ступени великого восхождения к вершинам теории познания. С этикой не получилось... "Я стыжусь, следовательно, существую", – говорил Соловьев, перефразируя Декарта" [68]. Именно стыд, совесть – нравственный элемент, по Соловьеву, "не только может, но и должен быть положен в основу теоретической философии" [69].
Можно понять озабоченность ученого и согласиться с выводами, что возникшее в России философско-религиозное учение всколыхнуло духовную жизнь Европы и определило поворот западной мысли (а также литературы, живописи и музыки) в сторону человека. Корни таких философских направлений, как феноменология, экзистенциализм, персонализм, – в России. Здесь был услышан великий вопрос Канта: "Что такое человек?" Русские попытки ответа на него эхом прозвучали на Западе, а затем снова пришли к нам как откровения просвещенных европейцев. "Почему так произошло? Почему мы забыли свое первородство?", – вопрошает ученый. Но если живые зерна брошены в плодородную почву, всходы появятся, как только лучи света упадут на нее.
Трудно обойти молчанием, хотя здесь "слова останавливаются", духовидца нашего времени П. А. Флоренского, доказавшего (пусть ценою жизни, воистину "смертью смерть поправ") единый исток религиозного чувства благоговения перед тем, что выше понимания человека, и научного знания. "Бытие в основе таинственно и не хочет, чтобы тайны его обнажались словом. Очень тонка та поверхность жизни, о которой дозволено говорить". Космос подвержен воздействию двух противоположных сил: Энтропии, Хаоса, всеобщего уравнения и Эктропии, Логоса, неповторимой индивидуальности каждого. Лишь через Культуру человек, внимающий Логосу, может избавить мир от смерти и дать ему Жизнь истинную: "Истинная реальность... одна: это – реализованный смысл или осмысленная реальность, это – воплощенный Логос" [70]. И та же нравственная озабоченность отвлеченностью европейского ума, не ощущающего единство трансцендентного – имманентного, решившегося на "принципиальное и навечное разделение смысла и реальности, духа и плоти, истины и силы – на два царства: царство субъективных истин и вне-истинных объективностей" [71]. Эрн не был одинок в борьбе за Логос.
Однако и в самой немецкой философии зрел приговор "меонизму" – в нигилизме Ницше, и в прозрении "Заката Европы" Шпенглера. Если Ницше объявил о "смерти бога", то Шпенглер – о смерти европейской цивилизации, и сделал это с такой силой, что не считаться с этим было уже невозможно.
Нет заботы беспрерывное и мучительнее для
человека,
как, оставшись свободным, сыскать поскорее того,
перед кем преклониться. Но ищет человек преклониться
перед тем, что уже бесспорно, чтобы все люди разом
согласились на всеобщее перед ним преклонение.
(Достоевский)
Нрав русского народа просветит красота Духа.
(Е. И. Рерих)
О книге О. Шпенглера "Закат Европы" [72] написано немало. И понятно – она всколыхнула просвещенный мир, попав в болевую точку Истории. Не останавливаясь на ее глубинном содержании, я коснусь лишь тех моментов, которые имеют отношение к теме.
Абстрактная мысль, набравшая предельную высоту в панлогизме Гегеля [73], стала томиться по оставленному миру. Об этом свидетельствуют и Ницше, и Шпенглер, каждый по-своему: один потянулся к земной основе, другой – к небесной. Естественно, книга Шпенглера оказалась близка русским уже тем, что явила не "мертвый кристалл мысли", а "организм слов", "живой цветок", по выражению Ф. А. Степуна [74]. И это искупало формально-логические неувязки концепции Шпенглера, которые имеют смысл "как гностически точные символы".
Шпенглер выделил три великие культурные эпохи: "аполлоновско-античную", "арабско-магическую", куда он отнес христианство до крестовых походов, и западную – "фаустовскую". Великие культуры конечны, и он предвидел закат фаустовской культуры на исходе второго тысячелетия, или, говоря словами Бердяева, увидел в "судьбе Фауста – судьбу европейской культуры". Но почему ее назвали "фаустовской"? Фаустовская душа рождается из чувства бесконечности, а стремление к бесконечности рождается из христианства. По мысли С. Л. Франка, христианство сделало возможным фаустовскую душу и математику бесконечного, что не принимал во внимание Шпенглер. Христианство у него вообще исчезает, а переход от одной культуры к другой выглядит как отмирание одной и зарождение другой, без внутренней непрерывности. Тогда как История, с точки зрения Франка,
"является нам, при всей случайности и смутной хаотичности ее внешних событий, необходимым осуществлением вечных возможностей или потенций, предуказанных самой неизменной природой человека, драматическим изживанием целостного смысла человечества, – изживанием, каждый момент которого имеет свою самодовлеющую ценность и постигается из его связи с всеединством сверхвременного бытия".
Франк говорит о великом духовном повороте в европейской культуре XII–XIII вв., который определил ее дальнейший путь. Обостряется интуиция бесконечности, жажда преодоления всего ограниченного и конкретно-наглядного путем волевого напряжения. Возникает стремление к осмыслению "земных" начал жизни, живой человеческой личности со всем богатством ее душевного мира, к рациональному научному знанию. Наиболее целостно этот дух дерзания выразился у Данте и в философии Николая Кузанского, предвосхитившего
"все основные идеи позднейшей науки – коперниканское мировоззрение, новую математику и математическое естествознание, дифференциальное исчисление – и все основные устремления позднейшей общественной нравственной мысли, вплоть до идеи народоправства".
"Фаустовский" дух предопределяет стиль эпохи, проявляя себя повсюду, будь то устремленные ввысь готические соборы,; живопись с бесконечностью перспектив и непрерывностью световых переходов, открытия Ньютона и Лейбница или чисто отвлеченное понятие числа, освободившегося от "телесности", наглядности античной математики, что приводит к невиданному расцвету математики (Ферма, Эйлер, Даламбер, Гаусс). Устремленность в бесконечность привела и к преодолению наглядной геометрии Эвклида, к идее о конечности мира Коперника.
"Во всех областях жизни мы имеем один и тот же процесс: контрапунктическая абсолютная музыка, новая живопись, дифференциальное исчисление и метагеометрия, отвлеченная математическая механика, растворяющая в себе физику и химию, трансцендентность национально-государственной идеи – все это проникнуто одним и тем же фаустовским духом".
Взлет духа, повлекший за собой расцвет искусства и науки, продолжался, однако, недолго. В глубинах духа, оторвавшегося от корней, произошел надлом. Фауст, в своем порыве изведать всю жизнь, слиться со всей вселенной, "отчаявшись в возможности сделать это силой своего целостного духа, внутренне связанного с Богом, продал свою душу дьяволу". В XVIII в. философия "обездушила" жизнь, и на пороге XX в. начинается бунт против бездуховности.
Говоря об интуиции бесконечности. Франк замечает, что уже Гераклит полон этого "фаустовского" духа томления по бесконечности. Но оно не есть желание овладеть бесконечностью. Последнее становится движущей силой европейской цивилизации с началом крестовых походов. Вместо восхождения к "граду божьему" – утверждение "огнем и мечом" царствия божьего на земле. Тяга к бесконечности парадоксальным образом приводила к вполне конечным результатам. Посягая на бесконечность, человек не соизмерял свои силы с божественным промыслом, вслед, за богом поспешал Сатана. Благие намерения одних оборачивались неблагими намерениями других: одни, скажем, делали географические открытия, другие извлекали из этого пользу, истребляли древние народы и их культуру, переплавляя изделия искусства в слитки золота.
Еще Ницше проникает в тайну "фаустовского" духа – "воля к власти". А в результате, заключает Франк, культурное творчество иссякает, оттесняясь тенденцией экстенсивного расширения (империализма). Большие города поглощают деревню, столица – провинцию, жизнь становится все более однообразной и механической, идейный уровень понижается, искусство полно старческого духа. "Фаустовский" дух окончательно опознает себя (и вместе с тем свою тщету) в философии воли Шопенгауэра.
Не могло быть иначе, если душа Фауста, страстно искавшая истину, "для осуществления своих бесконечных человеческих стремлений вступила в союз с Мефистофелем, с злым духом земли" ("В начале было дело"). В бездуховной цивилизации е роковой неизбежностью истощилась творческая энергия Фауста, и "божественная комедия" стала превращаться в "человеческую". Такова природа самой воли к власти, она себя изживает, превращаясь в свою противоположность, в полное отсутствие воли.
По мнению Ф. Степуна, в философии XIX в. идея великого порыва фаустовской души к бесконечному вырождается в программу бескрылого продвижения на бесконечных путях Эволюции. В этом перерождении религиозная вертикаль фаустовской души, вокруг которой вращалась европейская культура, превращается в "горизонтально расположенную атеистическую ось европейской цивилизации". Тогда же начинается бунт против "горизонтали", против эволюционизма, "непрерывности", препятствующей становлению Личности. Говоря словами Я. М. Букшпана, "в силе своих познавательных символов Шпенглер не сомневался, но он потерял веру и просмотрел универсальные истины, накопленные европейской культурой". Умирая, античный мир не знал, что он умирает, и потому "наслаждался каждым предсмертным днем, как подарком богов... Мы будем умирать сознательно, сопровождая каждую стадию своего разложения острым взором опытного врача". Эти слова Шпенглера Ф. Степун готов сделать эпиграфом эмоционального содержания книги. Но, сколь ни мрачно смотрит Шпенглер на цивилизацию, видя в ней смерть культуры, он все же принимает ее как неизбежность и готов к цивилизаторской работе. Ему близок девиз С. Родса, первого человека нового времени: "Расширение – это все".
Однако Шпенглер не просмотрел, по мнению Степуна, "мировую душу", хотя и говорит о ней туманно. Каждая культура, как Сатурн кольцом, опоясана своим роковым одиночеством, и все же в каждой из них разлит свет мировой души (Urseelentum). Она отпускает к жизни души вселенских культур и принимает их обратно в свое лоно по свершении ими своих путей. Значит, культуры не абсолютно одиноки, если у них общая праматерь, значит, они родственны, возвращаются в единое лоно:
"В этой мировой душе все вечно пребывает; в ней и поныне живы потерянные трагедии Эсхила, не как созданные формы, не как телесные вещи... а в какой-то несказуемой, неразрушимой первосущности".
Шпенглер прозревает имманентность форм Бытию и их родство, внутреннюю сопряженность эпох, культур, идей, личностей. Он ведет речь именно о морфологическом родстве, что и позволяет ему сравнивать, скажем, не христианство с буддизмом, а буддизм с социализмом и ставить Гёте в один ряд не с Шиллером, а с Платоном, так сказать, по осевому времени, что естественно, если существует мировая душа (Urseelentuin). Своими прозрениями, заключает Степун, Шпенглер, в сущности, прокладывает путь к утверждению того, что он всячески отрицает, – единого человечества, единой истории и прозрачности всякого "ты" для всякого "я". Шпенглер видел эту возможность, но не пошел этим путем, ибо он еще и "современный человек, отравленный всеми ядами всеевропейской цивилизации".
Так понимал Степун неявно выраженную идею Шпенглера о мировой душе. Интересно, что то же понятие "Urseelentum" С. Л. Франк воспринимает по-своему, в духе той самой парадигмы, которая ближе ему и, надо думать, берет начало в представлении об изначальности Хаоса. Для него Urseelentum – хаос. и мрак, и переводит он это слово как "перводушность", из темных и бессознательных глубин которой нарождается "душа" культуры.
"Озираясь на бытие, которое дано ей только, как бесформенный и бессмысленный материал, начинает – гонимая исконным страхом перед бытием и своей творческой мечтой – воплощать свое существо в мировых образах и грезах и тем творит не только свою собственную духовную жизнь в искусстве, религии, науке, общественности, но в ней и через нее свой мир – свое пространство и свое время, свои числа и свои логические отношения, своего Бога и свои законы природы".
Здесь уже совсем иное понимание, иной взгляд на "праоснову" как "бесформенный и бессмысленный материал", внушающий извечный страх и недоверие; отношение к "перводуше", как к чему-то чуждому, сопротивляющемуся человеческому уму, которое он вынужден пересоздать (недаром Эрн упрекал тогдашнего Франка в непонимании его Логоса). Когда Франк вслед за Шпенглером говорит об умирании культурного организма, завершающего весь цикл (зарождения, зрелости, старческого упадка и роковой смерти в лице "цивилизации"), об окостенении культуры, он понимает это не как возвращение в лоно "мировой души", вроде Степуна, а как погружение в темное, растительное лоно хаоса "перводушности". На смену ей возникает из тех же недр новая младенческая культура, которой нет дела до старой, отжившей, которая не знает и не понимает ее и начинает опять, заново творить свой мир, единственный и неповторимый, свой собственный смысл и образ бытия [75].
Вот вам сила факта [76]. Одна и та же идея в одно и то же время и в одном и том же пространстве земли воспринимается столь различно. Для одного "Urseelentum" – мировая душа и залог всеединства; для другого – "перводуша", тьма и хаос, откуда появляются разрозненные, чуждые друг другу культуры, чтобы вновь исчезнуть. Каков человек, таков и мир, как он чувствует, так и видит [77]. Это две парадигмы. Идея "перводуши" не дает Франку покоя, он то и дело к ней возвращается, к "душам культур", которые, пробуждаясь из недр безмолвия, творят целые миры и потом исчезают. Что такое есть то "Urseelentum", из которого они выступают и в лоне которого вновь растворяются? Шпенглер не дает ответа, положительную метафизику, что было бы попыткой проникнуть в абсолютное. Хаос не только пугает европейски настроенный ум, но и притягивает, гипнотизирует, как удав кролика, и толкает на вызов судьбе, на отчаянную борьбу с хаосом, в которую сам борец не верит, но принимает мученический венец.
И все же Франк, которому, как русскому философу, близка идея всеединства, признает, что духовная личность Шпенглера опровергает выдвинутую им же "теорию о замкнутости и отрешенности душ" отдельных культур. Мысль Шпенглера оттого и чарует, что его творчество "реально прикасается к тем глубинам, в которых заложены вечные и абсолютные корни человека и мира; но он боится в этом сознаться самому себе". Значит, есть все-таки в глубине всех культур "какая-то общая точка, что-то общечеловеческое и вечное, в чем они все сходятся" И в этом Франка убеждает личность самого Шпенглера.
Европеец XX в. с любовью и чутким пониманием проникает в дух индусской и египетской, античной и арабской культур, и это свидетельствует об общечеловеческом характере его книги. Франк признает преимущества философии жизни перед отвлеченной философией Запада и считает, что в этом Шпенглер близок к Ф. Ницше, А. Бергсону, В. Дильтею, М. Шелеру. Шпенглер стремится
"проникнуть в существо бытия истинно интуитивно, изнутри, через постижение глубочайшего онтологического значения категорий (все же! – Т.Г.) человеческой духовной жизни. Но у Шпенглера этот замысел остается неосуществимым. Мы ощущаем смутные, туманные, непроясненные черты новой метафизики (все же! – Т.Г.), которые назрели в духе Шпенглера, но затемнены и придавлены его историческим релятивизмом" [78].
"Все же" – оговорки, случайно оброненные слова или интонационные акценты, позволяют порой больше понять человека, чем декларируемые им взгляды. Франку хотелось быть рядом с собратьями по перу, следовать В. Соловьеву, но эти "оговорки", по-моему, в этом интересном мыслителе обнаруживают человека именно европейской культуры. Перед событиями 1905 г. он был выслан из России за пропаганду марксизма, потом вернулся, преподавал в Петербургском университете, пока в 1922 г. не был вновь выслан вместе с другими мыслителями – цветом русской философии. (В чем-то судьба его схожа с бердяевской). Он был последователем В. Соловьева, но, похоже, ему ближе по духу Кант и Ницше. Его, может быть, потому и притягивал ноуменальный мир, что был ему малодоступен.
В 1939 г. из-под пера Франка выходит новое сочинение – "Непостижимое" – о тайне мира в его металогической "цельности", постигаемой интуицией. Ему видится, что не только человек рождается в Боге, но и Бог рождается в человеке и что в богочеловечестве – спасение мира. Неудивительно, что в конца жизни в своем фундаментальном труде "Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия" (Париж, 1956 г.) Франк возвращается к учению Бёме и Шеллинга о "безосновности" (Ungrund), о двойной природе абсолюта, объясняя зло не как от человека исходящее, а как праоснову мира. Но это ощущение присутствовало уже в его статье о Шпенглере, в частности в рассуждении о непроницаемости и чуждости "перводуши":
"В бесконечном, темном, дремлющем, в сущности, безжизненном океане человеческого бытия – того, что Шпенглер зовет "Urgeelentum", – от времени до времени, то там, то сям вспыхивают огоньки творящих духовных сил, понемногу разгораются в яркие, разноцветные огненные фонтаны культуры, постепенно истощаются, тускнеют и снова угасают. Мы не понимаем ни связи между этими духовными огнями, ни общего смысла этого фейерверка; более того, ни связи между собой, ни смысла они не имеют" [79].
Что касается посюстороннего, феноменального мира, то здесь мало кто может сравниться с Франком по четкости и глубине анализа. Он блестяще продемонстрировал вездесущность "фаустовского духа", обнаруживающего себя в разных сферах культуры, в контрапунктической музыке, в современной живописи с бесконечностью перспектив, в дифференциальном исчислении, в "трансцендентности национально-государственной идеи". Все единит устремленность к бесконечности, к экстенсивному расширению. Но с начала XIX в., с наполеоновских войн, начинается гибель фаустовской культуры. Иссякает культурное творчество, переходит в омертвение цивилизации. Научные идеи и открытия XX в. – принцип энтропии, предрекающие смерть Вселенной, принцип относительности, растворяющий механико-математические основы космического бытия в зыбкости, вечном трепете невообразимого, почти духовного начала, – суть последние, предельные выражения умирающего "фаустовского" духа, который возвращается в то исконное лоно духовности, из которого он некогда исшел. Судьба, уготованная всем проявлениям сознания, не ведающего Великого предела, который предотвращает разрыв Единого. Фаустовский дух, воплощенный европейской цивилизацией, не составлял исключения.
Еще раз Идею приняли за Реальность, и, чем выше она возносилась, тем более отрывалась от Основы. Неуемная жажда Свободы направила к бесконечности "фаустовскую душу" еще в начале II тысячелетия. Свободу понимали как возможность преодолеть земное притяжение, расторгнув связь между "тем" и "этим". Даже "число" ощутило себя Свободным, освободившись от власти "тела". И так же закономерно, как иррациональное число, заявило о себе иррациональное мышление (по мнению Ф. Степуна, первым связал число с бесконечностью Декарт). Но прорыв в бесконечность не дал Свободы человеку и успокоения фаустовской душе. Иначе – откуда чувство неприкаянности, одинокости, затерянности в бесконечных просторах Вселенной, которые человек так и не ощутил как свои. Значит, что-то не то нужно человеку, значит, не ведет прорыв в бесконечность, к Свободе.
А что ведет? Поворот к внутренней бесконечности, полагает Бердяев, предвидя смену парадигмы – культурной, психологической, – коренной поворот в умонастроении: "Фаусту остается движение к внутренней бесконечности". Что, кстати, созвучно мысли Шпенглера: "Энергия духовного человека направляется во-внутрь; энергия цивилизованного человека во-вне". На смену цивилизованному человеку, не щепетильному к нравственному смыслу Бытия, идет Человек культуры, Человек гуманный. Но для этого он должен преодолеть свое эго, надуманные заботы:
"Культурный человек конца XIX в. возжелал освобождения от натуральной необходимости, от власти социальной среды, от ложного объективизма. Индивидуум вновь обратился к себе, к Своему субъективному миру, вошел внутрь; обнажился мир внутреннего человека, придавленный ложным объективизмом природы и общества". Но недостаточно обратиться к себе, войти внутрь себя, чтобы обрести Истину и Свободу: "Неоромантики, декаденты, символисты, мистики восстали против всякого закона, против всякого объективизма, против всякого обращения к универсальному целому... "Критицизм" совершил пресловутый коперниковский переворот, возвеличил субъект и упразднил бытие" [80].
Свои размышления о книге Шпенглера Н. Бердяев назвал "Предсмертные мысли Фауста", судьбу европейской культуры сравнил с судьбой Фауста, возжелавшего господства над миром, но в бездуховной цивилизации истощившего себя. И Бердяеву близок язык символа. Шпенглер, как и Гете, символист по миросозерцанию; он отказался не только от отвлеченных понятий, но и от онтологии; морфология истории для него – единственная возможность философствования, хотя он и признает заключенный в перводуше неиссякаемый творческий источник жизни, порождающий новые культуры. Шпенглер открывает одни и те же первофеномены в разные эпохи и в разных культурах и ставит в один ряд буддизм, стоицизм и социализм, высказывая "самые благородные мысли, какие могут быть высказаны неверующей душой в наше время" [81].
Но если Шпенглер был пессимистом и сам говорил об этом, не веря в прогресс, не видя никакой цели, никакого особого пути человечества, то о Бердяеве этого не скажешь. И он мог убеждать:
"Земной дух человечества, пошедшего по пути змия, загипнотизировал человека заманчивой идеей прогресса и грядущего в конце прогресса земного рая, и так обольщен был человек, что не заметил безумия своего служения прогрессу и своего подчинения счастливцам грядущего рая".
Философ воспринимает идею прогресса как очередную химеру:
"Вся человеческая анергия направлена вовне, на создание несовершенной, дурной множественности, на поддержание прогресса, закрепляющего закон тления, а не внутрь, не в глубь вечности, не на победу над смертью и завоевание всеобщей, полной и вечной жизни".
Вот и ответ:
"Мы идем к тому реализму, который находит центр индивидуума, связующую нить жизни и утверждает личность как некое вечное бытие, а не мгновенные и распавшиеся переживания и настроения" [82].
Целостному уму Бердяева открыта перспектива Истории, он верит в изначальную разумность мира, в присущность ему Логоса. Фауст же "теряет перспективу истории, ибо для него померк свет Логоса". Пережив личную драму – отторжение от России, предчувствуя наступление "нового средневековья", Бердяев тем не менее не допускает мысли о гибели культуры: "Духовная культура если и погибает в количествах, то сохраняется и пребывает в качествах. Она была пронесена через варварство и ночь старого средневековья. Она будет пронесена и через варварство и ночь нового средневековья".
В отличие от Шпенглера Бердяев предугадал закат фаустовского идеала и смещение доминанты с "цивилизации" на "культуру", что позволит предотвратить гибель последней, а вместе с ней и человечества.
"Мы русский Восток, – заключает Бердяев. – Поэтому кругозор русской мысли должен быть шире, для нее виднее дали". Философия истории всегда была основным интересом русской мысли, начиная с Чаадаева. "В ней сталкиваются два потока всемирной истории, восточной и западной. В России скрыта тайна, которую мы сами не можем вполне разгадать. Но тайна эта связана с разрешением какой-то темы всемирной истории. Час наш еще не настал. Он связан будет с кризисом европейской культуры. И потому такие книги, как книга Шпенглера, не могут не волновать нас. Такие книги нам ближе, чем европейским людям. Это нашего стиля книга".
Неудивительно, что Шпенглер называл Россию "обетованием грядущей культуры", видел в "русском Востоке" тот новый мир, который идет на смену умирающему Западу [83].
Не потому ли, что русская философия сосредоточена на нравственном смысле Истории: "Надо стремиться к тому, чтобы уяснить нравственный смысл великих исторических эпох; надо стараться точно определить черты каждого века по законам практического разума", – полагал Чаадаев, веря в "скрытое в глубине сердца каждого народа начало, составляющее его совесть, тот способ, которым он воспринимает себя и ведет себя на путях, предначертанных ему в общем распорядке мира" [84].
Русские мыслители искали в Истории не абсолютную идею, а "духовный смысл". Согласно Хомякову, история человечества может быть рассмотрена исходя из "одного великого начала" – "народной веры", целостного "живознания", а не из "самосущего понятия", отличающего по его мнению, философию Гегеля. В народе, в народной воле видел Достоевский силу России: несмотря на все безобразия, в которых пребывал народ России, он проявит высоту духа, когда придет его час.
Предчувствие нового эона, нового Человека, охраняло от пессимизма и В. Эрна:
"Или прогресса нет, или же он есть усвоение абсолютного... Остаток истории, то будущее, которое отделяет нас от Вечности, должен быть заполнен небывалыми страданиями... Темные силы, почуяв конец своего господства, мобилизуют все, что имеют" [85].
Идет новый человек, "parvenue, одержимый волей к мировому могуществу и овладению всей землей", – пророчествовал Бердяев. – Но история есть судьба: "Судьба не может быть понята посредством причинного объяснения"; Ф. Степун выделяет причину:
"Вся русская философия, от Ивана Киреевского до Вл. Соловьева и Л. Толстого, посвящена вопросу обезбоженья Европейской культуры, т.е. вопросу Европейской цивилизации. Оскудение религиозного чувства, распад монументальных форм искусства в импрессионизме и эстетизме, утрата органического чувства бытия, бесконечный проблематизм жизни, обезличенье человека механизмом".
К нему присоединяется Франк: человек западной культуры, Шпенглер впервые осознал то, "что давно уже говорили великие русские мыслители-славянофилы (Киреевский, Достоевский, Константин Леонтьев...). Человечество – вдалеке от шума исторических событий – накопляет силы и духовные навыки для великого дела, начатого Данте и Николаем Кузанским и не удавшегося благодаря исторической роковой ошибке или слабости их преемников". Речь идет лишь о конце "Новой истории", но он есть вместе с тем и начало. "Это не гибель западной культуры, а глубочайший ее кризис, в котором одни великие силы отмирают, а другие нарождаются" [86]. Этими словами закончил Франк свои размышления о "Закате Европы".
И самый вдумчивый познает только кажущееся
и лелеет его.
Но дике настигнет лжецов и лжесвидетелей.
(Гераклит)
Русские, откликнувшиеся на книгу Шпенглера, не ошиблись. Это был "закат", за которым следует восход, начало чего-то нового, когда, говоря словами Франка, "одни великие силы отмирают, а другие нарождаются". Но Европа, естественно, шла своим путем, отталкиваясь от своего наследия, возлагая надежды не на животворящий Логос, а на здоровые силы самого нигилизма, в котором видела свою Судьбу. Свидетельство тому – философия М. Хайдеггера, без которого невозможно понять природу постнигилизма, а без последнего – современный мир.
Не было бы Ницше, не появился бы Хайдеггер. Их разделяет несколько десятилетий, но, видимо, таких, которые приравниваются к векам, ибо знаменуют они смену мировоззренческой парадигмы, просуществовавшей со времен Парменида и Платона. Нигилизм сам по себе свидетельствовал, что путь дуализма (или дуальной модели мира), а вместе с ним и метафизического способа мышления исчерпал себя. Зарождалось новое мироощущение, и один из тех, кто стоял у его истоков, был М. Хайдеггер (недаром столь велико оказалось его влияние на модус культуры XX в.).
Похоже, закон Великого Предела, как объективный, как природная неизбежность, начинает сказываться и на духе нигилизма. Доведенное до крайности, до сверх-предела, явление, как уже говорилось, отпадает от Целого. Остается лишь то, что "выпало в осадок", не подвержено разрушению, на которое обречена всякая односторонность. Сохранившееся, причастное Бытию набирает постепенно силу. Так произошло и с нигилизмом. Несмотря на крайние формы у Ницше, нигилизм не сошел со сцепы, напротив, укоренился в сознании, что свидетельствовало о его неоднозначности и неслучайности.
Феномен Хайдеггера, похоже, знаменует встречу двух глобальных тенденций, двух универсальных форм движения: закона отрицания отрицания, когда одна из сторон живет за счет другой или обе взаимоуничтожаются, чтобы дать жизнь третьей, и закона Великого Предела, который ведет не к уничтожению, а к смене одной ситуации другой, повинуясь ритму чередования инь-ян (сжатия-расширения, вдоха-выдоха) – пульсации, гомеостазису. Если все Едино, значит, и сфера умственной жизни не может избежать воздействия этого закона. Движение европейской мысли, последние века шло, условно говоря, по горизонтали (тезис – антитезис – синтез). К XX в. появилась тяга к вертикали.
Достигая высшей точки сжатия (инь) или расширения (ян), движение начинает обратный путь, хотя для этого поворота может понадобиться не одно тысячелетие. Закон отрицания можно рассматривать как частный случай космо-эволюционного закона Великого Предела. Они действуют на разных уровнях (как программа максимум и программа минимум), один закон внутри другого. Оба существуют объективно, но отличаются масштабами: закон инь-ян, пульсации, – универсален, действует на всех уровнях, от микроорганизма до космоса, от клетки до галактика (как, скажем, день и ночь Брахмы, на протяжении которых происходит вдох и выдох – сжатие и расширение Вселенной. День Брахмы продолжается более 4 млрд. лет; принцип действия закона тот же, не зависит от масштаба времени и пространства).
Но, как я уже говорила, видимо, в силу высшей необходимости в одной части света поставили акцент на одной форме движения, на столкновении противоположностей, – те которые покоряли мир, превратив его в объект, себя в субъект, этим объектом владеющий. И преуспели в развитии науки и технической цивилизации, но не учли, что всякий односторонний процесс ведет к гибели, объективации подвергнется и сам субъект. Другие поставили акцент на единстве противоположностей, их взаимопроницаемости и постепенной чередуемости [87]. Однако рано или поздно сознание, само себя осознавая, должно было прийти к идее единства двух форм движения, как свойств самой материи. В XX в., похоже, сложилась та ситуация, о которой можно сказать словами "Даодэцзина" (§16):
"Все вещи сами по себе
возвращаются к своему истоку.
Возвращение к истоку называется Покоем.
Это значит – возвращение к велению Неба.
Возвращение к велению Неба называется Постоянством.
Знание Постоянства ведет к Просветлению.
Незнание Постоянства – к произволу и злу.
Если пребываешь в Постоянстве,
все принимает подобающий вид".
Смена исчерпавшей себя парадигмы не могла не сказаться на самом нигилизме. Иначе говоря, в среде нигилизма появились признаки той позитивной философии, которую предсказывал Шеллинг. Выполнив свою отрицающую функцию (не отрицательную, а очищающую, деструктурирующую функцию, в общем, функцию хаоса, как фазового состояния: разрушение старой формы ради созидания новой), нигилизм должен был повернуть в обратную сторону: от разрушения к созиданию, от энтропии к эктропии (от Хаоса к Логосу). На уровне феноменов нет чисто отрицательных явлений (одного инь) или чисто положительных (одного ян). Во всем есть и то, и другое, лишь в разном сочетании: то одно, то другое преобладает. Но западная мысль двигалась таким образом, что каждый раз выделяла что-нибудь одно – или множество, и ум, сосредоточивался на единичном, упуская из виду единое, или единое, и ум сосредоточивался на нем, упуская из виду единичное. Может быть, потому, что видел поверхность вещей, "тени" (если воспользоваться образом Платона). Как сказано в классическом китайском романе Ло Гуань-чжуна "Троецарствие":
"Великие силы Поднебесной, будучи долго разобщенными, стремятся соединиться вновь и после продолжительного единения опять распадаются – так говорят в народе".
Мысль от Демокрита до Пуанкаре двигалась именно таким образом:
"Наука всегда обречена периодически переходить от атомизма к непрерывности, от механизма к динамизму и обратно, и почему эти колебания никогда не прекратятся".
И удивительно проницание именитого физика о тонком плане бытия:
"Когда-нибудь потребуется между атомами нашей первой среды вообразить вторую, более тонкую среду, предназначенную для передачи действия между ними" [88].
После открытия принципа дополнительности Н. Бором, когда наука опытным путем подтвердила непротиворечивость множества и единства (свет – и корпускула и волна), появилась возможность преодолеть это противоречие и выйти к целостному мышлению (путь к которому прокладывали философы и те, кто сочетает в себе дэ физика и дэ философа).
Так или иначе, нигилизм Ницше, завершившийся "Закатом Европы" О. Шпенглера, был тем Пределом, после которого мысль должна была пойти в другую сторону. Собственно, начало поворота (восхождения по вертикали) просматривается уже в идее "перводуши" (Urseelentum) Шпенглера (вроде просвета во Тьме дао, которому суждено нарастать). Значит, уже отрицание Шпенглера не было абсолютным, хотя он и объявил о смерти европейской культуры. Но и условный "закат" не мог продолжаться бесконечно, ибо в культуре, как и в природе, все подвержено изменению благодаря существованию неизменной основы (колесо вращается, потому что ось неподвижна). Рано или поздно Тьма уступает место Свету, как ночь – дню, на смену эпохам мрака (мракобесия) приходят эпохи Света, Творчества.
Собственно, тенденция всеотрицания, доведенная до логического завершения Ницше, существовала и раньше и вселяла тревогу в души тех, кто способен был видеть происходящее. Уже Т. Карлейль с присущей ему прямотой осуждал зарождающийся нигилизм. В 1843 г. он писал в "Прошлом и настоящем", что "Природа-Сфинкс" ставит перед каждым человеком и каждой эпохой вопрос. Тот, кто правильно на него ответит, обретет счастье, а кто неправильно, попадет в звериные лапы сфинкса – вместо прекрасной невесты найдет свирепую львицу. То же самое происходит с нациями. По мысли философа, все несчастные народы, как и все несчастные индивиды, дали неверный ответ на этот вопрос, приняв видимость (то, что в буддизме называется майей) за Истину. Пренебрегли вечными внутренними фактами Вселенной, не различив за внешними преходящими формами.
Ницше в какой-то мере принимал видимое, лежащее на поверхности Истории, за "вечную сущность вещей", – то, что Карлейль назвал "одеждами". Нравы, обычаи, учреждения, религиозные отправления суть лишь внешнее выражение внутренней духовной жизни, разного рода "одежды", которыми человечество прикрывает свою природную наготу, писал Карлейль в "Сартор Резартусе". Одежды со временем изнашиваются, стареют, выходят из моды, и "внутренние факты вселенной" находят себе новое выражение. Главное – не принимать "одежды" за вечные сущности и вовремя сбрасывать, чтобы не мешали росту живого организма.
Карлейль в поисках истинных регуляторов Вселенной не страшился оказаться с глазу на глаз с обнаженной сущностью вещей и считал путем, достойным человека, путь нравственного долга и созидательного труда. Он возвел Труд в религию, видел в нем путь к Спасению. Но голос Карлейля прозвучал как "глас вопиющего в пустыне", хотя его и называли "пророком XIX века" (а может быть, потому и не минула его участь пророка). Нигилизм Ницше похоронил вместе с Богом то, что пытался спасти Карлейль, веривший: за видимостью жизни, внушающей ужас, есть неизменные законы, "вечные внутренние факты вселенной", которые не подвержены воздействию времени. Однако общественное мнение, склонное к негативизму и вечному недовольству, предпочло Ницше, который изверился в действительности, но дал человеку надежду – "волю к власти", шанс превзойти самого себя.
Оказалось, чтобы превзойти себя, одной воли к власти недостаточно. Человек без прошлого – не человек. Человеком его делает генетическая память – нравственная, духовная. Разве назовешь человеком манкурта? Человек вовсе не то, что он есть от рождения до смерти, он то, что приносит в этот мир с собой и уносит из него: "За нами, как за прибрежной волной, чувствуется напор целого океана всемирной истории; мысль всех веков на сию минуту в нашем мозгу" [89]. Человек аккумулирует в себе опыт тысячелетий, и идти дальше безбоязненно он может, если осознает свое назначение. Для этого он должен понять себя, свое место в этом мире. По крайней мере понять: почему так и не выполнена задача, поставленная еще Фалесом и заостренная Сократом, – "Познай самого себя" [90]. А это, действительно, вопрос жизни и смерти. Может быть, ответ предполагает иной взгляд на себя и на сущее – то, что стало проясняться в умах философов нового типа, таких, как Эрн, Бердяев, Хайдеггер.
Жизнь шла своим чередом. Европейский ум стал понемногу оправляться от шокового состояния, в которое вверг его пессимизм Шопенгауэра, нигилизм Ницше и "Закат Европы" Шпенглера, объявивших о смерти бога или духовного человека, о смерти европейской культуры. Обветшавшая "одежда", как и подобает, спадала, обнаруживая новую, потаенную ткань, над которой давно уже трудился дух. Нигилизм, упростивший картину мира, нигилизм, для которого Природа, а вместе с ней и природные чувства "не храм, а мастерская" ("Отцы и дети" Тургенева вышли в 1862 г., а уже в 1869 г. переведены на немецкий), не мог иметь долгой жизни, как всякий поверхностный взгляд. Другое дело, проблема, которую поставили Ницше и Шпенглер, отвергая метафизическую систему, на которой с роковой неизбежностью взросла механическая цивилизация, обнажившая черты технического монстра и сделавшая человека несчастным, несмотря на обилие вешен.
Философия оказалась перед необходимостью осмыслить Историю, оказалась в той самой "пограничной ситуации", которая пробуждает сознание, ставит перед необходимостью выбора. Действительно, европейская философия, оправившись после шока, ощутила прилив сил и нравственную ответственность за будущее, поставила задачу понять природу того, что угрожало гибелью, найти выход из тупика. Эту задачу и попытались взять на себя философы, представлявшие "метафизический нигилизм": Ясперс (1883–1969), Сартр (1905–1980), Хайдеггер (1889–1976), – люди одной эпохи, угадавшие ее ожидания. Но и они не могли повернуть или ускорить ход событий, ибо ни один ум не может отменить или устранить то, что не исчерпало себя, не отжило свой век. Другое дело, что, осознав явление, высветив положительное и отрицательное, они помогали нормальному прохождению его жизненного цикла и в значительной мере ослабили влияние отрицательной стороны нигилизма на умственную жизнь века. В этом, видимо, назначение порожденного нигилизмом экзистенциализма – он расчищал почву для нового сознания.
Этой задаче и посвятил Хайдеггер свои труды о Ницше и о европейском нигилизме. По определению исследователя и переводчика Хайдеггера В. В. Бибихина,
"нигилизм понимается им как последнее заострение метафизики, а "метафизика" – не как мыслительная конструкция философов, а как исходное мироотношение западного человека, от своих начал в Древней Греции необратимо определяющее всю его историю вплоть до создания и планетарного распространения современной машинной и социальной техники" [91].
Настрой Хайдеггера соответствовал новой волне философии, хотя его не зря называли непонятным, "темным" философом, но и не зря, видимо, в наше время интерес смещается именно к загадочным философам (начиная от Гераклита и Анаксагора). Так же, как не случайно Хайдеггер обращался к досократикам (скажем, к Гераклиту) в поисках неразъятого сознания: не разделяющего, не предпочитающего одно в ущерб другому, как это делал Ницше, возведя к сущему "волю к власти" и тем самым взяв на душу грех односторонности. Хайдеггер считает Ницше последним представителем той самой метафизики, против которой Ницше взбунтовался, приняв "решительным актом чувства и воли" эту жизнь, "как она теперь дана, со всеми ее страданиями и муками, со всей ее бессмыслицей". Ницше действительно не видел смысла в становлении и дразнил Хаос в человеке: "Я говорю вам: нужно носить в себе еще хаос, чтобы родить танцующую звезду". Хотя в глубине души ощущал, что мир имеет, "может быть, несравненно большую ценность, чем мы полагаем, – мы должны убедиться в наивности наших идеалов".
Хайдеггера не было бы без Ницше: он взял на себя его боль и сделал все возможное, чтобы помочь другим избежать его крайностей. ("Европейский нигилизм" появился в 1961 г. как часть двухтомника "Ницше"). Хайдеггер видел в нигилизме Ницше "коренное изменение истины о совокупном сущем", но такое изменение, которое было заложено в этой "истине" и само тяготело к своему завершению. "Истина о совокупном сущем" – это "мета-физика", т.е. истолкование, поверх познания определенных моментов, классов вещей и сущего в целом, всего существующего, как такового.
Наверное, если бы в этом пути, которому следовала мысль со времен Платона, не было высшей необходимости, то он не пролег бы через два с половиной тысячелетия. Наверное, нужно было пройти через все круги ада, чтобы увидеть в конце пути Свет, надежду на Свободу. Вкусив, по наущению Сатаны, плод с древа познания добра и зла, накапливая проступки и злодеяния, изничтожая несогласных, как можно было не испить чашу позора и не стараться искупить вину? Видимо, можно согласиться с мнением американского богослова Дж. Робинсона, что если считать всю эпоху метафизики от Платона до Ницше ошибкой, то "не такой, которую следует осудить и которую можно было бы в принципе и не совершать. Скорее это была ошибка, на которую мышление было спровоцировано бытием".
Однако небезопасно и не видеть ошибки, не признавать, что все идет вкривь и вкось, если следовать отжившему свой век. Хайдеггер видел опасность мышления по привычке, инерции сознания; миру угрожал распад – взаимоуничтожение субъекта-объекта. "Метафизика безусловной (абсолютной) субъективности воли к власти" абсолютизирует и исчерпывает второй член метафизического определения человека ("разумное животное"), подобно тому как панлогизм Гегеля абсолютизировал и исчерпал его первый член. "Безусловная сущность субъективности с необходимостью развертывается как брутальность бестиальности... Слова Ницше о "белокурой бестии" – не случайное преувеличение".
Истина заключалась в том, что время "метафизики", возникшей как следствие и оправдание "борьбы" во имя динамизма и победы над природой, истекло, а сознание продолжало ей следовать. Поезд не сбавлял скорость, хотя кое-кто (те, кто повыше ростом) уже видел, что рельсов дальше нет. Это мучило экзистенциалистов, искавших возможность воссоединить сущность и существование и предотвратить крушение Истории. Говорят, мир смеясь расстается с прошлым. Экзистенциалистам было не до смеха: все оказалось на пределе жизни и смерти, и предстояло сделать выбор между тем и другим. Уже Ницше понимал, что "воля к власти" ведет к сверх-господству, к полному поглощению отдельного целым: "Приходит время, когда пойдет борьба за мировое господство; она пойдет во имя основополагающих философских учений". И Хайдеггер заключает: "Эти "философские учения" означают существо той завершающейся метафизики, которая в своей основополагающей черте (т.е. как учение о бытии в целом) несет на себе западноевропейскую историю, формирует ее как новоевропейскую и предопределяет ее для "мирового господства"". (И, кстати, в этом его мысль совпадает с интуицией Эрна). С болью говорил Хайдеггер летом 1940 г. о "закате истины сущего", "опустошении Земли", о шествии по ней нового "человечества метафизики", "работающего зверя" [92].
Разве это не обязывает задуматься, что именно смущало философа в "метафизике", которая устраивала великие умы на протяжении двух с половиной тысячелетии? И в ней ли именно дело или в ее несоответствии духу нового Времени, моменту Великого Предела, смены эволюционной фазы? Хайдеггер один из первых ощутил изменение вектора времени. Социальный ритм пришел в полное противоречие с ритмом Бытия, а возрастание аритмии ставит под угрозу самое жизнь. Об аритмии свидетельствовал и нигилизм; смену фаз, смену мировоззренческой парадигмы приняли за конец света. Хайдеггер понимал, что без преодоления не столько самого нигилизма, сколько причин, его порождающих, все действительно сойдет на нет, превратится в nihil, если не преодолеть метафизику, метафизический способ мышления, который неизбежно ведет к раздвоению мира и его распаду [93].
(В 1988 г., когда я уже завершала книгу, вышли переводы Хайдеггера, которые у нас, естественно, не издавались [94]. Ненатруженный ум их чурался, – не потому, что они действительно опасны, подрывают устои, а потому, что требуют напряжения, работы ума, от которой рассудок давно отвык. Спокойнее спрятать голову в песок, чем вынуть ее и обнаружить несоответствие ее предназначению. Одного не могу понять, почему не срабатывает инстинкт самосохранения, присущий же всему живому? "Ум двигает массу", – говорили древние. От ума зависит, кому быть, а кому не быть и в относительном, и в абсолютном смысле).
Хайдеггер говорит, имея в виду не класс бюрократии, а философов: "Люди уже не думают, они "занимаются философией". В соревновании таких занятий философии публично щеголяют в виде броских "измов" и стараются перещеголять друг друга. Господство подобных титулов не случайно. Оно опирается, особенно в Новое время, на своеобразную диктатуру публичности". Он говорит это в "Письме о гуманизме", адресованном в 1946 г. французскому философу Ж. Бофре. В максимально сжатой форме Хайдеггер излагает суть вопроса. Есть в "Письме" и рассуждение о "ненаучности" (если помните по гл. 1 мои печали). "Философия" уже со времен Платона и Аристотеля испытывает
"постоянную необходимость оправдывать свое существование перед лицом "наук". Она воображает, что вернее всего достигнет цели, возвысив саму себя до ранга науки. Этим усилием, однако, приносится в жертву существо мысли. Философия гонима страхом потерять престиж и уважение, если она не будет наукой. Это считается пороком, приравниваемым к ненаучности... Строгость мысли, в ее отличии от наук, заключается не просто в искусственной, т.е. технико-теоретической, точности ее понятий. Она заключается в том, чтобы слово не покидало чистой стихии бытия и давало простор простоте его разнообразных измерений" [95].
"Письмо о гуманизме" написано в ответ на работу Сартра "Экзистенциализм есть гуманизм" (1946 г.), вызвавшую большие споры. (Война подвигла задуматься о Жизни в ее глубинном смысле). Казалось бы, о чем спорить? Кто станет возражать против гуманизма? Но все не так просто. У Сартра свой взгляд.
Он задумал вернуть веру в субъект, будучи убежден, что существование предшествует сущности. В XVIII в. философы-атеисты отбросили бога, но не отбросили идею предшествия сущности существованию. Это сделали экзистенциалисты, опираясь на ту простую истину, что человек сначала существует, а потом проявляет себя. С точки зрения Сартра, нет ни человеческой природы, ни бога, который бы ее изобрел, и лишь волевым усилием человек становится таким, каким он сам себя сделает. Гуманизм такого человека сводится к открытости другим: "Для каждого человека все происходит так, как будто глаза всего человечества направлены на него и все человечество сообразует свои действия с его поступками". Выбирая себя, человек выбирает всех, и ничто не может быть хорошим для него, не будучи хорошим для других. Вместе с тем, если бога не существует, человек ощущает себя беспомощным, покинутым, потому что ни в себе, ни вовне ему не на что опереться. Сартр ссылается на Достоевского – если бы бога не было, то все было бы позволено – и называет это исходным пунктом экзистенциализма.
Человек всегда свободен в своем выборе ("человек – это свобода"), но свобода выбора еще не есть истинная Свобода. Не потому ли одинокий человек Сартра осужден быть свободным? "Покинутость означает, что мы сами выбираем наше бытие", – через действие. "Завтра, после моей смерти, одни, может быть, решат установить фашизм, а другие окажутся настолько трусливы и растеряны, что дадут им это сделать. Тогда фашизм станет человеческой истиной, и тем хуже для нас. В действительности все будет происходить так, как решит сам человек".
Что же конкретно понимает Сартр под гуманизмом, с которым отождествил экзистенциализм? Есть, с его точки зрения, два гуманизма. Один рассматривает человека как цель и высшую ценность. Экзистенциалисты не разделяют эту точку зрения, так как человек все время находится в процессе становления, находится вне себя самого, проектируя себя вовне, растворяясь в окружающем. Не существует другого мира, кроме человеческого, кроме мира человеческого субъекта.
"Человек не замкнут в себе, а всегда присутствует в человеческом мире, – это мы и называем экзистенциалистическим гуманизмом... Человек должен обрести себя и убедиться, что ничто не может его спасти от себя самого, хотя бы даже и бог" [96].
В этом смысле экзистенциализм – это оптимизм, учение о действии, заключает Сартр.
С чем же не согласен Хайдеггер?
Он говорит, человек не может пока принять правильное решение, ибо он не знает ни себя, ни ситуации, в которой оказался, не может принять правильное решение, пока не вернется к истине Бытия, к самому себе. Сартр рассуждает, как человек, отпавший от Бытия, а вне его, в мире явленных, сконструированных умом сущностей, нет ответа. Движение от Центра, если считать за Центр Истину Бытия, ведет лишь к повторению того же, к множественности, к "дурной бесконечности". Чем дальше от Истины Бытия, тем более возрастает Хаос. Сартр не признает за Историей объективности и сводит все к "человеческой реальности", ссылаясь, кстати, на Хайдеггера. Но если Сартр утверждает: "Мы, строго говоря, находимся в измерении, где имеют место только человеческие существа", то Хайдеггер в работе "Бытие и время" приходит к противоположному выводу: "Мы, строго говоря, находимся в измерении, где имеет место прежде всего Бытие" [97].
Забегая вперед, скажу, что в конце концов Сартр честно признается:
"В этом перевернутом мире, в котором окончательное поражение есть правда жизни... идя от одной истины к другой, мы узнаем лишь одно: нашу полную беспомощность. Мы столько раз изменяли нашей молодежи... Нам больше нечего сказать молодым людям... Мы вдруг узнаем, что ничего не сделали, достигнув того возраста, когда задумываешься о составлении своего завещания" [98].
Это признание – свидетельство прямоты Сартра и "несчастного сознания", отпавшего от Бытия. Сартр остается в рамках метафизического метода; хотя ему и кажется, что он переворачивает прошлое, но переворачивает его на тот же лад, утверждая, что экзистенция предшествует "эссенции" или существование – сущности. "Но перевернутый метафизический тезис, – справедливо замечает Хайдеггер, – остается метафизическим тезисом". То же самое происходит с любым тезисом, который всего лишь превращается в свой антитезис, а последний вновь становится тезисом, и так до бесконечности упражняется ум в одном и том же.
Философия, даже становясь "критической", как у Декарта и Канта, все же неизменно впадает в колею метафизического. "Она мыслит от сущего и в ориентации на сущее, проходя через момент обращенности к бытию". Потому Хайдеггер и не приемлет сартровский гуманизм, который есть один из вариантов метафизического гуманизма, а всякая метафизика обходит вопрос об Истине Бытия. Задача же человека – прорваться за пределы замкнутого круга самоудовлетворяющегося ума. И потому Хайдеггер задается вопросом, нужно ли сохранять как есть само слово "гуманизм".
"Или недостаточно еще очевидна беда, творимая всеми рубриками такого рода? Люди, правда, давно уже не доверяют "измам". Но рынок общественного мнения требует все новых... Греки в свою великую эпоху мыслили без подобных рубрик. Даже "философией" они свою мысль не называли".
Хайдеггеру в высшей степени присуще историческое чутье, или ощущение исторической перспективы, прямой и обратной, которое не позволяет ему принимать неизменные категории. Каждая эпоха имеет свой гуманизм, и римский не тот, что гуманизм итальянского Ренессанса XIV–XV вв. или немецкий гуманизм XVIII в. В целом же происходило постепенное "культивирование человечности" за счет "реанимации греческого мира". При этом гуманизм не касался вопроса об отношении бытия к человеку: Метафизика не задается вопросом об истине бытия. Она не спрашивает и о том, в каком смысле существо человека принадлежит истине бытия. "Метафизика мыслит человека из animalitas и не домысливает до его humanitas".
Нужен ли человеку такой гуманизм, который так и не смог за время своего существования (более двух тысячелетий) очеловечить человека? Может быть, не с того надо начинать, не с определений, а с самого человека, имея в виду, что человек принадлежит своему существу лишь постольку, поскольку слышит зов Бытия. Отпавший же от Бытия, от своей сущности, человек не может быть истинно гуманным, ибо человечность человека "покоится в его сущности". Значит, нужно "подготовить человека к требованиям бытия", вернуть ему его человечность, ибо высшие гуманистические определения человеческого существования не отражают подлинного достоинства человека: "Мысль идет против гуманизма потому, что он ставит humanitas человека еще недостаточно высоко".
Именно "история бытия" несет на себе и определяет собой всякую человеческую участь и ситуацию. Человек самим бытием "брошен" в центр Бытия; он – "пастух бытия", экзистируя, призван беречь Истину бытия, чтобы в свете бытия сущее явилось как сущее, каково оно есть (вещи предстанут в их истинном виде).
"Только так, от бытия, начнется преодоление бездомности, в которой блуждают не только люди, но и само существо человека... Бездомность становится судьбой мира. Надо поэтому мыслить это событие бытийно-исторически. То, что Маркс в сущностном и значительном смысле опознал вслед за Гегелем как отчуждение человека, уходит своими корнями в бездомность новоевропейского человека... Поскольку Маркс, осмысливая отчуждение, проникает в сущностное измерение истории, постольку марксистский взгляд на историю превосходит прочую историографию".
Сартр, поставив вопрос о беспомощности в покинутости человека, не показал причину, лишь констатировал факт; Хайдеггер попытался понять истоки одинокости, покинутости человека и увидел их в отпадении человека от Бытия:
"Бездомность, ожидающая такого осмысления, коренится в покинутости сущего бытием. Она – признак забвения бытия". Он показал не только почему это произошло, но и как преодолеть гнетущее ощущение "бездомности", толкающее человека на безрассудные поступки: "Так, при определении человечности человека как экзистенции существенным оказывается не человек, а бытие как экстатическое измерение экзистенции".
Значит, во имя спасения человека нужно отойти от него.
Это рушило антропоцентрическую модель, господствовавшую со времен греков, но сближало Хайдеггера, как нетрудно догадаться, с восточными мудрецами, с их отношением к человеку и бытию, хотя мотив "блудного сына" настойчивее звучал в искусстве наряду с "тихой и печальной мелодией человечности" (по словам Вордсворта). Человек, возомнивший себя центром Вселенной, не стал ее Мерой. Как же человеку вернуться в материнское лоно, ощутить свою связь с Бытием, если он давно отрекся от Него, соблазнившись доступностью Земли и возможностью господства над нею; отрекся, как от лишнего груза, мешающего продвижению вперед к обетованной цели мирового господства. В XX в. он сделал попытку осуществить свой нечестивый замысел – не вышло. Тогда он усомнился в правильности пути, почувствовал потребность искупить грех всезнания и начал искать дорогу назад, к своей природной сущности. Но как найти эту дорогу? И Хайдеггер отвечает – через язык: "Язык есть дом бытия, живя в котором человек экзистирует, поскольку, оберегая истину бытия, принадлежит ей". Прежде чем решиться на Слово, нужно понять его глубинную связь с Бытием:
"Мы видим в звуковом и письменном образе тело слова, в мелодии и ритме – душу, в семантике – дух языка. Мы обычно мыслим язык из его соответствия сущности человека... Метафизическое телесно-духовное истолкование языка скрывает Язык в его бытийно-историческом существе. Сообразно этому последнему язык есть осуществляемый бытием и пронизанный его строем дом бытия".
Если язык умирает, теряется нить, которая связывает человека с Бытием. Но Язык может возродиться, если возродится Мысль, причастная Бытию; между ними, Мыслью и Словом, прямая связь – у них одна Праматерь:
"Человек должен, прежде чем говорить, снова открыться для требований бытия с риском того, что ему мало или редко что удается сказать на это требование. Только так слову снова будет подарена драгоценность его существа, а человеку – кров для обитания в истине бытия" [99]
(здесь Хайдеггер смыкается с Гумбольдтом, еще одним не-классическим философом, к которому потянулись умы в наше время [100]).
"Мыслью осуществляется отношение бытия к человеческому существу. Мысль не создает и не вырабатывает это отношение. Она просто относит к бытию то, что дано ей самим бытием. Отношение это состоит в том, что мысль дает бытию слово. Язык есть дом бытия. В жилище языка обитает человек. Мыслители и поэты – хранители этого жилища".
Но люди уже давно не думают, они "занимаются философией", и это не может не сказаться на языке, который лишился живого источника энергии мысли:
"Повсюду и стремительно распространяющееся опустошение языка не только подтачивает эстетическую и нравственную ответственность во всех употреблениях языка. Оно коренится в разрушении человеческого существа. Простая отточенность языка еще вовсе не свидетельство того, что это разрушение нам уже не грозит" [101].
Если язык теряет свою природу, свое назначение, то разрушается "дом Бытия". Отпавший от Бытия человек говорит на искусственном, мертвом языке, языке функционеров, чиновников, тем расширяя мертвую зону. Одномерное мышление порождает одномерное слово, язык штампа. Язык становится орудием господства над сущим. Когда сущее себе не принадлежит, тогда обескровленной становится жизнь. Это ощущали поэты. Вспомним гумилевское "Слово":
В оный день, когда над миром
новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города...
Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово это – бог.
Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.
Бытие как Слово, изначальность Слова и вера в возможность возвращения к Бытию через Слово делают Хайдеггера человеком западной культуры, но в высшем смысле, или в высшей точке, где все Едино, все пути сходятся, где только и возможен истинный диалог: одной завершенности с другой завершенностью. Всякое Целое причастно Бытию (по закону соответствия, так же как никакая односторонность, никакая половина сама по себе не вхожа в Целое, в "дом Бытия"). Слово и Молчание диалогичны, если Целостны. Между ними нет границ, одно легко, самоестественно переходит в другое: Молчание в Слово, Слово в Молчание. Потому что они едины, принадлежат одному Бытию. Хайдеггеру доступен язык Запада и Востока, он предвестник их Встречи – двух сторон Бытия (о "Встрече" можно говорить условно, это две стороны Единого). В каждом явлении есть Запад и Восток, лишь метафизическое мышление развело половины в разные стороны и противопоставило одно другому. При упоминании в Встрече речь идет о возвращении к изначальному, но уже осознанному Всеединству. Приходит ощущение того, что "Восток и Запад, – по мысли Гегеля, – есть в каждой вещи" (можно добавить – и в каждом человеке, ибо они непротиворечивы, нераздельны и неслиянны).
Значит, Слово у Хайдеггера – это то Слово, в котором присутствует Молчание, – то Молчание, в котором присутствует Слово. Иначе, как выразить затаенное в Молчании и затаенное в Слове, что присуще истинной поэзии? [102]. Справедливое Слово, по Эмпедоклу, стоит между миром Любви и миром Вражды, и то, что разбросано Враждой, соединяет. Имя этому Слову – Муза.
Но по закону всеобщего Равновесия в одной культуре полагались на Слово, в соответствии с его назначением ("глаголом жечь сердца людей"); в другой – на Молчание, в соответствии с его назначением – хранить Единое ("кто знает, тот не говорит, кто говорит, не знает"). Нельзя до конца выразить в слове то, что невидимо и неслышимо, остается потаенным (инь, молчание, и ян, слово, присутствуют Друг в друге, но каждый раз что-то преобладает).
Естественно, и христианская традиция, западная культура знают благость молчания. По Проклу: "Логосу должно предшествовать молчание, в котором он укоренен". В Молчаний Иисус принял смерть. "Он все терпит молча, став безглаголен, дабы ликовал Адам!", – восклицает Роман Сладкопевец; "Безгласен стоял Говорящий громами и без слова – тот, кто есть Слово"; "Уловляющий в плен мудрецов совершил свою победу через молчание" [103]. Или вспомним Ареопагитики: "Сверхсущностная Троица, сверхбожественная и сверхблагая... возведи нас за пределы познания и за пределы света, на ту наивысшую вершину, где неразложимые, абсолютные и непреложные таинства богословия открывают мрак таинственного безмолвия, превышающий всякий свет" ("Таинственное богословие", 1, 997 А). Моцарт признавался, что для него важнее в музыке "паузы", Бетховен называл молчание музыкой, и Шекспир говорил: "Поучение – в камнях, книги – в бегущих потоках, и добро во всем" ("Как вам это понравится", действие 2, сцена 1). А Тютчев!
Дума за думой, волна за волной
–
Два проявленья стихии одной:
В сердце ли тесном, в безбрежном ли море,
Здесь – в заключении, там – на просторе, –
Тот же все вечный прибой и отбой,
Тот же все призрак тревожно-пустой
("Волна и дума").
Или его знаменитое:
Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул –
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул...
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!..
Все во мне, и я во всем!..
Восточное отношение к слову не столь драматично. Наверное, потому, что оно не отождествлялось с Бытием. На Слово не возлагали больших надежд, оно, как и число, – одна из функций дао (не выделять что-то одно в ущерб Единому). Это явствует уже из древнего комментария к "Ицзину":
"Учитель сказал: "Письмо не до конца выражает слово. Слово не до конца выражает мысль"". Но если так, как же узнать мысли совершенномудрых? "Учитель ответил: "Совершенномудрые создали образы, чтобы в них до конца выразить мысли. Они установили триграммы, чтобы в них до конца отразить истинное и ложное. Они добавили афоризмы, чтобы до конца исчерпать слова""
("Сицычжуань", I, 53).
В основе китайского мышления лежит не Слово, а Образ (сяк), идеограмма, иероглиф, породивший иероглифический тип мышления: каждый знак сам по себе есть целое. Но это особая тема, заслуживающая отдельного разговора [104].
Другое дело, что и восточные мудрецы не могли обойтись без слов, но, говоря, внимали Небу. "Разве Небо говорит, а четыре времени года сменяются, и все вещи произрастают" ("Луньюй", XVII, 18). То, что передавали мудрецы, хотя и начертанными знаками, но сжатыми до предела. Дзэнское понятие "фурюмондзи", значит – передавать Истину "вне знака". В слове не выразить сокровенную Красоту (мё): "истина вне слов". Мастера дзэн достигали наивысшего в непосредственном общении – "от сердца к сердцу". Будда открыл учение дзэн (кит. чань, санск. дхьяна) ближайшему ученику, Махакашьяпе, не проронив ни слова, лишь поднял цветок и молча смотрел в его сторону. И лицо ученика озарила улыбка: в сатори он воспринял учение, потом оно распространилось на другие страны, через Китай в Японию, теперь и на Запад.
В сутрах слова Будды называют "бессловесными" ("Ланкаватара сутра"). И Хайдеггер говорит: "Чтобы человек мог, однако, снова оказаться вблизи бытия, он должен сперва научиться существовать на безымянном просторе" [105]. (Не нуждается ли мир в обете молчания?)
Слово – функция дао, но дао не подчиняется и не подчиняет, не отдает приказов:
"С любовью воспитывая все
существа,
дао не считает себя их господином...
Все сущее возвращается к нему,
но оно не властвует над ним.
Его можно назвать Великим.
Оно становится Великим,
потому что не считает себя таковым";
"Дао почитаемо, дэ
ценимо,
потому что они не отдают приказаний,
а следуют естественности...
Создавать и не владеть,
творить и не превозносить себя,
являясь старшим, не повелевать –
вот что называется глубочайшим дэ"
("Даодэцзин", §34, 51).
Если цель Пути – переживание Единого, то это исключает метод анализа и синтеза, и Хайдеггер ведет речь о "вслушивании", о проницании Бытия через Доброту и Любовь, через трепетное к нему отношение. И это сближает его с восточным путем познания, как со-переживания в неразделенности субъекта-объекта. Истина открывается целостному уму, а целостный ум на себе не сосредоточен, он становится един с другим, приходит с ними в сердечное созвучие, и оттого ему открывается Целое – потаенная красота, которая делает безмерным его измерение, Забывая о себе, сосредоточиваясь на другом, входишь в прямое общение, переживаешь сокровенное, полноту Бытия, высший миг сопричастности Целому.
Дайсэцу Судзуки рассказывает о дзэнской живописи тушью – сумиэ: каждый удар кисти пульсирует, как живое существо.
Нельзя остановиться, задуматься над рисунком: "Если только логика или рефлексия встанут между кистью и бумагой, все пропадет". Суть в мгновенной реакции: "Когда спрашивают: "Что значит реальность Будды?", Мастер мгновенно отвечает: "Ветка сливы" или "Кипарис в саду". Есть нечто покоящееся внутри, что способно моментально проявить себя. Зеркало мудрости отражает вещи сразу, одну за другой, само оставаясь чистым и неподвижным". Состояние невозмутимости и непринужденности отличает мастера дзэн: его действия естественны, непроизвольны. В этом Путь бодхисаттвы. "В искусстве это искусство без искусности. Или, как сказал бы конфуцианец: "Что говорит Небо? Что говорит Земля? Сезоны приходят и уходят, и все вещи произрастают". А последователи Лао-цзы и того короче: "Недеяние приводит все в движение"" [106]. Так думают и современные радетели традиционного стиля, скажем японский мастер каллиграфии Харадо Кампо: "Когда я беру палочку туши и растираю ее на камне, спокойствие и мир наполняют мое сердце. Я нахожу слово, которое абсолютно свободно в этом молчании, слово, в котором заключено безграничное пространство". Отсюда и "путь каллиграфии" – сёдо (названия дзэнских искусств включают иероглиф "путь" – дао, яп. до-мити). Искусство и есть Путь постижения Истины через слияние с дао.
Дзэнский мастер отвечает молчанием, жестом или неожиданным криком, казалось бы, абсурдным, бессмысленным, но способным потрясти ум. Достигая высшего состояния (самадхи), сознание более не нуждается в опоре на внешнее, в словах, в символах дискурсивного мышления. Здесь "слова останавливаются". Но если бы мастера следовали только бессловесному пути, то остались бы неизреченными их мысли и не узнали бы потомки, что открылось им в созерцании. Слов, однако, должно быть ровно столько, сколько нужно, чтобы не выстроить преград на пути; ровно столько, чтобы повести за собой по невидимой нити через бездну в безмолвие Нирваны.
Само отношение к слову исключает возможность диктата, насилия над разумом и волей. Буддисты и даосы говорят: "Иди и смотри", будь самим собой, следуй собственному Пути и достигнешь "другого берега". Привязаться к какой-либо "вещи" или "личности" в ее существе, уверяет Хайдеггер, – значит любить ее, быть расположенным к ней. Расположение бытия позволяет осуществлять что-либо в его исконности, т.е. дарить бытие. "Дарить бытие" – значит не лишать другого Свободы, не обременять даже своей привязанностью; на это способна одна лишь Любовь.
Поэтому Хайдеггер и понимает познание как "вслушивание", приникание, а не произвол, вторжение. Вспомним Чжу Си:
"Чтобы создать в себе знание, следует приникнуть к вещи и постигнуть ее закон".
Именно "приникнуть", а не разъять, не познавать ее устройство через расщепление, анализ и синтез, нарушая ее целостную природу. Как дальше говорит Чжу Си:
"У человека есть духовное звание его сердца, у вещей Поднебесной – их закон (лги)... Когда усилия будут приложены в течение долгого времени, в один прекрасный день все в вещах – их лицевая сторона и обратная, тонкое в них и грубое, – все, как озаренное светом, станет ясным для нашего сердца".
Это не могло не сказаться и на человеческих отношениях.
Хайдеггер не соглашался ни с метафизиками, ни с экзистенциалистами, чьи позиции сближались, хотя они и утверждали противоположное (сам Хайдеггер себя к экзистенциалистам не причислял).
"Всякое опровержение в поле сущностной мысли – глупость. Спор между мыслителями это "любящий спор" самой сути дела. Он помогает им поочередно возвращаться к простой принадлежности тому же самому, благодаря чему они находят свое место в судьбе бытия" [107].
Что говорить! Конечно же, в западной эйкумене Слово изначально, творит мир. Другое дело, что само Слово не всегда отвечало своему назначению (хотя человек, именно как существо "словесное", отличается от "бессловесных" тварей): Недаром живой многозначный Логос воспринимается как Слово, которому назначено быть живым, вездесущим. И не его беда, что сузилось сознание и ограничило Слово функцией, теряя "дом Бытия". Утратившее душу Слово работает на силы разрушения. Об этом ведомо и китайскому мудрецу Мэн-цзы (II, I): "(Если) слова односторонни, это значит, что разум замутнен. (Если) слова непристойны, это значит, что разум погрузился (в бездну). Если слова ложны, это значит, что разум утратил (принципы). (Если) слова уклончивы, это значит, что разум истощен". Потеряв основу, Слово легко меняет свой смысл на противоположный, остается же неизменным то, чему положено меняться, чтобы не выпасть из Бытия. Потому и философия "шагает на месте, осмысливая всегда то же самое". Метафизическое мышление, руководствуясь принципом "или то, или это", разделило одно на два: мысль-слово, слово-дело, иррациональное-рациональное. Одно существует не рядом с другим, а за счет другого. И Логос распался на отдельные функции, в сущности, свелся к слову как средству логических операций:
"Бытие как стихия мысли приносится в жертву технической интерпретации мышления. "Логика" возникла со времен софистики и Платона как санкция на такую интерпретацию. Люди подходят к мысли с негодной для нее меркой. Мерить ею – все равно что пытаться понять природу и способности рыбы, судя по тому, сколько времени она в состоянии прожить на суше. Давно уже, слишком давно мысль сидит на сухой отмели. Уместно ли тогда называть попытки снова вернуть мысль ее стихии "иррационализмом"?" [108].
Одномерное мышление, естественно, не может схватить многомерность явления; переворачивая, освещает одну грань, противоположную, а Целое – многогранник, кристалл – остается невидимым. Хайдеггер предлагает не заменять одно другим, скажем, рационализм иррационализмом, а выйти за пределы двойственности, в целостнее измерение, где одно не вытесняет другое, а находит его – к Истине Бытия. Но для этого необходимо преодолеть одномерное мышление или – привести мышление в соответствие с многомерной структурой мира, увидеть кристалл, а не одну из его граней.
Чем и опасна метафизика – недостоверностью: не может быть достоверным то, что распалось на две стороны – сущность и существование, субъект и объект, покой и движение, мир тот и мир этот. Процесс раздвоения, объективации стал необратимым, ибо действовал сам по себе, независимо от Бытия (в котором нет односторонности: все движется в прямом и обратном порядке, существует в колебательном режиме, шунь-ни), не мог не привести к созданию второго, надприродного мира, подчиняющегося до поры до времени своим собственным законам или тем законам, которые навязывал ему человек, исходивший из субъективных представлений и притязаний. Как всякое искусственное образование, подчиняющееся замыслу своего создателя, этот мир рассматривался с точки зрения наибольшего комфорта для человека, возомнившего себя господином положения, но комфорта не получилось. Искусственный мир, управляемый одномерным человеком, неизбежно приходит в противоречие с Истиной бытия. Запрограммированный на "власть" и "борьбу", и к созданному им миру не может относиться иначе, как к Тому, с чем нужно бороться, что следует покорять или поглощать. Бессознательно такой человек неминуемо разрушает свое окружение, среду обитания – Природу, тем самым разрушая самого себя. И в этом смысле трудно не согласиться с Хайдеггером, что отпавший от Бытия человек не может быть гуманным, сколько бы ни рассуждал о пользе гуманизма.
В перевернутом сознании, в антимире (зазеркалье) все существует в перевернутом виде, все принимает орудийный характер, становится средством, никто и ничто – целью [109]. Первичному не остается места. Говоря словами Карлейля, "раз была нарушена внутренняя правда, все внешнее стало больше и больше проникаться неправдою" [110]. Нечто может существовать и в перевернутом виде, но до поры до времени, в какой-то момент оно возвращается в исходное положение.
Правильный и неправильный порядок чередуются, из противоестественного состояния возвращаются в естественное, с головы на ноги – таков закон Бытия, который все в конце концов ставит на свое место. Все стремится вернуться к естественному, оптимальному состоянию – это свойство материи, способной к самоорганизации, к выбору наилучшего варианта. Поэтому независимость от Бытия есть иллюзия – все в конце концов возвращается на круги своя, и, если что-то мешает этому, рано или поздно отторгается Жизнью (если еще не ясно, что я имею в виду под Необходимостью, то именно это – Закон Бытия, Закон самой Жизни, который действительно обойти невозможно, а главное – не нужно, ибо он ведет к Благу, как энтелехия Аристотеля или Дао китайцев).
В этом смысле Хайдеггер – реалист, хотя и ставит перед собой, казалось бы, сверхзадачу: вернуть человечество к Реальности, привести мышление к Истине Бытия, тем самым избежать распада и гибели. Он не столько ставит задачу, сколько слышит Бытие, предугадывает будущее: "Но бытие – что такое бытие? Оно есть Оно само. Испытать и высказать это должно научиться будущее мышление". И потому так упорно, шаг за шагом, доказывает неистинность происходящего, превращающего все в фикцию, в антиномию, прежде всего сам тип отношения субъекта-объекта, порождающего отношение господства-подчинения: "При всем том "субъект" и "объект" – малоуместные рубрики из области метафизики, которая в очень ранние времена подмяла под себя, в образе западной европейской "логики" и "грамматики", истолкование языка".
Естественно, и закон противоречия был воспринят обыденным умом как возможность одно подминать под другое ("разделяй и властвуй"). Но лишающий другого Свободы теряет ее сам, посягающий на Свободу не может быть Свободен. Таким образом, устанавливается ситуация всеобщей не-свободы, или ситуация, которая сама по себе делала Свободу невозможной.
Хайдеггер, обладавший, как уже говорилось, историческим чутьем, чувством Целого, выступал против догматизации любых принципов и самой аксиоматики:
"Так, люди считают "положение о противоречии" вневременно значимым "первопринципом" ("аксиомой"), не задумываясь над тем, что это положение для метафизики Аристотеля имеет принципиально другое содержание, играя в ней другую роль, чем для Лейбница, и обладает опять же одной истинностью в метафизике Гегеля и другой – в метафизике Ницше. Это положение в каждом случае говорит нечто важное не только о "противоречии", но и о сущем как таковом и о роде истины, в свете которой воспринимается и размечается сущее как таковое".
Но как раз последние – и сущее, и истина – выпадали из поля зрения метафизического мышления, принимающего во внимание лишь одну сторону вещей, что дает о себе знать в любой области в сфере "деятельности", на которую уповал ум, слепо полагавший, что всякая деятельность есть уже благо:
"Мы далеко еще не продумываем существо деятельности с достаточной определенностью. Люди видят в деятельности просто действительность того или иного действия. Его действенность оценивается по его пользе (ну разве не "ведомственный подход", означающий минимальную и временную пользу для себя при максимальном и невременном уже вреде для всех – Т.Г.). Но суть деятельности в осуществлении. Осуществить – значит развернуть нечто до полноты его существа, вывести к этой полноте".
И в этом Хайдеггер следует нераскрытому Аристотелю. Мера действия для Аристотеля – не столько произведенная работа, "наработанный" продукт, сколько приближение того, над чем действуют, а также и самого деятеля к полноте осуществленности. "Энергия" у Аристотеля – завершенное воплощение "эйдоса", формы-сущности, а "энтелехия" – полнота, завершенность "энергии". Иными словами, Труд есть путь и возможность реализации изначальной Формы, присущей каждому существу, и в этом его высшее назначение.
Не так ли понимали смысл Истории великие умы – как совершенное развитие заложенной Идеи, Энтелехии – условия истинной Свободы? Но это предполагает соответствующий тип мышления. Лишь свободная мысль устремляется к Свободе.
"Мысль не потому прежде всего становится действием, что от нее исходит воздействие или что она прилагается к жизни, – продолжает Хайдеггер. – Мысль действует, поскольку мыслит. Эта деятельность, пожалуй, – самое простое и вместе высшее, потому что она касается отношения бытия к человеку".
Если Ницше апеллировал к стихия Земли, то Хайдеггер – к "стихии" Мысли, что и сближает его с восточной мудростью, с "доверяющим умом", когда мысль течет свободно, повинуясь лишь собственному ритму. И это возможно, когда "отпускаешь свой ум", в состоянии "не-я", "не-думания" (яп. муга, мусин), полного преодоления вторичного "я", эго. Тогда и приходит ощущение изначальной Просветленности (хонгаку). Хайдеггер потому и отрицал "техническое истолкование" мышления, идущее еще от Платона и Аристотеля: "Само мышление расценивается у них как "технэ", процесс размышления на службе у действия и делания. На размышление при этом глядят уже в свете "праксиса" и "пойэсиса"" (в отличие от восточных мудрецов, которые "доверяли" уму, не эксплуатировали мысль, преследуя практическую цель, а высвобождали ее, пробуждая, побуждая к действию изначальное сознание, праджню, пра-память, благо которого не сравнить ни с какими богатствами мира).
Но путь технизации исторически неизбежен: "Техника есть в своем существе бытийно-историческая судьба покоящейся в забвении истины бытия". Способность Хайдеггера видеть вещи в их истине позволила предугадать последствия технизации общества:
"Сейчас обнаруживается то, что Ницше уже метафизически понимал, – что новоевропейская "механическая экономика", сплошной машинообразный расчет всякого действия и планирования, в своей безусловной форме требует нового человечества, выходящего за пределы прежнего человека. Недостаточно обладать танками, самолетами и аппаратурой связи; недостаточно и располагать людьми, способными такие вещи обслуживать; недостаточно даже просто овладеть техникой, словно она есть нечто в себе безразличное, потустороннее пользе и вреду, строительству и разрушению, применимое кем угодно для любых целей.
Требуется человечество, которое в самой своей основе соразмерно уникальному существу новоевропейской техники и ее метафизической истине, т.е. которое дает существу техники целиком: овладеть собою, чтобы так непосредственно самому направлять. и использовать все отдельные технические процессы и возможности. Безусловной "механической экономике" соразмерен, вымысле ницшевской метафизики, только сверх-человек, и наоборот: такой человек нуждается в машине для учреждения безусловного господства над Землей" [111].
Но, похоже, нам более не угрожает грядущий Господин. Подтверждение тому чернобыльский разрыв Бытия – расплата за недомыслие. Онтологическое предупреждение – плата за несоразмерность техники и якобы владеющего ею человека; за его неспособность мыслить чисто, без оглядки – как есть, а не как указует чей-то короткий перст. Следствие нарушенного баланса на сей раз в пользу техники. Может быть, человек слишком, щедро поделился с ней своим умом? [112] А может быть, Техника – очередное испытание и через нее преобразуется человек, чтобы она не стала его "могильщиком"? Всегда появляется "могильщик", на сей раз им может стать Техника, управляемая, мягко говоря, недостаточно разумным человеком. И захочет ли одержимый идеями (идея дороже жизни) предупредить события, лишиться того, что ему дороже жизни (не дает покоя "яблоко раздора" с того самого древа познания добра и зла)?
Или Техника с Наукой помогут восполнить недостающее в себе? Ведь нет другого выхода, как измениться самому человеку, напрячь Остатки воли, ум и память, встать хотя бы вровень с. собственным детищем, чтобы не оказаться у него в плену. Может быть, в этом назначение и оправдание Техники: правильно ответишь на вопрос – будешь жить, неправильно – умрешь. Последнее предупреждение. (Мне как-то пришлось участвовать в семинаре по проблемам сознания вместе с увлеченными кибернетикой, машинным интеллектом, и я знаю, насколько эта угроза реальна. Я всего лишь усомнилась: стоит ли обучать машину-робота сокровенным человеческим качествам, способности к чувству, не приведет ли это к окончательной атрофии природных свойств человека? Не ограничить ли функции робота, оставив за ним тот труд, который отупляет, разрушает человека, физически и духовно, скажем функции бюрократии, и не увидеть ли в роботе зеркало собственного несовершенства? Агрессивный, односторонний ум закладывает в машину и свою ограниченность, если я правильно понимаю. Надо было видеть реакцию – меня будто полоснул луч лазера, тоже порожденный мыслью, и надолго отбил охоту вмешиваться в подобные дискуссии).
Понятна тревога Хайдеггера, увидевшего, к какой страшной бездне ведет человека отпадение от Бытия, подмена Истины бытия превратно понятым сущим, первичного – вторичным, несущественным. Совокупность сущего побудила человека устремиться к покорению земли и космоса, чтобы как-то убежать от собственной опустошенности, и в конце концов самого себя сделать объектом покорения.
"Никогда стирание различия между бытием и сущим не было, однако, таким полным, как сегодня. Обнаруживая уникальное равнодушное всепонимание по отношению к истине всего и любого сущего, человек намеревается теперь трансцендировать мир не в своих "запредельных" платонических глубинах, о которых он не хочет больше помнить, а в своей телесно-психической ("антропологической") данности. Соответственно мир заранее рассматривается как единый противостоящий человеку объект" [113].
И в том же "Европейском нигилизме" Хайдеггер дорисовывает картину, сотворенную заблудшим сознанием:
"Помрачение сущего и хаос, тяготение человеческих сообществ к насилию и их разброд, расстройство решимости... безграничное страдание и безмерное горе повсюду, вскрываются ли они или замалчиваются, обличают в состоянии мира крайнюю нужду". Кто это увидел, тот уже не может делать вид, что этого нет. Это было бы слишком. Именно ненуждаемость в Бытии, неощущение бытия и выдает "высшую и вместе потаенную нужду. Потому что она – нужда в самом бытии".
Потерянный рай? Все было предначертано?
"Восседая на Престоле своем, Бог видит Сатану, летящего к новозданному миру, и, указав на него Сыну, сидящему одесную, предрекает успешное совращение рода человеческого Сатаною, и разъясняет, что Божественное правосудие и премудрость безупречны, ибо Человек создан свободным и вполне способным противостоять искушению. Однако Он изъявляет намерение помиловать Человека, падшего не по причине прирожденной злобности, как Сатана, но будучи соблазненным им... Тем часом Сатана опускается на поверхность крайней сферы нашей вселенной. Странствуя здесь, он прежде всего находит некое место, названное позднее Лимбом, Преддверием Суетности".
Сбылись чаяния Сатаны?
Так или иначе, с нами, действительно, не все в порядке, если посмотреть со стороны. Потому так и страшится человек заглянуть в себя. Хайдеггер заглянул: а заглянув, преодолел Страх в себе и вне себя, и это открыло ему Надежду. Если Хайдеггер прав, то не все потеряно, есть шанс удержаться на краю пропасти, пока ум задействовав, – если не убояться заглянуть в нее. Хайдеггеру удалось преодолеть, пожалуй, главное противоречие (существующее не в Действительности, а в поверхностном сознании) – между Бытием и Небытием (как известно, начиная от Парменида, философы признавали что-нибудь одно – или Бытие, или Небытие – "третьего не дано").
Хайдеггер понимал, что невозможно преодолеть нигилизм, борясь с ним теми же методами. Появился бы еще один нигилизм. Если явление вовремя не сходит со сцены, его функция превращается в противоположную (в случае с нигилизмом – очищающая в разрушающую, вследствие чего начинается уничтожение здоровых клеток). Не Ничто внушало Хайдеггеру ужас, а духовный упадок, который зашел так далеко, писал Хайдеггер в 60-е годы, что народам грозит утратить последние крохи духовной энергии, необходимой для того, чтобы заметить этот упадок. Перед философией стояла задача – осмыслить Историю Бытия, как судьбоносное Целое. Это не могло не вызвать к жизни новые подходы, не изменить методологию. (Целое требует целостного взгляда).
Поняв безнадежность метафизики, Хайдеггер преодолел бездну собственными силами. Греческий философ и богослов Христос Яннарас находит в Хайдеггере возрождение апофатической традиции Ареопагитик и "священного безмолвия" (исихазма) Григория Паламы (XIV в.) [114]. Яннарас утверждает, что порог Ничто и опыт бездонного молчания всегда были высшим моментом в восточной апофатике, которая отличается от западной негативной теологии, отождествлявшей Ничто с Небытием и выводившей его из бытия как отрицание бытия. Он соглашается с Хайдеггером, что Небытие в самом деле не противоположность Бытия, а избавление от фикций, даже высших, что и позволяет вырваться к Свободе. Яннарас вспоминает к случаю слова Максима Исповедника:
"Не думай, что божество есть и что оно не может быть познано. Но думай, что оно не есть. Поистине таково знание в незнании... Надо понять так же, что Бог – ничто: он не есть ничто из того, что есть сущее" [115].
Хайдеггер не только следовал апофатической традиции, что естественно, но и преодолевал ее, обнаруживая в "безосновности" основу, полагаясь на человека, как на "пастуха бытия", призванного хранить Истину бытия. Он и сам говорит об этом в "Письме о гуманизме":
"Человек скорее самим бытием "брошен" в истину бытия, чтобы... в свете бытия сущее явилось как сущее, каково оно есть... Явление сущего покоится в судьбоносном событии бытия" [116].
Хайдеггер, действительно, переступил порог, перед которым другие останавливались, обуянные страхом перед ликом изначального Хаоса. Не преодолел этого страха, в сущности, и Ницше, о чем свидетельствует его категорическое неприятие Ничто. Не веря в истинно-сущее, в праоснову бытия, он не мог принять и Истину. Всякая истина, с его точки зрения, вторична, надуманна, ложна. Истина не есть нечто, что существует само по себе и что можно найти и открыть, "но нечто, что надо создать", взнуздав волю к власти. И Хайдеггер в "Европейском нигилизме" акцентирует на этом внимание: Истину Ницше понимает как установленность, что и "позволяет субъекту безусловно распоряжаться истинным и ложным", ввергая мир в еще больший хаос (потому в буддизме Ницше и видел полное отрицание жизни и воли, проявление декаданса [117]). По мнению В. Бибихина, для Ницше "остаться наедине с безмолвием оказалось невыносимее, чем очертить себя кругом поддающейся определению безысходности вечного возвращения" [118].
И Шопенгауэр, хотя уверяет, что "Небытие лучше бытия", делает это скорее от отчаяния, чем от уверенности. Вселенная для него – источник страдания, страдание изначально (в отличие от буддизма, к которому апеллировал философ: страдание-дукха творится неведением). И он не мог избавиться от того ощущения, которое в крови западного человека, что мир в основе своей неустроен и ничего хорошего не сулит человеку, ибо изначален Хаос и всесилен рок. Другое дело, что Шопенгауэр по-своему предвосхитил логику Небытия, за которую ратовал Нисида Китаро и которую последний считал абсолютно честной, ибо она не продиктована ничем привходящим, никакой предвзятостью, не обусловлена чем бы то ни было, кроме самой Истины бытия-небытия.
Любопытна реакция на работы Хайдеггера в Японии. То, что не было воспринято поначалу европейцами, как резко противоречащее их представлениям о миропорядке, оказалось близким и понятным японцам. "Из разговора об языке" мы узнаем, что японский собеседник Хайдеггера удивлен, как это европейские философы не поняли хайдеггеровское отождествление ничто и бытия:
"Мы в Японии поняли работу "Что такое метафизика?" сразу же, как только она дошла до нас в 1930 г. ...Для нас пустота (ничто) есть высшее наименование того, что Вы могли бы назвать словом "бытие"" [119].
Действительно, Нисида Китаро признавал абсолютное Ничто, "всеобъемлющий универсум, который, будучи всем, есть Ничто" [120]. В работах, посвященных проблемам Небытия, отстаивал идею единства противоположностей, или "диалектику Небытия".
"В основе мира нет ни многого, ни одного. Это мир абсолютного единства противоположностей, где многое и единое отрицают друг друга" [121].
И неудивительно. Признание единства мира явленного (сансары) и неявленного (нирваны) характерно для махаяны. Это утверждал и Синран, буддийский проповедник XIII в.: "Нёрай (татхата – таковость) и есть Небытие, и есть Нирвана"; "Пустота есть природа будды. Природа будды – есть Нёрай. Нёрай есть Недеяние". Эту особенность мышления уловил К. Г. Юнг:
"Разум Будды – Единое, Дхармакая – все существующее эманирует из него, и все отдельные формы возвращаются в него. Это основная психологическая предпосылка, которая независимо от убеждений пронизывает каждую фибру существования восточного человека, все его мысли, чувства и дела" [122].
Это закодировано в сознании. Подобным же образом рассуждает современный японский философ Ниситани Кэйдзи: бытие постоянно определяет само себя из Небытия; человек творит себя из Ничто, таким образом он обеспечивает свое существование, свое бытие. Подобное отношение к Небытию живо и в современной литературе, что ощущается, в частности, в особом отношении к смерти, которая есть возвращение в изначальное Ничто (му). Все, что нас окружает, покоится в Небытии, как об этом у японской поэтессы Румико Кора (р. 1932 г.) в стихотворении "Дерево":
В этом дереве
Есть дерево Небытия,
Его ветви колышутся от ветра.
В полоске синего неба
Есть полоска Небытия.
Ее пересекла птица.
В лике женщины
Есть лик Небытия,
В нем сочится живая кровь.
В этом городе есть город Небытия,
Его площадь шумит, как обычно.
Разве не перекликаются они со словами Сэами, мастера Но, – нить протянулась через пять веков:
"Бытие – есть внешнее выражение Небытия...
Расколешь дерево –
Среди щепок
Нет цветов.
А в весеннем небе
Цветет сакура!
Зерно цветка раскрывается в искусстве, а хранится, в душе xyдожника" [123].
А в одном неканоническом тексте записанном на папирусе II в., как указано, самим Иисусом Христом, предлагается "поднять камень" и "расколоть дерево", чтобы встретиться лицом к лицу с воплощенным абсолютом [124]. И уж конечно, приходит на ум Достоевский:
"Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и взошло все, что могло взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и взращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее" [125].
Вот отчего болела душа Хайдеггера, – отпал человек от Бытия, и исчезло "чувство соприкосновения таинственным мирам", и спешил философ предупредить людей, чтобы не возненавидели землю и самих себя. Это носилось в воздухе – протягивалась нить через пустоту Небытия. По ощущению Бунина,
"Бездна – Праматерь, она же родит и поглощает и, поглощая, снова родит все сущее в мире, а иначе сказать – тот путь всего сущего, коему не должно противиться ничто сущее" [126].
Сперматические логосы пронизали землю. Хайдеггер творил, не на пустом месте, хотя опору находил не столько в философии, с ее метафизическими пристрастиями, сколько в искусстве, литературе, где Истина присутствовала в чистом виде. И недаром Хайдеггер называл именно язык "Домом бытия", а дом языка – поэзия и проза, а также та философия, которая говорила языком поэзии (в этом одна из причин того, что мир принял и Ницше, и Шпенглера, и Хайдеггера как своих пророков):
"Бытие как судьба, посылающая истину, остается потаенным. Но судьба мира дает о себе знать в поэзии, хотя еще и не открывая себя в качестве истории бытия. Поэтому мысль слушавшего судьбу мира Гёльдерлина, обретшая слово, в стихотворении "Воспоминание", сущностно изначальное и тем самым ближе к будущему, чем всепонимание "гражданина мира" Гёте" [127].
Утверждения, что Хайдеггер тяготел к Востоку и в этом причина его приверженности к Ничто и нигилизму [128], не кажутся мне убедительными. Наоборот, Хайдеггер потому и проявлял интерес к Востоку, к буддизму дзэн, что ощутил Ничто, Красоту "невыразимого". Увидел причину "покинутости", "бездомности" человека в отчуждении от Небытия – в неощущении ноуменального мира, единства Бытия-Небытия.
"Только так, от бытия, начнется преодоление бездомности, в которой блуждают не только люди, но само существо человека. Бездомность, ожидающая такого осмысления, коренится в покинутости сущего бытием" [129].
А дзэн и есть прямое "возвращение домой" самой короткой дорогой (достаточно "ткнуть" ум человека в Истину, которая рядом, в любой вещи, и ходить никуда не надо), – возвращение к безмятежности и покою, к радости сотворчества, которую таит в себе любой, самый непритязательный труд: носить воду или колоть дрова. Важно не что ты делаешь, а как ты делаешь. Для вставшего на Путь, познавшего суть вещей любой труд в радость, ибо он и есть осуществление.
Что же касается "нигилизма", то это чисто западное явление: было что отрицать. Нигилизм не мог появиться на буддийском Востоке, при том мировоззренческом укладе, когда все то, что привело к. нигилизму на Западе, считалось несуществующим, иллюзорным – майей.
Отождествление сущего с "ничто" в привычном смысле, как с ничтожным, незначащим, "принципиальное недумание о существе ничто" и делают неизбежным нигилизм: если рушатся сущности, общепринятые ценностные представления, значит, рушится все. Но если Ничто не подвластно законам логики, это еще не значит, что его нет. Ничто беспредметно, оно не вещь, "но, может быть, это беспредметное все-таки неким образом есть в том смысле, что им определяется существующий характер бытия", – задается: Хайдеггер вопросом в "Европейском нигилизме", проникая в границу Единого. "Ничто не составляет, собственно, даже антонима к бытию, а изначально принадлежит и его сущности" [130].
Трагедия Ницше в неприятии Ничто, а то бытие, которое ему открылось, – половинчатое, не заслуживало внимания великого ума. Ничто для него – воля саморазрушения; "устремление в Ничто" равносильно инстинкту смерти, самоуничтожению. И неудивительно его отчаяние – "становлением ничего не достигается", не на что опереться. В результате мир стал невыносимым, но мир принял и эту жертву.
Страх перед Небытием, перед изначальным Хаосом стал неотъемлемой частью психики, комплексом, который порождал с неизбежностью другие комплексы. Потребность преодолеть страх, осмыслить первичные структуры сознания вызвала к жизни новые виды литературы и философии. Философы не могли не заниматься тем, что мучило человека. К середине XX в. человек вдруг начал осознавать, что унаследованное от греков ощущение Хаоса, страх перед ним может стать новой реальностью: фантом страха воплотится в жизнь, и человек сам спровоцирует собственную гибель, оживив созданный больным воображением образ. Но философия еще не скоро избавилась от гипноза ницшеанского Ничто (Хайдеггер скорее составляет исключение), о чем, например, свидетельствует работа К. Ясперса "Духовная ситуация времени" (1932 г.), перевод которой, как и работа Ж.-П. Сартра "Бытие и ничто" (1966 г.), включен в сборник "Человек и его ценности" (М., 1988):
"Мир приблизился к тому, что раньше наблюдалось лишь в начатках, к проникновению мыслей в самые далекие сферы, и все более отчетливое: пребывание перед ничто. Ведущими мыслителями являются Кьеркегор и Ницше. Однако христианство Кьеркегора не нашло последователя; вера ницшевского Заратустры не принимается. Но к тому, как оба мыслителя открывают ничто, после войны прислушиваются, как никогда раньше.
Распространилось сознание того, что все стало несостоятельным; нет ничего, что не вызывало бы сомнения, ничто подлинное не подтверждается; существует лишь бесконечный круговорот, состоящий во взаимном обмане и самообмане посредством идеологий. Сознание эпохи отделяется от всякого бытия и заменяется только самим собой. Тот, кто так думает, ощущает и самого себя как ничто. Его сознание конца есть одновременно сознание ничтожности его собственной сущности. Отделившееся сознание времени перевернулось" [131].
С одной стороны, экзистенциализм сделал попытку противостоять рационализму и нигилизму: ведь наше существование есть, пусть это не то, что хотелось бы, но есть, значит, есть на что опереться. Человек в конце концов сам себя делает. С другой стороны, не избежал односторонности феноменализма, который неизбежно загоняет сознание в тупик. В результате – очередной крен от Неба к Земле. В самом деле, откуда безысходность в философии и в литературе, несмотря на упоение экзистенциализмом талантами века? Не потому ли, что он действовал в рамках все той же метафизики (в чем упрекал его Хайдеггер). Сделав пол-оборота, не оторвался от Земли, лишь повернулся на 180°. Если не одно, то другое, и опять одна сторона вместо Целого. Самое уязвимое место экзистенциализма, наверное, потеря перспективы, отсутствие ощущения Целого. Все тот же методологический казус: подмена целого частью, противопоставление одной стороны другой – существования сущности, когда это недвойственно (по закону Целого). При этом страдают обе стороны. Может быть, дух, устав от фаустовской устремленности в бесконечность, не успел еще повернуть к внутренней бесконечности (за некоторым исключением)?
Короче говоря, за Бытие принимали то, что его не исчерпывает, – поверхность вещей, феномены. В анализе эмпирии преуспели в высшей степени, но не оставили человеку Надежды. Может быть, такова задача – узнать наличное, поставив предел, усечь Бытие, чтобы понять то, что по ею сторону? Но можно ли понять следствие, не зная причины? Поверхностная картина не отражает глубин жизни. Впрочем, может быть, экзистенциалисты выполнили свое назначение, уловив финал Истории. Наверное, можно согласиться с выводом Ясперса:
"Гордость нынешнего универсального постижения и высокомерная уверенность в том, что человек в качестве господина мира может по своей воле сделать его устройство истинно наилучшим, превращаются на всех открывающихся границах в сознание подавляющей беспомощности. Как человеку удается примениться к этому и возвыситься из такого положения, является вопросом современной ситуации".
Хайдеггер все же возлагал надежды на Технику, если она сблизится с искусством, очеловечится, Ясперс же и в технике видел "демоническую силу", поработившую человека и превратившую его в свой придаток.
Было и другое. После того как Ницше возвел Нигилизм в высшую степень, началось преодоление нигилизма через нигилизм, через проницание Ничто. Философы заговорили об "отрицательной диалектике", которая поможет избавиться от "репрессивной культуры", подавляющей особенное. И все же Небытие до сих пор остается проблемой. Скажем, популярнейший из экзистенциалистов, Сартр, так и не переступил порога Ничто. Попробуем понять причину, опираясь на работу "Бытие и ничто".
Мы каждый раз обращаемся к проблеме Ничто под новым углом зрения, чтобы ощутить разницу в понимании, обусловленную структурой сознания, – то, что мешает осуществиться Единому. Рассуждения Сартра убеждают, что сознание так и не вырвалось из замкнутого круга, обрекающего это сознание на не-свободу [132]. Исходной точкой для Сартра остается антропоцентризм, субъектно-объектная модель, порождающая по необходимости отношение господства-подчинения, которое и делает искомую Свободу невозможной. Сартр, можно сказать, зациклен на субъекте, оттого и не видит его ("большое видится на расстоянии"). При таком взгляде на мир человек остался бы несвободен, даже если бы Свобода каким-то чудом была ему дарована: он нашел бы способ поработить себя. Если есть "два", они должны войти в какие-то отношения, а другого, кроме властвования, господства-подчинения, человек пока не знает. Иначе говоря, сам человек, или уровень его сознания, попавшего в плен к самому себе, служит постоянной помехой на пути к Свободе. Если проблема Свободы – краеугольный камень философии, то одновременно и камень преткновения. Одна из причин зависимости, делающей Свободу человека невозможной, – одномерность мышления, что выражается, в частности, у Сартра, в противопоставлении Бытия Небытию (если Хайдеггер следовал апофатической традиции, то о Сартре этого не скажешь). Непреодолимый страх перед Небытием тем более живуч, что сфера его пребывания – подсознание. Тот самый онтологический страх, который предопределил самоощущение человека на многие века.
Исходная позиция Сартра – человек есть мера всех вещей – антропоцентрична. Если существование предшествует сущности, то в нем и следует искать объяснение сущему, т.е. доминантно бытие, понимаемое как то, что есть, дано в опыте. Но Бытие несводимо к сущему, к явленному, что открылось Хайдеггеру, – Бытие не есть сущее. Это важнейшее обстоятельство Сартр упускает из виду, что и обрекает его попытку понять действительность на неудачу. Поясню свою мысль. Следуя Сартру, "человек есть бытие, благодаря которому возникает ничто". Но, во-первых, Ничто не возникает, а если возникает, значит, оно – не Ничто. Как говорит Хайдеггер, "может быть, это беспредметное все-таки неким образом есть в том смысле, что им определяется существующий характер бытия". Сартр этого не ощущает, поэтому не приближается к Свободе, которую ищет: "Свобода человека предшествует его сущности, она есть условие, благодаря которому последняя становится возможной". И сам себе воздвигает препятствие, задаваясь вопросом: "Что такое свобода человека, если путем ее порождается ничто?".
На самом же деле Ничто не порождается, а существует как условие Свободы – необремененности установками; Ничто есть очищение от клеш ради пробуждения изначального чувства Свободы или Просветленности (яп. – хонгаку), которая есть в каждом, но не в каждом находит выход. Сартр остается в рамках традиционного отношения к Небытию как к ничтожности, к нулю в европейском понимании. Целое сводится к функции или части, как и положено метафизическому мышлению, обусловившему собственную безысходность.
Страх перед Небытием ощутим, скажем, в образе "бездны". Судите сами:
"Обратимся к случаю головокружения у края обрыва. Оно начинается со страха: я нахожусь на узкой, без ограничения, тропе, тянущейся вдоль пропасти. Бездна дана мне как что-то, что надо обязательно избежать, в ней смертельная опасность" [133].
Сартр апеллирует каждый раз к рассудку, к односторонности, касаясь лишь поверхности явлений, может быть, поэтому не находит ответа. В "бездне", известно, есть и иное, нерассудочное и непреодолимое, как у Пушкина:
Есть наслаждение в бою
И бездны мрачной на краю.
Или вспомним чаньского патриарха Сэн Цаня:
"Совершенный путь подобен
бездне,
где нет недостатка и нет избытка.
Лишь оттого, что выбираем, теряем его.
Не привязывайтесь ни к чему внешнему
и не живите во внутренней пустоте.
Когда ум покоится в единстве вещей,
двойственность сама собой исчезает" [134].
Но Сартр постоянно выбирает между тем и этим, не ощущая, что это и то – одно, противопоставляя одно иллюзорное другому иллюзорному, хотя иллюзорное и кажется достоверным тому, кто не выбрался из тенет майи:
"Бытие-в-себе всецело захватывает меня вплоть до моего будущего, оно цепенит меня в самом моем убегании... Но это оцепенелое убегание никогда не тождественно моему убеганию для себя... Я претерпеваю эту объективность своего убегания как отчуждение, которое я не могу ни превзойти, ни познать". Бытие-для-себя есть "одновременно и убегание, и преследование: оно и бежит бытия-в-себе, и его преследует; оно есть бытие преследующее-преследуемое".
И нет этому конца, но, может быть, потому что нет конца замкнутому кругу; может быть, все это химеры досужего ума, который не может оставаться в прежних пределах и не может превзойти их? Одно несуществующее противопоставляется другому не-существующему: бытие-в-себе, тем более бытие-для-себя не есть Бытие, потому и "цепенит".
Но оно не стало бы "цепенить", быть одновременно "убеганием и преследованием", если бы человек вдруг понял – это состояние его собственного, вывернутого сознания, отчужденного от истины Бытия и потому утратившего понимание того, что причину нужно искать не вовне, а в своем деформированном сознании. Сартр подошел к порогу Ничто, но не переступил его, остался по ею сторону, затратив силы на то, чтобы то открывать, то закрывать двери Небытия, которых нет. Хайдеггер недаром говорит про экзистенциалистов, что их мышление метафизично, только перевернуто наоборот. Суть дела при этом не меняется, одно состояние постоянно противопоставляется другому (или-или), и к этому противопоставлению сводятся вся аргументация и вся энергия. Хотя, казалось бы, ясно, что невозможно обрести Свободу, оставаясь в рамках "я" и "ты", субъекта и объекта.
Сартр сам доказывает это, загоняя субъект в замкнутый круг, так что "я" и "ты" – "связанные одной цепью", как поет наша молодежь, чуткая к проявлениям не-свободы, – в принципе не могут быть свободны.
Система взглядов Сартра естественно смыкается с категориальным набором, свидетельствующим о живучести закона господства-подчинения, властвования (архе), владения, неизбежно ведущего к отчуждению, которое лишь возрастает от борьбы с ним.
"Пока я пытаюсь освободиться от засилья другого, другой пытается освободиться от моего засилья; в то время, когда я пытаюсь покорить другого, он старается покорить меня. Тут не односторонние отношения с неким объектом-в-себе, но взаимообразные и подвижные отношения... Конфликт – изначальный смысл бытия-для-другого".
А как же максима мудрецов Запада и Востока: "Возлюби ближнего своего", "Не делай другому того, чего не желаешь себе" – и все образуется? Чжуан-цзы говорит: "На другого смотрит тот, кто не видит себя". В основании субъектно-объектных отношений лежит все тот же извечный страх заглянуть в себя, в собственную бездну, потому и ищут опору и оправдание в другом. Но, притязая на другого, притязаешь на себя, и нет этому конца.
"Итак, поскольку я открываюсь самому себе как ответственный за свое бытие, я притязаю на бытие, которое я есть; т.е. я хочу возвратить его себе ... Я хочу, протянув руку, овладеть (опять "овладеть" – Т.Г.) бытием, представленным мне как мое бытие".
Свободу ищут там, где ее нет и быть не может. Свободой овладеть нельзя, можно "овладеть" собой, своим сознанием. Свобода не терпит домогательств, разделений на "твое", "мое", как и Любовь. Но получается, по Сартру, что и Любовь есть конфликт. Значит, это не Любовь, ибо Любовь, как и Свобода, не может быть чем-то обусловлена, если обусловлена, значит, не Любовь и не Свобода. Судите сами:
"Любовь как исходно-простейшее отношение к другому – совокупность моих проектов, путем которых я хочу осуществить эту ценность. Эти проекты ставят меня в прямую связь со свободой другого. В этом-то смысле любовь и есть конфликт" [135].
Не дай бог! (Если простится каламбур – не все же всерьез – "Любовь по-французски" все равно что "Развод по-итальянски").
Более того, расщеплению подвергается даже такое состояние, как "экстаз", хотя никакое Целое не подлежит анализу и дискурсии. Здесь "слова останавливаются". Как раз в экстазе происходит прорыв в Ничто – "экстатическое вступание в истину бытия", по Хайдеггеру:
"Экстатическое существо человека покоится в экзистенции, которая отлична от метафизически понятой existentia. Эту последнюю средневековая философия понимает как actualitas. В представлении Канта existentia есть действительность в смысле объективности опытного восприятия. У Гегеля existentia определяется как самосознающая идея абсолютной субъективности. Existentia в восприятии Ницше есть вечное повторение того же самого. Вопрос о том, достаточным ли образом existentia в ее лишь на поверхностный взгляд различных трактовках как действительность позволяет осмыслить бытие камня или жизнь как бытие растений и животных, пусть останется здесь открытым" [136].
Экстаз открывает Ничто, освобождая сознание от всяких, логических и нелогических, уловок – он есть полнота переживания, доступная целостному Уму. Ничто избегает дефиниций, оно неуловимо, как эфир, – то самое бесформенное, которое таит в себе возможность всех форм. "А что если сама эта неуловимость призвана стать высшим и суровейшим откровением бытия?" [137]. Или она – Логос, пронизывающий субстанцию Вселенной, эфирное тело, сперма рождения Вселенной, мера назначенного круга времени?
Но Сартр, не преодолевший привычку к анализу, разделяет и экстаз на три вида: а) временной (в трех измерениях – прошлого, настоящего и будущего); б) рефлексивный (попытки бытия-для-себя мыслить себя со стороны); в) бытие-для-другого. Естественно, что при этом Истина ускользает. Если ум не свободен от привычки делить и противопоставлять, зациклен на феноменальном, на сансаре, ему не откроется Истина Бытия (Целое доступно целостному Уму). Потому и обречен дробящий ум на безысходность, что нет конца дроблению. Сартр не видит выхода из круга побед и поражений, не подозревая, что ум человеческий может его разомкнуть.
"Так же, как в самой Любви заключено ее поражение, и Желание возникает из поражения Любви, чтобы затем, в свою очередь, потерпеть неудачу, опять уступая место Любви, так и все прочие способы отношения к Другому как субъекту, и это влечет за собой их кончину".
На уровне множественности нет ответа. Сартр отдает отчет в том, что мир раздираем противоречиями, поскольку существуют субъект и объект, но не видит исхода: "Мы без конца переходим от другого-объекта к другому-субъекту и обратно; этому качанию нет конца, и в этом-то качании, с его резкими переменами курса, и состоит наше отношение к Другому. В каждый данный момент мы пребываем в одном из способов отношения, но в любом случае испытываем неудовлетворенность". То, на что Будда указал как на причину дукхи-страдания, – неудовлетворенность сущим, которое пребывает в состоянии постоянного со-возникновения, – в "дурной бесконечности". Будда понял, что это состояние преодолимо, как все, имеющее причину, не имманентное природе вещей: причину можно устранить правильным отношением. Ее может устранить тот, кто осознал изначальную недвойственность мира, несуществование субъекта-объекта, сконструированных непробужденным умом.
Но для Сартра "проблема в том, что мы не в состоянии принять в отношении Другого внутренне непротиворечивую установку, такую, при которой Другой был бы нам открыт одновременно как субъект и как объект". И это действительно невозможно при данном типе мышления; оно, однако, не единственно возможное. Сартр подходит, наконец, к изначальной причине раздвоенного сознании, но и это делает по-своему, выделяя то, что ближе, возвращаясь на круги своя:
"Из этой-то странной ситуации и проистекает, по-видимому, понятие вины и греха. Я виновен, потому что я существую перед лицом другого. Я виновен, во-первых, потому, что, будучи под взглядом другого, я претерпеваю отчуждение, я претерпеваю свою наготу как потерю, за которую мне надо нести ответственность; в том-то и состоит смысл знаменитых слов Писания: "...и узнали они, что наги". Я виновен, далее, потому, что я, в свою очередь, устремляю взгляд на другого, ибо в силу одного своего самоутверждения я конституирую другого как объект и орудие, я насылаю на него отчуждение, за которое он должен будет нести ответственность. Первородный грех, таким образом, – само мое возникновение в мире, где наличествует другой, и какими бы в конце концов ни были мои отношения с ним, они всегда будут вариацией на одну и ту же тему – тему моей виновности" [138].
Но разве человек лишен возможности искупить вину, первородный грех, преодолеть отчуждение, выйти за пределы двойственности?
Об этом знали на Востоке и на Западе, и не только мистики, но и великие ученые-гуманисты, такие, например, как Гумбольдт, которого волновала проблема Целого – залог единства, присущего всему, каждой индивидуальности. В одном из писем 1803 г. он писал: [139]
"Раньше я имел обыкновение погружаться в какую-либо индивидуальность, как бы концентрируя на ней весь мир; теперь же мне кажется, что все индивиды растворяются в человечестве, и единственное, чего мне недостает, так это точного определения конечной сущности. Фихтеанское абсолютное "я"... всегда было мне неприятно и непонятно, ибо оно, как я понимаю, снимало истинное "я"... Я чувствую теперь в столь многообразных видах несовершенство существа, наделенного человеческим интеллектом, и точно в таком же многообразии единство всех индивидов, что это наводит меня на мысль не о всеединстве, ибо это опять-таки неверное понятие, а о единстве, в котором исчезает любое представление о числе, любое противопоставление единства и множественности... Это единство – человечество, а человечество есть не что иное, как само "я". Я и ты, как любит говорить Якоби [140] – это совершенно одно и то же, точно так же, как я и он, я и она и все люди. Нам только кажется, будто каждая грань искусно отшлифованного зеркала представляет собой отдельное зеркальце. Когда-нибудь произойдет перемена, и это заблуждение исчезнет, и пелена упадет с глаз" [141].
С тех пор минуло почти 200 лет, а заблуждение не исчезло. Забвение оказывается сильнее памяти, если ум настроен на вечное отрицание. Но рядом пробивала себе дорогу, обходя пороги, Идея живительной мысли, способная открыть им глаза, если люди захотят увидеть ее. Сартр, как и Ницше, не верил в этот исход:
"Человеческая реальность в своем бытии – реальность страдания, потому что она возникает к бытию, постоянно преследуемая прообразом полноты; она есть эта полпота и вместе с тем не может ею быть, ибо не может быть бытием-в-себе, не теряя себя как бытие-для-себя. Но природе своей реальность человека – это несчастное сознание, без всякой надежды выйти из состояния несчастья" [142].
Отсюда неверие и экзистенциальный страх, страх заглянуть в себя, и этот страх толкал к другому, лишь бы не оставаться наедине с собой, не смотреть в свои глаза.
Скорее всего философы, близкие Сартру, не отдавали себе отчета в том, что следуют традиции, сводя бытие к сущему; "Вдобавок "бытие" исстари именуется "сущим", и, наоборот, "сущее" – "бытием", оба словно кружась в загадочной и еще не осмысленной подмене" [143]. Вместе с тем поначалу и Хайдеггеру с трудом давалось преодоление "первичных" структур сознания; судя, скажем, по лекции "Что такое метафизика?" (1938 г.). Хайдеггер, хотя и упрекает философов в том, что они свели бытие к "сущему", сам пока не вполне свободен от традиционного подхода. Как бы кружась, он пытается подойти к Ничто, уловить его в сети логики, окружить теми самыми заповедными кругами, к которым прибегал еще Сократ в своих беседах. Там, где Лао-цзы обошелся бы одной фразой: "Все рождается из бытия, а бытие рождается из небытия", Хайдеггеру приходится приложить немало усилий, чтобы доказать правомерность самой постановки вопроса о Ничто. Не оттого ли это происходит, что западный человек во все времена ощущал себя "конечным существом", и ему ли в таком случае посягать на бесконечное?
"Каким мыслимым образом мы – конечные существа – можем сделать совокупность сущего доступной", одновременно и в ее всеобщности самой по себе и для нас? ...Мы настолько конечны, что именно никак не можем собственным решением и волей однозначно поставить себя перед лицом Ничто. В такие бездны нашего бытия въедается эта ограниченность концом, что в подлинной и глубочайшей конечности нашей свободе отказано".
Традиционно это связано с представлением о конечности космоса, идущим от греков. Нужно было пережить сильнейшее потрясение, ужаснуться, чтобы прозреть, пережить Ничто: "Ужас приоткрывает Ничто". В ужасе "земля уходит из-под ног" [144]. Разверзается "великая бездна" (хасма). Хайдеггер принял Страх как призыв Бытия [145]. Страх тогда оставит человека, когда он решится заглянуть в Бездну – и не дрогнуть, возликовать. И все же, сколько бы ни называли Страх "метафизическим" ("Какое воздействие оказывает Ничто? Оно рождает страх", – писал Кьеркегор), он исходит, по-моему, все от того же первичного чувства ужаса перед всепоглощающим Хаосом древних. Если умом и постигается Ничто, то чувство продолжает сопротивляться:
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами
(Тютчев).
Это чувство, как я пыталась показать, незнакомо восточному человеку. Изначально Единое внушало ему не Ужас, а Восторг, вызывало экстатическое состояние. Помните рассуждение Нисида Китаро: видеть форму бесформенного, слышать голос беззвучного – основа восточной культуры: "Наша душа постоянно стремится к этому". Не потому ли, что ни собственную жизнь, ни жизнь Космоса восточный человек не воспринимает как конечную?
Но Хайдеггер делает, казалось бы, невозможное, он переступает порог Ничто:
"Обывательское мнение видит в тени только нехватку света, если не его отрицание. На деле, однако, тень есть явное, хотя и непроницаемое свидетельство потаенного свечения (вряд ли Хайдеггер читал в оригинале "Даодэцзин"; переводы же, если и был с ними знаком, этих оттенков не передают – Т.Г.)... А что если сама эта неуловимость призвана стать высшим и суровейшим откровением бытия?.. Ничто как "нет" сущего есть самая резкая противоположность пустого ничтожества. Ничто никогда не ничтожно, равным образом оно и не нечто в смысле предмета; оно – само бытие, чьей истине вверит себя человек, когда преодолеет себя как субъекта и, значит, когда уже не будет представлять сущее как объект. Это открытое Между есть вот-бытие, понятое в смысле той экстатической области, где бытие выступает из потаенности и уходит в нее" [146].
Это делает Хайдеггера философом будущего. Принципиально новое для европейского мышления у Хайдеггера именно то, что он вышел за пределы двойственности (что раньше было доступно лишь религиозному сознанию), перекинул мост между крайними полюсами. Но он не мог бы этого сделать, не покинув пределов Метафизики, которая начала обслуживать новоевропейскую науку и технику и во имя подчинения сущего человеку отреклась от Бытия. Отвергая ее Хайдеггер самоестественно приходит к методу недуального, недвойственного отношения к жизни (и это делает реальным диалог Запада и Востока: в Ничто нет ни Востока, ни Запада). Открыв Небытие, Хайдеггер возлюбил Бытие, освободившись от ощущения неполноты, от страха перед Хаосом и необходимости Борьбы с ним. Небытие не располагает к Борьбе, к "власти", властвованию, к конфликтам – не с чем бороться. Не будешь же бороться с Пустотой, с Беспредельностью? Но располагает к Свободе: не навязывая норм, позволяет каждому быть самим собой. Потому Хайдеггер и говорит о "необщезначимости", уникальности всего "подлинного" – об "интимной близости" к вещам и земле, как к живым существам. Исчезает возможность орудования вещами, инструментального к ним отношения, как к "сырью", средству для сомнительных удобств не проснувшегося к Бытию человека.
Одно порождает другое ("что посеешь, то и пожнешь"). Инструментальный человек относится к другому как к орудию ("Цзюньцзы не орудие", – учил Конфуций). Инструментальный же человек неизбежно разрушает среду обитания. "Дом бытия" – язык, превращая его из интимного лона культуры в способ домогательств неразвитого ума. Без Небытия нет Бытия; есть мера ничтожного существования – "быть, чтобы иметь". Каково сознание, такова и мера человеческого достоинства. Эта мера, принявшая часть за целое, не могла не породить Тиранию псевдо-целого, будь то тирания вещей, "тирания логики" или тирания псевдо-человека (man). Еще в работе "Бытие и время" Хайдеггер писал:
"Используя общественные средства сообщения, используя связь (газеты), каждый уподоблялся другому. Это пребывание друг возле друга полностью растворяет собственное существование в способе бытия "других" именно таким образом, что другие еще более меркнут в своем различии и определенности. В этой неразличимости и неопределенности развертывает Man свою подлинную диктатуру".
И в 60-е годы картина не выглядела отраднее:
"Омрачение мира, уход богов, разрушение земли, превращение человека в массу, ненависть и подозрение ко всему свободному и творческому достигли такого размаха по всему миру, что такие ребяческие категории, как пессимизм и оптимизм, давно уже стали абсурдными" [147].
Это становится всеобщей бедой: часть, возомнившая себя Целым, не может не терроризировать всякое целое, как противоречащее уделу части и обличающее в ней часть (последний урок антропоцентризма). Господство субъективности оборачивается господством публичности, того самого всеобщего, безликого man'a, маски, вторичного "я", оттеснившего первичное, истинное. Идет необратимый процесс объективации, овеществления всего на свете. Человек и к себе начинает относиться как к объекту. Это неизбежное следствие отпадения от Бытия: человек становится сам себе палачом, палачом и жертвой одновременно. Тот же Сартр заметил в "Критике диалектического разума": "Принцип исследования – искать целое через составные части – превратился в террористическую практику ликвидации особенного". Это и заставило Хайдеггера говорить о "диктатуре публичности", о метафизически обусловленном господство субъективности, о завладении открытостью сущего в виде абсолютного опредмечивания всего на свете – о "тирании логики". Последняя свела мышление к представлению сущего в его бытии вместо размышления о самом бытии, т.е. логика не имеет дела с "мыслью, осмысливающей истину бытия". Панлогизм – следствие убывания Логоса, или целостного мышления, со времен Платона и Аристотеля, праотца "логики", у которых изначальное существо Логоса "уже затемнено и упущено". Говоря о Логосе, Хайдеггер вынужден предупредить, что "думать наперекор "логике" не значит идти крестовым походом в защиту алогизма, это значит лишь задуматься о Логосе и о его явившемся в раннюю эпоху мысли существе". Типично хайдеггеровский ход мысли: его отрицание не есть утверждение обратного, а есть выход за пределы оппозиций любого рода во имя постижения Целого:
"Что могут нам сказать все сколь угодно разветвленные системы логики, если они заранее, и даже не ведая, что творят, избавляют себя первым делом от задачи хотя бы только поставить вопрос о существе "логоса"?" [148].
Время ознаменовало поворот от логики к Логосу (с легкой руки россиян), от частности, занявшей место Целого, к самому Целому, к истинно Целому, которое не посягает на Свободу отдельного. Собственно, тирания Целого сама по себе невозможна; если "тирания", то не Целое, а что-то, что претендует на роль Целого. Когда еще было подмечено:
"Бог... привел все к единому порядку; этот порядок и делает из мира "единое целое" – universitas. Эту целостность человек "разрывает", предпочтя ей, из личной гордости и личных симпатий, "одну часть", "мнимое единство": но он таким образом ставит "часть" выше "целого"; достоинством, принадлежащим "целому" – universitati, – он облекает "часть""
("Исповедь Блаженного Августина", III, 8, 16, примеч.).
Как человек европейской культуры, Хайдеггер чаще прибегает к понятию Бытия. Но что такое его Бытие? Оно шире, чем все сущее, и ближе человеку, чем любое сущее.
"Есть, в более изначальном осмыслении, история Бытия, которой принадлежит мысль как память этой истории, самою же историей осуществляемая, что сбылось, то не уходит в прошлое... Бытие становится судьбой" [149].
Но философ давно уже не мыслит одно вне другого.
"Единственно потому, что в основании человеческого бытия приоткрывается Ничто, отчуждающая странность сущего способна захватить нас в полной мере. Только когда нас теснит отчуждающая странность сущего, оно пробуждает в нас и вызывает к себе удивление. Только на основе удивления – т.е. открытости Ничто – возникает вопрос "почему"? Только благодаря возможности "почему?" как такового мы способны спрашивать определенным образом об основаниях и обосновывать" [150].
Осознание единства Бытия-Небытия самоестественно ведет к соединению разрозненных пар: субъекта-объекта, сущности-существования; указует путь к "бытию-в-мире", в "здесь-бытие". Хайдеггер даже расстановкой, написанием слов подчеркивает единство всего между собой: экзистенция – это "бытие-при-внутри-мировом-сущем". Все – звенья одной цепи, и никакое звено нельзя изъять, чтобы не оборвалась вся цепь. Соединив звенья между собой, он пропустил ток через цепь, которая давно уже бездействовала, не получая энергии от псевдо-Бытия (потому и мучились такие философы, как Ницше, глядя на нее, не ощущая в ней жизни). Хайдеггер дал понять, что казавшееся неподвижным Бытие живет, шевелится, дышит. Он потому и призывал "вслушиваться" в него, что сам слышал его голос.
Бытие нельзя увидеть, но ему можно внимать. В "просвете" открывшегося "Вот" обитает человек как экзистирующий, хотя он сегодня еще не может осмыслить это обитание как таковое и вступить в обладание им. Бытие светлого "Вот" есть экстатическое вхождение в Истину бытия (вспомните: Татхагата – кто уходит и приходит так, татхата – "таковость"; "самоестественность" – свойство дао – то, благодаря чему существует Единое).
Хайдеггер потому и отвергал метафизику, что она ведет к тирании "целого" (которое Целым не является), к экспансии, к покорению сущего, в силу раздвоения, противопоставления одного другому. Он и должен был найти иное "отношение к сущему", в котором открылось бы "целительное". Человек самим бытием "брошен" в истину Бытия, чтобы, экзистируя, оберегать истину Бытия, чтобы в свете Бытия сущее явилось как сущее, каково оно есть, – не раз возвращается Хайдеггер к этой мысли. Бытие шире, чем все сущее, и оно ближе человеку, чем любое сущее. "Обычно "есть" говорится о том, что существует. Такое мы называем сущим. А бытие "есть" как раз не " сущее". Бытие есть трансценденция в прямом и первичном смысле", – говорится во введении к "Бытию и времени". Кто не ощущает этого, тот обречен на чувство "бездомности".
"Бездомным" был Ницше, не сумевший найти внутри Метафизики другого выхода, кроме переворачивания ее самой. От Бытия начинается преодоление бездомности, "в которой блуждают не только люди, но и само существо человека". Бездомность коренится в "покинутости сущего бытием", в забвении Бытия, потому и становится "судьбой мира". И никакая метафизика, идеалистическая, материалистическая, или христианская, неспособна по своей сути увидеть, осмыслить и охватить то, что сейчас есть.
Истина бытия в качестве его просвета остается для метафизики потаенной. "Но сам просвет есть бытие". И потому Хайдеггер говорит не о знании Истины, а о пребывании в Истине: "Способ, каким человек в своем подлинном существе пребывает при бытии, есть экстатическое стояние в истине бытия" [151]. Хайдеггер говорит не о знании Истины, а о пребывании в Истине, в Пути, и свою последнюю работу так и называет "Пути не сочинения" [152].
В качестве экзистирующего человек несет на себе вот-бытие, поскольку делает "Вот" как просвет Бытия своей "заботой". А вот-бытие существует как "брошенное": "Оно коренится в броске Бытия как посылающе-судьбоносного".
Да, нелегко было подбирать слова для того, что было невыразимо, непривычно: ощущение распростертости над Бездной, преодоление извечного стремления заполнять эту Бездну. Не заполнять изначальную Пустоту никчемным, подчиняя ему себя из страха перед свободой парения – без опор и страховки. Для этого нужно было уверовать в себя, истинного, потаенного. Но Хайдеггер знает – человек способен повернуться к Истине бытия, ибо существо человека Больше, чем он сам – существо не "господин сущего", а "пастух бытия".
Переступив порог Небытия, воссоединив Единое – через Любовь и доверие, – Хайдеггер вернул человеку Надежду. Оставляя человека "наедине с Ничто", дал ощутить вкус Свободы. Он и сам говорит:
"Не стараниями ли о человеке движима эта наша требовательность к человеческому существу, эта попытка подготовить человека к требованиям бытия? На что же еще направлена "забота", как не на возвращение человека к его существу? Какой тут еще другой смысл, кроме возвращения человеку (homo) человечности (humanitas)?" [153].
Этим все сказано!
Если Одно распадается на Два, исчезает и Логос и Дао. Они уходят, покидают отпавшее от Истины Бытие, и человек начинает чувствовать себя ненужным, покинутым и бездомным. Но Логос и Дао имманентны миру и, значит, не могут не Быть. "Хотя этот логос существует вечно, недоступен он пониманию людей ни раньше, чем они услышат его, ни тогда, когда впервые коснется он их слуха"; "Хотя логос присущ всем, большинство живет так, словно (каждый) имеет свое особое разумение". Но со времен Гераклита много воды утекло. Пришло" время услышать зов Бытия – "бытие требует человека". Этого требует и наше истовое время, которое на исходе [154].
Людям не стало бы лучше,
если бы исполнились все их желания.
(Гераклит)
Не сообразуйтесь с веком сим,
но преобразуйтесь обновлением ума вашего.
(Рим., 12, 2)
XX век невозможно понять без XIX, XIX – без XVIII и т.д. Нигилизм сделал свое дело, развеял то, что казалось незыблемым на протяжении более чем двух тысячелетий. И вдруг остановка, поворот – нужно искать что-то новое. Если становление не имеет цели, никуда не ведет, необходимо волевым усилием изменить ситуацию, освободиться от этого мира, от беспощадного потока Истории и создать другой мир – сверх-существование, для чего и понадобится сверх-человек. Ницше резко и решительно завершил то, что шло к завершению; прорвал плотину установлении, и хлынул поток человеческой стихии. Он услышал зов времени, чреватого новой энергией, которая рано или поздно должна была вырваться наружу. Человек устал от тяжести веков и авторитетов; созданное его воображением тяготило и сдерживало его рост. В сущности,
"человек теряет веру в свою ценность, если через него не действует бесконечно ценное целое: иначе говоря, он создал такое целое, чтобы иметь возможность веровать в свою собственную ценность" [1].
Как же через человека действовало Целое и кантон освобождался от прошлого, нашел ли достойную замену? 50 лет спустя философы не были уверены в этом. X. Ортега-и-Гассет в "Восстании масс" (1930 г.) дает анализ ситуации:
"В последней трети XIX в. начался – сперва невидимый, подземный – поворот вспять, возврат к варварству, т.е. к простоте человека, у которого прошлого нет или он свое прошлое забыл" [2].
XIX веку принадлежит и слава, и ответственность за то, что он выпустил массы на арену истории. Предупреждение исходило из уст философа, которого ставят рядом с Руссо и Ницше. По мнению американской газеты "Atlantic Monthly", "чем для XVIII века был "Общественный договор" Руссо, а для XIX – "Капитал" Маркса, тем же для XX века стало "Восстание масс" Ортеги" [3].
Испанский философ видит причину господства над миром "человека массы" в издержках самой цивилизации. Безмерно разросшаяся цивилизация, с ее избыточным продуктом, и должна была породить "человека массы":
"Чрезмерное изобилие жизненных благ и возможностей автоматически ведет к созданию уродливых, порочных форм жизни, к появлению особых людей-выродков... Можно установить закон, подтверждаемый палеонтологией и биогеографией: человеческая жизнь возникала и развивалась только тогда, когда средства, какими она располагала, соответствовали тем проблемам, какие перед ней стояли. Это относится как к духовному, так и к физическому миру".
В результате – вся власть в обществе перешла к массе.
"Так как массы, по определению, не должны и не могут управлять даже собственной судьбой, не говоря уже о целом обществе, из этого следует, что Европа переживает сейчас самый тяжелый кризис, какой только может постигнуть народ, нацию и культуру" [4].
Книга была написана в тревожное для человечества время, и автор прямо связывает его с рождением фашизма, эпидемией бездуховности даже в высших слоях общества, что освободило дорогу низшим инстинктам. Мания богоподобия, как и богоборчества, идет от греков (если бог подобен человеку, то почему бы с ним не бороться?) и время от времени возрождается. Декарт допускал мысль: если Бога нет – в этом случае "Я – Бог". В XIX в. богомания и богоборчество идут рядом, что тревожило Достоевского ("Если нет Бога, то я – Бог", – повторяет Кириллов). На сей раз участь развенчанного кумира выпала христианству. Еще в 1845 г. М. Штирнер в "Единственном" взывал к неповторимому "Я" человека, отчужденного христианством и гуманизмом от своей родовой сущности; возвещал культ индивидуализма: человек все должен превратить в свою собственность, человек и есть бог, человек и есть своя собственная "всемирная история".
Опять взмах качелей – или "я", или бог – третьего не дано. Чтобы стать богом, нужно упразднить бога, а не подняться до него, как учили мудрецы: преодолеть человеческое ("слишком человеческое – это всегда животное", по словам Акутагава) и дать выход божественному ("царство божье внутри вас"). И опять желаемое выдается за действительное, признав человека богоявленным, когда он менее всего подходил для этой роли. Ницше всего лишь подвел черту, объявив о смерти бога: ничто уже не свидетельствовало о его присутствии. Так завершился процесс обезбоживания мира, набиравший силу со времен греков. Уже Августин сокрушался:
"Душа в своих грехах, в гордой, извращенной и рабской свободе, стремится уподобиться Богу. Так и прародителей наших оказалось возможным склонить на грех только словами: "Будьте, как боги""
("О Троице", 11,5,8).
Так повелось: что-то существует за счет чего-то, интересы Целого требуют жертвы отдельного. Отпавший от Бытия человек приходит мало-помалу к умозаключению: все дозволено, ничего святого, а потом – к отчаянию и нигилизму. Последний расчистил дорогу для чего-то еще небывалого, что зрело подспудно, и в XIX в. стало реальной силой. XIX век, по Ницше, болев животный, подземный; он безобразнее, реалистичнее, грубее – и именно потому "лучше", "честнее", истиннее; зато слабый волею, зато печальный и темно-вожделеющий; зато фаталистичный. Нет страха и благоговения ни перед "разумом", ни перед "сердцем".
Результат оказался неожиданным: современное общество – "больной конгломерат", утратило силу извергать из себя вредные ему элементы. "Но как достигли власти те, которые последние?" [5].
Может быть, настало время выйти из подземелья той титанической силе, которую Зевс загнал в Тартар, чтобы навести порядок на земле? Всякий порядок, искусственно установленный, рано или поздно стареет и нуждается в обновлении. Процесс восхождения низших шел подспудно, незаметно поднимался на поверхность ил тысячелетий. Таков закон Целого – по Гераклиту и Лао-цзы – низ и верх неизбежно меняются местами. И не может живое до бесконечности пребывать в неподвижности, словно неорганическое вещество. Круговорот неизбежен, как и иерархия; они – признаки живого.
Едина и иерархична человеческая природа. Другое дело, если между разными слоями единого человечества не будет просвета, проницаемости, возможности сообщаться – тогда не миновать застоя. Низшим предстояло подняться, выйти к Свету, ибо все живое тянется к нему. В это верили высокие умы от Оригена до Швейцера [6]. Но когда низший слой поднимается, неизбежен разлом земной коры, как при извержении вулкана. Настает время мщения за тысячелетия унижения, подземного существования, – взрыв жажды и ненасытности. До сих пор, по Ортеге, не насытятся благами цивилизации те, кто их не создавал и к ним не причастен.
Поэты пророчествовали:
Двадцатый век... Еще
бездомней,
Еще страшнее жизни мгла.
(Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла)...
Безжалостный конец Мессины
(Стихийных сил не превозмочь),
И неустанный рев машины,
Кующий гибель день и ночь,
Сознанье страшное обмана
Всех прежних малых дум и вер
И первый взлет аэроплана
В пустыню неизвестных сфер...
И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть, и ненависть к отчизне...
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи
(А. Блок. Возмездие).
А. Скрябин "Поэмой экстаза" (9-я соната, 1913 г.) предупреждал о наступлении Зла – сатанинских сил мира. Пока человек тешил себя надеждой и верой, что он и есть бог, "в гордой, извращенной и, так сказать, рабской свободе" стремясь уподобиться Богу, Сатана не дремал. Но, может быть, действительно настало время расплаты и очищения: отторгнуть нечто, накопленное веками, освободиться от собственного ила? Сказано же в Писании: "Да будет свет; покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Покайтесь, да будет свет" (Быт.,1,31; Мф.,3,2). Слово, которое существует поверх тысячелетий, становится Реальностью.
Если верна мысль, что человечество и человек – одно, то и "человек массы" есть тоже человек, присутствует в каждом, как его возможность, – только один преодолевает низшее, другой нет. Если "все есть во всем", "это есть ты", значит, в каждом, в психике, в подсознании, присутствует весь исторический, и даже доисторический, ход, все пережитые фазы и "формации" (и первобытнообщинная, и рабская, и феодальная, и буржуазная, и социалистическая). Ничто не исчезает в абсолютном смысле, все хранит в себе человеческая память, и время от времени, в зависимости от обстоятельств, дает о себе знать то одно, то другое. Все связано между собой не только в последовательном, причинно-следственном порядке (одно сменяется другим), но и в одновременном, параллельном – одно присутствует в другом.
В XIX в. обстоятельства сложились таким образом, что силу обрела "гомеомерия" массовости. Народившееся явление, по выражению Ортеги, таит в себе и величайшее благо, и величайшее зло. Не настало ли время "титанической" природе превратиться в человеческую, а человечеству обрести покой и единство – полноту, завершенность, чтобы прекратились затянувшиеся спазмы Истории? Существует же "отнологическая Справедливость". Это, конечно, великое испытание для человеческого рода, от правильного отношения к нему зависит, жить ли ему на земле. (Выживать можно по-разному. Стоит ли выживать ради медленного вымирания? Выживать – так достойно, ради высшего Пути).
Итак, на протяжении XIX в. окончательно разошлись два полюса, два плана бытия: мир "дольный" и мир "горний". Земля и Небо; бытие как сущее, происходящее, и Небытие, как присутствующее незримо и определяющее настоящее. Древние говорили: если "Небо и Земля не связаны, будет упадок" ("Шогуачжуань", комментарий к "Ицзину"). В образовавшийся между Небом и Землей прозор хлынула стихия ("свято место пусто не бывает"), которую одни назвали "человеком массы", как Ортега-и-Гассет, другие – "ман", как Хайдеггер. Эту силу нельзя не замечать или мириться с ней, иначе рано или поздно она найдет способ разрушить мир, и нечего будет спасать, если не противопоставить ей мощь человеческого духа. "Чем выше ступень прогресса, тем больше опасность крушения".
Потому и встревожены философы нарождением безликого, анонимного "никто" – олицетворением древнего Хаоса.
"Человек массы – это тот, кто не ощущает в себе никакого особого дара или отличия от всех, хорошего или дурного, кто чувствует, что он – "точь-в-точь как все остальные" и притом нисколько этим не огорчен, наоборот, счастлив чувствовать себя таким же, как все".
Он принял правила игры на проигрыш, его бытие – псевдо-бытие, прикрытие для обыденного ума. Из страха заглянуть в себя становится анонимом. Действуя, как все, изживает зачатки души, совесть – так спокойнее, меньше хлопот. Безликость, анонимность делает его способным на любые мерзости, самые низкие поступки: обман, доносительство, демагогию, подлость. Состояние безликости диктует способ бытия. Мотив "человека массы" – отсутствие мотива: ничего святого, значит, все средства хороши (и выстрел в затылок ради золотых коронок), Они по-своему поняли свободу и равные возможности и упускают шанс человеческого осуществления. "Вульгарные, мещанские души, сознающие свою посредственность, смело заявляют свое право на вульгарность, и причем повсюду". Может быть, они не изначально бездарны, но пожертвовали своим даром ради сомнительных утех. Их трогает только то, что дает возможность наживать и властвовать, а там – хоть трава не расти. И не растет, земля горит под ногами. Но они продолжают делать вид, что что-то делают, и это хуже, чем ничего не делать, ибо их дело оборачивается разрушением природы, изничтожением человеческих талантов. Где деятельность отрешена от разума, там начинаются катастрофы. В мире вещей человек уподобляется вещи.
Стихия "мана" – помраченное сознание, амок, двигающий мир к экологической гибели, бунт посредственности – трагедия нашего века (похоже, идущая на убыль). Лишенная творческих потенций масса истребляет все причастное Творчеству. "Обыденность" сторожит "всякое выдающееся, выделяющееся исключение и бесшумно подрубает его" (Хайдеггер). По инерции, заданной некой зловещей силой, уничтожают то, на чем все держится, сам источник жизни, обрекая и себя на смерть от удушья.
Это рецидив дорабского сознания – раньше от недостатка цивилизации, теперь – от избытка, от пресыщенности (то самое помраченное состояние сознания, которое в буддизме называется "миром голодных духов"). Без осмысления этого феномена нельзя понять трагизм XX в. Достаточно сказать, что стихия безликой массы послужила почвой для тоталитарных режимов, фашизма и сталинизма: лидеры такого рода возвышаются лишь над безликой, анонимной массой и ею держатся. Это и показано в "Восстании масс". Книга вышла в 1930 г., т.е. накануне тех событий, которые завершились второй мировой войной и были чреваты третьей:
"Под маркой синдикализма и фашизма в Европе впервые появляется тип человека, который не считает нужным оправдывать свои претензии и поступки ни перед другими, ни даже перед самим собой; он просто показывает, что решил любой ценой добиться цели. Вот это и есть то новое, небывалое: право действовать без всяких на то прав. Тут я вижу самое наглядное проявление нового поведения масс, причина же – в том, что они решили захватить руководство обществом в свои руки, хотя руководить им они не способны".
Куда уж яснее. Мы пережили рецидив варварства. Под угрозой оказались все ценности, и земля, и все, что на ней созидалось, – все, над чем трудился дух. И Ортега предостерегает: нужна борьба с этой эпидемией, которая может задеть каждого в той или иной мере, прямо или косвенно.
Это и побудило поставить диагноз, понять природу "человека массы": откуда он и для чего, в чем его признаки и его назначение ("все действительное разумно"). В утрате индивидуальности, в стремлении идентифицироваться с другими? Инстинкт стадности? Не отсюда ли неприятие Творчества, которое Индивидуально, будь то труд крестьянина, художника, ремесленника или ученого. По плодам мы судим о них. Но "как только мир и жизнь широко открылись заурядному человеку, душа его для них закрылась".
Человек массы – особая популяция, вышедшая из подземелья, не зная, что творится на поверхности, – истории нравов, навыка культуры. Ей чужды человеческие качества, в том числе и инстинкт самосохранения. От неожиданного богатства потеряли голову и не смогли распорядиться накопленным другими. За несколько десятилетий разорили, истощили землю. И не только – "нет такого вопроса общественной жизни, в который он не вмешался бы, навязывая свои мнения, – он слепой и глухой". Люди без души (как говорил Конфуций, "люди только с виду") не ведают благородства, зова совести, да и просто здравого смысла. Потому и разрушают землю, на которой живут, отравляют воздух, которым дышат. Ортега уверяет, что если эта порода людей будет хозяйничать в Европе, то через каких-нибудь 30 лет ее народы вернутся к варварству: "Наш правовой строй и вся наша техника исчезнут с лица земли так же легко, как и многие достижения былых веков и культур" [7].
Он не далек от истины [8]. Притом Ортега подчеркивает, что "человек массы", вышедший на арену истории, – не классовое явление, ибо встречается в любом сословии, пронизывает общество снизу доверху. Это болезнь времени. Под массой "подразумеваются не специально рабочие; это слово означает не специальный класс, а тип людей, встречающийся во всех социальных классах, тип, характерный для нашего времени, преобладающий и господствующий в обществе".
И ученые не составляют исключения – "сегодняшний ученый – прототип человека массы... потому что сама наука – корень нашей цивилизации – автоматически превращает его в первобытного человека, в современного варвара" [9]. Ортега принимает во внимание деление не по горизонтали (угнетатели – угнетенные), а по вертикали – сквозное, прошедшее через все времена и уже потому более устойчивое, нравственно-духовное. Этот подход вместе с тем позволяет ему видеть в человеке не только "общественное животное", но и возможность Целого человека. (Есть над чем задуматься при существующем дефиците знаний о человеке [10]).
Предлагаемая Ортегой вертикаль тянется снизу вверх, а не сверху вниз. Он дважды вспоминает слова В. Ратенау о "вертикальном вторжении варваров": "Европеец, входящий сейчас в силу, – просто дикарь, варвар, поднимающийся из недр современного человечества. Вот оно, "вертикальное вторжение варварства"". Ни один слой не избежал этого воздействия: "В наше время массовый тип, "чернь", преобладает даже в традиционных избранных группах" [11]. Итог – всеобщее потемнение человеческой ауры; чернь была во все времена, но не в таких масштабах [12].
Ортега считал самым глубоким и радикальным различение людей на два основных типа:
"На тех, кто строг и требователен к себе самому ("подвижники"), берет на себя труд и долг, и тех, кто снисходителен к себе, доволен собой, живет без усилий, не стараясь себя исправить и улучшить".
Как ни вспомнить Конфуция, который делил людей по тем же признакам на два рода: цзюньцзы – истинный человек, и сяожэнь – низкий, безликий человек. Характеристики, которые дает Ортега избранному меньшинству и массе, удивительным образом совпадают с тем, что говорил Конфуций о цзюньцзы и сяожэне. Видимо, "вертикальные" признаки, или человеческие качества, независимы от времени. Судите сами:
"Человек массы никогда не признает над собой чужого авторитета, пока обстоятельства его не принудят... Наоборот, человек элиты, т.е. человек выдающийся, всегда чувствует внутреннюю потребность обращаться вверх, к авторитету или принципу, которому он свободно и добровольно служит".
И приводит слова Гёте:
"Жить в свое удовольствие – удел плебея; благородный
стремится к порядку и закону".
"Человек массы просто обходится без морали, ибо всякая мораль в основе
своей – чувство подчиненности чему-то, сознание служения и долга" [13].
А вот несколько высказываний Конфуция:
"Цзюньцзы думает о долге,
сяожэнь – о выгоде";
"Учитель сказал:
"Благородному мужу легко служить, но трудно угодить.
Если угодишь не должным образом, он не будет доволен.
Он использует людей в соответствии с их способностями.
Низкому же человеку трудно служить, но легко угодить.
Он радуется и тогда, когда ему угождают не должным образом.
Использует тех людей, которые способны на все"";
"Учитель сказал:
"Благородный муж обладает достоинством, но не тщеславен.
А низкий – обладает тщеславием, но не обладает достоинством"";
"Благородный ищет причину неудач в себе, низкий – в других";
"Низкий человек непременно прикрывает свои ошибки";
"Благородный заботится об общих, а не групповых интересах.
Низкий заботится о групповых, но не заботится об общих интересах";
"Низкий человек не знает веления Неба и не боится его,
с беззастенчивостью относится к великим людям
и с презрением к словам мудреца"
("Луньюй", IV, 11, XIII, 25, XIII, 26, XIX, 8, II, 14, XVI, 8).
Конфуций отводит этой теме главное место в "Луньюе".
В XX в. "сяожэнь", вооружившийся техникой, ощутил себя "хозяином мира", и это расширило его притязания. Вообще проблема большинства-меньшинства заслуживает особого разговора. Скажу лишь, что если бы большинство могло принимать правильные решения, то История завершилась бы, как выполнившая свое назначение. (Другое дело – "глас народа – глас божий"; но не "глас большинства"; "народ" – понятие качественное, не количественное. Большинство, как правило, не ведает, что творит. Это знали мудрецы: "Людям не стало бы лучше, если бы исполнились все их желания"). Каждая составляющая большинства еще не уразумела себя, как же может уразуметь себя непросвещенная масса? Потому Конфуций и говорит:
"Людей можно призвать
следовать за собой,
но нельзя объяснить для чего"
("Луньюй", VIII, 9).
Пока каждый член массы не пробудился, не прозрел, не ощутил себя личностью, большинство будет оставаться стихийной силой, не ведающей, что творит. Будет создавать все новые проблемы, будучи не в состоянии решить их; желая лучшего, приводить к худшему, к обострению ситуации, пока каждый не обретет чувство личной ответственности, не преодолеет инстинкт толпы. Видит тот, кто возвышается над обстоятельствами, над страстями (национальными, социальными), ускоряющими дорогу к пропасти. Тех мало, кто видит истинные причины, объемлет Целое, но
"без него (меньшинства – Т.Г.) бытие человечества утратило бы самую ценную, самую существенную свою долю... – утверждает Ортега, – ...Это закон "социальной физики", гораздо более непреложный, чем закон Ньютона. В тот день, когда в Европе вновь восторжествует подлинная философия – единственное, что может спасти Европу, – человечество снова поймет, что человек – хочет он этого или нет – самой природой своей призван искать высший авторитет. Если он находит его сам, он – избранный; если нет, он – человек массы и нуждается в руководстве".
Итак, Ортега приходит к выводу, что европейская история впервые оказывается в руках "заурядного человека, как такового, и зависит от его решений". Этот человек "недочеловеческого типа" есть поворот вспять, возврат к варварству. Цивилизация находится под угрозой, ибо у варвара нет норм и морали. "Все варварские эпохи были периодами распадения общества на мелкие группы, разобщенные и взаимно враждебные". Симптомы варварства дают о себе знать в любой сфере – в науке, в культуре, в государственной политике. "Для меня несоответствие между благами, которые рядовой человек получает от науки, и невниманием, которым он ей отвечает, кажется самым грозным симптомом из всех". То положение, в которое поставлена наука, ведет к утрате ее смысла и назначения, она становится функциональной, теряет связь с жизнью, с Бытием.
В атмосфере "человека массы" и государство не выполняет свое назначение. "Человек массы" видит в нем анонимную силу и, будучи сам анонимом, считает государство как бы "своим".
"Вот величайшая опасность, угрожающая сейчас цивилизации: подчинение всей жизни государству, вмешательство его во все области, поглощение всей общественной спонтанной инициативы государственной властью, а значит, уничтожение исторической самодеятельности общества, которая в конечном счете поддерживает, питает и движет судьбы человечества".
"Человек массы" верит, что "он и есть государство, и стремится под всякими предлогами пустить государственную машину в ход, чтобы подавлять творческое меньшинство". (Как все это знакомо!) В результате творческие силы иссякают и "новые семена не смогут приносить плодов". Общество живет "для государства, человек – для правительственной машины". Но само государство обречено при этом на жалкую смерть: "Высосав все соки из общества, обескровленное, оно само умрет смертью ржавой машины, более отвратительной, чем смерть живого существа".
Сопоставляя историю Рима с девизами Муссолини, Ортега выводит закономерность: чрезмерная мощь государства становится причиной его упадка и разложения. "Костяк государства пожирает живое тело нации", народ обращается в горючее для питания государственной машины. Примером тому служит фашизм – "типичное движение людей массы".
"Этатизм – высшая форма политики насилия и прямого действия, когда она возводится уже в норму, в систему, когда анонимные массы проводят свою волю от имени государства и средствами государства, этой анонимной машины" [14].
Насилие становится нормой, способом разрешения проблем. Но силой проблемы не решаются, лишь загоняются вглубь, нарастают. Парадигма "борьбы и власти" в своей высшей точке переходит предел разумного и приводит в конечном счете к безвластию и хаосу. Крайности сходятся.
Ортега исследует ситуацию с вниманием психоаналитика и приходит к выводам, с которыми, как правило, трудно не согласиться. По крайней мере прошедшие с тех пор полвека во многом подтвердили его прогнозы (угроза фашистской идеологии пока не миновала). Теперь уже нельзя делать вид, что ничего не происходит. Ситуация как перед зеркалом – все обнажено, не за кого и не за что спрятаться. Говоря словами Сартра, "глаза всего мира устремлены на тебя". Приходится делать выбор и давать отчет о содеянном. Устоит ли человек от соблазна скрыться в общем потоке, чтобы остаться незамеченным? Но тогда – конец. Стихия унесет его вспять от Земли обетованной, к которой тысячелетиями, с мучениями и потерями, пробирались его предки, и тогда уж точно – гореть ему в геенне огненной. Когда еще было сказано: "Душа, которая поворачивается к материи, страдает и нищенствует, лишается своей силы" (Порфирий. Начала, 37); попадая в мир "голодных духов", переживает адские муки.
Человек массы живет по правилу "быть, чтобы иметь", и не берет себе в голову, что эта формула противоестественна, отторгает человека от Бытия, уподобляет его вещи. Происходит в конце концов перепроизводство, удвоение вещей, – засоряются души и земля (недаром возникла проблема "мусора", отходов). Жизнь обесценивается, вульгаризуется. Вульгарность же противоестественна, разрушает мир, как антипод Красоты, которая его спасает. Образуется варварская цивилизация, технически оснащенная, человечески беспомощная, саморазрушающаяся, ибо человек – мера вещей. Чем более поднимается один предел в человеке – материальный, тем более опускается другой – духовный. Но когда уничтожается дух, уничтожается и жизнь, XX век тому свидетель ("Мы сделали работу за дьявола", – с горечью признавал Р. Оппенгеймер) [15]. Сбываются пророчества древних:
"Ты повелел ведь – и так и есть, – чтобы всякая неупорядоченная душа сама в себе несла свое наказание"
("Исповедь Блаженного Августина", I, 12, 19).
Ортега увидел идею "судьбы", предназначенной каждому. Судьба, в его понимании, – это то, чего нельзя избежать, не утратив себя [16].
"Каждая жизнь – это борьба за то, чтобы стать самим собой". Но масса людей избегает этой борьбы, страшится узнать себя. "Человек массы", не имеющий лица, не может иметь судьбы. Самый страшный грех, учат древние, убить свою душу, "убить в себе атмана". Но убивают истинное Я и уже никогда не постигнут Брахмана, не осуществятся на этой земле. "Снижение, деградация жизни – вот судьба того, кто отказывается быть тем, чем он быть призван. Его подлинное существо, однако, не умирает; оно становится тенью, призраком, который постоянно напоминает ему о его значении, заставляет его чувствовать свою вину и показывает его падение. Он – выживший самоубийца".
Это серьезнее, чем может показаться с первого взгляда. В атом глубинный, онтологический смысл старого и ныне стертого понятия – "от каждого по способности". Впадают в грех те, кто занимается не своим делом, занимает не свое место, – нарушая всеобщие связи, ломая Судьбу общества. И собственную жизнь оставляют без попечения, без шанса – не искупают грех, не отрабатывают карму. Карма же бывает личная, национальная, общечеловеческая. Каждый наследует свой набор нравственных деяний – и человек, и народ, и человечество. Прислушиваясь к себе, можно изменить свое настоящее и будущее.
Сказано же:
"Однако и демоны злы не по природе, поскольку в этом случае они не могли бы ни произойти из Блага, ни измениться и из добрых (ангелов) стать злыми и вообще они не могли бы существовать, будучи изначально злыми по природе... И тем не менее кто-нибудь может возразить, что демоны считаются злыми совсем не потому, что они (изначально) были злыми, – ибо они произошли от Блага и добры по природе, – но потому, что они стали таковыми, или, говоря словами Писания, потому, что они "устали хранить свое достоинство"... И они не совершенно отлучены от Блага, поскольку существуют, живут, мыслят и даже просто в силу того, что у них есть некое стремление к движению; злыми же они стали вследствие оскудения в них (доброй) по природе энергии"
(Псевдо-Дионисий Ареопагит. О Божественных именах, 4, 23).
Но "человек массы" пока этого не ощущает, он лишен видения и инстинкта единого рода и потому обречен, несмотря на всю массовость, обречен на вымирание, если не выделится в Человека.
"Наше бытие подчинено удивительному, но неуловимому условию, – продолжает Ортега. – С одной стороны, человек живет собою и для себя. С другой стороны, если он не направит жизнь на служение какому-то общему делу, то она будет скомкана, потеряет цельность, напряженность и "форму". Мы видим сейчас, как многие заблудились в собственном лабиринте, потому что им нечему себя посвятить".
"Восстание масс" не обязательно бунт, это восстание из чрева земли, – но само действие разрушительно. Все погибает, оставаясь без попечения разума. Человек массы – неупорядоченная стихия, в каком-то смысле полуреальная. Они делают вид, что существуют, играют роли, но тоже не свои. "Человек массы" не ощущает собственной судьбы, отсюда склонность к камуфляжу.
"Вихрь всеобщего, всепроникающего шутовства веет по Европе. Почти все позы – маскарадны и лживы. Все усилия направлены к одному: ускользнуть от собственной судьбы, не замечать ее, не слышать ее призыва, уклониться от встреча с тем, что должно быть... Потому-то никогда еще столько жизней не было вырвано с корнем из почвы, из своей судьбы, и не неслось неведомо куда, словно перекати-поле".
Сколь ответственно отнесся Ортега к человеческой Судьбе, поставив вопрос: "Камо грядеши?" Если даже заострил какие-то моменты, то во имя спасения человека, спасения жизни (оттого и "философия жизни"). Он воспринимает настоящее как "вакуум", из которого может родиться и хорошее, и плохое, – все зависит от усилий Разума. Ситуация выбора, но такая, от которой не отступишь: "да-да, нет-нет; что сверх того, то от лукавого".
"Вопросительный знак осеняет всю нашу эпоху, гигантский по величине, двусмысленный по форме – не то гильотина или виселица, не то триумфальная арка".
Прежнее исчерпало себя, и "восстание масс может предвещать переход к новой, еще неведомой организации человечества;. может привести к катастрофе". Так или иначе, "восстание масс" вызвало подъем исторического уровня, и это требует нового ко всему отношения, новых форм и напряженной работы ума и духа.
"Европа не сможет сделать смелого прыжка, которого от нее требует вера в ее будущее, не сбросив с себя всей истлевшей ветоши, не представ снова в своей обнаженной сущности, не вернувшись к своему подлинному "Я"". Ортега приветствует предстоящее очищение, "обнажение" Европы, что позволит ей вернуться к подлинному бытию. Жить во имя будущего и от него получать "приказы, определяющие наше отношение к прошлому", из прошлого брать то, что служит будущему.
Если нигилизм расчистил путь экзистенциализму, то последний породил "контркультуру". Противопоставив существование сущности, экзистенциалисты волей-неволей способствовали распаду традиционных форм в искусстве, которые они и особенно" те, кто шел за ними, решили отбросить, чтобы не зачахла Жизнь.
"Почему же поверили в аморальность жизни? Без сомнения, только потому, что вся современная культура и цивилизация приводит к этому убеждению. Европа пожинает ядовитые плоды своего духовного перерождения. Она слепо приняла культуру поверхностно блестящую, но не имеющую корней" [17].
Экзистенциалисты не избежали односторонности. В Ортеге это ощущается особенно остро (может быть, в силу испанского темперамента) – неощущение, невидение "как бы двойного бытия" – духовных констант, – того, что неизменно, не подвержено воздействию времени. Сосредоточенность на сиюминутном позволяет рассмотреть действительность с одной стороны, с близкой дистанции (в микроскоп), но не с дальней (в телескоп) – ее звездные миры, без которых жизнь теряет смысл. В этом проявляется некая нечувствительность к Небу, к Космосу, к ноуменальному Бытию или Небытию, "Вертикаль" Ортеги направлена книзу, не оплодотворяется встречным движением сверху, тогда как токи Жизни идут навстречу друг другу. Это лишало перспективы, отдаляло пришествие Целого человека. Может быть, отсюда заостренный интерес к будущему, ибо будущее не прояснялось, не давалось в руки.
"Итак, запомним: ничто не важно для человека, если не направлено в будущее".
Справедливости ради стоит сказать, что прошлое Ортега отрицал лишь с виду, в угоду настроению, "философии жизни". Сам он живет прошлым не менее, чем настоящим, апеллируя к нему, скажем к греко-римскому миру. Прошлое для него есть и настоящее: "Нам нужно знать подлинную, целостную Историю, чтобы не провалиться в прошлое, а найти выход из него" [18]. И все же в Истории, по большому счету, он ощущает то, что идет снизу – энергию, земную вертикаль. Но История несводима к текущим или минувшим событиям, к сущему, так как сущее не есть Бытие.
Отсутствие исторической перспективы идет, видимо, все от того же феноменализма, с которым самозабвенно сражался В. Эрн и другие русские философы, верившие в восхождение человека в божественный эон. С. Н. Трубецкой ощущал приближение конца теогонического процесса (финал которого, по сути, и описал Ортега), верил в рождение "высшего божественного зона мира", в Великое всечеловеческое Существо.
Н. Бердяев, свидетельствуя пришествие "человека массы": "Идет новый человек, parvenue, одержимый волей к мировому могуществу и овладению всей землей", ощутил свет Логоса:
"День новой истории кончается. Рациональный свет ее гаснет. И может наступить новый хаос народов, из которого не так скоро образуется космос... Духовная культура если и погибает в количествах, то сохраняется и пребывает в качествах. Она была пронесена через варварство и ночь старого средневековья. Она будет пронесена и через варварство и ночь нового средневековья" [19].
Есть невидимое, неявленное, но присутствующее во всем. Поверхностный слой Истории именуется в буддизме "несуществующими дхармами", или пузырями на воде [20]. Конечно, происходящее позволяет судить о состоянии Целого, но оно не есть Целое.
В Истории Ортега ищет то, что искал и Ницше, – силы Земли. Отвергая взгляд на Историю, диктуемый идеологией, политикой, культурой, он утверждает: "Историческая реальность коренится в более древнем и глубоком пласте – в биологической витальности, в жизненной силе, подобной силам космическим; это не сама космическая сила, не природная, но родственная той, что колышет море, оплодотворяет зверя, покрывает дерево цветами, зажигает и гасит звезды" (если сравнить с китайскими понятиями, то речь идет скорее о ци, чем о цзин, т.е. не о высшем типе – чистой, тонкой энергии или Разуме).
Если Хайдеггер сближается с традиционным Востоком, призывая "вслушиваться" в Бытие, а не переделывать Жизнь, то Ортега – наоборот. Его уж никак не назовешь человеком-дао, следующим Недеянию, естественному ритму вещей. Ортега склонен не созерцать вещи во имя постижения сущего, а конструировать "то, чего еще нет: он всегда есть устремленность. в будущее, он имеет дело с возможным, а не с действительным. В этом видит Ортега саму суть перехода к "человеку изобретающему" от "человека мыслящего"... Для Ортеги нет надысторического Абсолюта, вечное для него – синоним мертвого. Здесь он ученик Ницше; он убежден, что Бог умер, что люди теперь. должны "устраиваться без Бога" [21].
Но это и есть нигилизм, та прямая, которая ведет никуда, сама на себе замыкаясь, как всякая односторонность. Может быть, я преувеличиваю, не ощущаю, что в нем, как в каждом таланте, есть все, есть невидимое, неявленное, что проявляется неожиданно. Как у Шпенглера – Urseelentum, но без него он не был бы Шпенглером. Думается, и Ницше в глубине души не верил в смерть бога. В великом уме всегда существует что-то потаенное, что раскрывается во времени, притягивая умы. Прорицания такого рода есть и у Ортеги:
"Я не верю в абсолютный исторический детерминизм. Наоборот, я верю, что всякая жизнь, тем самым историческая, состоит из отдельных моментов, каждый из которых относительно свободен, не предопределен предыдущим моментом; некоторое время он колеблется, "топчется на месте", как бы не зная, какой из вариантов избрать. Вот это метафизическое колебание и придает всему живому ни с чем не сравнимый трепет, вибрацию" [22].
Это – предощущение новой парадигмы, еще не до конца осознанной, – не причинного, а синхронного типа связи, – когда каждое явление само себе причина и следствие [23]. Или предчувствие нового мышления, которое еще не имеет определения, но суть которого в целостности, многомерности, "голографичности", т.е. в способности схватывать мир объемно, в целом и в каждой точке. Новое мышление знаменует смену моноцентрической модели на полицентрическую или сингулярную (центр везде, в каждой точке), что, естественно, сопряжено с переосмыслением природы Целого. Целое не сумма частей, не конгломерат, а гармония, упорядоченная связь, внутренняя сопряженность одного с другим. Достигая собственной полноты, свободы, все становится целым и причастным целому более высокого порядка. То, что В. Соловьев называл "положительным всеединством": "полная свобода составных частей в совершенном единстве целого". А говоря словами Сэн-цаня, "одно во всем, и все в одном" – совсем не то же самое, что "все во всем" Анаксагора. "Одно во всем, и все в одном" – от полноты Небытия, ноуменального мира, того Одного, которое делает все единым и разным. В "Аватансака сутре" это состояние взаимопроницаемости олицетворяется знакомым образом: сеть Индры из светящихся драгоценностей – образ мира, притом каждая драгоценность отражает все остальные (подобно тому, как информация в каждой точке распределяется по всей голограмме и любая из них содержит информацию в полном объеме). Каждое существо – свободно, живет своей жизнью, но в одном поле с другими, – беспрепятственное общение (к чему явно тяготеет современный мир, подтверждая иллюзорность препятствий). Этот живой тип связи и имели в виду мудрецы как залог высшей гармонии. Все нераздельно и неслиянно. "Нет ни одного существа, которое не обладало бы мудростью Татхагаты. Лишь суетность, привязанность не дают понять этого", – сказано в той же сутре.
Закон связи всего между собой не сводится к материальной причинности. Существует причина высшего порядка, которая стоит над Бытием-Небытием:
"Как день не является причиной ночи, так и ночь не является причиной дня, хотя они бесконечно следуют друг за другом. Эта Причина внутренняя. Можно сказать, конвергенция (схождение в одной точке) и есть причина каждой из них и каждая есть причина остальных. Все сообразуется с единым Законом, как день и ночь с вращением земли" [24].
Подобный тип связи обусловлен законом Целого, поисками которого заняты современники – неслиянной и нераздельной, т.е. такого единства, которое делает возможным становление отдельного. Гибкая, как бы вовсе отсутствующая связь – гарант единства человеческого рода – соединяет все между собой по закону внутренней потребности, а не внешней необходимости.
Западная традиция шла к этому через идеал христианской Троицы, прозрения мистиков, апофатическое богословие. По свидетельству "Ареопагитик", это высшая, божественная сила,
"созидая все и вечно устрояя Вселенную, является причиной нерушимого всеобщего приспособления и порядка, ибо она постоянно связывает конец предыдущего с началом последующего и таким образом украшает весь мир одним единодушием и согласием"
("Об именах Божьих", VII, 3).
В Новое время ощущение всеединства приглушается в европейской культуре, а со "смертью Бога" и вовсе вроде бы исчезает, что беспокоило русскую мысль: "Вся русская философия, от Ивана Киреевского до Вл. Соловьева и Л. Толстого, посвящена вопросу обезбоженья Европейской культуры, т.е. вопросу Европейской цивилизации". Оскудение религиозного чувства, по мнению Ф. Степуна, и ведет к распаду монументальных форм в искусстве (импрессионизм, эстетизм) – к утрате органического "чувства Бытия, к бесконечному проблематизму жизни и обезличению человека механизмом.
Однако уже у Шпенглера присутствует ощущение вертикальной связи, устремленности ввысь: все само по себе соединено пуповиной с мировой душой. Но эта идея не акцентируется как противоречащая господствующему в Европе духу рационализма и скептицизма. Н. Бердяев видит причину гибели мира в его неотвратимом стремлении к физическому равенству; утверждение равенства в мире социальном – проявление той же энтропии – разрушение социального космоса и культуры (в этом; перекликается с Ортегой); но не теряет исторической перспективы, веры в имманентность миру Логоса: "Открывается бесконечный внутренний мир. И с ним должны быть связаны наши надежды" [25].
Шло преодоление того "метафизического" мышления, несоответствия которого видел Хайдеггер. Происходило смещение мировоззренческой доминанты из сферы внешнего в сферу внутреннего, от экстравертного модуля к интровертному, что давало о себе знать в любой сфере, ибо менялось сознание, психика человека. На смену количественному критерию (закон накопления в любой сфере) приходит качественный; на смену линии. (непрерывность, движение, одномерность, накопление информации) – точка (прерывность, пауза, многомерность, осмысление информации в состоянии относительного покоя). В конечном счете доминанта смещается от цивилизации к культуре, от человека массы к Личности [26].
При расширении внутреннего бытия личности сознание освобождается от тирании целого (и в смысле дискурсии, которую Флоренский назвал цепью доказательств, уходящих в бесконечность), от эволюционизма, идеи прогресса, где между отдельных нет зазора, нет пространства, необходимого для существования целого. Поэтому философы сосредоточены на идее "прерывности" как условии преодоления "линейного", плоскостного мышления.
Е. Н. Трубецкой находил признаки "плоского мироощущения" в новых формах церковной архитектуры и с болью писал:
"Все в ней говорит только о здешнем; все выражает необычайно плоскостное и плоское мироощущение... Ей вообще не дано видеть глубины, потому что она олицетворяет житейскую середину (пограничная фигура, которая стоит между раем и адом и ни в тот, ни в другой не годится, потому что ни того, ни другого не воспринимает). Теперь эта середина возобладала в мире и не у нас одних, а повсеместно" [27].
И русский князь обеспокоен тем явлением, которое Ортега назвал "человеком массы", олицетворением плоского мышления. Отсутствие прерывности не дает выявиться Форме, Индивидуальному, зажатому в сплошной линии [28].
Искусство особенно чувствительно к Переменам, к движению времени, о чем свидетельствует бунт против "линии" (чаще всего неосознанный), – той линии, которая есть символ принуждения – соединяет точки жесткой, непроницаемой связью в сплошную причинно-следственную цепь, уходящую в бесконечность, но не в вечность, как свободная точка. Линейному мышлению соответствовала определенная историческая фаза – вездесущего накопления, группового сознания, экспансии (о чем уже шла речь). Индивидуальное приносилось в жертву общему и в социальной сфере, и в искусстве [29]. Конечный итог – перевернутая структура: верх и низ, средство и цель поменялись местами. Модулем поведения стал "человек массы", по сути своей линейный, одномерный, вписавшийся в элементарную парадигму – "быть, чтобы иметь".
Ортега не случайно ополчился на идею прогресса:
"Люди верили, что завтра будет то же, что и сегодня, что прогресс состоит только в движении вперед, по одной и той же дороге, такой же, как пройденная нами. Это уже не дорога, а растяжимая тюрьма, из которой не выйти" [30].
"Прогрессист" о будущем не заботится, потому что уверен, что этот мир движется по прямой, без возврата назад.
По закону парадокса (а может быть, физики, которая непосредственнее связана с психикой, чем кажется) бесконечная прямая замыкается в круг, в петлю, в загон для баранов. По мере самоосознания человека линия, замкнувшаяся в круг, не могла не разомкнуться или вовсе не исчезнуть, как рано или поздно исчезает все не причастное Бытию, Истине, но выдающее себя за нее. Правда, еще долго шло сопротивление. Линия извивалась, уподоблялась зигзагу, делала вид, что готова на самосожжение, вспыхивала молнией. Пыталась свернуться в кольцо, но ненадолго, сломалась, распалась на отдельные, разрозненные куски. Все эти образы, естественно, вошли в живопись авангарда. Линия в конце концов так и не нашла покоя, хотя и замкнулась на себе, но не в круге, а, скажем, в "Квадрате" Малевича. Это, однако, не тот "великий квадрат, который не имеет углов" [31]. Здесь все углы на месте, сдвоены, два тупика, два в квадрате, – символ полной безысходности, хуже лабиринта – вовсе нет выхода: знак "квадратного мышления". Апофеоз "линии", ее лебединая песня.
Если верен закон амбивалентности движения, то в художественном сознании должна на смену Линии явиться Точка, или Круг – местоположение точек (в музыке, поэзии, живописи идет структурное обновление). Ломаная линия, распавшись на куски, оттягивает конец, надеясь, что это распадение еще продлится какое-то время. Но и она, обессилев, потихоньку угомонится, и разрозненные куски станут в себе искать опору, сворачиваться вовнутрь, уходить в себя, вспоминая первородство с изначальной точкой. Не той, которая служит "началом линии" (по Аристотелю), толкнувшая сознание к дискурсии: точка в линии – то же, что единица в числе, ибо каждое из них начало, "единица – начало числа, а точка – начало линии" ("Топика", I, 18). Нет, это та Точка, которая зачала Вселенную, которая есть потенциальное Все, хранит в себе идею Начала, развертывания мира из точки, предопределив его точечность, сингулярность. Та точка, которая обладает высшей ценностью, максимумом сакральности, – "точка в пространстве и времени, где совершился акт творения, т.е. "центр мира"" [32]. В сознании Вивекананды эта точка становится вездесущей; одновременно окружность и центр: вся совокупность душ и каждая из них – АУМ [33], который их объединяет и разрешается сам в начальную точку и конец двойного движения, не имеющего конца. Для восточного человека само собой разумеющееся, для западного человека XX в. – внове: прозрение "одного во всем и всего в одном" [34].
Впрочем, и европейской традиции это ведомо. Для Плотина "точка" – синоним единства, для Николая Кузанского в "точке" совпадает абсолютный максимум с абсолютным минимумом. Паскаль уверяет: "Посредством пространства универсум содержит меня и поглощает меня как точку, посредством мысли я поглощаю его" [35]. На этой точечности, индивидуальности, сосредоточены мыслители, обладающие целостным видением. Это ощущается и у Ортеги:
"Согласно закону физики, гласящему, что-вещи находятся там, где они действуют, мы можем назвать вездесущей каждую точку земного шара. Эта близость дали, это присутствие отсутствующего расширили до фантастических размеров кругозор каждого отдельного человека" [36].
Уже в философии начала XX в. явление вездесущей точечности называли Сингулярностью, обусловленной прерывностью. Новый модус мышления, освобождение отдельного от тирании: целого предполагал, как уже говорилось, переосмысление самой природы Целого (не сумма частей, не агрегат и даже не то целое, которое предшествует части [37]). Приходит осознание Целого как вездесущего, внутреннего свойства вещей: центр везде, в каждой точке, что, естественно, несовместимо с моноцентрическими моделями, будь то геоцентризм, антропоцентризм – монополизм в любом его виде [38].
Новый тип мышления исключает отношение господства-подчинения, "центра-периферии", субъекта-объекта; если все-целостно по природе, то нет надобности в распоряжающемся: судьбой другого центре (центр везде, в каждой точке). Становится невозможной тирания центра в любом отношении: начальник-подчиненный, столица-провинция, большой народ – малые народы. Процесс этот благотворен, и он уже идет, ибо все исходит из Блага, разве что мышление не успевает за ним, меняется медленнее форм жизни. Лишь проницательные умы предугадывали высвобождение отдельного на новом витке Эволюции [39].
Если задача – познать Целое, познать связи в их совокупности, голографическую структуру, или – мир в его многомерности, то это доступно лишь целостному мышлению и недоступно одномерному. Парадокс в том, что нечто реализует себя, отпадая от Целого, как созревший плод от дерева, но благодаря этому обретает свою природу и продлевает жизнь дерева, его Идею, Форму, т.е. нечто неизмеримо более существенное, родовое. Так и человек, отпадая от Целого, становится Целым, обретая Свободу, зависит от всего человечества и может реализовать свою человечность, свое родовое назначение – Идею человека.
Такова природа Целого, оно вызревает самоестественно и не терпит принуждения. Целое и есть Свобода, Свобода и Истина. Ставший свободным не посягает на свободу другого – всякое посягательство уже есть не-свобода, и потому Свободный ум гуманен. Свобода есть Все, полнота осуществленности, но путь к ней труден: через высочайшее усилие духа – самоиспытание, самоосознание, самовоспитание.
Не случайно Хайдеггер говорит об уникальности, необщезначимости всего "подлинного", что вытекает из непроявленности, затаенности Бытия ("небытие и есть бытие"). Небытие не вытягивается в линию – неисчислимо, неизмеримо, оно соотносится лишь с точкой, не имея точки отсчета, которая служила бы "началом линии" (аксиомой). В точке – центр, через который проходит вертикаль, соединяющая Небо с Землей, благодаря чему и расширяется внутреннее бытие личности, способной ощущать невидимое, но истинное [40].
Сама идея Сингулярности свидетельствовала о рождении нового типа мышления, нового мировоззрения, – о расширение сознания, которому становится доступно Единое, – второй план бытия, то, что присутствует незримо, но есть истинно-сущее ("явленное дао не есть постоянное дао").
В Точке узрели Вселенную, в миге – вечность, что раньше открывалось немногим, поэтам божьей милости, вроде У. Блейка:
В одно мгновенье видеть
вечность,
Огромный мир – в зерне песка,
В единой горсти – бесконечность
И небо в чашечке цветка.
То, что произошло в сознании, не могло не отразиться на видении художников, хотя оно и выражалось по-разному.
"Мгновение – единица времени, свойственная опыту нашего поколения. Мы не верим в протяженность, мне по крайней мере кажется, что мы никогда не были, что называется, молодыми и мы, вероятно, никогда не состаримся... Слишком много в нашей жизни было залов ожидания, лагерей, госпиталей, очередей... В таких условиях жизнь, как и сама история, складывается из мгновений, которые лишь в порядке исключения связаны одно с другим: красивое лицо молодой женщины, мелькнувшее в окне проходящего поезда, ребенок, играющий в воронке от бомбы, короткий момент отдыха, когда еле успеваешь выкурить папиросу"
(Г. Бёлль. "Глазами клоуна").
Клоун Ганс Шнир становится собирателем мгновений, потому что обесценилась жизнь и нет уверенности в ее протяженности.
Но это один настрой – претерпевших муки и унижения. Другой – от восхождения к духу: ощущение мгновения как вечности, узнавание космического Я, пребывающего в вечном странствии. Всякое существо переходит после смерти в соответствующие сферы, унося с собой опыт, приобретенный от момента рождения до смерти. Вспомним Уитмена:
"Мое Я избавляется от
своего сбрасываемого тела,
которое будет сожжено, развеяно в прах или похоронено,
мое реальное тело остается мне, несомненно, для других сфер"
Когда исчезают иллюзии, внешние связи как бы сворачиваются, уходят вовнутрь, расширяется внутреннее пространство личности:
"Возвращаться к Вселенной, отказаться от мучительной обособленности, стать богом – это значит так расширить свою душу, чтобы она снова могла объять вселенную... Этим путем шел Будда, им шел каждый великий человек" [41].
Случайная точка оказывается неслучайной, "сакральной" – пересечение преходящего и вечного, – она вездесуща, одновременна повсюду. И акт творения вечен, повторяется каждый раз заново и будет повторяться, пока Тьма не рассеется Светом. Сознание освобождается от противоречия между множеством и единством, если одно есть все (ни одно и другое, а одно в другом). Пережив ощущение всеобщности, Л. Толстой мог сказать на закате дней:
"Во сне нынче думал, что самое короткое выражение смысла жизни такое: мир движется, совершенствуется; задача человека – участвовать в этом движении и подчиняться и содействовать ему" [42].
Если бы не было этого в сознании, не появилось бы и в философии и наука не перешла бы в фазу "атомизма", как о том напоминал Пуанкаре. Не появилась бы квантовая физика без "квантового мышления", а теперь и "вакуумная физика" без ощущения реальности Небытия. Кванты, или выбросы энергии из океана бытия, и улавливание смутных космических образов, воплощаемых в форме времени, – образуют поток дхарм, или сознание личности [43]. "Буддийская диалектика, – по выражению Ю. Рериха, – выработала понятие прерывного течения потока" [44].
Одно к одному. Меняются законы композиции, высвобождается отдельное, искусство тяготеет к "фрагментарному", "квантовому" стилю, в отдельном выражая полноту Бытия, макромир. Демокритовскую атомистику (наряду с идеями-формами Платона) называют одной из первых структурных картин мира. Но отличие современной в том, что каждая фундаментальная частица материи воспринимается как воплощение всех остальных частиц (единичное и есть единое). Сознание начинает отражать истинный тип связи, присущий самой природе: "все в одном, одно во всем".
Этот процесс пока не осмыслен наукой, но она уже работает в новой парадигме, о чем свидетельствуют такие ее направления, как синергетика. Естественно, если сам атом есть живая Вселенная, потенциальное Все. Одухотворяется материя, наука открывает ранее неизвестные ее свойства, способность к самоорганизации, к усвоению информации, несиловые взаимодействия. Ученые проникают в доселе недоступные тайны "живого вещества". Подтверждаются догадки К. Э. Циолковского о мировой памяти, о способности материи запоминать прошлые воплощения вещества, закодировавшего чередование двух состояний материи, корпускулярной и волновой, "лучистой" энергии. Каждая фаза совершенствует структуру, для чего материи приходится время от времени дематериализоваться, превращаться в чистую энергию [45].
После экспериментально доказанного и сформулированного Н. Бором принципа дополнительности одномерное мышление более не имеет мировоззренческой основы и оправдания (как и закон "исключенного третьего", – правда, в теории, до практики еще далеко). Оказалось – возможно, "чтобы одно и то же вместе было и не было присуще одному и тому же и в одном и том же смысле". Пространственная непрерывность света и атомистичность световых эффектов, волна и корпускула – одновременные свойства материи. Одно другого не только не исключает, но и предполагает. Де Бройль открыл, что частица – тоже волна, может выполнять световую функцию, и это подтверждается свойством постоянного взаимоперехода одной функции в другую, принципиальной многофункциональностью одного и того же явления. В. Паули показал уникальность каждого электрона: несколько электронов не могут одновременно иметь одинаковые параметры. Открытия в физике, новая физическая картина мира, не могут не сказаться на сознании, на психике человека, – не пробудить индивидуальное, снимая границу субъекта – объекта. В научном эксперименте наблюдатель становится "частью", участником наблюдаемого, актер – зрителем, зритель – актером. Человек недвойствен по природе, как недвойственны все явления этого мира. Недаром Н. Бор проявлял интерес к методологии Востока, а модель инь-ян, обрамленную латынью ("Contraria sunt complementa"), сделал своей эмблемой [46].
Трудно переоценить грядущее мироощущение, которое преобразит сознание людей, наполнит их жизнь смыслом, если никакое существование не случайность, а есть проявление Единого и имеет высшее назначение. Пока Вселенная дышит, пульсирует, пока бьется ее сердце, дышит Бытие, будет идти движение, надо думать, по вертикали, устремленной кверху. Открытый древними закон – "Одно инь, одно ян и есть дао. Следуя этому, мир идет к Добру" – дает о себе знать. Человек восходит к высшему состоянию, таков абсолютный закон Вселенной, и об этом свидетельствуют ученые Н. Бор, А. Эйнштейн, В. И. Вернадский, П. Флоренский, Тейяр де Шарден. Последний посвятил Человеку свой труд, раскрывая одновременность эволюции и инволюции:
"Если универсум с астрономической точки зрения нам представляется в состоянии пространственного расширения (от ничтожно малого к безмерно громадному), то таким же образом и еще более отчетливо с физико-химической точки зрения он выступает перед нами как бы в состоянии органического свертывания к самому себе (перехода от очень простых тел к чрезвычайно сложным) – это специфическое свертывание "сложности", как показывает опыт, связано с соответствующим увеличением внутренней сосредоточенности (интерьеризации), т.е. психики (psychi) или сознания" [47].
И этот взгляд соответствует представлениям древних о тайцзи – Великом пределе, который пульсирует, как сердце человека, и о законе чередуемости и взаимопроницаемости инь-ян, сжатия (инь), расширения (ян) и одновременно об их устремленности к свертыванию в тайцзи, к Покою (ян) [48].
Наконец, два слова о новых явлениях в отечественной науке последних десятилетий, об открытиях таких ученых, как С. П. Курдюмов, проникших, по-моему, в тайны учений Востока глубже, чем иные востоковеды. Не потому ли, что физика есть "некоторая мудрость"; "физику, – как полагал Аристотель, – надлежит знать обо всех (причинах) и, сводя вопрос "почему" на каждую из них – материю, форму, движущее начало и цель, – он ответит как физик" ("Физика", II, 2). Я сошлюсь на одно лишь интервью Курдюмова, не затрагивая его фундаментальных трудов. "Древние рассуждали о хаосе и порядке, о внутреннем устройстве мира, т.е. о тех же самых вещах, что волнуют теперь и нас". Ученый исследует нелинейные среды, открытые системы (закрытых систем в природе нет, их можно создать лишь искусственно). Значит, предмет исследования – естественные процессы.
"Мы все больше сознаем, что мир – это эволюция нелинейных систем, что он многомерен, многовариантен... нелинейная вселенная гораздо богаче "линейного" мира, ибо она включает его в себя как одну из миллионов возможностей".
Представляете, во сколько раз станет богаче наш мир и расширится сознание, если преодолеет инерцию одномерности! В жизни "любая система связана потоками энергии и вещества с окружающим миром. Даже самые простые нелинейные модели глубоко содержательны, множественность путей, вариантов, достигает 10(15)". Человеческий мозг тоже нелинейная система – вообразите его резервы! Так же нелинейна, многомерна структура человеческих знаний.
"В этом особенно интересны инварианты культуры, позволяющие уйти от господствующей парадигмы, "расшатать" наше видение мира, обнаружить новые способы его постижения. В частности, очень важно знакомство с основами восточных философий" [49].
Наверное, интерес к Востоку вызван и предметом исследования – нелинейной средой, соответственно – нелинейным мышлением. Целое доступно целому. Методологически здесь интересен именно Восток: инь-ян нелинейны, обусловливают нелинейность среды. Нелинейность не поддается дискурсивному мышлению, анализу, не разлагается на части, отсюда склонность к целостному охвату явления, к созерцательному методу, к интуиции.
Мудрецы на Востоке, как уже говорилось, изучали не вещество, не материальную природу, а законы связи, процесс возникновения-исчезновения – закон Перемен, который имел неукоснительный порядок. Фазы чередовались определенным образом, о котором дают представление 64 гексаграммы "Ицзина".
С.П.Курдюмова привлекло то обстоятельство, что выводы, полученные при математическом моделировании физических, биологических и технических процессов, совпадают с наблюдениями древних над сменой состояний в природных явлениях (психофизических). Древние китайцы исходили не из аксиом, априорных умозаключений, а из непосредственного наблюдения над законами природы и убедились в ее способности к самоестественному развертыванию, "самоорганизации": "Земля следует небу, небо – дао, а дао самоестественно (цзыжань)" ("Дао-дэцзин", §25) [50]. Можно сказать, древние китайцы шли тем путем познания, к которому тяготеет современная наука.
"Мир предстает перед нами не как составленный из отдельных "кирпичиков" (атомов), а в виде процессов наподобие вихрей, турбулентностей, волн, солитонов, диссипативных [51] структур. Вдумайтесь, насколько фундаментальна эта идея. Простейшая среда по некоторым вполне строгим законам пятнается особыми точками, областями, структурами. А хаос в ней играет не только роль "подталкивателя" к свойственным самой среде состояниям, но и роль клея: он согласует между собой отдельные процессы, соединяя простые структуры в сложные, действуя как опытный, хотя и незаметный режиссер".
Не случайно в центре внимания ученых оказался закон перехода от хаоса к порядку, переосмысление самого понятия "хаос". Он начинает восприниматься не как изначальное состояние мира, обрекающее человека на бесконечную и бессмысленную борьбу с ним, а как неизбежная и благотворная фаза в процессе саморазвития материи: "Хаос появляется в результате сверхсложной организации" и служит предпосылкой рождения более сложной структуры. "Диссипативные процессы оказываются не злом, не фактором разрушения, а важной составной частью самоорганизации" [52].
Это обнадеживает и в смысле современного положения дел в психологии, экономике, экологии: разбалансированность связей; наглядный хаос вынашивает, надо надеяться, новую, более совершенную структуру. Элементы теряют устойчивость, когда им предстоит перейти на другой уровень организации. Важно отдавать себе в этом отчет, не манкировать и не впадать в крайности, не подавлять животворный процесс, а пытаться понять его ход, прозревать будущее. Самоорганизующаяся среда следует собственной программе, собственной Форме, которую человеку, слава богу, не дано изменить, но дано понять. И тут, действительно, немалую роль может сыграть интуиция древних, не только китайцев (дао и ли), но и греков (скажем, энтелехия Аристотеля), Целое есть свойство отдельного, его внутренняя Форма – грядущая осуществленность.
Истина является ко времени, тем, кто готов ее принять. Если бы человеку дано было знать, что в материи заложена благая Форма, то он не возносился бы в молитвах своих к высшему идеалу, а уповал на материю, и не облагородилась бы его душа. Теперь сознание постигает имманентность Формы материи. Цель Эволюции – реализация энтелехии, достижение Блага (взаимодействуя, инь-ян ведут к Добру).
Для Аристотеля форма, или первообраз, "есть определение сути бытия вещи" ("Метафизика", V, 2). Форму он понимает как внутреннюю структуру вещи, как то, что делает ее превосходящей самое себя и вместе с тем – самой собой. Форма первична по отношению к вещи, энтелехия – и есть та сила, благая энергия, которая придает действию целенаправленный характер. Для Аристотеля форма и энтелехия тождественны: "Материя есть возможность, форма – энтелехия" ("О душе", II, 2). Конечная цель сущего – реализация, осуществление Формы: "Форма – цель, а закончено то, что достигло цели" ("Метафизика", V, 24). В основе мира, таким образом, лежит целевая установка, благодаря ее реализации становится возможным Благо: Благо есть цель всякого возникновения и движения. Согласно Аристотелю, материя потенциально многообразна, ей присуще движение к Благу: "Материя есть носитель энтелехии" (там же, VII, 13). Иными словами, стремление к совершенству, к добру заложено в самой материи, или есть закон Жизни, закон Целого. Форма реализуется при завершенности отдельного, как реализуется идея цветка, когда раскрывается бутон.
Интересно сравнить эти построения со взглядами китайцев. Соответствие содержания с формой, поведения с "судьбой" отличает мудреца, дао-человека. Форма Аристотеля напоминает Ли, которое переводят как Принцип, Закон, имея в виду внутренний принцип или форму существования чего-то.
"Дао не следует правилам (у-цзэ), но имеет порядок или следует образцу (ли). Первоначально это паттерн, рисунок нефрита, древесных волокон. Ли можно понять как органичный, асимметричный, неупорядоченный порядок, который мы находим в лике текущей воды, в силуэтах деревьев и облаков, в кристаллах снежинок на окне" (т.е. в нелинейных средах) [53].
По Чжу Си: "Ци – это металл, дерево, вода, огонь; ли – это Человечность (жэнь), Долг-справедливость (и). Благожелательность (ли), Ум-Знание (чжи)" ("Хуэйвэнь сюэань"). Дао – то самое дао, которое мы находим в своем сердце, и есть ли (Закон Вселенной).
"Дао близко, а люди ищут его далеко", – говорили древние. Когда у Чжу Си спросили: "Хотя Дао присутствует везде, как мы можем найти его?", он ответил: "Просто повернувшись и заглянув вовнутрь"; "Нет необходимости рассуждать о пустоте и далеких вещах, чтобы узнать реальность Дао. Мы должны искать его в нашей собственной природе" [54]. Подключаться сердцем к сердцу и тех, кто жил когда-то. Первичные законы Вселенной составляют закон и собственного существования. Небо и Земля, все вещи следуют той же Морали космического отклика, что и сам человек. Иными словами, есть нравственный принцип, который мы находим в своем сердце. Ли и Дао – разные стороны Одного. Дао – необъятное, всеохватное; Ли – бесконечно малое, его можно сравнить с кровеносными сосудами, с древесным зерном или линиями бамбука.
Еще в "Хуайнань-цзы" (гл. 1) сказано: Высшее дао
"вращается, и вращению этому нет конца... С твердым и мягким свертывается и расправляется, с инь и ян опускается и поднимается... Внимательно все осматривает и обозревает, возвращая всему полноту. Приводит в порядок все четыре предела и возвращается в центр... Стремится к небытию, а удовлетворяет все потребности".
("Целое" – важная категория в системе "Хуайнань-цзы", – комментирует Л. Е. Померанцева. – Как термин "целое" означает структурное целое, в котором все его части необходимо присутствуют, а удаление одной из них сопряжено с разрушением целого. Таково прежде всего человеческое тело, действующее как живой организм. Отсюда часто встречающиеся рекомендации хранить свое тело в целостности" [55]).
Ли универсально и уникально, индивидуально и всеобще, едино и единично. Каждое ли по-своему отражает ли – лик Вселенной. Закон Вселенной – закон внутреннего созвучия, резонанса одного на другое. Он доступен мудрецу, постигшему Единое, дао-ли. Иначе говоря, ли – внутренняя форма, структура вещи. Совершенство достигается, когда явленная в ци, вторичная, или внешняя, форма приходит в соответствие с внутренней, изначальной, "небесной" формой. Человек становится небожителем, человеческий путь – небесным, рождается цзюньцзы, совершенный, истинный человек, ибо в нем "два" едины, небесное и земное уравновешены. Можно сказать, совершенство достигается, когда исчезает различие между изначальной формой и содержанием: жизненными установками и поведением, словом и делом – между субъектом и объектом, сущностью и существованием. Нет возможности отчуждения, если нет превосходства одного над другим, несоответствия сущности и функции, когда человек есть то, что он есть.
В чем же разница понятий? Может быть, в том, что у китайцев форма не предшествует содержанию, как целое не предшествует части? Ничто ничему не предшествует, не последует, все возникает одновременно и сосуществует. Одно от другого неотделимо (при недуальной модели мира – все недвойственно), взаимообращаясь, восходит к высшему состоянию. Китайцы не противопоставляли одно другому. Сенека не сомневался:
"Как тебе известно, по учению стоиков, в создании вещей участвуют два элемента: материя и причина. Материя инертна, способна принимать любую форму и мертва, пока ничто не приводит ее в движение. Причина же, или разум, придает материи форму, дает ей но своему усмотрению то или другое назначение и производит из нее различные вещи"
("Письма к Луцилию", 65, 2).
У Аристотеля формы сами по себе неподвижны, и потому понадобился перводвигатель: "Каким же образом что-то придет в движение, если не будет никакой причины, действующей в действительности? Ведь не материя же будет двигать самое себя?" ("Метафизика", XII, 7). Знающий тот, кто знает начало движения, первопричину, "а оно, начало, отличное от цели и противоположное ей" (там же, III, 2). Может быть, и в этом было свое назначение, первотолчок был задан именно в том направлении, чтобы человек прошел окольными путями все испытания, обрел навык действия и вспомнил наконец о гуманности, которой пока не было, о которой даже не было и речи. Движение к Благу через удаление от него: по причине неверия в изначальную упорядоченность мира и понадобилось сверх-сущее. Сознание ориентировано не на "возвращение к истоку", как дао, а на восхождение по прямой к Благу, Богу, к высшей цели. Не-сущее подчинено у Аристотеля сущему; сущее из несущего возникнуть не может; в возможности одно и то же может быть вместе, но в действительности нет. Потому понадобилась внешняя причина, приводящая все в движение. Бог Аристотеля – чистая действительность и осуществленность, энтелехия. Бог – "чистый, деятельный разум, самодовлеющее, само на себе замкнутое мышление. Это разум, который мыслит сам себя" [56]. Такое направление ума определило западную парадигму и то различие, которое для чего-то существует, для чего-то развело пути Запада и Востока.
Восточный ум постулирует Небытие: "Все вещи рождаются из бытия, а бытие рождается из небытия" ("Даодэцзин", §40), что делает все вещи недвойственными, неисчерпаемыми. Они не нуждаются во внешнем воздействии, ибо имеют свой источник движения – инь-ян, которые имманентны Великому пределу и изначальному ци. Все само воспроизводится и самоорганизуется (цзыжань). Китайцы потому и приняли за изначальное не "два", разум и материю (собственно, акцент на одной стороне сам по себе ведет к двойственности, к дуальной модели мира), а "Одно", взяв за основу изначальное ци, в котором физическое и психическое, духовное и материальное нераздельны, тот тип энергии, который содержит в себе все формы. Сгущаясь, ци материализуется, образует вещи, разряжаясь, возвращается в состояние свободной энергии.
Энтелехия изначальна, не потому ли на протяжении Истории великие умы не раз высказывались в духе Аристотеля: "Целое как внутренняя деятельная форма есть сила. Она не имеет своим условием никакой внешней материи" [57]. Осознание этого привело бы к снятию самого мучительного противоречия – двойственности между духом и материей. По мнению Хайдеггера, Аристотель называет "энергией" или "энтелехией" – пребывание в завершенной полноте. Эти термины, обозначающие у Аристотеля полноту присутствующего, "целой пропастью отделены по называемой ими реальности от более позднего, новоевропейского значения слова "энергейя" в смысле энергии, а "энтелехейя" – в смысле энтелехии как расположенности и способности к действию". Можно говорить об одержимости действием "фаустовской души". Но "во имя чего?" Близлежащие цели – накопительство, расширение – вряд ли того заслуживали, их примат вел к перепроизводству вещей и обеднению души. Тогда как "мера действия для Аристотеля – не столько произведенная работа, "наработанный" продукт, сколько приближение того, над чем действуют, а также и самого деятеля к полноте осуществленности... "Энергия" у Аристотеля – завершенное воплощение "Эйдоса", формы-сущности. Полноту "энергии" Аристотель называет также "энтелехией"" [58].
Как время и потребности меняют понятия! Выделяют одну из множества функций, и целое нисходит на уровень части, средства, утрачивая изначальную полноту, свою "судьбу". Потому мир и уподобился функционирующей машине, где все теряет свой истинный смысл.
Но движение идет не только туда-обратно, но и по вертикали: от Хаоса к Гармонии, от неправильного порядка к правильному, от функции, как одной из возможностей, к сущности, как полноте, по мере того как расширяется сознание, возвращая утраченное Единство. "Нужно осознать мысль в Природе и Природу в мысли. Вернуться к природе, как Сущему... Осознать ее как самостоятельное Сущее", – ратует Эрн [59]. Когда человек поймет, что так оно и есть, что сама божественная Природа, если понять ее, а ни приписывать ей свои зауженные представления, ведет к Свободе, то исчезнет необходимость в насилии любого рода, закончатся муки Истории. Бессмысленно тратить энергию и время на насилие над сложными системами, говорят ученые. Если форма имманентна среде, значит, среда уже упорядочена, даже когда не проявлена. В корне меняется отношение к миру через переосмысление Ничто, Вакуума, которые начинают воспринимать не как отсутствие чего бы то ни было, а как непроявленное состояние мира (в духе Восточного Небытия), и от уровня человеческого сознания зависит то, что будет вызвано из Небытия [60].
Похоже, Наука подошла к тому порогу, у которого остановились древние. Истина была явлена древним, но не доказана, не было языка доказательств, той логики, на формирование которой ушло не одно столетие и которая достигла завершения у Гегеля. Может быть. Наука сможет вывести человечество из тупика, если преодолеет собственную ограниченность, функциональность, перейдет с уровня относительных истин, которые делали относительными ее ценности, на уровень абсолютных [61]. Может быть. Науке, как это ни кажется парадоксальным, предстоит искупить первородный грех раздвоения, подтвердив принципиальную неделимость мира. Видимо, приблизилась та ситуация, которую имел в виду Хайдеггер:
"То, что предстало мысли и поэзии в ранней греческой древности, еще и сегодня настоящее, до того настоящее, что его сущность, для него самого пока закрытая, повсюду дожидается нашего внимания и задевает нас, больше всего там, где мы меньше всего предполагаем, именно во всевластии современной техники, которая совершенно неведома античности и все равно тоже в ней имеет свой сущностный источник" [62].
Не та ли это ситуация, когда техника, компьютеризация начинают служить Истине? Эта возможность обусловлена человеческим происхождением техники и уникальностью ситуации – глобальной Встречей всего между собой, единением противоположностей. Целостное мышление есть снятие двойственности, противостояния, в том числе, видимо, между человеком и техникой. В ситуации Встречи и компьютер может оказаться единомышленником человека (только бы не наоборот: союз благотворен, если в заботе о ближнем каждый остается самим собой).
Нужно ли доказывать, насколько это насущно? Подтверждая интуицию древних языком физики, математики, эксперимента, наука устраняет повод для нигилизма и скепсиса. Доступными ей средствами доказывает, что мир разумен, способен к самоорганизации и что Знание восходит на более высокую ступень (говоря языком Лао-цзы, "от одного тайного, глубинного к другому"). Важно понять, каким образом сам человек воздействует на материю, если она способна вбирать информацию, какая информация ей предлагается, которая приближает к Благу или отдаляет от Него? [63].
Согласно Аристотелю, "цель означает не всякий предел, но наилучший" ("Физика", II, 2). Потому так важно научиться вслушиваться в Бытие, слышать собственный голос, внутренний зов, чтобы реализовать свою энтелехию, достигая наилучшего предела. По сути, энтелехия есть непротиворечивость содержания и формы, только это другая форма, предполагающая другое Содержание. Потому-то мудрецы во все времена и призывали "быть самим собой", ибо внутренняя форма каждого есть Благо, ибо не обречен человек быть орудием, а предназначен Судьбой к Свободе.
Как и древние мыслители, современные физики выходят за пределы чисто научных задач, ищут и находят общие закономерности, которым подвержены социоприродные процессы, элементы макро- и микромира: "Мозг, психика, экономика, экология – все это сложнейшие, если их попытаться описать математически, открытые нелинейные системы, и управлять ими "командными", "административными" методами не удается, необходимо учитывать структурирование, происходящее в них по законам самих этих систем. Древние мудрецы понимали это, как ни обидно, куда лучше нас, идея саморазвития сущего была им доступна, более того, определяла их философию, их мировоззрение. На Древнем Востоке, в Элладе философы развивали идеи о непроявленных потенциальных формах, скрытых в едином начале" [64]. Отступление от Истины, от законов Бытия и привело к одномерному мышлению, к экологическим аномалиям. Потому так остро встал вопрос о поиске единого закона: "Суметь написать одно единое определяющее уравнение, – желание Гейзенберга, – из которого вытекали бы свойства всех элементарных частиц и тем самым поведение материи вообще".
В наши дни физика приблизилась к решению этой задачи: можно "свести многообразие форм различных структур к единому началу, к среде, в которой в потенциальной, непроявленной форме уже содержатся все возможные для данной среды структуры... Одна из главных целей научного познания – увидеть общий корень у самых различных явлений" [65]. Решение задачи предполагает целостное мышление, переход с уровня множественности на уровень единого, на "точку" пересечения всех параметров, всех мировоззрений: извлечь общий корень из суммы знаний, накопленных человечеством, выйти на уровень абсолютной Истины, т.е. такой Истины, которая приложима к любому случаю жизни. (В "туманности, неясности дао содержатся вещи. В его глубине, в его темноте содержатся семена (цзин). Эти семена и есть высшая Истина. В ней искренность" ("Даодэцзин", §21)).
Природа раньше времени не раскрывала свою великую Тайну, чтобы человек, имея точку опоры, и в самом деле не перевернул мир, но раскрывает теперь, на грани жизни и смерти, чтобы он перевернул свои представления о мире, привел их в соответствие с истиной Бытия; и избавился от иллюзии, что можно быть "разумным", не будучи гуманным.
Итак, выстраивается любопытный ряд: Истина-Целое, Целое-Точка, значит. Точка есть Истина, "точка" или Индивидуальное ("в индивидуальности заключена вся тайна бытия"). Целое есть Свобода, Свобода есть Гуманность. Значит, путь к Истине – через Человечность, путь к Единству – через Свободу отдельного. Целое недоступно метафизическому мышлению, исходящему из количественного критерия, ему доступны лишь линейные, внешние связи. При таком подходе Целое неизбежно ускользало, сколько ни наращивали количество (информацию, знание, опыт), ибо Целое не исчисляется. Целое – качество или истинная мера, когда ни прибавить, ни убавить, – это новое качество мышления. Отсюда самоестественное смещение доминанты: от количества к качеству, от внешнего к внутреннему, вслед за изменением психологии человека (если Ум-Нус обладает своей энтелехией, тогда не выглядит утопией идея Ноосферы, устремленность к Благу).
В известном манифесте Рассела – Эйнштейна (1955 г. – Пагуошское движение) ученые поставили в прямую зависимость выживание человечества от умения думать по-новому [66]. Знаменательно, что "новое мышление" отстаивают ученые, которым виднее и которые в состоянии понять, чем угрожает жизни его отсутствие. Потому и пытаются дать определение новому мышлению, как это делает, например, академик Б. В. Раушенбах. Он привлекает внимание к "методу созерцания", восходящему к древним, к Дионисию Ареопагиту, позволявшему непосредственно проникать в сущность явления. С точки зрения ученого, лишь плодотворное сочетание логики и созерцания позволит познать Природу как Целое [67]. Официальная наука долгое время игнорировала этот метод, хотя ему человечество обязано великими открытиями в науке и искусстве. Вспомним еще раз Гумбольдта:
"...где достигается вершина и глубина исследования, прекращается механическое и логическое действие рассудка, наиболее легко отделимого от каждого своеобразия, и наступает процесс внутреннего восприятия и творчества", ибо "некое живое дыхание овевает целое, в нем открывается внутренний характер – измерено и описано то и другое быть не может".
Невозможно вычислить "сингулярность", но можно понять закон расположения "точек" в едином поле действительности, увидеть "небесные лики". Вновь явленная структура действительности предполагает соответствующую методику познания, о которой Вернадский говорил более полувека назад:
"Научная творческая мысль выходит за пределы логики (включая в логику и диалектику в разных ее пониманиях). Личность опирается в своих научных достижениях на явления, логикой (как бы расширенно мы ее ни понимали) не охватываемые.
Интуиция, вдохновение – основа величайших научных открытий, в дальнейшем опирающихся и идущих строго логическим путем – не вызываются ни научной, ни логической мыслью, не связаны со словом и с понятием в своем генезисе.
В этом основном явлении в истории научной мысли мы входим в область явлений, еще наукой не захваченную, но мы не только не можем не считаться с ней, мы должны усилить к ней наше научное внимание" [68].
Но тогда было не до этого. Ум не был в чести. Но, похоже, пережили "катакомбный" период и, убедившись на горьком опыте, что все-таки "mens agitat molem", стали наверстывать упущенное (древние оказываются нам ближе современников). "Истинствовать", т.е. находить Истину, по Аристотелю, способны ум (нус) и знание (эпистемэ). Древнегреческое "истинствование" (aletheyein), в отличие от современного научного установления истины, требовало полной самоотдачи человеческого существа, доверчивого шага в темноту "хаоса". И в западной патристике познание стремится "к бытию", к соответствию бытийной форме. Стоики отождествляли категории мышления и категории бытия, для них идея – врожденное понятие, субъективный Логос. Восточная патристика склоняется к онтологическому понятию образа-символа, к чему тяготеет и современность. Отпавшее от Бытия понятие теряет силу.
Чжуан-цзы говорил:
"Не мыслить и не думать –
начало постижения дао.
Нигде не находиться и ни в чем не усердствовать –
начало безмятежного пребывания в дао".
И он же:
"С лягушкой, живущей в
колодце, нельзя говорить об океане...
С ограниченным грамотеем нельзя говорить о дао,
он скован своим образованием.
Только теперь, когда ты вышел из своих берегов
и увидел великий океан, ты узнал свое ничтожество
и с тобой можно говорить о великом Законе"
("Чжуан-цзы", гл. 22, 17).
А разве неоплатоники не находили путь к просветлению, не переживали озарение, уходя в себя, забыв о себе, чтобы в чистой интуиции соприкасаться с Единым. "Ум должен... как бы отпустить себя, не быть умом" (Энн., 3, 8, 9). Вернадский видел то, что еще не было явлено, но где-то витали образы прошлого и ждали своего воплощения:
"Создается новая своеобразная методика проникновения в неизвестное, которая оправдывается успехом, но которую образно (моделью) мы не можем себе представить. Это как бы выраженное в виде "символа", создаваемого интуицией, т.е. бессознательным для исследователя охватом бесчисленного множества фактов, новое понятие, отвечающее реальности" [69].
Теперь мы робко подходим к этой особенности ума, без которой ничего бы не было, ни одного шедевра, ни одного прозрения, – и сами себе удивляемся. Но лиха беда начало. "Разум есть мистика для рассудка", – мысль Шеллинга уже не так удручает ум. Интуиция – основной текст произведения, понятие – его комментарий, говорят японцы. Интуиция открывает окно в неведомое, логика воспринимает увиденное. Казалось бы, старо, как мир, а приходится вспоминать. Действительно, важно, что к этой насущнейшей проблеме обратились ученые: "Мы испытываем недостаток этого древнего алогического, образного, поэтического мировосприятия, которое по-своему представляет мир" [70]. В этом направлении будет двигаться мысль будущего, устремленная к целому, к воссоединению разума с чувством, науки с поэзией. Может быть, обновленная, одухотворенная Наука найдет ключ к сердцу человека и укажет путь к Спасению, соизмеряя формулы с законами Красоты? Соединятся. наконец, логика и интуиция – две стороны Целого – Логоса. Им нечего делить: интуиция открывает Истину, логика претворяет в жизнь. Рациональное лишь за последние века потеснило иррациональное, а так они прекрасно уживались. Декарту, правда, показалось, что положение у них неравное, он отдал предпочтение рациональному:
"Вместо созерцательной философии... можно создать практическую, посредством которой, познав силу и действие огня, воды, воздуха, звезд, небес и всех других окружающих нас тел с той же отчетливостью, с какой мы познаем различные ремесла наших мастеров, мы сумеем употребить эти вещи для всех употреблений, какие им свойственны, и сделаться таким образом хозяевами и властителями природы".
("Рассуждение о методе", 6)
На сей раз слово не разминулось с делом.
Но вот японцев этот путь не устраивал, скажем, ученого Охаси Дзюндзо (1816–1862), относившегося с недоверием к европейской науке:
"Огонь и вода – это ци; то, что горит и течет, – тоже ци. То, что вода течет, а не горит, а огонь горит, а не течет, – это ли. Но если ци разрушить, то и ли исчезнет. Анализом ци европейцы разрушили ли, и потому их учения свели на нет человечность, долг, искренность и верность" [71].
Значит, расщеплением материи уничтожается Энтелехия, смысл существования, возможность Блага; расщеплением атома убивается жизнь, если действительно, как полагали русские ученые, начиная с Циолковского, атом "живой". Что уж говорить о китайцах, которых не заподозришь в отсутствии практицизма. Они избегали раздвоения; не разбогатели, как европейцы, но и не столкнулись с их проблемами. (Наверное, прав Ортега, богатство не идет впрок, если нет меры, ум и деятельность не уравновешены.) Китайцам и в голову не приходило, что рациональное и иррациональное (инь-ян) не одно и то же, не две стороны единого познания, дополняющие одна другую. Действующее ян – логика, недействующее инь – интуиция, но все взаимопереходит, согласно "Книге Перемен". Дао рождает все вещи, дэ вскармливает их, – дэ мудрости. Ян – прямая, центростремительная сила, инь – круг, обволакивающая. Китайцы не разделяли иррациональное и рациональное, ибо невозможно отделить инь от ян, правое полушарие (инь) от левого (ян) – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нам ли не знать, к какому роковому исходу приводит распадение или подмена функций? Ум и творчество по одну сторону, не-ум и исполнение – по другую, да и в неравном положении; низ переместился наверх (и все пошло по пословице – "заставь дурака богу молиться, лоб расшибет"). Великий Творец всегда и Великий Исполнитель, Великий Исполнитель – Великий Творец, – одного нет без другого (говорят же, гений – на 90% труд). "Великий квадрат не имеет углов", иначе получается "Великий инквизитор".
Итак, настало время новой методологии, которая потому и новая, что не отбрасывает старое, – не на пустом месте строится. Осваивая язык символа, наука делает знание доступным не одним специалистам, а специалистам добавляет радости; обретая полноту, научное знание становится фактом духовной жизни. Это неизбежно, и ученые, хотя и с опозданием, начинают размышлять над иррациональным [72]. Можно согласиться с Б. В. Раушенбахом: "Очень глубокие истины получаются именно на этом древнем пути, зародившемся тогда, когда человек еще не был разумным" [73]. Надо полагать, когда человек не вкусил еще плод с древа познания добра и зла и не разделил мир на две половины, которые начали враждовать, а теперь склонны примириться. На одной ноге далеко не ускачешь, все равно свернешь, одним глазом многое не увидишь, и для чего-то дано человеку всего по два и парные полушария мозга.
Вот к каким неожиданным выводам привело меня сопоставление "линии" и "точки", и вот почему последней отдано предпочтение. Но не приведет ли освобождение от "линии" к распаду, к ощущению вседозволенности, если все само по себе? Ведь существует же (в основном она и существует!) превратно понятая свобода, и мало кто готов ею пренебречь. Об этом размышляет и современный немецкий философ Г. Раушнинг – об истинной свободе, а не об игрушечных, индивидуальных и социальных свободах, которые в действительности не избавляют от рабства у иллюзий. После Ренессанса начался
"диалектический процесс срывания масок, который обесценил всякую идеологию, всякую этическую систему как произвол и закамуфлированную веру" и оставил человека "в полной идеологической беспомощности". Наступил век "опасной свободы, другой свободы, чем политическая и социальная свобода последнего прошлого: внутренней свободы, которая всегда испытание, никогда не привилегия. Так нигилизм может стать аркой, через которую человек шагнет в новый эон" [74] (что ж, игра стоит свеч!).
Действительно, должно же что-то связывать отдельное, чтобы Единое не распалось на то самое "множество", которое олицетворяет мировое зло. Самосознание – ощущение не внешней связанности, а внутренней сопричастности Единому. По Хайдеггеру, возвращение к Бытию вернет естественное, органическое единство.
Итак, бунт сознательный, декларируемый и неосознанный пронизал все сферы духовной жизни. Бунт против всяческих систем, идеологических, философских, против образа мышления, который делал Свободу невозможной, выстраивая слова, мысли, звуки, краски в определенном порядке. Все автоматизировалось, и это не могло не вызвать к жизни потребность в новых формах – в искусстве, поэзии, музыке, живописи. Началось возвращение к Бытию через бытие слова, звука, цвета. И так как Бытие существует в форме единичного (всякое подобие, тиражирование убивает живое), то естествен поворот от всеобщего к единичному.
Эта перемена в сознании не могла, естественно, не сказаться на языке философов – Ницше, Шпенглера, Хайдеггера, преодолевших линейность мышления, "тиранию логики". Их стиль – свободное мыслеизлияние: одно с другим не соединяется жестким типом причинно-следственной связи, отдельное получает свое пространство, свою нишу. По выражению Ф. Степуна, все воспринимается Шпенглером "как иероглифы народных душ и судеб". И продолжает: "Что такое причинность? – мертвая судьба. Что такое судьба? – органическая логика бытия" [75]. И, по Шпенглеру, – "есть столько миров, сколько людей".
Преодолевается одномерное, линейное мышление, где индивидуальному не находится места. На смену Линии приходит Точка, на смену непрерывности – прерывность. П. Флоренский приветствовал пробуждавшееся к самостоятельной жизни сознание:
"С началом текущего века научное понимание претерпело сдвиг, равного которому не найти, кажется, на всем протяжении человеческой истории. Эти два признака суть прерывность и форма... Непрерывность изменений имеет предпосылкою отсутствие формы: такое явление не стянуть в одну сущность изнутри. Эволюционизм, как учение о непрерывности, существенно подразумевает и отрицание формы, а следовательно – индивидуальности явлений" [76].
(Флоренский не случайно назвал свои размышления "Пифагоровы числа": число у Пифагора онтологично, индивидуально, стало быть – не функционально). Значит, чтобы сохранить Форму, имманентную Бытию (что Аристотель называл Энтелехией, а китайцы – Ли), нужно освободить индивидуальное от тирании "целого" и спасти Бытие в себе.
Свобода Индивидуального – конечная цель Истории – по закону Целого, по закону самого Бытия – но широко осознается остро лишь в последнее время. А. Вознесенский писал в начале 70-х годов: "Речь идет о "третьем" сознании". ("Первое сознание" – первооткрыватели Америки, супермены, индивидуалисты. Его сменило "Второе сознание" – винтики технократической машины.) ""Третье" – новая волна, молодежь с антилинейным мышлением. Самое преступное для нее – убить в себе себя" [77].
Так-то оно так, "новая волна" набирает силу, но еще не стала явью, – пока "убивают в себе себя". По-старому жить не хотят, по-новому не умеют. Та же "линия", только наоборот вывернутая, лишь бы не так, как было. И это можно понять. По одно отрицание – тоже прямая. Может быть, и не та прямая, которую имел в виду щедринский Угрюм-Бурчеев – "втиснуть в прямую линию весь видимый и невидимый мир, и притом с таким непременным расчетом, чтобы нельзя было повернуть ни взад, ни вперед, ни вправо, ни влево". Но Отрицание тоже утверждение. Свобода внешняя, свобода жеста, движения, слова, еще не есть свобода внутренняя, которая есть благодать, и путь к ней труден. "Мы освободимся от внешнего гнета лишь тогда, когда освободимся от внутреннего рабства, т.е. возложим на себя ответственность и перестанем, во всем винить внешние силы", – писал П. Бердяев еще в 1909 г. в журнале "Вехи".
Вознесенский приветствовал молодежь с "антилинейным мышлением". Блок говорил о возмездии через юность. Ожидаемая гроза разразилась. Молодежь выплеснула все, что накипело, размашисто набросав на стенах парижских университетов, в Сорбонне 1968 г.: "Жить сегодня", "Творчество. Непосредственность. Жизнь". "Может быть, она и не прекрасна, но как же она очаровательна – жизнь, жизнь, а не наследие"; "Забудьте все, что вы выучили. Начинайте с мечты"; "Долой культуру! Да здравствует массовое творчество, "нет" буржуазному бескультурью"; "Искусство не существует, искусство – это вы"; "Товары – мы их сожжем"; "Свобода – благо, которым нам не дали воспользоваться с помощью законов, правил, предрассудков, невежества"; "Плевал я на границы и на всех привилегированных"; "У государства долгая история, залитая кровью" [78].
Это должно было произойти – бунт против невидимой и тем более жуткой тирании штампа ("мир от серости устал"), против усредненного, усеченного сознания, одномерного существа, превратившего мир в "растяжимую тюрьму". Движение контркультуры имело почву и потому, наверное, имело талантливых предводителей, своих теоретиков. Последние находили причину духовного кризиса в механицизме жизни, в технологической среде буржуазной цивилизации, превратившей жизнь в "пустыню", как это прозвучало в книге Т. Роззака "Где кончается пустыня?". Обожествив науку и технику, цивилизация подавила природного человека, лишив его духовности, сделав "усеченным" его сознание, "одномерно-плоскостным" видение мира, что и породило соответствующую культуру. Теоретики приветствовали бунт против тирании "линии", опутавшей человека как лиана дерево. Уже М. Вебер говорил, что обесчеловеченное существование порождает специалистов без души, наслаждение без чувств. В 1964 г. Г. Маркузе предъявил счет "ложному сознанию", препятствующему всякому качественному обновлению жизни, превратившему сущее в свою противоположность: свободу в несвободу, истину в ложь; и признал необходимым тотальное отрицание действительности, "Великий Отказ" от современного общества во имя рождения "нового чувства" и новой культуры. И с точки зрения Т. Адорно, цивилизация, овеществляя человека, приводит к регрессивным социально-антропологическим мутациям: человек тупеет, на смену рефлексии приходят стереотипные реакции, мыслительные клише – и все это плоды индустрии культуры.
Однако молодежное движение производит впечатление стихийного, "взбаламученного нуля", ибо ни вовне, ни в себе не на что опереться. Нигилизм начал опустошение души, этатизм закончил. Ситуация, невиданная в истории – не по своему античеловечному смыслу, а по масштабу – конечное, надо думать, следствие действия закона господства-подчинения. Оборотная сторона всеобщего господства – всеобщее рабство: наследие уникальное, не выпадавшее ни одному поколению, не могло не вызвать бунт. Но в отличие от нигилизма прошлого века, который, не имея исторической перспективы, не оставлял надежды, молодежные теоретики видят выход в смене культурной парадигмы, в обновлении мышления, в преодолении двойственности, постоянно порождающей объективацию, рабство духа. Пришло время воссоединить разрозненное по всем параметрам: чувство-мысль, человек-человек. По мнению Роззака, человечество стоит "между смертью и трудными родами" [79]. Так как Свобода достигается лишь через полноту индивидуального, надежду возлагают на индивидуальное сознание: философская мысль должна апеллировать не к сплошной массе, утверждает Адорно, а к единичному человеку. Отсюда и его концепция антисистематической, "отрицательной диалектики" (в каком-то смысле оба они подтвердили те опасения и прогнозы, которые высказали в начале века русские философы).
Но создается впечатление, что теория контркультуры пока что сама по себе, а молодежь сама по себе, несмотря на общность идеи – поиск Целого человека, освобождение от социальной тирании, переход от "Великого отказа" к "Великому единению". Готова ли молодежь к этому? Похоже, она все еще мечется в безвоздушном пространстве, натыкаясь на новые фетиши и соблазны. Мало разбить яйцо, чтобы вылупился цыпленок. Дать волю неподготовленной душе (как говорят почитатели Востока – "выйти в астрал") – значит загубить душу, лишить ее обиталища. Тяга к духовной жизни может обернуться утратой души, если поспешить, принять самообман, эрзац-свободу. Душа ищет пищи духовной, а нечистая сила, иначе не назовешь, дает камень вместо хлеба, наркотики вместо нектара и будоражит память в дурном, в бесноватом. Мгновенное ощущение кайфа, и провал в кромешную тьму, прямехонько в ад; вместо райского блаженства – физические и душевные муки ("Ты повелел ведь – и так и есть, – чтобы всякая неупорядоченная душа сама в себе несла свое наказание"). А Сатана спешит – времени больше нет: вознесется человек, вернется к Бытию и станет недостижим. Сатана работает на низших планах, и все по одной прямой, туда-обратно, надеясь на непробужденных, не успевших опомниться. Но
"лучше быть рабом у человека, чем у похоти; ибо самая похоть господствования, чтобы о других не говорить, со страшною жестокостью опустошает души смертных своим господствованием"
(Августин. О граде божием, XIX, 15).
Когда-нибудь напишут книгу о коварствах Хроноса, о том, какую роль играет Темп сам по себе, беспаузное существование, отсутствие той "прерывности", на которую уповали философы. Странным образом поколение, восставшее против механической цивилизации и порожденного ею "человека массы", оказалось в плену у последнего, волей-неволей ублажая его пробуждающиеся инстинкты. Г. С. Кнабе вспоминает слова Дж. Леннона: "Наш имидж – лишь ничтожная часть нас. Он был создан прессой и создан нами самими. Он по необходимости был неверным, потому что, каков ты на самом деле, обнаружить нельзя". Для этого нужно хотя бы остановиться, но остановиться нет времени. В этом еще один подвох, испытание Временем, которое тоже двойное, как и двойное Бытие. Помолодевший "человек массы" требует все новых наслаждений, не имея чувств, требует острых ощущений, входя во вкус, задает темп. В заданном темпе не разберешь, кто есть кто и "каков ты на самом деле". Механическая цивилизация набирает на подходе к финишу такую скорость, что исчезает всякое различие, всякая разница между антиподами и получается, хотя и навыворот, но тоже "лак все", в одном стиле – та ложная солидарность, которая вечно уводила человека от самого себя. При быстром вращении разноцветного круга все цвета исчезают; яркая окраска панков не выделяет, стили быстро сменяют друг друга, потому что не укоренены в чем-то сущностном. Всех выравнивает сверхскорость (опять "сверх"). Здесь и речи быть не может о личном, интимном, о покое, необходимом для созерцания Истины, для "вслушивания" в Бытие – перегорают все связи с ним. И получается – "Толпа одиноких", как назвал свою книгу Д. Рисмен (Лондон, 1967 г.). И естественный бунт молодежи, ищущей Свободы: "Все мы привыкли, надо признаться, из серой массы не выделяться. Как все!"; "Нас захватило стадное чувство: "Как все. Мы, как все!"".
Отпадая от Природы, все оказываются вместе, в одном потоке, но от этого не становится легче ("Людям не стало бы лучше, если бы исполнились все их желания"). Это – иллюзия единства: на уровне множества, похожести Единства быть не может. Существует одно Единство – индивидуальных сущностей. А там, где нет зазора, "прерывности", возможности личного выбора, там получается сплошная масса, монолит: индивидуальный ритм подчинен групповому (каждое же сердце бьется по-своему). Потому группы не устойчивы, как неустойчиво все, лишенное свободного дыхания, индивидуального выражения (экологи знают – чем многообразнее структура, тем стабильнее).
Из этого "как все" вырваться оказалось куда труднее, чем взбунтоваться. Бунт во имя внутренней Свободы обернулся новой формой несвободы, иллюзорностью свободы внешней. В интервью Леннон признается: "Я чувствую, когда надо сменить роли, в этом, возможно, секрет моего выживания". Непросто ощущать себя одновременно "зрителем и действующим лицом в великой драме существования". Времени хватает лишь на то, чтобы "сменить роли", – не успевают заглянуть в себя. Для этого нужно выпасть из потока, остаться наедине с собой. В результате вместо желанной свободы – новый вид отчуждения – "симеотический", знаковый: "Нам во второй половине столетия, по-видимому, суждено задуматься над отчуждением человека в знаке". В случае с молодежью это общие привычки. общий групповой стиль – в одежде, в прическах; ориентация на "бытовую повседневность делает знак универсальным языком этой культуры" [80].
Это не путь к Целому человеку! "Все вещи благи и, прекрасны, – писал Вивекананда в одном из писем 1900 г., – ибо они утратили свою относительность. И мое тело прежде всего". Можно вспомнить и Бердяева: "Личность должна в экстазе выходить из себя, но, выходя из себя, оставаться собой" [81]. Везде, где слово сводится к знаку, изначальная связь речи и мышления обрывается, превращается в инструментальное отношение [82].
А причина – все в том же безотчетном страхе заглянуть в Себя, в собственную душу. Со времен Платона известно, что сфера истинного бытия открыта для души, ей остается лишь вернуться к себе самой. Но "душа никогда не увидит красоты, – по Плотину, – если сама раньше не станет прекрасной, и каждый человек, желающий увидеть прекрасное и божественное, должен начать с того, чтобы самому сделаться прекрасным и божественным". Однако бегут от себя, ищут сотоварищей – где убить время, приходят к спресованности, которую Л. Толстой называл "злом мира", "сцеплением обмана". Древнейший инстинкт самосохранения, необходимый незащищенному человеку, обернулся против него же, мешает выживанию. Сознание бунтует против инерции, но она берет свое, и выходит та же односторонность, только в обратном порядке, – и опять не тронуты резервы человека.
Ничего не изменится, если не изменится сознание, не избавится человек от страха перед собой. "Ведь смотрит на других тот, кто не видит самого себя; овладевает другими тот, кто но владеет собой". И Чжуан-цзы, и японец Кэнко-хоси, как помните, говорили о том же: "Не познав себя, нельзя познать других. Следовательно, того, кто познал себя, можно считать человеком, способным понять суть вещей". Тогда и возродились бы "репрессированное" начало, инстинкты (материнские, забота сильного о слабом, самосохранения). Земля горит под ногами, потому что попрана, унижена. А человек неукорененный впадает в отчаяние – ухватить хотя бы мгновение, а "после меня хоть потоп". Но, во-первых, мгновение поймать невозможно, ибо оно вечно. Во-вторых, потоп все равно тебя настигнет, здесь ли, там ли, настигнет неизбежно, – нет того, за что не пришла бы расплата [83]. Таков закон онтологической справедливости, кармы, генетической памяти, которая спросит с каждого и воздаст по заслугам. Это не басни, а закон Бытия [84].
Лишившись нравственного кода, "человеческих качеств" [85], молодежь лишилась чувства укорененности в Бытии, ощущения собственной нужности, неслучайности в этом мире. Пожалуй, самая трудная задача, но и самая насущная – осознание человеком своей предназначенности для Свободы. Когда он это осознает, откроются пути к ней. Недаром все религии, все духовные учения имели одну цель – освобождение человека от его темной природы и выявление истинной. Помните Догэна – "если просветленность не в тебе, то где же?" Времени больше нет (или оно агонизирует). Ответишь, будешь жить, не ответишь, умрешь непрощенным – как в сказке, которая, похоже, становится былью. Но правильно поставленный вопрос – уже ответ. Пришло время исполнить пророчество древних – "познать себя", и через это – все остальное.
Через меня открыто, что будет,
Было и есть, через меня
Согласуются песни и струны
(Овидий. Метаморфозы, 317–318).
Раньше мешали "высшие ценности" или высшие инстанции, теперь этого нет и, значит, нет оправдания. "Впервые в истории человек на нашей планете противостоит лишь сам себе... Мы живем в мире, настолько измененном человеком, что повсюду, обращаемся ли мы с аппаратами повседневной жизни, принимаем ли приготовленную машинами пищу или пересекаем преображенный человеком ландшафт, мы снова и снова сталкиваемся со структурами, вызванными к жизни человеком, снова и снова встречаем, в известном смысле, лишь сами себя" [86]. Разве может душа человеческая смириться с превращением общества в "одну большую машину", с человеком в роли сырья? (по Ясперсу). Сама мощь техники толкает человека к самому себе, чтобы не стать ее придатком. Что же мешает – дефицит общения? А если, скажем, перескочить через время, через пару веков хотя бы, или же в нашем веке, но в другое измерение, прикоснуться к вечным мыслям, к высшему Бытию? Ведь жили же и живут рядом те, над которыми время не властно. Иди и смотри!, – как поешь в своих песнях:
Встань и иди!
Тайна моя соприкоснется с твоей!
"Плечом к плечу – навстречу злу" – все из тех же песен молодежи. Видящий да увидит, слышащий да услышит, но не надейся, что кто-то решит за тебя твою задачу. Ты сам себе наставник. Учитель – благо, но пришло время не столько Учителей, сколько самой Мудрости, Софии, к которой каждый идет своим путем через знание и размышление. Учитель – это встреча с прошлым, "Великое Единение", о котором размышляют философы и физики [87].
За тысячелетия все уже сказано, все уже Есть, обратись мыслью в это, загляни в себя – и узнаешь будущее. А главное, – привыкай ходить без поводыря, "не сотвори себе кумира". Никакой учитель не даст того, что откроет собственное сердце, если не заглохло, собственная память, когда найдешь к ней дорогу (прозревший, понявший суть вещей, естественно, благодарен любому учителю; лишь сяожэнь, низкий человек, "не знает почтительности"). Путь к Свободе – ведению, видению – через натруженную душу.
И тяжкий сон житейского
сознанья
Ты отряхнешь, тоскуя и любя
(В. Соловьев)
У каждого своя дорога к Храму (недаром этот образ овладел сознанием). Пришло время жатвы. Сеяли многие, собирают поодиночке, отделяя зерна от плевел, засыпают в общие закрома. И все опять соберется в Одно, только уж чистые зерна. Доброе по природе своей Едино. Это главное – зло не укоренено в Бытии, это открыто и высокой поэзии:
Зло мгновенно в этом мире,
Неизбывна доброта
(Шота Руставели)
Напомню:
"Все, что есть, – есть доброе, а то зло, о происхождении которого я спрашивал, не есть субстанция; будь оно субстанцией, оно было бы добром, или субстанцией, не подверженной ухудшению вовсе... что было бы невозможно, не будь в ней доброго"
("Исповедь Блаженного Августина", VII, 12, 18).
В этом весь Достоевский – "все хорошо", а ведь он не утешал, утверждая, что на земле "все хорошо, все", но только люди не знают этого, живут обманом. А когда поймут, что если "все хорошо", то и "они хороши", и будут они "человекобоги", для которых "времени больше не будет", оно погаснет в уме. "Кто научит, что все хорошо, тот мир закончит" [88]. (Каждый человек-будда, только не каждый понимает это.) Зло изживает себя "на имманентных путях", – говорит Бердяев, самоистребляется как всякая химера. Злом называется то, "что человек совершает, и то, что он терпит. Первое – это грех, второе – наказание" (Августин. Против манихеев, 26). Значит, терпимость ко злу, как и борьба с ним его же средствами, лишь усугубляет мировое зло. Зло врачуется добром и думанием, как тьма рассеивается светом по мере расширения сознания, внутреннего бытия, когда просыпается
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам!
(Пушкин)
Никакая сила Этого остановить не может, ибо Это не зависит от воли отдельных людей. Таков закон Бытия. Целое самопознается через человека. Слово начинает оживать, прорастать в поэзии и прозе. Взыскуют правды и рок-ансамбли. Похоже, началось возвращение "блудного сына" в лоно Бытия. Но пока лишь отдельные проблески, хотя и обещающие стать Светом. Мир не услышал еще призыва высшего Бытия, но прислушивается, ощущая его приближение. По крайней мере пропадает доверие к моноцентрическим схемам, осознается естественность полицентризма (доведенный до абсурда моноцентризм приводит, по закону парадокса, к полному бессилию центра – расплата за нарушение естественных связей). Центр везде, в каждой точке – условие самореализации личности и нации. При новой структуре сознания исчезнет почва для рабской психологии, вместе с ней закончится силовой вариант Истории, если нет того, кого можно угнетать.
Смена мировоззренческой парадигмы сопряжена с переоценкой моральных ценностей. Уж, видимо, не сильная личность будет в почете, а тихая, мудрая. Не силой, не волевым усилием, а мягкой твердостью, усердием духа достигали святые отцы спасения: "Сила божия в немощи совершается" (2-е поел. ап. Павла); "Слабость есть свойство дао"; "Слабые побеждают сильных".
Я ратую, как нетрудно догадаться, не за слабость, а за внутреннюю силу, силу духа, на которую способен лишь Свободный человек [89]. Чувство благоговения и удивления перед тем, что выше тебя, близко религиозному и есть естественное состояние живой души. "Один из наших современников, – вспоминал Эйнштейн, – сказал, и не без основания, что в наш материалистический век серьезными учеными могут быть глубоко религиозные люди". А по Эрну – "всякий гений так или иначе религиозен" [90]. Благоговейно отношение к миру Ф. М. Достоевского: "Сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходит, тут что-то не то и вечно будет не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить" [91]. И не стоит ли задуматься над словами Августина: "Многие, по видимости стоящие вне (церкви), на деле находятся внутри, и многие, по видимости стоящие внутри, на деле находятся вне" (De bapt., 5, 27, 38). Ни прибавить, ни убавить [92]. Вся мудрость – в текстах древних, коими мы бездумно пренебрегали.
Похоже, молодежь пойдет к спасению не через волю, которой у нее нет, а через Ум, который у нее есть, – все остальное приложится. Не рациональный ум, интеллект, а духовный, целостный. То, что имел в виду Порфирий: "Душа, которая поворачивается к материи, страдает и нищенствует, лишается своей силы. Но если она вернется к разуму, она получит полноту и обретет вновь свою целостность" ("Начала", 37). Что и говорить, без воли и Ум не явит себя, но это, в самом деле, особая воля – духовная, воля к мудрости, не "к власти". Если же "волю" абсолютизировать, подменяя ею Целое, тогда искривляется путь, ведет к безволию.
В понимании древних изначален Ум-Нус, Целый, душевный человек, Ум и есть душа, он все в себе таит: волю, доброту, красоту, гармонию. Худо, когда одно превозносится в ущерб другому, даже добро ("добрыми намерениями вымощен путь в ад"). Тогда и распадается Единое, нарушается связь всего со всем, мир ввергается в хаос.
Недаром обаятельными нам кажутся люди вроде бы слабые, не от мира сего, как князь Мышкин Достоевского или Авдий Каллистратов Айтматова. Но это и есть те самые "слабые", которые "побеждают сильных", тот свет, который и во тьме светит ("и тьма не объяла его"). Целый человек – в котором все гармонично, одно с другим не борется, и он всегда тот же, меняется лишь фон жизни. Авдию достался мир, вывернутый наизнанку, мир, где волки стали бояться людей-нелюдей, и лишь Человек может им, обездушенным, обезумевшим, сострадать и положить во спасение павших жизнь свою. Эта абсолютная доброта, не избирательная, есть свойство Целого человека, того самого праведника, на котором мир держится. Он является в мир ко спасение – отклик на его зов, на его боль и ради этого идет на плаху. У таких как раз нет выбора, как нет его у совершенного человека. Люди различной моральной высоты, говорил Эрн, страдают различной мерой страданий. Их страдание вселенское, за всех и за все. Своей детской незащищенностью они пробуждают доброе – почти исчезнувший инстинкт защиты слабого – и тем уже очищают души людей. Может быть, это вестники грядущего мира. Человека человечного, сострадающего.
В каком-то смысле Авдий, нетипичный, кажется мне более реальным, чем типичные, которые встречаются в жизни на каждом шагу. Должно быть, от ощущения его укорененности в Бытии. Над таким грубая сила не властна. Русская философия последовательно вынашивала идею "богочеловека", посредника между Небом и Землей, миром божественным и природным, человека, преодолевшего, по мысли В. Соловьева, "физический эгоизм" (пространство, время, причинность, смерть).
"Человек не может оставаться только человеком: он должен или подняться над собой, или упасть в бездну, вырасти или в Бога, или в зверя", – заключает Е. Трубецкой [93]. Идея давняя – самопознание равно богопознанию. "Когда человек живет по человеку, а не по богу, он подобен дьяволу" (Августин. О граде божием, XIV). Идеалом эпохи Возрождения был человекобог, но нарушили меру в пользу человека, творящего самого себя, пренебрегли божественным. И ничего хорошего не получилось. Отсюда тоска романтиков по высшему идеалу [94]. А дальше – из крайности в крайность, как уж повелось. Экзистенциалисты, в противовес романтикам, свели сущность к существованию: человек не имеет "никаких указаний ни на земле, ни на небе (Сартр). Есть путник, нет Пути. У. Уитмен возглашает: "Быть воистину Богом"; в любой вещи видеть себя – "это я!". Но на его порыв – "Вперед к тому, что безначально, бесконечно", – откликнулись немногие, разве что Эмерсон. Русская философия давно и упорно шла к этому, видя в человеке мессию – возделывателя и спасителя Природы, "теурга", по В. Соловьеву. Идеальный, совершенный человек и есть тело Логоса; будучи вершиной природной эволюции, он онтологически первичен. Потому через человека происходит одухотворение материи, "положительное всеединство".
Насколько я могу судить, эта тенденция не характерна для европейской философии и литературы. Традицию последней скорее воплощает герой "Игры в бисер" Г. Гессе – Йозеф Кнехт. Произошел своего рода поворот европейской парадигмы в ее высшей точке на 180°: от абсолютного Господина к абсолютному Слуге. Ответ на вопрос Ницше: "Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти его?". Ушли от себя не вовне, влекомые фаустовским духом, но и не в себя, – в никуда. А куда идти, если в становлении мира нет смысла? И Гессе, видимо, задумал показать, что все в конечном счете есть Ноль (скорее на европейский лад), и сделал это безукоризненно. А что остается, если нет опоры, если "нигде нет единства, нет средоточия, нет оси, вокруг которой вращалось бы колесо" [95]. Если богу дозволено играть в кости, то почему бы человеку не играть в бисер? "Наша Игра стеклянных бус есть игра со всеми смыслами и ценностями нашей культуры, мастер играет ими, как в эпоху расцвета живописи художник играл красками своей палитры" [96]. Идея, близкая экзистенциалистам: мир – игралище безличных сил, стихия, в ней нельзя найти смысла (не оттого ли представления об изначальной хаотичности мира?). Человеку ничего не остается, как противопоставить себя не-себе, бросить вызов природной необходимости (греческий вызов Року). И тот же Гессе призывал "возвращаться к Вселенной", "расширить свою душу": "Этим: путем шел Будда, им шел каждый великий человек".
Философия игры зарождается в системе западной культуры,. в мире субъекта-объекта (надо же иметь, с чем играть, не будешь же играть с самим собой). С одной стороны, это разделение сделало возможной умственную жизнь Европы, расцвет науки, с другой – лишило "вольноотпущенника природы" чувства сопричастности Вселенной, однобытия с миром, что вылилось в конечном счете в "войну всех против всех" – в отчаянный нигилизм. Против этого и восстала русская философия. В самом деле, трудно найти в европейской литературе человека со вселенским состраданием, подобно князю Мышкину или Алеше Карамазову, возлюбивших жизнь больше логики. Немыслимо представить игру ума в поведении таких людей, как Мышкин, или Авдий, или даже булгаковский Мастер. Для этого. нужно отделить себя от мира, что для них невозможно даже при участии Воланда. Они едины с другими, ощущают себя в мире и мир в себе; их свобода зависит от свободы других. (Дао – путь и путник одновременно. "Живое существо, или "континуум", является не существом, живущим в мире, а существом, переживающем мир", согласно О. О. Розенбергу. Говоря же словами Басё, "жить согласно Красоте – значит следовать природе, быть другом четырех времен года. Все, что ни видишь, – цветок, все, о чем ни думаешь, – луна. Для кого вещи не цветок, тот варвар. У кого в сердце нет цветка, тот зверь" [97]. Едины люди в глубине своей).
Коли уж я обратилась к восточным сюжетам, позволю еще одно сравнение. История, как Целое, не может не подпасть под действие закона смены мировых ситуаций, чередования инь-ян. Активные, динамические эпохи сменяются эпохами относительного покоя, умиротворенности [98]. Если, в самом деле, наступила фаза ненасильственного мира, то наверх, естественно, поднимутся люди мягкие, деликатные, не расположенные к насилию, – люди иньского склада, терпимые, человечные и проницательные. Раньше их третировали как "слабых", отдавая предпочтение сильным личностям харизматического типа, которые чуть не погубили мир. На смену "человеку цивилизации", рациональному, деятельному, однонаправленному прогрессисту (янского склада) идет "человек культуры", гуманный и разумный (homo sapiens-humanitatis), в котором воссоединятся оба начала. Таков закон: низ и верх будут меняться местами, пока не появится Целый человек. Не нужно переустраивать мир, нужно понять его и жить в согласии с ним. Будущее неотрывно от прошлого и обусловлено им. И есть куда идти, где черпать живую воду.
(Назначение своей книги вижу в напоминании: "вспоминании того, что некогда видела наша душа"). Все уже сказано, лучше не скажешь. Важнее не сочинять, а припоминать – осмыслить то, что было и будет. Не самодеятельность, самонадеянность, а мудрость успокоит страсти. Как это у Гумбольдта:
"Каждый человек должен способствовать созиданию великого и целого... Для меня способствовать созиданию великого и целого означает воспитывать характер человечества: и всякий, кто воспитывает себя и только себя, уже тем самым содействует этому" [99].
Возможно общение по "осевому времени", которое ассоциируется с VIII–III вв. до н. э., с прорывом мысли к познанию Бытия, когда были открыты основные Законы. Время – вне времени, оно есть всегда, питает души. "Осевое время", по С. Аверинцеву, создало для всех времен общечеловеческий завет личной ответственности, послужив общим истоком для культур Востока и Запада; поэтому необходимо обновлять свою связь с этим заветом, подыскивая для утрачиваемой и вновь обретаемой истины новые, если воспользоваться понятием Ясперса, "шифры" [100]. Следуя совету нашего мудрого соотечественника, веря в "высветление экзистенции", обратимся еще к одному столпу мысли. Благо это стало возможно.
Идя к пределам души, их не найдешь,
даже если пройдешь весь путь:
таким глубоким она обладает логосом
(Гераклит)
Итак, конечная цель человеческого существования – Свобода, предполагающая завершенность отдельного. Путь к Свободе – осознание индивидуального как меры всеобщего, целостное мышление. Свобода вне Целого есть свобода для себя, допускающая произвол и насилие, т.е. несвободу другого. Свобода, понятая как вседозволенность, посягающая на свободу другого, есть иллюзия Свободы. Без Свободы невозможно и Равенство, высшая Справедливость: что-то неизбежно будет существовать за счет чего-то. Потому философские и религиозные учения призывали человека к Свободе, к выявлению истинного Я, освобождению души, хотя пути предлагали разные. В апофатическом христианстве – это слияние с Богом в молитвенном экстазе. В буддизме – медитация, благоделание, очищение сознания от клеш: отпустить Ум, предоставить его самому себе, следуя Срединному пути, или пути внезапного озарения (дзэн). Свободный Ум гуманен, ведет к Единству через "индивидуализацию всеединства", Встречу человека с человеком, народа с народом. По мысли Вивекананды,
"у всякой нации, как и у каждого отдельного человека, есть в ее жизни одна-единственная тема, которая служит центром ее существования, основная нота, вокруг которой группируются все остальные ноты гармонии. Если она ее отбросит, если она отбросит принцип своей собственной жизненности, направление, переданное ей веками, – она, эта нация, умирает". Он верил в духовное Единство Вселенной: "Единственная и бесконечная сущность, которая существует в вас, во мне, во всех... идея, что вы и я не только братья, но вы и я – одно" [101].
Вивекананда воплотил опыт Востока и Запада.
Однако на протяжении всей истории люди с трудом осваивали эту Истину и соблазнялись легкими путями, радели не столько о вечной душе, сколько о невечном теле, хотя смысл всех духовных учений и сводился к преодолению того, что порабощает человеческую душу, держит ее в тенетах невежества. Пусть одни называли это рабским сознанием, другие – дукхой-страданием, порожденным привязанностью к ложному миру (майе), который обрекает человека на вечный круговорот, зависимость от нескончаемых желаний. И нет этому конца, пока существуют "два" и одно противопоставляется другому: Небо – Земле, Земля – Небу. Так было, пока вовсе не раздвинулись Небо и Земля и не хлынула титаническая сила, которую прежде не знали люди. Она затмила сознание, заслонила Истину, так что все оказалось перевернутым. Нарушился всеобщий порядок: низ стал верхом, Земля – над Небом, глупость – над умом, а результаты налицо. Угроза еще не миновала – последнее испытание. Массы "под равенством понимают равномерный гнет", – писал Герцен. Полвека спустя Ортега убедился:
"Равенство прав – благородная идея демократии – выродилось на практике в удовлетвореиие аппетитов и подсознательных вожделений" [102].
В "Туаньчжуань", древнем комментарии к "Ицзину", сказано:
"Упадок – неподходящие
люди.
Неблагоприятна благородному стойкость.
Великое отходит, малое приходит.
Это значит, что Небо и Земля не связаны
и все сущее не развивается...
Путь ничтожеств – расти,
а путь благородного человека – умаляться" [103].
Знающий прошлое, прозревает будущее: "закон (ли) един", формы выражения различны.
Свобода не бывает односторонней, вне Целого, скажем, свобода Земли в ущерб Небу. Когда остается одна половина, даже такая большая, как Земля, когда она забывает о своем родстве с Небом, то отторгается им и теряет себя, свою целостность. Начинается распад Земли, когда обрываются артерии, соединяющие ее с Небом, душу с телом, наступает кислородная недостаточность. Так и вышло. Мир "дольний", отринутый неразумным человеком от мира "горнего", ввергнут в тяжкие испытания в XX в.: братоубийственные войны, лагеря, террор, культ насилия, идея мирового господства – апофеоз хтонических сил Земли, не уравновешенных Небом. И самое страшное, что в человеке стало исчезать то, что дается ему звездным Небом и что делает его Человеком. Он разрушил храмы, презирал прошлое во имя будущего, которое не состоялось; мстил природе за свою несуразную и непонятно зачем данную жизнь. И исполнились пророчества древних:
"Душе, ушедшей от себя, нанесет удары некая огромность, и душу мучит подлинная нищета, ибо по природе своей вынуждена она искать всюду единое, а множественность этого не позволяет"
(Августин. О порядке, 1, 2).
По мнению Ортеги, "у равноправия был один смысл – вырвать человеческие души из внутреннего рабства, внедрить в них собственное достоинство и независимость" [104]. Может быть, не с того начали (нельзя понять одно через все, но можно понять все через одно). Для Бердяева это "одно", или центральная точка, позволяющая объять все отношения, есть человеческое достоинство – Личность, "мера всех вещей". Если человек – "мера всех вещей", то общество не может быть нормальным, если человек ненормален. Значит, один выход – привести в чувство самого человека. Чтобы стать Свободным, он должен задуматься: то ли он, чем ему предназначено быть? Другого пути нет. Освобождению человека от рабского сознания посвящает Бердяев книгу "О рабстве и свободе человека".
Как и Хайдеггер, он видит причину в том, что сознание подчинено закону, который знает общее и не знает индивидуального. "Самая структура сознания легко создает рабство". Монизм и есть философский источник рабства, его практика ведет к тирании. Власть "конечного" всегда оказывается рабством человека, господство – оборотная сторона рабства. Личность потому устремлена не к господству, а к Свободе. "Господин, в сущности, плебей, господство есть плебейское дело". Господствующий отчужден от свободы, от самого себя.
"Падшесть человека более всего выражается в том, что он тиран... Человек имеет непреодолимую склонность тиранить окружающих. Человек есть тиран и самого себя и, может быть, более всего самого себя. Он тиранит себя как существо раздвоенное, утратившее цельность. Он тиранит себя... суеверием, завистью, самолюбием (в буддийской терминологии – клеша – Т.Г.). Первоначальное зло есть власть человека над человеком, унижение достоинства человека, насилие и господство" [105].
Свобода не внешнее, а внутреннее состояние, она не даруется, а органически прорастает из духовного опыта человека в процессе познания себя и мира. Свобода внешняя, предоставленная, может быть лишь условием движения к Свободе истинной, но не восполняет ее.
На это обратил внимание еще Шеллинг:
"Ибо свобода, которая не гарантирована общим естественным порядком, непрочна, и в большинстве современных государств она подобна некоему паразитирующему растению, которое, в общем, терпят в силу неизбежной непоследовательности, но так, что отдельный индивидуум никогда не может быть уверен в своей свободе. Так быть не должно. Свобода не должна быть милостью или благом, которым можно пользоваться только как запретным плодом. Свобода должна быть гарантирована порядком, столь же явным и неизменным, как законы природы" [106].
По мнению Шеллинга, преобладало превратное представление о Свободе, истинного понятия свободы, в сущности, не было в предшествовавших идеализму системах нового времени.
Для Бердяева же Свобода есть духовное начало, не зависимое от мира и не детерминированное им: "Личность связана с логосом, не с космосом". Но и Логос есть свойство Космоса. Бердяеву важно поднять поверженную "вертикаль", воссоединить через Личность Земное с Небесным. Если Сартр говорил: "Человек всегда присутствует в человеческом мире", то, по Бердяеву, мир всегда присутствует в человеке. Персонализм примирил крайности экзистенциализма, сущность с существованием, индивидуализм с универсализмом, выйдя из круга антиномий благодаря ощущению неразъятости Земли и Неба (одно в другом) – в духе древней мудрости:
"Совершенномудрый схож с
небом и землей,
поэтому между ними нет противостояния.
Своим знанием обнимает все вещи,
его путь благодатен для Поднебесной...
Он радуется Небу и знает его волю,
поэтому не ведает тревог.
Он пребывает в покое и питает человечность (жэнь),
поэтому любовь его не имеет границ"
("Сицычжуань", IV, 22).
И разве не сближается с древнекитайской мудрость христианская, скажем Николай Кузанский;
"Любовь, связь единства и бытия, в высшей степени природна. Она исходит от единства и равенства, в которых ее природное начало: они дышат своей связью, и в ней неудержимо жаждут соединиться. Ничто не лишено этой любви, без которой не было бы ничего устойчивого; все пронизано невидимым духом связи, все части мира внутренне, хранимы ее духом, и каждая соединяется им с миром. Этот дух связывает душу с телом, и она перестает животворить тело, когда он отлетает. Интеллектуальная природа никогда не может лишиться духа связи, поскольку сама соприродна этому духу" [107].
Вне этой связи единого и единичного невозможна Свобода, а вне Свободы нет и Любви. Бердяев показывает, что мир "объективации", тотального превращения всего в объект, вследствие отпадения субъекта от объекта, обречен на гибель, вымирание как не соответствующий законам Бытия:
"Космос, человечество, нация и прочее находятся в человеческой личности, как в индивидуализированном универсуме или микрокосме, и выпадение, выбрасывание их во внешние реальности, в объекты, есть результат падшести человека, подчинения его безличной реальности, экстериоризации, отчуждению".
Человек не может индивидуальным актом разрушить этот отчужденный от него "мир объективации", но может достигнуть внутренней свободы. Для этого нужно изменить свое сознание, преодолеть "монизм" в любом его виде, ибо "монизм в объективированном мире всегда есть рабство человека".
Еще в 1922 г. Бердяев видел: померк для Фауста "свет Логоса", и ему не остается ничего другого, как "движение к внутренней бесконечности". Через это восстановится связь между Небом и Землей, утраченное равновесие, – станет возможным единство не по внешней необходимости, а по внутренней потребности – не единство, стоящее над личным существованием, а единение, общение в любви.
Значит, одной устремленности в бесконечность мало без ощущения неразрывности Бытия-Небытия, Великого Предела, возвращающего вещь к самой себе, к своему истоку. Единичное и есть единое, когда не изменяет себе. "Духовное освобождение человека есть реализация личности в человеке, достижение целостности". Постигая Целое, проникая в Ничто, "Личность должна в экстазе выходить из себя, но, выходя из себя, оставаться собой" [108].
Лишь целостному уму доступна Свобода. Разорванный на части человек легко поддается аффекту страха, а страх и держит человека в рабстве. Целостный человек не знает страха, свободен от комплексов, свободен, как Небо и Земля: "Ведь нет ничего более целостного, чем небо и земля. Но разве (они) обладают целостностью оттого, что ее добиваются? Тот, кто познал великую целостность, ничего не добивается, ничего не теряет, ничего не оставляет. Из-за вещей не меняется, возвращается к самому себе и (становится) неисчерпаемым". Не каждый расположен к Свободе: "Если бы ныне тот, кому лишь только придается форма человека, стал кричать: "(Хочу быть) человеком! (Хочу быть) человеком!", то творец перемен непременно счел бы его зловещим человеком" ("Чжуан-цзы", гл. 6).
Человеку потенциально присуще целостное видение; оно присутствует в нем как инстинкт самосохранения. Для его проявления нужна та самая "прерывность", которую имел в виду П. Флоренский, – преодоление линейного, одномерного мышления, исключающего возможность Свободы в принципе. Н. Бердяеву это открыто:
"Личность не вмещается в непрерывный, сплошной процесс мировой жизни, она не может быть моментом или элементом эволюции мира. Существование личности предполагает прерывность... Личность есть прорыв, разрыв в этом мире". Человек, как индивидуальное, неповторимое существо, экзистенциальное человечества, ибо "самый сингуляризм индивидуального проникнут внутренне не индивидуальным, универсальным".
Основная проблема для Бердяева – отношение Бытия и Свободы, бытия и духа. Реально, духовно существует лишь индивид:
"Универсальность отдельного человека мы постигаем не через отвлечение общих нам человеческих свойств, а через погружение в его единичность. Употребляя кантовскую терминологию, можем сказать, что царство природы есть царство общего, царство же свободы есть царство единичного" [109].
Для этого понадобилось оторвать взор от Земли и устремить его в бескрайность, признать реальность Небытия, мира невидимого, но пронизанного логосами. Насколько подобный настрой ума был близок русским, свидетельствуют и поэты, например Н. Гумилев:
"Германский символизм в лице своих родоначальников Ницше и Ибсена выдвигал вопрос о роли человека в мироздании, индивидуума в обществе и разрешал его, находя какую-нибудь цель или догмат, которым должно было служить. В этом сказывалось, что германский символизм НЕ ЧУВСТВУЕТ САМОЦЕННОСТИ КАЖДОГО ЯВЛЕНИЯ, не нуждающегося ни в каком оправдании извне. Для нас иерархия в мире явлений – не только удельный вес каждого из них, причем вес ничтожнейшего неизмеримо больше отсутствия веса небытия, и потому перед лицом небытия – все явления братья.
Мы не решились бы заставить атом поклониться Богу, если бы это не было в его природе. Но, ощущая себя явлениями среди явлений, мы становимся причастны мировому ритму, принимаем все воздействия на нас и, в свою очередь, воздействуем сами. Наш долг, наша воля, наше счастье и наша трагедия – ежечасно указывать то, чем будет следующий час для нас, для нашего дела, для всего мира, и торопить его приближение. Итак, высшая награда – ни на миг не останавливая нашего внимания, грезится нам образ последнего часа, который не наступит никогда.
Бунтовать же во имя иных условий бытия здесь, где есть смерть, так же странно, как узнику ломать стену, когда перед ним открытая дверь. Здесь этика становится эстетикой, расширяясь до области последней. Здесь индивидуализм в высшем своем напряжении творит общественность... Здесь Бог становится Богом живым, потому что человек почувствовал себя достойным такого Бога. Здесь смерть – занавес, отделяющий нас от актеров, от зрителей, и во вдохновении игры мы презираем трусливое заглядывание – что будет дальше?" [110].
Что это, поэтическая интуиция – "перед лицом небытия все явления братья"? Усталость от границ, ограничений? Ничто не навязывает, не диктует, а призывает – будь самим собой! Быть самим собой, действительно, зов времени.
Личность, которой Бердяев посвящает свой труд, есть следствие "разрыва причинных связей", освобождения от тирании целого. Он вспоминает слова Герцена: "Подчинение личности обществу, народу, человечеству, идее – продолжение человеческих жертвоприношений". Всякий вид тоталитаризма, придержащий массу, всякое тоталитарное государство Бердяев называл "царством сатаны" и добавлял: "Государство не смеет касаться духа и духовной жизни". Почему? А потому что духовная жизнь есть святая святых, это тайна человека. Всякая Личность, а каждый человек есть потенциальная Личность, первичнее бытия, ибо в нем есть "духовное начало, не зависимое от мира и не детерминированное им" (вспомните "божью искру" Экхарта, которая есть в каждом человеке). Каждый индивидуально неповторим и включает в себя универсальную человечность, если, конечно, остается собой, а не входит в нее как подчиненная часть.
"Человеческая личность есть потенциальное все, вся мировая история. Все в мире со мной произошло. В глубине, скрытой от моего сознания, я погружен в океан мировой жизни" [111].
На грани полного забвения Бытия, отпадения человека от Целого явилась потребность вернуться к нему: "бытие требует человека". Начался последний этап Истории, "открытый как для гибели, так и ...для нового небывалого онтологического достоинства человека" (Хайдеггер). В этой ситуации философы и писатели взяли на себя миссию спасения человечества и делали это с чувством нравственной ответственности. Бердяев увидел в "персонализме" возможность спасения всех через спасение каждого.
Еще Эрн говорил, что "персонализм" русской мысли имеет
"существенный, а не случайный характер. Тайны Сущего раскрываются в недрах личности". И потому мало знать, что писали Гоголь, Достоевский, Соловьев, нужно знать, "что они пережили и как они жили... Нижний, подземный этаж личности, ее иррациональные основания, уходящие в недра Космоса, полны скрытым Словом, т.е. Логосом" [112].
И работа Н. Бердяева "О рабстве и свободе человека", появившаяся четверть века спустя, тому свидетельство.
Все едино, одно отзывается на другое, обусловливает его, и все в конце концов зависит от Ума человека, от формы сознания. Однако устойчивость внутреннего, "добровольного" рабства поражало еще Сенеку:
"А покажите мне, кто не рабствует в том или другом смысле! Этот вот – раб похоти, тот – корыстной жадности, а тот – честолюбия... Нет рабства более позорного, чем рабство добровольное".
("Письма к Луцилию", 47, 17)
У Сенеки, одним из первых признавшего святость человеческой личности (Homo res sacra), свое понимание свободы, стоическое:
"В каком позорном и пагубном рабстве будет находиться тот, на кого попеременно будут оказывать свое влияние удовольствия и страдания, деспотические силы, действующие крайне произвольно и необузданно. Поэтому нужно себя поставить в независимое от них положение, а его создает не что иное, как равнодушие к судьбе... С исчезновением всяких страхов наступает вытекающая из познания истины великая и безмятежная радость, приветливость и просветление духа"
("О блаженной жизни", V).
Для Бердяева рождение Личности и есть "судьба" человека, итог человеческого Пути.
"Экономическое рабство человека бесспорно означает отчуждение человеческой природы и превращение человека в вещь. В этом Маркс прав. Но для освобождения человека его духовная природа должна быть ему возвращена".
В этом суть! Бердяев видит источник рабства – в эгоцентризме. Человек становится рабом окружающего мира, потому что он раб в душе, раб самого себя.
"Эгоцентризм разрушает личность. Эгоцентрическая самозамкнутость и сосредоточенность на себе, невозможность выйти из себя и есть первородный грех, мешающий реализовать полноту жизни личности, актуализировать ее силы... Эгоцентризм означает двойное рабство человека – рабство у самого себя... и рабство у мира... Он любит абстракции, питающие его эгоцентризм, не любит живых конкретных людей".
Национальный и классовый эгоизм питаются личным эгоизмом. И только Личность, преодолевшая ограниченность, может отразить чаяния народа. "Истина всегда бывает в личности, в качестве, в меньшинстве. Но эта истина в своем проявлении должна быть связана с народной жизнью". Процесс изживания "монизма", или моноцентризма, не мог обойти ни одну сторону жизни, ни одну прежде казавшуюся незыблемой ценностную установку, начиная от антропоцентризма, кончая нацио-государственным центризмом, монополизмом любого рода. "Война, в сущности, определяется структурой сознания. Победа над возможностью войны предполагает изменение структуры сознания" (и в этом Бердяев перекликается с Эрном: внутренние анергии кристаллизуются во внешние материальные формы, идеи – в пушки).
Экзистенциальный центр, орган совести, центр сознания, пребывает в Личности, коллективным же бывает лишь бессознательное. И национальное чувство, которое импонирует Бердяеву своей глубокой укорененностью в длительную жизнь, все же истинно существует лишь при развитом, личностном сознании (не "то или другое", а "одно в другом"):
"Личность – не часть нации, национальность есть часть личности и находится в ней, как одно из ее качественных содержаний. Национальность есть питательная среда личности. Национализм же есть форма идолопоклонства и рабства, порожденного экстериоризацией и объективацией" [113] (так что и наши национальные беды кончатся, когда мы поймем их прямую связь с господствующей формой сознания).
Преодоление монизма позволяет избавиться от диктатуры субъективности, от тирании псевдо-целого. И я не могу не вспомнить к случаю проницательные слова Гумбольдта:
"Субъективность отдельного индивида снимается, смягчается и расширяется субъективностью народа, субъективность народа – предшествующими и нынешними поколениями, а субъективность этих последних – субъективностью человечества вообще" [114].
Образуется живая, не-линейная связь, в которой одно порождает другое. "Субъективность индивида снимается субъективностью народа" – это значит, что для индивида важнее ощущать причастность своему народу, чем самому себе, т.е., лишь ощущая связь со своим народом, со своими корнями, можно быть самим собой, быть Личностью. Поставив интересы народа выше собственных, человек тем самым уже освобождается от гибельного эгоцентризма, приближается к Истине бытия, недоступной эгоцентрику, для которого Истина бытия и есть он сам. Он живет, чтобы иметь, становясь рабом вещей, впадает в худший вид рабства; сосредоточиваясь на своем маленьком "я", теряет связь с миром и отбрасывается им за ненадобностью, как инородное тело. Не ведает он и своего народа, ибо лишь тот национален, кто индивидуален, и лишь тот индивидуален, кто национален. Здесь связь прямая и обратная.
Это относится и к народу в целом. Как только нация сосредоточивается на самой себе, движимая национальным эгоизмом, забывает о своей принадлежности к человеческому роду, отмирают капилляры, соединяющие ее с Целым более высокого порядка, и она отпадает от Бытия. Поэтому и сказано – субъективность народа снимается субъективностью человечества, т.е. только тогда нация достигает полноты, ощущает себя целым, когда ощущает себя частью всего человечества. Но ощущать себя частью человечества, свою причастность ему она может, лишь сохраняя свое лицо. Нация, потерявшая свое лицо, теряет способность видеть другие лица. Это относится и ко всему человечеству. Когда оно думает только о себе и забывает, что и он" есть часть более высокого, Вселенского целого, то теряет с ним связь, отпадает от Бытия.
Разгадка в том, что Целое предполагает именно не-линейную, "голографическую" связь, не только по горизонтали, но и по вертикали – с более высоким Целым: личности со своим народом, народа – со всем человечеством, человечества – со всей Вселенной, что создает разумную иерархию, жизнеустойчивый тип структуры: одного во всем и всего в одном. Отдельное обретает Свободу, становится Целым, когда находит свое пространство в общей системе связей, никому не мешая ("в индивидуальности заключена тайна всего бытия"). И потому посягательства на индивидуальное – тягчайшее преступление не только перед данной индивидуальностью, но и перед родом человеческим, перед всей Вселенной. Нет индивидуального, нет и Свободы; нет Свободы, нет и Истины, Человечности. Тирании подвластно лишь механическое единство, тоталитарные режимы: части, зависимые от общего механизма, сами располагают к господству над ними.
Бердяев исследует истоки рабства и находит их в разрушении индивидуального начала, в "утрате внутреннего центра".
"Гениальность потенциально присуща личности, ибо личность есть целостность и творческое отношение к жизни. Гений – одинок, он не принадлежит никакой социальной группе. Личность укрепляется в сопротивлении власти мирового зла, которое всегда имеет свою социальную кристаллизацию. Личность формируется через столкновение со злом в себе и вокруг себя".
Конечно, человек вписан в социум, но несводим к нему, человек больше всякого общества и дальше всякого времени. Социализация человека не распространяется "на глубину личности, на ее совесть. Социализация, распространяющаяся на глубину существования, на духовную жизнь, есть торжество das Man, социальной обыденности, тирания средне-общего над лично-индивидуальным. Поэтому принцип личности должен стать принципом социальной организации, которая не будет допускать социализацию внутреннего существования человека".
Такова философия Бердяева и та Истина, которая выстрадана нашим народом. И хотя Сознание еще не изменилось, движение началось: изживаются стереотипы, рабская психология, узаконившая отношение "господства-подчинения" – архетип "власти" (архе). Меняется парадигма мышления, господствовавшая над умами два с половиной тысячелетия, но не давшая человеку Свободы и даже ясного представления о ней. Идея ненасильственного Пути становится органична сознанию, свидетельствуя об его изменении. На смену жесткой, линейной, причинно-следственной связи приходит тот тип связи, где каждое явление само себе причина и следствие. Для того и понадобилась "прерывность", пустота, чтобы было где проявиться целому, стянуть явление "в одну сущность изнутри". "Сингулярная" структура есть обещание Свободы и высшего Единства, ибо не выстраивается извне, а произрастает Изнутри, самоестественно. Исчезает возможность угнетения: свободный Ум к этому не расположен и в этом не нуждается. Бердяев постигает благость Ничто, необремененности, незацикленности сознания на заданных идеях, обслуживающих отдельные персоны и отдельные группы, но противоречащих Бытию: "Свобода невыводима из бытия, свобода вкоренена в ничто, в небытие, если употреблять онтологическую терминологию" [115]. Пустота, незаполненность (вещами, инструкциями, наставлениями) дает возможность самоестественного роста, реализации изначальной, внутренней формы, которая у каждого своя. Будучи индивидуальной, она может сопрягаться с Единым, восходить к нему по вертикали, в "экзистенциальном времени". (В отличие от Ортеги, вертикаль которого шла по преимуществу снизу вверх).
Обостренное чувство Свободы, которая не совместима с социальной заорганизованностью, привело Бердяева к идее внесоциального существования Личности, что и делает возможным, по закону парадокса, ее укорененность в народную жизнь (цзюньцзы – истинный человек: не объединен в группы, не подвержен ведомственной логике и потому всеобщ, озабочен судьбой всех) [116].
"Для подготовки структуры сознания, преодолевающего рабство и господство, необходимо построить апофатическую социологию по аналогии с апофатической теологией. Катафатическая теология находится в категориях рабства и господства, не выходит к свободе... Такое изменение структуры сознания, при котором исчезает объективация, нет противопоставления субъекта и объекта, есть исполненная универсальным содержанием субъективность, царство чистой экзистенциальности" [117].
Бердяев предвидел будущее, новый виток Эволюции: при Свободе каждого возможна Свобода всех, не наоборот.
Но что все-таки представляет собой эта Личность, если она свободна и от социума, и от времени? Здесь не годится идущий еще от греков принцип монадности. Личность не есть часть какого-либо целого и потому не есть монада, ибо она не входит в иерархию монад, ей соподчиненных, как монада Лейбница – замкнутая субстанция, часть более сложных образований. Личность открыта в бесконечность, но не в фаустовском смысле, а как микрокосм, потенциальное все – Вселенная, воплощенная в индивидуальной форме. Личность воплощает единое именно своей уникальностью. Не личность есть часть универсума, а "универсум есть часть личности" ее качество" [118]. Человек есть Личность "не по природе, а по духу. По природе он лишь индивидуум... Личность есть микрокосм, целый универсум" – "потенциальная вселенная в индивидуальной форме".
Преодоление метафизического мышления, извечного раздвоения, противопоставления одного другому и позволило философу снять главное противоречие между Единым и Единичным, сущностью и существованием, субъектом и объектом: Единичное и есть Единое, единое существует лишь в форме единичного, – они недвойственны. Вместо принципа "или то, или это" сознание следует закону самого Бытия – "и то, и это".
Когда Бердяев называет Личность "экзистенциальным центром" мира, то это не имеет ничего общего с антропоцентризмом, при котором человек, возомнивший себя центром Вселенной, господином, отчуждал от себя мир и относился к нему как к объекту, к "чужому", приноравливая к своим потребностям. Тем самым разрушал мир, а за ним и себя – "право власти не принадлежит никому". Бердяев имеет в виду не столько "право" быть центром, сколько "обязанность" (хотя его слова другого порядка). Впрочем, сам Бердяев говорит: "Свобода личности есть долг, исполнение призвания". Личность ощущает свою причастность миру и ответственность за него. Никто другой не может выполнить ее назначение: каждый уникален, и так же уникальна его задача. Личность не имеет права на отстраненность, ибо несет "ответственность за судьбу всех, всей природы, всех живых существ, всех народов". Нет того, чему бы она не хотела помочь – в природе и в обществе, – ибо, ощутив себя Личностью, она уже отвечает за судьбу людей и за судьбу всего космоса.
"С экзистенциальной точки зрения общество есть часть личности, ее социальная сторона, как и космос есть часть личности, ее космическая сторона. Она противится всякой детерминации извне, она есть детерминация изнутри".
Это и позволяет Личности быть "абсолютным экзистенциальным центром", определяемым изнутри, из Свободы. В этом смысле Свобода и есть "долг", который невозможно нарушить, и путь ее труден: "Свобода трудна, рабство же легко". Нет Личности, если нет готовности к участию. Потому Истинная Свобода сопряжена с болью и страданием – "существование личности болезненно". Именно Личности глубоко присуще состояние "ужаса и тоски. Ужаса перед неизвестностью".
Что, в общем, и ставит Личность между двумя мирами (скажем, в отличие от бодхисаттвы, которому свойственно Сострадание – каруна, но не страдание, которое изживается). Для Бердяева Личность – "точка пересечения двух миров. Личность характеризуется отношением творчества, свободы и любви, а не детерминации". Личность есть Свобод в человеке, но свобода, предполагающая любовь к другому: "Свобода, не знающая жалости, становится демонической".
Различие двух миров, которые пересекаются в Личности, не в разнице субстанций, а в модусе существования: "Человек переходит от рабства к свободе, от раздробленности к целостности, от безличности к личности, от пассивности к творчеству, т.е. переходит к духовности". В самом человеке душа и тело становятся едины, изживается старый дуализм духа и тела; "Душевная жизнь проникает всю жизнь тела, как и телесная жизнь воздействует на жизнь души".
Всякий дуализм ведет к порабощению одного другим, к дихотомии средства и цели.
"В результате долгого духовного и умственного пути я с особенной остротой осознал, что всякая человеческая личность, личность последнего из людей, несущая в себе образ высшего бытия, не может быть средством ни для чего, в себе имеет экзистенциальный центр и имеет право не только на жизнь, отрицаемое современной цивилизацией, но и на обладание универсальным содержанием жизни"
(вот мы и вернулись к тому, с чего начали: "Великая тайна скрыта в том, что "средство важнее цели").
Поискам претворения Человечности Бердяев и посвятил свой труд.
"Цивилизация возникла как средство, но была превращена в цель. Культура есть средство для духовного восхождения человека, но она превратилась в самоцель, подавляющую творческую свободу человека. Это есть неотвратимый результат объективации, которая всегда разрывает средства и цели".
Отсюда ощущение трещины, угрожающей жизни, раздвоенное, "несчастное сознание", ибо сознание имеет экзистенциальный центр только в Личности, а Личностей мало. И Бердяев напоминает еще раз: "Именно средства, путь свидетельствуют о духе, которым проникнуты люди". Это касается и формы борьбы за свободу человека, которая
"есть прежде всего изменение структуры сознания... Это внутренняя глубинная революция, совершающаяся в экзистенциальном, а не историческом времени... Подчинение Истине, которая вместе с тем есть путь и жизнь. Истина дается лишь Свободе".
Можно говорить о безмерной мере ответственности Свободно-то человека, Человека будущего, которого выстрадало человечество, сначала в лице своих мучеников и провидцев, потом – миллионов невинно павших. Человеческая личность есть потенциальное все, освободившееся от рабства, падшести. "Эта падшесть имеет свою структуру сознания, она побеждается не только покаянием и искуплением греха, но и активностью всех творческих сил человека". Предчувствие дня сегодняшнего.
Как Бердяев понимал будущее человека, что имел в виду под "концом света", в приходе которого не сомневался, признав в буржуа эсхатологическую фигуру, конец мировой Истории? Буржуа не укоренен в Бытии, живет в конечном и боится бесконечного, ему чужда идея Личности. (Удивительным образом "человек массы" унаследовал эти черты). Он – существо групповое, "создавая мир фиктивный, порабощающий человека, разлагает мир подлинных ценностей.
Будущее мира зависит от Личности, рождение которой подготовлено всей Историей. В этом смысле История свою функцию выполнила. Дело за Человеком. Настало время выбора между рабством и Свободой. И это, в самом деле, зависит от сознательного и волевого усилия самого человека, конечно, если в нем не утрачен инстинкт жизни. Время свидетельствует, что не утрачен (Бердяев предвидел рождение Личности, как Вернадский предвидел рождение Ноосферы, пришествие разума – одно в другом).
Бердяев возлагает надежды на тот самый "конец света", который ввергал в ужас умы, затуманенные страхом на протяжении веков, на Западе и Востоке. Бердяев избавляет от этого страха: "конец мира" есть "конец объективизации, и понадобится творческая активность человека", чтобы "творить себя творческими личностями" [119]. В этом смысл его философии. Прошедшие тысячелетия несводимы к веренице исторических событий, поворачивающих многогранник судеб людей и народов. Помимо видимого идет подспудный процесс духовного накопления человеческих эманаций, еще не изученных наукой. Но мало ли что ею еще не изучено, но продолжает воздействовать на человека, открываясь лишь проницательным умам. Вспомним:
"Выявление человеческой духовной силы, в разной степени и разными способами совершающееся в продолжении тысячелетий на пространстве земного круга, есть высшая цель всего движения духа... возвышение или расширение внутреннего бытия – вот то единственное, что-отдельная личность, насколько она к этому причастна, вправе считать своим нетленным приобретением, а нация – верным залогом будущего развития новых великих индивидуальностей" [120].
Конфуций говорил: "Не Путь может расширить человека, а человек может расширить Путь".
Целостному уму Бердяева открыто Целое: "Метаистория прорывается в историю, и все значительное в истории связано с этим прорывом [121]. До сих пор наука не может объяснить природу откровения, нисхождения знания – озарения, интуиции, прорыва творчества, которым человечество обязано всем, что имеет, от техники до культуры, – что питает его человечность и формирует Личность. Не случайно в центре современной философии оказалась проблема Времени как модуса существования (Бергсон, Хайдеггер). Бердяев различает три типа Времени: космическое, историческое и экзистенциальное, и на каждого из людей все эти три времени воздействуют, или каждый человек живет в этих трех формах времени.
Символ космического, природного времени – круг, оно связано с. круговым движением земли вокруг солнца, со сменой дней, месяцев, годов, часов. Символ исторического времени – прямая линия, устремленная вперед, оно конституируется памятью и традицией, одновременно революционно и консервативно, но оно не касается глубин существования. Символ экзистенциального времени – Точка (не атом времени, а атом вечности – по Кьеркегору); оно выходит за рамки времени. То, что переживается в глубине экзистенциального мгновения, остается навечно, будучи глубинной духовной реальностью.
Действительно, все великие шедевры не зависят от времена и несводимы, к нему. Благодаря "прерывности" в космическом и историческом времени происходит явление вечности [122]. Бесконечность экзистенциального времени есть бесконечность качественная, не количественная, это время – внутреннее, не исчисляемое. Все в этом времени совершается по вертикали. На горизонтальной линии это лишь точка, в которой происходит прорыв из глубины на поверхность: всякий творческий акт, совершающийся во времени экзистенциальном, лишь проецируется во времени историческом. Все великое в истории, продолжает Бердяев, есть прорыв в экзистенциальном плане, поэтому над историей существует Метаистория, которая не есть продукт исторической эволюции.
Такой взгляд позволяет надеяться, что История завершится Царством свободы духа, и потому эсхатологический конец не путает его, а воспринимается как освобождение человека от рабства истории. "Конец истории есть победа экзистенциального времени над историческим, творчества над объективацией, личности над универсально-общим, экзистенциального над обществом объективированным". И это убеждение – от веры в Человека: "Личность есть победа духа над природой, свободы над необходимостью. Форма человеческого тела есть уже победа духа над природным хаосом".
Ценность Личности определяется нравственно-разумной природой, духовной реальностью, которая индивидуальна и универсальна. Отсюда вера в бессмертие Личности: она есть единственное бессмертное, ибо творится для вечности. "Победа не только над страхом смерти, но и над самою смертью, есть реализация личности... Реализация личности невозможна в конечном, она предполагает бесконечность, не количественную, а качественную бесконечность, т.е. вечность. Индивидуум умирает, так как не рождается в родовом процессе". К этому подводит сама История или испытание через Историю: "Конец истории есть освобождение от власти конечного и раскрытие перспективы качественной бесконечности, т.е. вечности" (интересная проблема для психологов: у определенной категории людей сама идея бессмертия вызывает животный страх, хотя все живое должно бы стремиться к бессмертию, продолжению жизни. Осознание того, что не все конечно, не все кончается с физической смертью, в корне изменило бы психологию человека и, стало быть, путь человечества, каждый бы начал думать прежде, чем делать).
Пусть разные философы называют этот исход по-разному, но кто из достойнейших не думал о переходе из Царства необходимости в Царство свободы и не видел в этом конечную цель человеческого пути? Если Бердяев называет завершение "богочеловечностью", то вся русская философия держалась этой надеждой: "Образ человеческий, но и образ Божий. В этом скрыты все загадки и тайны человека. Свобода и независимость личности от объективного мира и есть ее богочеловечность". Ведь Бог для философа – тот, кто перестал быть рабом, узнав себя, пробудился. "Бог не существует как находящаяся надо мною объектная реальность... Он существует как экзистенциальная встреча, как трансцендирование, и в этой встрече Бог есть личность... Поразительно, что всякое учение, унижающее человека, унижает и Бога". Что и говорить! (Мне лично близко понимание Бога как Совести, которая "не может иметь своего центра в каком-либо универсальном единстве, она не подлежит отчуждению, она остается в глубине личности" [123]. Значит Совесть так же бессмертна, определяет дальнейшую судьбу каждого, и суд ее беспристрастен).
Лао-цзы говорил: "Кто знает меру, не знает позора. Кто умеет вовремя остановиться, не подвергнется опасности" ("Даодэцзин", §44). Что делать, если нет спасения от вечных вопросов!
Пока жив человек, он будет думать об этом. Что есть жизнь и смерть и для чего они даны человеку, что есть сам человек и для чего явился в этот мир. Размышляя, человек восходит к самому себе, избавляется от "первородного греха", противопоставившего одно другому: смерть – жизни, жизнь – смерти. Все во власти человека: "Душа угаснуть не может, если не будет отделена от разума. Отделиться же... она не может. Следовательно, она не может и умереть" (Августин. О бессмертии души, 4, 2, 6). Все бессмертные свидетельствуют о том же: "Человек, (умирая) в ночи, сам себе огонь зажигает: хотя его глаза померкли, жив он"; "Людей после смерти то ожидает, на что они не надеются и чего себе не представляют" (Гераклит, В 21, В 26).
А разве Августина не волновал тот же вопрос, и не вспоминал ли он в "Исповеди" слова: "Я был плотью и дыханием, скитающимся и не возвращающимся" (Пс. 77, 39)? "Был я где-нибудь, был кем-нибудь?"; "Откуда я пришел сюда?"; "Наступило ли младенчество мое вслед за каким-то другим умершим возрастом моим?" (Исповедь Блаженного Августина, 1, 5, 9). В комментарии говорится, что Августин отвергал теорию Платона о переселении душ, но одобрял другую: все души были созданы в начале и по какому-то собственному усмотрению нашли путь телесного воплощения [124].
Любовь моя в том мире давнем,
Где бездны, кущи, купола, –
Я птицей был, цветком и камнем,
И перлом – всем, чем ты была!
(Теофиль Готье)
Идея метампсихоза оживает в поэзии XIX–XX вв. [125]. "Когда-нибудь мы поймем, что смерть бессильна лишить нашу душу чего-либо из приобретенного, ибо приобретенное ею и она сама – одно и то же" [126]. А Достоевский? Разве не его мысль, что "высшая идея на земле лишь одна, все остальные высшие идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают". Это идея бессмертия, благодаря которой "человек постигает всю разумную цель свою на земле". А его размышления о "живой связи нашей с миром иным", с миром "горним", "да я корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных".
И если исчезает это чувство соприкосновения с миром иным, то "станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее".
Что уж говорить о русских космистах, о Н. Ф. Федорове, например, учением которого интересовался Достоевский, хотя и не успел с ним близко познакомиться.
"Люди считают смерть каким-то законом, а не простой случайностью, водворившейся в природе вследствие ее слепоты. А между тем смерть просто результат несовершенства, несамобытности жизни... – уверял Федоров. – Смерть есть торжество силы слепой, не нравственной, всеобщее же воскрешение будет победой нравственности, будет последнею, высшею степенью, до которой может дойти нравственность" [127].
Природа самопознается через человека, и оттого неизмеримо возрастает его роль в космической Эволюции, одухотворении материи, "высветлении экзистенции". Мы почему-то мало занимались этой стороной учений, в которой смысл человеческого существа, теперь начинаем наверстывать упущенное. Но, слава богу, цель намечена. Может быть, и мы научимся, как и Циолковский, ощущать блаженство и страдание атома:
"Ни один атом вселенной не избегнет ощущений высшей разумной жизни... Если космос имеет причину, то и причине этой мы должны приписать такие же свойства – всеобщей любви... Причина создала вселенную, чтобы доставить атомам ничем не помраченное счастье. Она поэтому добра. Значит, мы не можем ждать от нее ничего худого" [128].
И нам не покажется странной мысль Н. Гумилева:
"Мы не решились бы заставить атом поклоняться Богу, если бы это не было в его природе".
Что уж говорить о восточных учениях! "Человеческая душа принадлежит небу, человеческое тело – земле" (Ле-цзы). Очищается сознание, и все шаг за шагом приближаются к Просветлению. Со смертью разрушается лишь данная форма, оболочка, а то, что составляет сущность, переходит в иное состояние, обусловленное кармой, законом высшей, онтологической Справедливости. Она и располагает определенным образом "элементы бытия" – дхармы. От человека зависит – выправить, улучшить или ухудшить свою карму. В конце концов все придут к спасению, если верить буддизму. Откроются тайны микрочастиц, откроется и закон Жизни, когда проникнут в среду тонкой материи, как размышлял об этом Пуанкаре: "Когда-нибудь потребуется между атомами нашей первой среды вообразить вторую, более тонкую среду, предназначенную для передачи действия между ними".
Но это особый разговор, если суждено, вернусь к нему когда-то. А теперь пора и честь знать, пристать к берегу, чтобы вновь не унесло мою ладью в открытое море и не укачало тех, кто решился на столь долгое путешествие и выдержал его до конца. Все равно "пределы души не измерить, даже если пройдешь весь путь". Непросто было доплыть до какого-то берега, сквозь туманы и рифы, да и снасти не совсем современные, но надежные [129].
Итак, если Логос и Дао имманентны миру, то предназначены выполнять какую-то функцию. Скажем, Логос – цель Бытия, его реализация – бытие в Истине: идеальный порядок, Космос, когда всем хорошо. А Дао – Путь к этой цели; следуя Дао, проходя цикл за циклом, "мир идет к Добру", или к реализации собственной Энтелехии. Но Цель и Средство едины, вместе, сообща выполняют мировой замысел, т.е. они не противоречивы, дополняют друг друга: если Логос – жизнь согласно Разуму (Ноосфера), то Дао – средство ее достижения. Потому Дао и называют "моральным законом", от которого нельзя отступить ни на шаг ни вправо, ни влево.
Но если так разумно устроен мир, почему же так неразумно он живет на протяжении уже многих тысячелетий? Ведь не случайно вблизи История внушает "чувство ужаса", и чем дальше, тем больше. Веками продирался человек сквозь тьму незнания, оставляя развалины, опустошенные распрями земли. Отступали моря, наступали пустыни. Одни созидали, другие с удивительным упорством разрушали созданное подвижниками, превращая оазисы в голые степи. Мы – свидетели небывалых катастроф, сделавших реальным конец света, но не всегда с достаточной ясностью представляем себе истинную причину этих катастроф, которые становятся обыденным явлением, и к ним уже привыкает человек, предпочтя лучше погибнуть, чем признать собственную вину. Каков человек, таков и мир.
Причина же убыстряющейся катастрофичности мира человеческого, убыстряющего с каждым днем шаг к пропасти, в разрыве связи Неба – Земли. Чем более за последние века набирала силу техногенная цивилизация, о которой шла речь, тем более бездуховной становилась жизнь. Чем бездуховнее становилась жизнь, тем более отторгался человек Бытием и, чем более отторгался он Бытием, тем более разрушался изнутри. "Небо и Земля не связаны, будет Упадок" – сказано в "Ицзине". А помните пророчество Достоевского?
"Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и взошло все, что могло – взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством СОПРИКОСНОВЕНИЯ своего таинственным мирам иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и взращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее" [1].
Когда началась техническая гонка, порвалась не только связь времен – по горизонтали, но, что страшнее, порвалась связь времен по вертикали, т.е. стали притупляться те духовные, нравственные навыки, которые накапливались в страдании и которые только и могли вывести душу человека к Свету. Притупилось то самое чувство "соприкосновения", которое позволяло каждому ощущать себя частью Целого, испытывать боль Вселенского организма: в одном месте ударишь – в другом отзовется.
Потому так и страшились этого веяния, обезбоживания мира русские философы, что оно ведет к его самоуничтожению.
"Все живущее во все времена в разных формах ощущало, что вне времени, в вечности, предмирно было совершено какое-то страшное преступление, что все и всё в этом преступлении участвовали и за него ответственны. Жаждой искупления наполнена вся история мира, и лишь как искупление может быть понят смысл истории... Если зло и страдания жизни, смерть и ужас бытия не являются результатом предмирного преступления богоотступничества, великого греха всего творения, свободного избрания злого пути, если нет коллективной ответственности всего творения за зло мира... то бытие не имеет никакого смысла и никакого не может иметь оправдания" [2].
Когда-то меня поразили слова Ламартина:
"Человечество подобно ткачу, работающему на станке времен с изнанки. Придет день, когда, взирая на другую сторону ткани, человечество узрит картину дивную и величавую, вытканную на протяжении веков его собственными руками, причем само оно не ведало ничего, кроме путаницы нитей на изнанке ткани. В этот день человечество преклонится перед Провидением, проявляющим себя в нем самом" [3].
Значит, есть нечто, на что можно уповать: за покровом майи существует то, что не подвержено разрушению и что благорасположено к человеку, некий изначальный Разум, ведущий его за собой сквозь тернии дорог, через падения и подъемы к чему-то другому. Может быть, История дана в испытание – горнило духа, очищает и расширяет сознание, то сознание, которое способно понять ее, извлечь урок. Потому и выглядит столь неприглядно с изнанки – "путаница нитей", узелки, непонятно зачем завязанные, в общем, картина Хаоса, творимая страхом перед ним. И жизнь, действительно, не имеет смысла, если нить каждого обрывается с его смертью, как, скажем, в "Теогонии" Гесиода: одна мойра прядет нить жизни, другая проводит ее через перипетии судьбы, третья перерезает нить, обрывает жизнь человека. С тех пор и стали думать, что жизнь человека конечна.
Но что-то продляло эти нити, располагая их определенным образом. Страх, "ужас истории" не останавливал подвижников, хотя и оставлял рубцы в их душе. Некий извечный Свет манил идти дальше и восстанавливать разрушенное, возводить ступени к Истине. Великие умы проницали будущее и потому не сомневались в пришествии Разума.
"По своим обязанностям и целям все служат красоте целого, так что чего мы ужасаемся в частностях, то произведет на нас впечатление, если рассматривать его в целом... Напротив, заблуждение, привязывающее нас к одной какой-либо части мира, само по себе безобразно"
(Августин. Об истинной религии, XL).
Как всякое Целое, История имеет свой Закон, стало быть, исповедима, доступна пониманию человека и, как всякое Целое, причастна Бытию. Потому, сколько бы человек ее ни искажал, приноравливая к своим маленьким нуждам, она все в конце концов ставит на свои места и каждому воздает по заслугам, и никто не избежит ее приговора. Это особенно ощущается на исходе Истории, когда, действительно, появляется возможность увидеть ее с лицевой стороны, самою Ткань Истории, где нет ни одной случайной нити или окраски.
И разве случайно образ космического Ткачества, Ткани, прошел через все века и дошел до нашего времени? И на Западе, и на Востоке: "Дао имеет основу и уток, ветви и завязи. Овладевший искусством Единого связывает в одно тысячи веток, тьму листьев"; "Тьма вещей разбилась на сто родов, каждое получило свою основу и свой уток, свой порядок и свое место" ("Хуайнань-цзы", гл. 2). Или гл. 6 "Цзы-чжуань": "Ритуал (ли) – это устои (в отношениях) верхов и низов, основа и уток Неба и Земли. Он дает жизнь народу. Поэтому прежние правители следовали ему". И древние тексты Японии полны напоминаний о Ткачихе (или утке и основе и вечной нити), плетущей мировую ткань. Этот архетип не объяснишь случайным совпадением или просто развитием ткачества.
Во все времена были те, кто знал Истину: мир лежит во зле, но устремлен к Добру. Зло несубстанционально и, как все, непричастное Бытию, самоистребляется.
"На темной основе разлада и хаоса невидимая сила выводит светлые нити всеобщей жизни и сглаживает разрозненные черты вселенной в стройные образы. Мир не пустое слово; есть в мире смысл, и он всюду проглядывает и пробивается сквозь одержащее его бессмыслие... смысл мира есть всеединство".
Вера В. Соловьева есть вера русской философии, увидевшей в Истории движение от грехопадения к воплощению Логоса. Прогресса или нет, по убеждению В. Эрна, или он есть усвоение абсолютного:
"История мира – это органический процесс, и, как бы зло ни торжествовало в промежуточных фазах его, конец, к которому придет он, будет окончательной и вечной победой Добра" [4].
И Бердяев видел в конце Истории Свет и Свободу, выстраданные человечеством, и "метаисторический эон", который дает о себе знать в прорывах Творчества. Поэты возвещали: "Сотри случайные черты, и ты увидишь: мир прекрасен". И вслед за Блоком пророчествовал Б. Пастернак:
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.
И не потому ли доступно видение Высшего плана Бытия, что существует "небо небес", "небо духовное", или мир существ духовных, "где свойственно этим существам видение и знание не от части и не по частям, не якоже зерцалом в гадании и не переменчивое... но целостное и всеобъемлющее, в ясном явлении лицом к лицу, всегда одинаковое, полное и совершенное, без всякой изменяемости времен (I Кор., 13, 9)" (Исповедь Блаженного Августина, XII, 13). И не отсюда ли ощущение благого Единства у таких ученых нашего века, как А. Тойнби?
"Конечно, в движении всех тех сил, которые ткут паутину человеческой истории, есть ясный элемент повторения. Однако челнок, снующий вперед-назад по ткацкому станку времени, производит гобелен, в котором явно проступает рисунок, а не просто бесконечное повторение одного и того же образца" [5].
В начале книги, если помните, я написала, что если удастся распутать хотя бы один узел на ковре Истории, то можно будет понять Закон вселенского Ткачества. А это вопрос отнюдь не праздный, ибо можно сообразовывать свои действия с заданным рисунком, усложняя и украшая его, а можно прервать само плетение, разрушить то, что уже сплетено в узор земной историей.
А может быть, это Дао и Логос трудились над лицевой стороной Истории? И уже потому не могли совпадать, иначе не получилось бы Рисунка. Дао прядет нить Истории, потому что, находясь "в бесконечном движении, не достигает предела", петляет, но, чередуясь, удерживая мир в равновесии, ведет его к Благу. Разум и Путь его претворения организуют жизнь в ее высших формах через пробуждение разума самопознающего себя человека. Дао и Логос, как Восток и Запад, присущи каждому как его возможность, энтелехия. Встреча в человеке двух сторон единого Бытия и даст новое качество Жизни – Целого человека. (Собственно, в этом и заключалась моя задача – показать движение к Целому человеку с двух сторон, способных составить. Единое или "всеединое", а теперь лишь хочу подвести итог размышлениям, "поставить точку дракону в глаз", как говорят японцы). Сначала эти половины расходились, потом сходились незаметно, а в последний век будто и вовсе распались, как и все пары, вплоть до самого человека, обреченного, казалось, на вечное раздвоение. В искусстве это отступление от Бытия, от Основы, или разрыв Неба и Земли, особенно ощутим. (Как заблудшее бродит воображение по свалкам жизни" и она неумолимо оставляет талант, отторгает то, что не способно ощутить "небо небес". К этому искусству отчаявшихся душ уже и теперь теряется интерес, как теряется он ко всему лишенному индивидуального выражения. А броское искусство авангарда, несмотря на многообразие форм, до жути, по-моему, однообразно. Но это так, к слову).
В каких-то муках рождается новое, целостное видение Истории.
"В первый период господствует только судьба, т.е. совершенно слепая сила... – по Шеллингу. – К этому периоду истории – его можно назвать трагическим – относится исчезновение блеска и чудес древнего мира, падение тех великих империй, о которых сохранилось только слабое воспоминание... Во второй период истории то, что называлось "судьбой", т.е. совершенно слепой силой, открывается как природа, и этот закон природы... постепенно привносит в историю хотя бы механическую закономерность... В третий период истории то, что являлось нам в предшествующие периоды в виде судьбы или природы, раскроется как провидение, тогда станет очевидным, что даже то, что казалось нам просто вмешательством судьбы или природы, было уже началом открывшегося, хотя и несовершенным образом, провидения... История в целом есть продолжающееся, постепенно обнаруживающее себя откровение абсолюта" [6].
И опять парадокс – знак Истины: чем более бездуховным становился мир на низших уровнях, тем сильнее обострялась интуиция, видение метаисторического зона, на высшем. "Общество, начавшись с царства силы, пройдя через царство закона, должно прийти к царству милостыни или благотворения", – предвещал В. Соловьев [7].
Интуиция в последние по крайней мере два века господства научного знания – была не в чести. Но и Наука приходит к тому же, к поиску единого Закона, с помощью которого можно будет понять все частные формы его проявления. "Ведь святым может быть названо только то, что разумно и знает о разумном" [8]. И, наверное, Целое стало реальностью, когда открыли и ввели в мыслительный процесс понятие поля, кванта и принцип дополнительности Н. Бора, который снял кажущееся противоречие между, казалось бы, несовместимыми состояниями. После этих научных открытий целостное мышление уже стало неизбежностью (на языке образа – началось возвращение блудного сына в лоно Бытия, хотя и не найдены пока ключи в "дом Бытия", к мыслеобразующему языку).
Я не случайно сделала еще один виток в сторону или вспять, ибо, кажется мне, что по тому же принципу волны и корпускулы соотносится и эта пара, Дао и Логос: непрерывность Дао благодаря движению туда-обратно на феноменальном уровне и полный Покой постоянного, или истинного, Дао. И прерывность Логоса, в силу его прямолинейности – на уровне явленного бытия, и неизменность в Вечности: "Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут" (Мф., 24, 35). В каждой вещи есть две природы: в "небесной", неизменной, все вещи едины; в "земной", изменчивой, все вещи различны. Значит, в высшем смысле едины Дао-человек и Логос-Богочеловек; "поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его" (Ин., 3, 21). Это и есть Целый человек.
Есть изменчивое, подверженное времени, и есть неизменное, не подверженное ему. И пусть одни называли это ноуменальным миром, или Мировой душой, Urseelentum, в которой все вечно пребывает, где находятся поныне потерянные трагедии Эсхила; или Метаисторией, или Человечеством, как Гумбольдт [9]; другие называли изначально чистой природой (син), Великим единым, Дао – суть одна. В изменчивом есть неизменное, это неизменное и есть истинно-сущее, или Истина, поисками которой занят ум человеческий на протяжении всей своей жизни. Но мы пока живем в истории, и естественно наше стремление понять ее законы. Если функциональная асимметрия есть закон существования Целого, то он не может не сказаться и на исторических ритмах. Скажем, если для истории Запада характерна последовательная смена состояний, господствующих форм сознания. Происходило смещение доминанты: на смену мифологическому мышлению приходит религиозное, на смену религиозному – научное, это в паше время образуется новый тип мышления через интеграцию все трех форм сознания. Для восточной же исторической и культурной парадигмы характерен не последовательный, а одновременный или параллельный тип связи одного с другим. Все три формы сознания существовали одновременно, взаимопроникались, что не могло не отразиться на характере каждой из них и на природе социокультурного целого. В первом случае мы имеем прерывный, скачкообразный тип развития (в соответствии с мировоззренческой установкой на закон отрицания-отрицания). Во втором случае – непрерывный, равномерный тип развития, устремленный к самовоспроизводству Изначального образца. Восточный путь можно графически изобразить непрерывной волной, а западный – корпускулой или историческими квантами, скачками, выбросами накопленной энергии. Но та и другая формы есть неотъемлемые свойства Целого, исторической материи, Ткани, которую предстоит увидеть с лицевой стороны.
Если так, то это не может не отразиться и на традиционных символах или образах. Как человек думает, так и строит свои отношения с внешним миром, сознание воссоздает формы по своему подобию. Скажем, у одних изначальна Единица, которая дает начало порядковому ряду чисел, когда одно вытекает из другого – линейному мышлению. Вертикальная же единица выполняет функцию разделения, разводит мир на две половины: правую-левую, субъект-объект, давая возможность властвовать над объектом. Арабская, тем более римская Единица тянется кверху, как и Огонь, или фаустовская душа. (Кстати, если арабские цифры еще имеют тенденцию к округлости, то римские категорически прямолинейны, рассекают пространство – "Разделяй и властвуй!"). Китайская же Единица горизонтальна, – как и дао-вода устремлена вниз или вширь, разливается. Горизонтальная Единица в принципе не может рассекать, ее функция соединительная – не дать распасться Единому. "Мой Путь одним пронизан", – говорит Конфуций. Таков Путь и каждого мудреца: соединять разрозненное невежеством, но соединять в определенном порядке – притягиваются друг к другу вещи "того же рода", или единомышленники. Иерархия уровней сознания и обеспечивает Единство, в то время как соединение чуждого его разрушает. Вертикальная Единица располагает к действию, поиску, дерзанию, бунту; горизонтальная – к покою, недеянию, естественности. Одна ведет к разделению, дифференциации; другая – к соединению, к интеграции (Встреча обусловит их взаимодействие).
Если Логос – Огонь, то Дао – Вода. Свойство Огня – необратимость. Огонь по прямой восходит к Небу. ("По прямому пути Бог приводит все в исполнение", – Платон). Дао же обратимо: "Возвращение есть движение дао" ("Даодэцзин", §40). Дао-вода колышется, туда-обратно. Логос-огонь, "созидая сущее из противоположных стремлений", толкает к действию, к борьбе, преодолению, восхождению (какой смысл возвращаться в "бездну", к Хаосу, если он изначален?). Отсюда забвение Основы, возможность отсечения прошлого, мешающего восхождению, непризнание Постоянства в пределах Поднебесной, стремление вырваться за ее границы. Дао осуществляется не за счет столкновения противоположностей, а за счет их единства: инь-ян сами по себе следуют друг за другом, как солнце и луна, и не нужно их подталкивать, взрывать ситуацию ради перехода в иное состояние, делать Историю. Все идет своим чередом, все рождается из Небытия и возвращается в Небытие для нового цикла, но не за счет разрыва связей, а за счет наращивания силы: один виток находит на другой по мере реализации древа жизни. Дао олицетворяет память, верность изначальному, Основе.
Огонь всегда жертвенный, даже карающий, – самоистребляется, поднимаясь ввысь, до полного самосожжения. Путь жертвы. Идея карающего Огня прошла от Гераклита и Сенеки до наших дней: "Грядущий огонь всех объемлет и всех рассудит" (Гераклит, 66). Каждый "Великий Год" происходит космический пожар, чтобы обновить вселенную. Лишь праведных не коснется Огонь. (Идея, которая легла в основу апокалипсиса, эсхатологии) Астрологи предсказывали: когда семь планет собираются в созвездии Рака, то наступает Великий потоп, а когда собираются в созвездии Единорога, то Вселенная испепеляется Мировым пожаром. Древние приписывали Огню способность мыслить: "...все части огня, как видимые, так и невидимые, обладают мышлением и причастны разуму" (Эмпедокл). Существует понятие адского огня, карающего грешников. Сам Яхве – "огонь поядающий" (Втор., 4, 24). Но это все тот же Огонь, праведникам во благо, грешникам во спасение. "Огонь божественной любви Твоей, попаляющий в нас все недостойное Тебя, воспламеняет нас" ("Исповедь Блаженного Августина", XIII, 9),
К Воде отношение в этой системе было другое. Скажем, у стоиков вода олицетворяет Хаос: Великий Потоп – "выпущенная на волю бездна хаоса". Но Водой Христос надеялся смирить огненные страсти падших, смирить огненную стихию. Иисус наставляет Самарянку, пришедшую к колодцу: "Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять; А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную" (Ин., 4, 13 – 14). Но не соблазнился человек жизнью вечною и испил чашу огненную, забыв, что "Есть и другие воды над твердью небесною. Что же это за воды? Думаю, что это духи бессмертные, которые не испытали падения и земного повреждения, но устояли в том состоянии, в которое Ты поставил их... Видим твердь небесную, занимающую место в мироздании между водами над нею, верхними, которые духовны, и водами под нею нижними, которые вещественны" ("Исповедь Блаженного Августина", XIII, 15, 32). И прошел сполна Путь огненной стихии, но так и не очистился огнем. На пороге XX в. Вивекананда взывал к здравому смыслу: "Европа на краю вулкана. Если огонь не будет потушен потоком духовности, она взлетит на воздух". А о самом Вивекананде говорил его учитель, Рамакришна: "Смотрите, смотрите, какая проникновенная сила! Он ревущее пламя, которое уничтожает все нечистое". Есть один огонь, и есть другой; как и во всем, есть две природы – высокая и низкая. А вернее всего сказал об этом японский мудрец Кэнко-хоси: "В законах говорится, что вода и огонь не бывают грязными. Грязным может быть лишь сосуд". Стало быть, от загрязнений, от клеш (зависти, недоброжелательства, злобы) нужно очистить сознание, тогда будет нечего опасаться ни Воды, ни Огня.
Не в том беда, что Запад шел по преимуществу дорогой Огня, а Восток следовал путем Воды, а в том, что эти две космические силы не были уравновешены. От избытка энергии огня (ян) Запад последние века бьется в лихорадке. От избытка воды (инь) Восток на протяжении тех же веков забылся, будто в летаргическом сне, пока не пробудила его от этого сна огненная стихия Запада. Избыточная энергия огня, естественно, искала выход (слишком много того или другого, инь или ян, грозит гибелью) и направилась туда, где ее явно недоставало. Перераспределение энергий, по закону Целого, вселенскому закону всеобщего Равновесия, было неизбежно. Другое дело, что непробужденное сознание придало этому естественному процессу обмена энергиями насильственную, варварскую форму – колониальной экспансии вместо диалога цивилизаций, обмена культурой и знанием, в чем тот и другой мир испытывали крайнюю нужду. Но и в этой, непростой ситуации находились те, кто стоял над страстями, над личным и национальным эгоизмом. Тагор приветствовал пробуждение Азии:
"Динамизм Европы взял приступом наши пассивные умы. Он подействовал на нас, как ливень из тучи, пришедшей издалека, действует на пересохшую землю, пробуждая в ней жизненные силы... В области морали произошло то же самое, что и в физике. Среди воспринятых нами идей нового века самая значительная утверждает, что все люди равны перед лицом закона".
Но видел Тагор и другую сторону огненной стихии:
"С каждым днем становится все очевиднее, что факел европейской цивилизации несет за пределы Европы не свет, а пожарище".
Он сравнивает колонизацию Азии с вторжением европейцев в Америку, когда они ради золота "путем предательства и насилия уничтожили чудесную цивилизацию майя" [10].
Но в сознание запала идея, что можно навязать миру порядок, переделать его, перекроить по своему усмотрению. А во что это обошлось человечеству? На это нет ответа, ибо это неисчислимо, как не передашь на языке цифр торжество накопленных анергий Тьмы, мирового зла, отравившего людское сознание, которое только-только начинает приходить в себя.
Беда, стало быть, в том, что разъяты половины, отношение Огня и Воды, Запада-Востока, ян-инь, не регулируются Разумом, когда Логос и Дао отчуждаются друг от друга. Если стихии Воды и Огня уравновешены, они перестают быть стихиями, к ним возвращается Разум. Говоря словами платоновского Тимея, конец человеческих мучений наступит тогда, когда человек победит разумом силу огня и воды, воздуха и земли, одолеет их неразумное буйство и снова вернется к идее прежнего и лучшего состояния. Беда в том, что нарушилась Гармония изначального ци, подвижное равновесие вселенских энергий. Оттого и взбунтовались стихии, и мы это все чаще наблюдаем. Бессознательная сила привела к такому избытку Огня, что стала реальностью ядерная зима (крайности сходятся): "В крайнем пределе холод замораживает, в крайнем пределе жар сжигает" ("Чжуан-цзы", гл. 21). Огню неведом Великий предел, он сам по себе не может остановиться, не знает границ и может испепелить все на пути. ("Бессознательное", по Юнгу, есть сфера "мироразрушительного и миросозидательного огня" – та же матрица изначального Хаоса, созидающего и разрушающего).
Прорыв бессознательной стихии в актах насилия, в массовых психозах, в национальных распрях, в наркомафии – симптомы болезни XX в. Если не понять истинную причину недуга, заниматься следствиями, которые лишь будут возрастать на почве недомыслия, то уж не избежать Мирового пожара, предчувствием которого полна литература.
"Если в одном малом существе, так сильно привязанном к жизни, – в человеке жестоко и неодолимо бушует огонь самоуничтожения, то это начало присуще и всему моему Лесу... Весь мир готовится к последнему порыву самосожжения в Большом огне – и ты молчишь... Отче, помоги мне, может быть, это Ты?" [11].
Но почему Бог должен помогать человеку? Помощь Бога – в отсутствии помощи (Небытие Бога). Он все дал, все устроил по законам Красоты, и вольно было человеку разрушить этот Храм и при этом упрекать не себя, а Всевышнего. Как иначе научишь человека уму-разуму, заглянуть в себя и найти там ответы. Разве царствие божье не внутри человека? И, может быть, есть выход, может быть, стоит заглядывать в древние тексты? Скажем, последняя, 64-я гексаграмма Ицзина, завершающая весь цикл, состоящий из 64 фаз, так и называется – "Еще не конец!" (Вэй-цзи). А состоит она из верхней триграммы Огня и нижней триграммы Воды. Как нужно вести себя в этой ситуации человеку, чтобы выйти из затруднения? Благо есть перевод и комментарий Ю. К. Щуцкого, так что можно и непосредственно к ним обратиться. Но так как его книга давно уже стала редкостью, я приведу некоторые толкования. Что означает эта завершающая весь цикл гексаграмма?
"Ситуации разворачиваются так, что, наконец, наступает хаос, но хаос рассматривается не как распад созданного, а как бесконечность, как возможность бесконечного творчества все вновь и вновь. Не как нечто отрицательное выступает здесь хаос, а как среда, в которой может быть создано нечто совершенно новое",
т.е. вполне в духе современной физики. А приведет ли хаос к порядку, это уже зависит от человека, от правильности его поведения.
"В то время, тогда человек проходит через хаос, единственное, на чем он может держаться, это на самом себе, ибо в хаосе не на что положиться. Он должен на второй позиции, которая как раз характеризует внутреннюю жизнь человека и его замкнутость, полнейшим образом держаться на самом себе, сохранить самого себя".
Вот и ответ: ситуация "хаоса", которую мы сейчас переживаем, обнадеживает в том смысле, что человеку более не на что полагаться, как на самого себя, и он перестает искать, на кого бы опереться, чьи бы выполнить указания, и волей-неволей вынужден обратиться к себе самому, непривычному и неизвестному до сих пор, ибо был он все это время не самим собой, а кем-то другим, кем-то надиктованным. Потому эта ситуация и предстает как предельная: тут уж все зависит от самого человека, от того, сможет ли он наконец "познать самого себя". Не для этого ли устранены все иллюзии и все опоры, и он остается лицом к лицу с Истиной Бытия.
"Стойкость, охарактеризованная па предыдущей ступени, здесь является центральной характерной чертой человека. Она сообщает ему благородство. И это благородство, как из некоего центра, может излучаться во все окружение, облагораживая его. Суть этого внутреннего благородства – в той гармонии, которая подчеркивается средней позицией в верхней триграмме. Это внутренняя ПРАВДИВОСТЬ" [12].
Уравновесить две Вселенские силы, Огонь и Воду, тем более возможно, что они едины. По древнеиндийским представлениям, огонь и вода не только не противоречивы, но и пребывают друг в друге. Бог огня Агни – "сын вод". Говоря же словами поэта:
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Потому и потянулись Запад к Востоку, Восток к Западу, чтобы уравновесить крайности. И они встретятся, когда эти крайности уравновесятся в самом человеке, ибо в нем Все. Мы, действительно, переживаем момент фазового совпадения (Ахиллес догнал черепаху), предваряющего восхождение на новую ступень Эволюции – космического сознания (но не потому, что человек вошел в космос, а потому что космос начинает входить в человека). И кто знает, может быть, мы будем свидетелями преображенного мира, как предсказывал Вернадский, планета перейдет в новое состояние, ибо прежнее исчерпало себя, и из Хаоса родится Ноосфера, расцветет в конце Пути цветок Вселенского Разума, и человек ощутит себя своим во Вселенной. И, как всякое цветение, это может произойти неожиданно. Как это у Ламартина:
"Придет день, когда, взирая на другую сторону ткани, человечество узрит картину дивную и величавую, вытканную на протяжении веков его собственными руками... В этот день человечество преклонится перед Провидением, проявляющим себя в нем самом".
Прямо по Достоевскому:
"Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо". И произойдет Это неожиданно, скачком (как расцветает цветок или появляется солнце над горизонтом). В "один день" закончится История, выполнившая свое назначение, и Человек, озаренный внутренним Светом, более не станет принимать за реальность тени, как в Платоновой пещере, а увидит все, как есть. "Познавший себя узнает, откуда он"
(Плотин. Энн. 6, 9, 7).
И в Писании сказано:
"Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока"
(I Кор., 15, 51).
Стало быть, устремленный к Логосу и следующий Дао мир сам по себе восходит к Добру. Говоря словами Толстого, "мир движется, совершенствуется, задача человека участвовать в этом движении и подчиняться и содействовать ему". Тогда и осуществится всечеловеческая Энтелехия.
Итак, то расширяясь, то сжимаясь, двигалась История, придавая всему пульсирующий ритм, позволяя биться по-своему каждое сердце Вселенной (кстати, идеограмма "сердце" напоминает срез двойной спирали ДНК).

Сердце, по восточным учениям, – та точка, через которую все сообщается между собой: Земля с Небом, Человек с Человеком, Народ с Народом. Мудрые люди говорят: "Если у Вселенной одно сердце, значит, каждое сердце – Вселенная". Многому научился человек за долгий путь; когда поймет это, поймет и то, что все было не напрасно.
[1] Принципиально важные для меня понятия – Истина, Целое, Бытие, Человек, История и т. п. – я пишу с заглавной буквы в тех случаях, когда имею в виду их абсолютный характер, в отличие от тех слов которые этот смысл давно утратили.
[2] Р. Тагор. Искры. Поэтические афоризмы и миниатюры. М., 1970, с. 137.
[3] Здесь и ниже "Луньюй" цитируется по Тюкоку котенсэн (Сочинения китайской классики). Т. 2-3. Токио, 1965, или по "Древнекитайской философии", т. 1, М., 1972.
[4] Характерен мотив "Охотничьего ружья" Ясуси Иноуэ, где жизнь, разъединяющая людей, ассоциируется с "унылым белым руслом пересохшей реки" (Ясуси, Иноуэ. Сны о Россия. М., 1987, с. 258).
[5] Р. Тхакур. Сочинения Рабиндры. Т. 9. Калькутта, 1967, с. 6.
[6] Цит. по: Р. Роллан. Опыт исследования мистики и духовной жизни современной Индии. Жизнь Рамакришны. Жизнь Вивекананды. – Собрание сочинений. Т. 19. Л., 1936. с. 279.
[7] Там же, с. 231.
[8] Там же, с. 7.
[9] Здесь и ниже "Исповедь Блаженного Августина епископа Иппонского", цитируется по: Богословские труды. Сб. 19. М., 1978; и по изданию – Блаженного Августина епископа иппонийского "Исповедь", Киев, 1880.
[10] Недаром появилось выражение "прогрессирующий паралич". Говоря словами А. Вознесенского, "все прогрессы реакционны, если рушится человек".
[11] Р. Тагор. Национализм. Пг., 1922, с. 28, 42.
[12] "Дьявольская цивилизация" – так назвал одну из своих работ японский публицист Таока Рэйун (1870-1912). Японцы имели возможность сравнивать, свежим взглядом увидеть оборотную сторону европейской цивилизации, которая хлынула на Восток на исходе XIX в. Увлеченность европейским вызвала обратную реакцию: отказаться от цивилизации "механической", "бесчеловечной". Таока Рэйун поставил эпиграфом к своей работе слова М. Нордау: "Мир современной цивилизации напоминает громадную больницу, где все стонут и скорбят, где люди мучаются и страдают, как на ложе болезни". Сам термин "дьявольская цивилизация" Т. Рэйун позаимствовал у Э. Карпентера, моральные же принципы у Лао-цзы и Чжуан-цзы: "Отдаление от природы, попрание данного от природы естества – вот горькие плоды того, что существует поверхностная цивилизация. Презрение к субъекту, презрение к идеалу – тоже ее плоды". Источник заболевания – в крайнем рационализме, "маммонизме". Поклонение деньгам уродует души и тела людей: "Мне представляется, что цивилизация путем лжесовершенствования и приукрашивания интеллекта уводит человека от природы и заставляет его вести образ жизни, который с точки зрения физиологии вреден, а с точки зрения морали лжив" (цит. по: Д. П. Бугаева. Таока Рэйун – японский критик и писатель-документалист. Л., 1987, с. 95-97).
[13] Р. Тагор. Национализм, с. 44.
[14] The Book of Tea by Kakuzo Okakura. Tokyo, 1974 (34-е изд.), с. 4. Окакура Какудзо (Тэнсин, 1862-1913) написал эту книгу на английском языке и адресовал ее западному читателю, но японцы много раз издавали ее на своем языке. Я пользуюсь указанным выше изданием, сверяя перевод с японским текстом книги "Тя-но хон", в переводе Миягава Торао, Токио, 1971, и в переводе Мураока Хироси, Токио, 1973 (51-е изд.).
[15] Нюйва (др. кит.) – мифическая прародительница людей, среди прочих заслуг ей приписывается спасение Поднебесной: она залатала дыру в небе и укрепила его опорами с четырех сторон.
[16] Аватара (др. инд.) – воплощенное божество, появляется на земле, чтобы спасти мир от зла.
[17] The Book of Tea, с. 13-14.
[18] Р. Роллан. Жизнь Рамакрищны, с. 316.
[19] Иностранная литература. 1988, № 4, с. 8-9.
[20] Об этом свидетельствует, например, недавно вышедшая книга Мирча Элиаде под обобщенным названием "Космос и история" (М., 1987), где говорится о нарастающем ощущении "ужаса истории" и в качестве одной из альтернатив предлагается "человечеству ради обеспечения своего выживания перестать "делать историю" дальше (в том смысле, в каком оно начало ее делать со времени создания первых империй), довольствоваться повторением предписанных архетипами действий и пытаться забыть – как бессмысленное и опасное – любое спонтанное действие, рискующее иметь "исторические последствия" (с. 137). Что касается "последствий" при необдуманном обращении с Историей, то уместно напомнить притчу из "Книги Перемен", которая относится к пятой гексаграмме – Стой (Необходимость ждать): один человек из удела Сун хотел ускорить рост побегов риса и начал их вытягивать; сын побежал посмотреть, что же из этого получилось, и увидел, что все всходя засохли (см. Ю. К. Шуцкий. Китайская классическая Книга Перемен. М., 1960, с. 212).
[21] Р. Тагор. Национализм, с. 30-31.
[22] Р. Тагор. Искры, с. 177.
23 Махатма Ганди. Все люди – братья. – Открытие Индии. Философские и эстетические воззрения в Индии XX века. М., 1987, с. 216, 246-247, 249.
24 Кэнко-хоси. Записки от скуки. – Классическая японская проза XI-XIV веков. М.; 1988, с. 372.
25 Махатма Ганди. Все люди – братья, с. 251.
26 Т. Карлейль. Герои, почитание героев и героическое в истории. СПб., 1908, с. 143.
27 Как сказано в Евангелии от Иоанна (3, 8): "Дух дышет, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда он приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа".
28 Т. Карлейль. Современные памфлеты. № 1. Лондон, 1850.
29 Т. Карлейль. Герои, с. 233.
30 "Не сочтите меня высокомерным, но я со всем смирением могу сказать, что основные положения моего учения и методы, несомненно, применимы во всем мире и сознание, что они находят горячий отклик в сердцах все большего числа мужчин и женщин на Западе, приносит мне огромное удовлетворение" (Махатма Ганди. Все люди – братья, с. 260).
31 Ф. М. Достоевский. Пушкин (очерк). Собрание сочинений. Т. 26. М., 1984, с. 148.
32 Я уже не говорю, как верили в Россию Р. Роллан и писатели его круга. Но и такие непохожие философы, как О. Шпенглер и Вивекананда, видели в России источник мирового восхождения, О. Шпенглеру, например, принадлежит мысль о том, что сошли уже восемь великих культур – египетская, индийская, вавилонская, китайская, греко-римская ("аполлоновская"), византийско-арабская ("магическая"), западноевропейская ("фаустовская"), культура майя – и нарождается девятая – русско-сибирская (см. С. Аверинцев. "Морфология культуры" Освальда Шпенглера. – Вопросы литературы. 1968, № 1, с. 148).
33 Н. Бердяев. Предсмертные мысли Фауста. – Освальд Шпенглер и Закат Европы. М., 1922, с. 71.
34 Махатма Ганди. Открытие Индии, с. 256.
35 Р. Тагор. Национализм, с. 45.
36 С. Ф. Ольденбург. Вступление. – Восток. Кн. 1. Пг., 1922, с. 4-6.
37 В. М. Алексеев. В старом Китае. М., 1958, с. 311.
38 Цит. по: А. X. Горфункель. Джордано Бруно. М., 1965, с. 83.
39 Здесь и ниже фрагменты из сочинения Гераклита "О природе" цитируются по Приложению к книге: Э. Н. Михайлов, А. Н. Чанышев. Ионийская философия. М., 1966, или по Антологии мировой философии", т. 1. М., 1969, с. 275-280.
40 Судите сами:
Oh, East is
East, and West is West,
and never the twain shall meet,
Till Earth and Sky stand presently
at God's great judgement Seat;
But there is neither East nor West,
Border, nor Breed, nor Birth
When two strong men stand face to face
though they come from the ends of the earth.
(Kipling. The Ballad of East and West. – Роеms. Short stories, 1983, с. 71).
41 Даже такие корифеи востоковедения, как Н. И. Конрад, прошла через эту страсть к противопоставлению, о чем он сам рассказывает, вспоминая встречу в 1917 г. с японцем – Учителем Такахаси Тэммин: "В чрезвычайном чванстве европейца, щеголяющего модной тогда мудростью "без теории познания нет философии", я сказал Учителю: "Я не хочу читать с Вами ни Луньюй, ни Мэнцзы... Я хочу настоящую философию"... Учитель Тэммин сидел некоторое время молча, потом медленно поднял глаза, внимательно посмотрел на меня и сказал: "Есть четверо – и больше никого. Есть четверо великих: Кун-цзы (Конфуций. – Т. Г.), Мэн-цзы, Лао-цзы, Чжуан-цзы. И больше никого"... Я был удивлен. Прежде всего – недопустимое, с моей тогдашней точки зрения, смешение понятий. Разве можно говорить о Конфуции и Лао-цзы рядом? Ведь это – полярно противоположные явления, как бы ни хотел я их соединить вместе. Этому японцу не хватает отчетливо философского представления о "системе". Делаю замечание в этом духе. Ответ краток: "Кун-цзы и Лао-цзы – одно и то же". Возмущаюсь, хочу спорить, но не знаю, как... "Все-таки хочу Сунцев" (философия сунской эпохи – XI-XIII вв. – Т. Г.), – говорю я уже более робко. "Хорошо. Только сначала И-цзин". "Как И-цзин?!" Этого я никак не ожидал. Как? Эту "Книгу Перемен"? Непонятную галиматью с какими-то черточками? "Да, И-цзин! Великий И-цзин – в нем высшее"... Спасибо теперь Учителю – от всего сердца. Великий И-цзин! В нем высшее" (Я. И. Конрад. О встрече с Такахаси Тэммин в 1927 г. – Народы Азии и Африки. 1972, № 2, с. 150-151).
42 Здесь и ниже "Чжуан-цзы" цитируется по: Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая. М., 1967; Древнекитайская философия, т. 1; Тюкоку-но сисо (Китайская мысль). Т. 12, Токио, 1987.
43 Аристотель "изложил в самостоятельной системе эстетические понятия, и его понятия, – по мысли Н. Г. Чернышевского, – господствовали с лишком 2000 лет" (пит. по: Ф. А. Петровский. Сочинения Аристотеля о поэтическом искусстве. – Аристотель. Поэтика. М., 1951, с. 8). Великие умы. Кант, Гегель, оживляли понятие созерцанием, но в науке противоречие между одномерным понятием и многомерностью мира все еще но изжито.
44 А. W. Watts. The Way of Zen. N. Y., 1968, с. 23-24.
45 В. Г. Астон. История японской литературы. Владивосток, 1904, с. 177.
46 Целое не исчисляется. "Именно там, где достигается вершина я глубина исследования, прекращается механическое и логическое действие рассудка (Verstandesgebrauch), наиболее легко отделимого от каждого своеобразия, и наступает процесс внутреннего восприятия и творчества" (В. фон, Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. М., 1984, с. 320).
47 Здесь и ниже "Сицычжуань" цитируется по: Тюкоку котэнсэн (Сочинения китайской классики). Т. 1, Токио, 1966.
48 Это, в частности, подмечено А. Пуанкаре: "Когда-нибудь потребуется между атомами нашей первой среды вообразить вторую, более тонкую среду, предназначенную для передачи действия между ними. Эти доводы поясняют, почему наука всегда обречена периодически переходить от атомизма к непрерывности, от механицизма к динамизму и обратно и почему эти колебания никогда не прекратятся. Однако это не должно мешать нам подводить итог современному положению вещей и задавать вопрос, в какой же фазе колебания мы находимся теперь, хотя мы и уверены, что через некоторое время окажемся в противоположной фазе. И вот я, не колеблясь, утверждаю, что в данный момент мы продвигаемся в сторону атомизма, а механицизм преображается, утончается" (А. Пуанкаре. О науке. М., 1983, с. 491). Эти выводы нам очень пригодятся, когда речь пойдет о процессе индивидуализации мира.
49 Ю. Шрейдер. В поисках сознания. – Знание-сила. 1988. № 11.
50 Китамура Тококу. Народ и идеи. – Дзэнсю (Полное собрание сочинений). Т. 3. Токио, 1960, с. 269.
51 В. фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию, с. 176.
52 На эту мысль Кобо-дайси, буддийского мыслителя и поэта (774-835), ссылался Басе: "Великий учитель с Южной горы" заповедал некогда: "Не иди по следам древних, но ищи то, что искали они". Это верно и для поэзии" (цит. по: В. Маркова. Предисловие. – Басе. Стихи. М., 1985, с. 19).
53 Г. В. Ф. Гегель. Работы разных лет. Т. 2. М., 1971, с. 554.
54 Г. В. Ф. Гегель. Эстетика. Т. 2. М., 1969, с. 269.
55 П. Я. Чаадаев. Апология сумасшедшего. – Сочинения и письма. М., 1914, с. 222.
56 В. И. Вернадский. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное явление. Книга вторая. М., 1977, с. 62, 64, 65, 75.
57 Цит. по: А. А. Фет. Сочинения. Т. 2. М., 1982, с. 279.
58 Цит. по: Р. Роллан. Жизнь Рамакришны, с. 279.
59 Кавабата Ясунари. Дзёдзёка (Элегий). – Идзу-но одорико (Танцовщица из Идзу). Токио, 1974, с. 104.
60 Ф. М. Достоевский. Записки из подполья. Полное собрание сочинений. Т. 5. М., 1973, с. 122.
61 Мне уже приходилось писать: соответствующий уровень социального развития – лишь условие для раскрытия индивидуального, как почва для зерна – если зерно попадет на каменистую почву, оно не прорастет, но оно не прорастет и на прекрасной почве, если загублено.
62 По этому поводу С. П. Залыгин метко заметил во время одной из "философских бесед" (транслировавшейся по телевидению в марте 1988 г.): мы почему-то упускаем из виду фигуру Антихриста и его роковую роль в истории и даже помахиваем ему ручкой, не задумываясь над тем, в какой страшный омут вовлекает он человеческие души.
63 И. В. Гете. Поэзия и правда. – Собрание сочинений. Т. 3. М., 1976, с. 296-297.
64 См.: С. С. Аверинцев. Антихрист. – Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980, с. 85.
65 Цит. по: В. Н. Горегляд. Дневники и эссе в японской литературе X-XIII вв. М., 1975, с. 199.
66 Как говорил Н. Бердяев: "Эгоцентризм означает двойное рабство человека – рабство у самого себя... и рабство у мира... Он (эгоцентрик) любит абстракции, питающие его эгоцентризм, не любит живых конкретных людей. Любая идеология, даже христианская, может быть обращена на службу эгоцентризму" (Н. Бердяев. О рабстве и свободе человека. Париж. 1939, с. 38).
67 Можно вспомнить Конфуция: "Учитель сказал: Духовный человек не бывает одинок. У него обязательно появляются друзья" Ронго Луньюй. Тюкоку котэнсэн (Сочинения китайской классики). Токио, 1965, Т. 2, с. 106.
68 В. фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию, с. 46-47.
69 The Book of Tea, c. 8.
1 В. М. Алексеев. Китайская литература. М., 1978, с. 136.
2 М. Хайдеггер. Наука и осмысление. – Новая технократическая волна на Западе. М., 1986, с. 68.
3 В. М. Алексеев. Китайская литература. М., с. 136.
4 Р. Тагор. Искры, с. 76.
5 Философский энциклопедический словарь. М., 1983, с. 323.
6 Даодэцзин" цитируется или по "Древнекитайской философии", т. 1. М., 1972, или в моем переводе по "Тюкоку котэнсэн" ("Сочинения китайской классики"), т. 6. Токио, 1968.
7 Произведения Аристотеля цитируются по четырехтомнику его "Сочинений" (М., 1976-1984).
8 Дэ – одна из основных категорий китайских учений; переводится по-разному, чаще всего как "добродетель", "благо". Лао-цзы имеет в виду воплощенное в деянии дао. Дэ – качественно определенный вид духовной энергии, одаренность, скажем, дэ художника, дэ правителя или жэнь-дэ – дэ человечности и т. д.
9 У древних римлян существовало изречение: "Власть над собой – высшая власть". О том же писал Овидий: "Победи свое сердце и гнев, ты, побеждающий все остальное" ("Героиды", III, 85).
10 См. Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980, с. 110.
11 Говоря словами А. И. Герцена, "распадение человека с природой, как вбиваемый клин, разбивает мало-помалу все на противоположные части, даже самую душу человека, – это divide et impera логики, – путь к истинному и вечному сочетанию раздвоенного" (А. И. Герцен. Собрание сочинений. Т. 3. М., 1956, с. 134).
12 И. Маца. Проблемы художественной культуры XX века. М.. 1969, с. 11.
13 Цит. по: А. С. Богомолов. Античная философия. М., 1985, с. 55.
14 Р. Роллан. Жизнь Рамакришны, с. 8.
15 Идея "анархе" встречается уже у элеатов, Зенона, у Платона в "Республике", у стоиков, в идеологии раннего христианства. В России ее развили в своих трудах М. А. Бакунин (1814-1876) и П. А. Кропоткин (1842-1921), ратовавшие за строй ничем не ограниченной свободы путем устранения государственной машины, за полное раскрытие человечного потенциала личности. Кстати, сформулированный П. А. Кропоткиным "биосоциологический закон взаимной помощи" напоминает одно из главных понятий конфуцианской этики – жэнь. Недаром в Китае, Японии и Индии учение П. А. Кропоткина вызвало большой интерес.
16 В. Н. Топоров. Космогонические мифы. – Мифы народов мира Т. 2. М, 1982, с. 6.
17 Кто знает, может быть, нужен был предельный накал страстей, чтобы пережить катарсис. По крайней мере еще в 60-е годы XVIII в. И. И. Винкельман писал: "Сама красота греческого искусства, достигаемая не иначе, как путем очищения души, свидетельствует о том, что воплощавшиеся в нем мифы – не бессмыслица, а нечто великое, некое откровение величайших художников древности (цит. по: Мифологии древнего мира. М., 1977, с. 36).
18 Метида (греч. метис) – мысль, мудрость. Зевс от Геи и Урана узнал о том, что ему напророчено быть свергнутым сыном от Метиды, т. е. Разумом.
19 Цит. по: Эллинские поэты. М., 1963.
20 См.: А. Е. Левин. Миф. Технология. Наука. – Природа. 1977, № 3.
21 Цит. по: Мифологии древнего мира, с. 53.
22 П. Я. Чаадаев видел источник замутненности европейского сознания во влиянии "гомеризма" и в "Философических письмах" и писал: "Что касается меня, то, по моему мнению, для того, чтобы нам вполне переродиться в духе откровения, мы должны еще пройти через какое-нибудь великое испытание, через всесильное искупление, которое весь христианский мир испытал бы во всей его полноте, которое на всей земной поверхности ощущалось бы как грандиозная физическая катастрофа; иначе я не представляю себе, каким образом мы могли бы очиститься от грязи, еще оскверняющей нашу память". А в сноске добавляет: "Для нашего времени положительным счастьем является вновь открытая с недавних пор историческому мышлению область, не зараженная гомеризмом. Влияние идей Индии уже сказывается на ходе развития философии чрезвычайно благотворным образом. Дай Бог, чтобы мы возможно скорее пришли этим кружным путем к той цели, к которой более короткий путь до сих пор не мог нас привести" (П. Я. Чаадаев. Сочинения и письма. Т. 2. М., 1914, с. 170).
23 Тератоморфизм проявляется уже в доолимпийской архаике, совмещая чудовищное и чудесное, ужасное и прекрасное. Красота эта зловеща, несет погибель тем, кто ею залюбуется. Гесиод восторгался стоглавым Тифоном, сторукого Котта называл "безупречным". А греческая Гармония возникла от брака бога войны и раздоров Ареса и Афродиты, богини красоты. Эта красота замешена на крови, и вкусивший от ее плода – чахнет, но не может устоять. На этой почве и выросли "цветы зла" и та красота, которую позже стали называть "демонической". Недаром ее разрушительная сила смущала душу Льва Толстого и японца Кавабата Ясунари.
24 Есть мнение, что гомеровская Греция, Эллада, возникшая после дорийского завоевания, была шагом назад по сравнению с ахейской Микенской Грецией, частичным возвращением к первобытнообщинному строю. Исследования последних десятилетий, по утверждению В. В. Иванова, привели к выявлению предгреческих и предримских истоков античной мифологии. Имеются в виду мифы древнеближневосточные (переднеазиатские, для Греции преимущественно греческо-армяно-арийские, т. е. восходящий ко времени соответствующей языковой общности, относящейся к концу IV-III тысячелетию до н. э.). (См.: В. В. Иванов. Античное переосмысление архаических мифов. – Жизнь мифа в Античности. "Випперовские чтения – 1985". Ч. 1. М., 1988, с. 9.) Речь идет о возникновении греческого феномена, "чуда" VII-V вв. до н. э., возникшего, конечно же, не па пустом месте.
25 Загрей – одна из архаических ипостасей бога Диониса. По одной из версий, Персефона родила Загрея от змея Зевса, когда он еще был "подземным" царем. Ревнивая Гера насылает на Загрея титанов, которые растерзали его, за что были низвергнуты Зевсом в Тартар. Проглотив уцелевшее сердце Диониса-Загрея, найденное Афиной, Зевс становится отцом второго Диониса (от Семелы). В Греции с VII в. до и. э. очень распространен культ Диониса.
26 Антология мировой философии. Т. 1, с. 292.
27 По мнению Гегеля, греки использовали египетские, фригийские, малоазиатские элементы культуры (В. Ф. Гегель. Эстетика. Т. 3. М., 1971, с. 429-430). В "Теогонии" Гесиода находят влияние шумеро-аккадской "Энума элиш".
28 Антология мировой философии. Т. 1, с. 286.
29 В. К. Чалоян. Восток-Запад. М.. 1979, с. 41.
30 Антология мировой философии. Т. 1, с. 506.
31 Языческие боги, по Аверинцеву, несут в себе хтоническое начало, связанное с идеей могилы и пола, тления и произрастания. "Язычески" боги подобны природе, которая осуществляет свое бессмертие через ежечасное умирание всего индивидуального в анонимной жизни рода". Переходят друг в друга лики безымянной стихии ("Ночи", "Хаоса", "Единого") (Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970, с. 612).
32 "У Гомера все в нравственном отношении безразлично, кроме мужества – этой главной и единственной добродетели и трусости – главного и единственного порока". Упреки совести Одиссею неведомы (А. И. Чанышев. Курс лекций по древней философии. М., 1981, с. 121). "Мотив чести, – по мнению Гегеля, – был неизвестен античному классическому искусству. Правда, в "Илиаде" гнев Ахилла составляет содержание и движущее начало всех описываемых событий, так что весь дальнейший их ход зависит от него. Однако это не следует понимать как честь в современном смысле этого слова" (Г. В. Ф. Гегель. Эстетика. Т. 2. М., 1969, с. 270).
33 "Если для "первичных", "естественных" первобытных культов, – пишет И. М. Дьяконов, – нравственным было то, что непосредственно соответствовало нуждам общины и не нарушало магических запретов, то во "вторичные" религии поздней древности (буддизм, зороастризм, иудаизм, христианство, манихейство, мусульманство) вносилось начало нравственности общечеловеческой" (Мифологии древнего мира, с. 30).
34 Можно вспомнить размышления Н. И. Конрада об этой эпохе: "Действительно, принцип "человек – мера всех вещей", т. е. антропологический гуманизм превратился в практический девиз "все дозволено", И как ярко в истории Ренессанса это проявилось! И как отчетливо отразилось в исторических хрониках и трагедиях Шекспира!" Правда, автор видит причину в недостаточной развитости новой мировоззренческой опоры – рационализма: "К равновесию – при взаимной зависимости – дисциплины интеллектуальной и моральной привел только век Просвещения с его рационалистической философией. Впрочем, также на определенное время: твердые основы рационалистической дисциплины интеллектуальной и моральной создал Декарт, но у Канта развитие на этой основе привело к тупику антиномий, т. е. опять к краху гуманистического идеала. Поиски нового гуманистического идеала пошли по другим путям" (Н. И. Конрад. Запад и Восток. М., 1966, C.300).
35 Это одна из умственных тенденций времени – потребность преодолеть догмы мышления. По Э. Гуссерлю, назрел момент эпохе ("остановки"), воздержания от суждений, от категоричных мнений, теоретизирования, чтобы дать предмету в чистом виде – эйдосу – войти в сознание, избавиться, наконец, от стереотипов, предубеждений, увидеть предмет, как он есть; восстановить целостное мышление, способное воспринять мир в многообразном единстве.
36 Я опять сошлюсь на мнение И. М. Дьяконова: "Обнаружить общее в мифах разных первобытных и древних народов сравнительно нетрудно: эта общность объясняется одинаковыми средствами, с которыми разные древние народы подходили к познанию мира, и одинаковостью наиболее важных явлений, требовавших осмысления... Значительно более трудным представляется нам изучение не сходств, всегда более или менее поверхностных и общих, а конкретных различий: между мифами разных народов. Предложенные до сих пор объяснения этих различий – как результата разницы в уровне социального развития, характера производства, окружающей среды или народного характера (который и сам ведь исторически обусловлен, а не неизменен и уже поэтому ничего не объясняет) – оставались пока малоубедительными" (Мифологии древнего мира, с. 15).
37 Можно упомянуть работы по китайской мифологии Б. Л. Рифтина и пространную библиографию, приложенную им к своей статье в "Мифах народов мира" (т. 1, с. 661-662).
38 В Китае существовала традиция объединять канонические книги в циклы: "Четверокнижие", "Пятикнижие", "Тринадцатикнижие" и т. д. Они варьировались: скажем, шесть видов традиционного искусства соответствовали "Шестикнижию" – "Книга Перемен", "Книга обрядов", "Книга музыки", "Книга песен", "Книга преданий", "Вёсны и осени".
39 Цит. по: Д. Бодде. Мифы древнего Китая. – Мифологии мира, с. 369.
40 Там же, с. 398-399.
41 Сыма Цянь (ок. 145-86 гг. до н. э.) в "Исторических записках" ("Ши цзи") начинает историю Китая с описания деяний пяти великих первопредков, или "императоров", живших в III тысячелетии до н. э.: Хуан-ди, Чжуань-сюя, Ку, Яо и Шуня. (см.: Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 1. М., 1972).
42 "Ба" – "восемь", "гуа" – "символ", или гексаграмма, которая пишется снизу вверх. Поначалу их было 8: цянь – небо (творчество), кунъ – земля (исполнение), чжэнь – гром (возбуждение), кань – вода (погружение), чэнь – гора (незыблемость), сунь – ветер (утончение), ли – огонь (сцепление), дуи – водоем (разрешение). Согласно японскому толковому словарю, багуа (яп. хаккэ) – образы восьми зерен (кит. чжун), олицетворяющих процесс нахождения одного на другое (касанэру) явлений ян и инь природной и человеческой жизни (Кодзиэн. Токио, 1973). Согласно "Сицычжуань", "в древности ван Поднебесной Бао Си-шинь. (Фу Си) взирал в высоту и наблюдал образы на небе, обращал взор вниз и наблюдал формы на земле. Наблюдал узоры птиц и животных, а также свойства земли... И приступил он тогда к созданию восьми триграмм, чтобы постигнуть веление духа и определить природу всех вещей" (цит. по: Н. Т. Федоренко. Избранные произведения. Т. 2. М., 1987, с. 123).
43 Д. Бодде приводит кажущееся парадоксальным мнение китайских ученых, согласно которому "исторический возраст" мифа находится в обратном соответствии с его "литературным возрастом" (временем, когда он впервые зафиксирован в литературе). Иными словами, чем раньше время, о котором говорится в мифе, тем позже он реально появляется в литературе (см. Мифология древнего мира, с. 399). Что касается жанра "чуаньци". "рассказов об удивительном", то он широко распространился в VIII-XIV вв., корнями же уходит в древность: "Новый жанр в прозе возник на основе историко-биографической литературы, идущей еще от Сыма Цяня, и исторического анекдота эпохи Шести династий. Недаром все эти новые для китайской прозы произведения, независимо от их квалификации в позднейшей науке, несут жанровый показатель чжуань" (См. А. Н. Желоховцев. Хуабэнь – городская повесть средневекового Китая. М., 1969). Другим источником были "рассказы о духах" III-VI вв., описывающие таинственные явления (подробнее см. К. И. Голыгина. Новелла средневекового Китая. М., 1980, с. 3-6).
44 По мнению такого знатока китайских учений, как Ю. К. Шуцкий, "Книгу Перемен" никак нельзя считать даосским текстом, нельзя даже сближать ее с древнейшим даосизмом. Однако с I в. до н. э. вплоть до VII в. даосские авторы испытывали сильное влияние "Книги Перемен". Основное положение ее – изменчивость – как нельзя более способствовало теоретическому обоснованию алхимии, получившей распространение среди даосских писателей. "Космология даосов, особенно как она выражена у Ге Хуна и т. п., полна заимствований (из "Книги Перемен"). Особенно же связаны с последней многочисленные схемы и чертежи, включенные в (Даосский Канон)" (Ю. К. Шуцкий. Китайская классическая "Книга Перемен", с. 143).
45 Нельзя, по-моему, не согласиться с мнением Ю. К. Шуцкого, видевшего в "Ицзине" основной и исходный пункт рассуждении почти всех философов древнего Китая: ""Книга Перемен" имеет все права на первое место в китайской классической литературе, – так велико ее значение в развитии духовной культуры Китая. Она оказывала свое влияние в самых разных областях: и в философии, и в математике, и в политике, и в стратегии, и в теории живописи и музыки, и в самом искусстве" (Ю. К. Шуцкий. Китайская классическая "Книга Перемен", с. 21).
46 В середине XVIII в. в Европе обостряется интерес к "Ицзину". В 1753 г. выходит, в частности, книга И. Г. Хаупта, где он рассматривает гипотезу Лейбница о "Книге Перемен", (см.: К. Ю. Шуцкий. Китайская классическая "Книга Перемен", с. 27-47).
47 Сунский комментатор "Ицзина" Чэн Ичуань (1033-1107) говорит: ""Перемены" – это изменчивость, в которой мы меняемся в соответствии с временем, для того чтобы следовать Пути мирового развития. Книга эта столь широка и всеобъемлюща, что через нее мы надеемся встать в правильное отношение к законам нашей сущности и судьбы, проникнуть во все причины явного и сокровенного, исчерпать до конца всю действительность предметов и событий и тем самым указать путь открытий и свершений" (цит. по: Ю. К. Шуцкий. Китайская классическая "Книга Перемен", с. 54-55). Это ощущение Перемен, потока времени отличает философию и этику китайцев и японцев. Как сказано в "Ле-цзы", законы меняются с течением времени; тот же, кто не меняет законов и установлении с изменением обстоятельств, погибает.
48 "Чжун-юн" переводят как "Учение о Середине", хотя буквальное значение "Постоянство в Середине", или в "Центре" (чжун – центр, юн – постоянство), т. е. речь идет о том, что пребывающий в Центре пребывает в Постоянстве, достигнув идеального состояния покоя и невозмутимости, благодаря чему проникает в корень явления. Иногда иероглиф юн переводят как "обычный", "обыкновенный", вследствие чего меняется смысл названия трактата: "Среднее и обычное" (Н. И. Конрад. Запад и Восток, с. 217), или "Совмещение с обыденным", как предлагает переводить А. М. Карапетьянц (Проблема человека в традиционных китайских учениях. М., 1983, с. 193). Но мудрецы занимаются вопросами не "среднего и обычного", а непреходящего. Поэтому мне кажутся более удачными старые переводы: в духе "золотой середины" у Дж. Легга или "Постоянство в Середине" у Г. Потье. Постоянства достигает пребывающий в Центре. Смысл заголовка раскрывается самим текстом: "Когда удается достигнуть (состояния) середины и гармонии, в природе устанавливается порядок и все сущее расцветает". Чжун-ни говорил: "Благородный муж (действует в соответствии) с учением о середине, низкий человек (своими действиями) нарушает учение о середине" (Древнекитайская философия, т. 2. М., 1973. с. 119).
49 Цит. по: Ю. К. Шуцкий. Китайская классическая "Книга Перемен", с. 142.
50 Шицзин. Книга песен и гимнов. М., 1987, с. 267.
51 Конфуций, как и другие китайские мудрецы, нередко обращается к именам совершенных правителей древности. Яо, истинный правитель, передал власть Шуню (XXIII в. до н. э.), а не своему нерадивому сыну. И Шунь, в свою очередь, передал правление не сыну, а более достойному – Юю, который спас Китай от наводнения, прорыв каналы, чтобы вода ушла в океан.
52 Цит. по: И. С. Лисевич. Литературная мысль Китая. М., 1979, с. 51-52.
53 Древнекитайская философия. Т. 1, с. 179-180. А в "Шуцзине" говорится: "Небесное повеление на правление нелегко получить, и так же трудно полагаться только на Небо. Люди лишаются поддержки Неба потому, что оказываются не в состоянии продолжить почтительность и светлые добродетели предков (букв. светлое дэ – миндэ. – Т. Г.)" (там же, с. 111).
54 Цзэ-юй – отшельник, современник Конфуция.
55 Древнекитайская философия. Т. 2, с. 251.
56 Вэн-ван – основатель династии Чжоу (XII в. до н. э.).
57 Древнекитайская философия. Т. 1, с. 298.
58 Там же, с. 247, 242. В комментарии к переводу "Мэн-цзы" Л. И. Думана говорится в связи с "волей Неба": "По древним китайским понятиям, еще доконфуцианским, власть от одной династии к другой или от одного правителя к другому переходит по воле неба, которое может лишить престола одного правителя и передать его другому. Эти идеи о назначении сына неба (государя) по воле неба прослеживаются уже в чжоусских надписях на бронзовых сосудах, относящихся к XI-Х вв. до н. э." (там же, т. 1, с. 331).
59 Наша китаистика не избегла дихотомического подхода, противопоставляя даосов конфуцианцам, вопреки самим текстам: "Кун-зцы был так велик, – говорится в "Хуайнань-цзы", – что умом превосходил Чан Хуна, храбростью поспорил бы с Мэн Фэном, ступнями он измерил Цзяо и Ту, силой он обладал такой, что выталкивал засов из городских ворот, обладал многими способностями, однако известен среди людей не храбростью, не ловкостью и мастерством – славу некоронованного царя завоевал он благодаря своему особому образу жизни и проповедью учения. (Вот что значит) организовать свои деяния. Летопись "Вёсны и осени" охватывает период в двести сорок два года. За это время пятьдесят два государя пало, тридцать шесть государей было убито. (Конфуций) отобрал доброе, вымел безобразное, чтобы очертить путь иерей" (цит. по: Л. Е. Померанцева. Поздние даосы. М., 1979, с. 189; дальше "Хуайнань-цзы" цитируется по этой работе).
60 Знаменательно, что в китайском мифе, по версии "Шуцзина", бог Шанди мог прерывать связь между Небом и Землей, чтобы люди не проникали на Небо и не вносили смуту в мир (очень актуально!): "И тогда он поручил Чуну и Ли прервать сообщение между Небом и Землей, чтобы не было больше нисхождений и восхождений (людей и духов друг к другу)". После этого порядок был восстановлен и добродетель вернулась к народу. Эта мера была вызвана тем, что "люди потеряли уважение к духам, духи стали нарушать установления людей и возникли стихийные бедствия", – комментирует Д. Бодде (Мифологии древнего мира, с. 386, 387).
61 Тюкоку котэнсэн (Сочинения китайской классики). Т. 1, с. 565. Как сказано в японском комментарии, человечность (жэнь) – мягкое дэ, долг – справедливость (и) – твердое дэ (там? ке).
62 Цит. по: Ю. К. Шуцкий. Китайская классическая "Книга Перемен", с. 106.
63 Л. С. Мартынов. Несколько замечаний 6 'комплексе "Небо – Земля" в китайских художественных, политических и философских текстах. – Литературы стран Дальнего Востока. М., 1979, с. 28, 31-33.
64 Антология мировой философии. Т. 1. с. 300.
65 Там же, с. 308, 311. См. также: И. Д. Рожанский. Анаксагор М., 1983. Приложение.
66 Мифы народов мира. Т. 2. с. 9-10.
67 Ф. В. Шеллинг. Сочинения. Т. 1. М., 1987, с. 84-85.
68 Дж. Мильтон. Потерянный рай. М., 1976, с. 78, 104.
69 В. Н. Топоров. Хаос. – Мифы народов мира. Т. 2. с. 581.
70 Г. В. Ф. Гегель. Эстетика. Т. 3. М., 1971, с. 480-481.
71 Р. Тагор. Сочинения. Т. 11, с. 312, 313.
72 Процессу накопления и потерь "человеческих качеств" посвятил свою книгу современный Просветитель, основатель Римского клуба А. Печчеи: "Истинная проблема человеческого вида на данной стадия его эволюции состоит в том, что он оказался неспособным в культурном отношении идти в ногу и полностью приспособиться к тем изменениям, которые он сам внес в этот мир" (А. Печчеи. Человеческие качества. М., 1985, с. 43).
73 Цит. по: Е. В. Заводская. Восток на Западе. М., 1970, с. 116.
74 По Чжу Си (один из основоположников неоконфуцианства, 1130-1200), тайцзи порождает движение (ян) и покой (инь), а ли рождает ци. Порождая инь-ян, тайцзи существует внутри них, ци существует внутри ли. Тайцзи и есть ли, и они недоступны восприятию человека, ибо не имеют формы, каких-либо качеств. Движение ли порождает ян, покой ли порождает инь. Движение и покой постоянно чередуются. Комбинация инь-ян порождают пять энергий (усин) и все вещи. Хотя тайцзи и не обладает телесной формой, содержит в себе все вещи, пребывая в совершенном покое. Ли – регулирующий закон, ци – источник телесного бытия вещей; ци – двойственно (инь-ци, ян-ци). Согласно Чжу Си, конфуцианские мудрецы, тем более даосы, видели в изначальной основе полный покой и высший идеал.
75 Да-сюэ. Чжун-юн. – Тюкоку котэнсэн (Сочинения китайской классики). Т. 4. Токио,1967, с. 176, 178.
76 Там же, с. 183.
77 Там же, с. 241.
78 Ф. И. Щербатской. Философское учение буддизма. Пг., 1919, с. 28.
79 Цит. по: Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая. М., 1967, с. 44. Далее "Ле-цзы", как и "Чжуан-цзы", цитируются по этому изданию.
80 Древнекитайская философия. Т. 1, с. 342, 349.
81Ю.К. Шуцкий. Китайская классическая "Книга Перемен", с. 139-140.
82 См., например, Х.Г. Гадаммер. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.
83 Суть парадокса Жирардо в том, что у него это кажущийся беспорядок, который, не соответствуя нашим представлениям о порядке, соответствует высшему устройству мира, потому и называют этот беспорядок "благим". Скажем, "не по правилам" устроен сад камней Рёандзи в Киото, но этот неупорядоченный порядок – верх красоты и гармонии именно потому, что ненарочит, свободен, создан Интуицией мастера Соами, уловившего Красоту естественного ритма. Кстати, для "хунь дунь" Н. Жирардо предлагает удачное по звучанию сочетание слов "Humpty dumpty". Эпиграфом же к книге берет слова из "Ады" Вл. Набокова: "Странно, когда хотят определить природу того, что есть фантомирующие фазы" и слова Дж. Рудхарта: "Миф можно понять лишь мистически" (N. J. Girardot. Myth and Meaning in Early Taoism. The Theme of Chaos (huntun). Berkeley, 1983, с. 1).
84 Chuang Tsu. Tr. by Gia-fu Feng and Jane English. N. Y., 1974, с. 161.
85 Атеисты, материалисты и диалектики древнего Китая, с. 173.
86 Яо – тот самый великий первопредок, который передал Поднебесную достойному преемнику – Шуяю. Цзе – безнравственный последний правитель династии Ся (III-II тысячелетие до н. э.), олицетворение безнравственного человека.
87 Упанишады цитируются по изданию: "Упанишады". М., 1967, (пер. А. Я. Сыркина).
88 С. Радхакришнан. Индийская философия. Т. 1. М., 1956, с. 348.
89 Сатори – озарение, вспышка сознания; его полное преображений, позволяющее видеть вещи в их подлинном виде. Недаром сатори сравнивает с "распустившимся цветком ума". У пережившего это состояние очищаются психофизические каналы, упорядочивается духовная структура, он Свободен ("не имеет ни одного пристанища"), ни к чему не прикрепляется, не прикипает душой к вещам, весь мир становится его Обителью.
90 Мифология древнего мира, с. 398.
91 В. В. Малявин. Традиционная эстетика в странах Дальнего Востока. М., 1987, с. 12, 27.
92 Там же, с. 33-34, 48.
93 В. М. Алексеев. Китайская поэма о 'поэте. Стансы Сыкун Ту (873-908). Пг., 1916, с. 466, 4-5.
94 Древнекитайская философия. Т. 1, с. 122.
95 Чжан – композиционная единица текста, существенно отличается от нашего понятия "глава" большей независимостью от рядом стоящего чжана или иным типом связи между отдельными частями целого, которую можно охарактеризовать как не-линейную. Поэтому и целесообразно сохранять китайский термин.
96 Древнейший письменный памятник японцев, мифологический свод – "Запись о делах древности" (712 г.).
97 Более того, рядом со словом "хаос" катаканой написано слово "эйдос", т. е. нечто хаосу противоположное – неовеществленный образ, имманентная форма согласно Аристотелю, а Плотин вслед за стоиками называл эйдосы "логосами". Так что японцы в данном случае называют "хаосом" Единое, неявленное дао, о чем и сами пишут: "Под Смешанностью (кондзэн) имеется в виду никак не обозначаемые эйдосы (хаос), которые составляют Единое" (т. 6, с. 146). Но тексты говорят: "То, что называю бесформенным, есть название Единого. То, что называю Единым, не имеет пары в Поднебесной. Подобный утесу, одиноко стоит; подобный глыбе, одиноко высится. Вверху пронизывает девять небес, внизу проходит через девять полей. Его окружность не выписать циркулем, его стороны не описать угольником". И все же – "В великом хаосе образует одно" ("Ле-цзы", цит. по Л. Е. Померанцева. Поздние даосы, с. 40).
98 См.: N. J. Girardot. Myth and Meaning in Early Taoism, c. 3, 6. Д. Бодде уточняет, что во времена Хань существовала астрономическая версия строения Поднебесной, которая представлялась в виде огромного Яйца; желток – Земля покрыта скорлупой Небес. Но что может быть совершеннее Яйца и какое оно имеет отношение к Хаосу? Разве не рождается из него именно то, что должно родиться? Кстати, по представлениям орфиков, не мир есть яйцо, а яйцо плавает в космическом Хаосе (в мрачной бездне Эреба) и, расколовшись затем на две половины, образует небо и подземный мир. В китайской же версии не остается места Хаосу; и хунь дунь не раскалывается, остается целым, как целостны Небо и Земля, из него самоестественно все рождается. До сих пор жив этот образ и на житейском уровне. "При поздней Чжоу и Хань в философских текстах тот же самый звукоподражательный термин хунь-дунь употребляется для обозначения недифференцированного Хаоса, бывшего до того, как вселенная обрела свое существование. Очень любопытно, что этот термин возродился в современном китайском обиходе для маленьких пельменей, похожих на мешочек (тонкая оболочка из теста с рубленым мясом внутри, которые являются основным ингредиентом популярного супа хунь-дунь, подаваемого в китайских ресторанах" (Мифологии древнего мира, с. 381).
99 Древнекитайская философия. Т. 1, с. 116.
100 Тюкоку котэнсэн (Сочинения китайской классики). Т. 6, с. 187.
101 Там же, с. 92.
102 Свет (мин) – одно из важнейших понятий китайских учений. Имеется в виду изначальный Свет, как у Лао-цзы: "Видеть мельчайшее называю Светом. Хранить слабость называю могуществом. Возвращаться к Свету, не причиняя ничему ущерба, и значит пребывать в Постоянство (чан)". ("Даодэцзип" § 52). Японский комментарий: "Если обнаружишь свой внутренний свет, то укоренишься в абсолютном Разуме, достигнешь дао. Это и называется Постоянством, пребыванием в дао" ("Тюкоку котэнсэн", т. 6, с. 285-287). В другом месте комментария "свет" сравнивается с Мудростью-праджней (там же, с. 92).
103 Там же, с. 91-93.
104 Там же, с. 272.
105 Древнекитайская философия. Т. 1, с. 182.
106 Там же, с. 312.
107 Ф. И. Щербатской. Философское учение буддизма, с. 11-12.
108 Японский комментарий сравнивает § 42 "Даодэцзина" с рассуждением Чжуан-цзы ("Небо и Земля"): "Вначале было Небытие. Ничего не было, и не было имен. Появилось одно, но еще не было форм. То, что порождает вещи, называется дэ". А в "Хуайнань-пзы" говорится: "Дао начинается с Одного. Но от Одного ничего не родится, поэтому оно разделилось на инь и ян. Инь-ян, гармонично соединившись, породили все вещи. Поэтому и сказано: "Одно рождает два, два рождает три, три рождает все вещи". А в "Ле-цзы": "Смотришь, не видишь, слушаешь, не слышишь, следуешь за ним, не можешь догнать". Поэтому называю его Переменами (и). У Перемен нет преград. Меняясь – образуют Одно. Одно – начало изменений. Легкое и чистое поднялось наверх и образовало Небо. Тяжелое и мутное опустилось вниз и образовало Землю. Из гармоничного ци образовался человек. Из семян (цзин) Неба и Земли образовались все вещи и все превращения". Все сочинения по-разному толкуют Одно... Лао-цзы можно понять и так: дао порождает единое ци, единое ци разделилось на инь-ци и ян-ци: инь-ци и ян-ци, соединившись, образуют гармоничное ци. Это гармоничное ци и явилось зародышем жизни. Поэтому "третьим" можно назвать гармоничное ци, включающее в себя инь-ци и ян-ци... А из этого следует, что все вещи имеют один исток и все возвращается в дао. Итак, "Одно" означает, что дао порождает единое ци" (Тюкоку котэнсэн. Т. 6, с. 244-247).
109 Кстати, перевод, предложенный С. Кучерой – "Сглаживание противоположностей", неточен, ибо не было тогда в китайском языке понятия "противоположность". Согласно японскому комментарию, смысл заглавия в том, что "все вещи равны (хитосий – одинаковы) и, лишь когда прояснится этот Закон (яп. дори, кит. дао-ли), сознание человека освободится от заклятия и обретет беспредельную Свободу (Чжуан-цзы. – Тюкоку-но-сисо (Китайская мысль). Т. 12. Токио, 1987, с. 49).
110 Две первые гексаграммы "Ицзина", которые отличаются от остальных своей полнотой, беспримерностью: 1-я гексаграмма – шесть целых, янских черт, 2-я – шесть прерванных, иньских черт, т. е. абсолютное ян и абсолютное инь (к ним мы еще вернемся).
111 С. Н Соколов-Ремизов. Литература – каллиграфия – живопись. М., 1985, с. 138.
112 Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая, с. 143.
113 Древнекитайская философия. Т. 1, с. 256.
114 Мифология древнего мира, с. 389.
115 Л. Е. Померанцева. Поздние даосы, с. 139-140.
116 Овидий. Метаморфозы. М.. 1977. с. 31-33.
117 Л. С. Васильев, А. И. Кобзев. Предисловие. – Этика и ритуал в традиционном Китае. М., 1988. с. 3-4.
118 Из книг мудрецов. Проза древнего Китая. М., 1987, с. 150-151.
119 Там же, с. 149.
120 Нихон котэн бунгаку дзэнсю (Полное собрание сочинений японской классической литературы). Т. 51. Токио, 1973, с. 238.
121 Слово о живописи из сада с горчичное зерно. Пер. и коммент. Е. В. Завадской. М.. 1969, с. 326.
122 Там же, с. 350.
123 D. T. Sudzuki. Zen and Japanese Culture. N. Y., 1959, с. 220.
124 Древнекитайская философия. Т. 1, с. 232.
125 С этих слов начинает японский мудрец, регент Сётоку Тайси (574-622), свою "Конституцию из 17 статей" (604 г.): "Чтите гармонию (во) и не действуйте наперекор" (об этом я писала в статье "Мудрецы, правители и мастера" в сборнике "Человек и мир в японской культуре". М., 1985, с. 142).
126 И об атом мне приходилось писать, когда писать об этом было но принято. (См. Роль традиций в истории и культуре Китая. М., 1972, с. 105).
127 Цит. по: Л. Е. Померанцева. Поздние даосы, с. 95, 97.
128 Поистине "высший ум един". И в трактате Плотина "О числах" читаем: "Беспредельности свойственно, значит, одинаково и движение и покой; и потому мыслится она может не сама по себе, но лишь в связи с эйдосом, который только один и может, входя во взаимодействие с беспредельностью, одновременно и двигаться и покоиться" (цит. по А. Ф. Лосев. Диалектика числа у Плотина. М., 1928).
129 Большой японско-русский словарь. Т. 1. М., 1970, с. 200.
130 Цит. по: Я. Б. Радуль-Затуловский. Конфуцианство и его распространение в Японии. М.-Л., 1947, с. 238.
131 А. Е. Глускина. Заметки о японской литературе и театре. М., 1979, с. 274.
132 Цит. по: Ригведа. Избранные гимны (пер. Т. Я. Елизаренковой). М., 1972, с.108.
133 Цит. по: Древнеиндийская философия. М., 1972, с. 59-60.
134 См.: Ф. Б. Я. Кёйпер. Труды по ведийской мифологии. М., 1986, с, 75, 76.
135 "Каким же образом все эти химические процессы все время воспроизводят одну и ту же материю и форму или какими средствами природа сохраняет разъединение элементов, борьба которых есть жизнь, а соединение – смерть?" (Ф. В. И. Шеллинг. Сочинения. Т. 1, М., 1987, с. 126).
136 См.: А. И. Георгиевский. О воскресении мертвых в связи с евхаристией. – Богословские труды. 1976, .№ 16, с. 44.
137 См.: Japanese-English Buddhist Dictionary. Tokyo, 1965, с. 20. Об образе "горящего дома" в этом же словаре говорится: это мир, в котором живут непросветленные существа.
138 А. Watts. Dao: The Watercourse Way, с. 47
139 Древнекитайская философия. Т. 1, с. 243.
1 Мне не хотелось бы еще раз говорить о неточностях перевода. Они и в самом деле неизбежны на том уровне знания или со-знания. И все же приведу для наглядности перевод этого отрывка из "Древнекитайской философии": "Содержание великого дэ подчиняется только дао (напомню, ничто ничему не "подчиняется" у даосов. – Т.Г.). Дао бестелесно. Дао туманно и неопределенно. Однако в его туманности и неопределенности содержатся образы. Оно туманно и неопределенно. Однако в его туманности и неопределенности скрыты вещи. Оно глубоко и темно. Однако в его глубине и темноте скрыты тончайшие частицы. Эти тончайшие частицы обладают высшей действительностью и достоверностью. С древних времен до наших дней его имя не исчезает. Только следуя ему, можно познать начало всех вещей. Каким образом мы познаем начало всех вещей? Только благодаря ему" ("Древнекитайская философия". Т. 1, с. 121).
2 Антология мировой философии. Т. 1, с. 276.
3 Тюкоку котэнсэн (Сочинения китайской классики). Т. 6, с. 124-127.
4 Там же, с. 1.
5 Цит. по: Н. vоn. Glasenapp. Buddhism a non-Theistic Religion. L., 1970. с. 173.
6 Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая, с. 43.
7 Собственно, дэ – воплощение дао, – то, чему посвящен "Даодэцзин" – "Книга о дао и дэ". Этимология и смысл понятия дается в книге И. С. Лисевича "Литературная мысль Китая": "Если дао – зерно, то дэ – это росток, несущий в себе заряд энергии будущего развития, это претворение незримой программы, изначально заложенной в вещах и явлениях... Безграничное дэ поддается условному квантованию. Существование великого мирового дэ не мешает говорить, например, о более частном да конкретного царства, дэ какого-то клана или семьи, дэ отдельного человека или веши" (с. 14). Дэ – некий качественно определенный тип энергии, личной силы; дарование, призвание (и потому не "добродетель" и не "благо", как обычно переводят это понятие). Дэ накапливается хорошими, добрыми делами и разрушается плохими. Сильное и слабое дэ передается потомкам, оттого велика моральная ответственность человека, от запаса его дэ зависит будущее его рода. Важнейший аспект этого понятия выявляет в своих работах А. С. Мартынов, напоминая о том, что уже в древности дэ понимали как природный дар и как способность "любить живое" (жао шэн): "Это понимание силы да как силы любви ко всему живому сохраняется и в средние века. Так, один из императоров династии Сун (960-1279) в своем указе прямо заявил: "Я, император, полагаю, что любовь ко (всему) живому и есть дэ"" (А. С. Мартынов. Государственное и этическое в императорском Китае. – Этика и ритуал в традиционном Китае, с. 279.
8 Можно сравнить с тем, что имеет в виду В. С. Спирин под "графиком": ""Дао" имеет определения, обычно характеризующие линию. "Дао" может быть "прямым", "кривым", "отклоняющимся", "точечным" и т. п. ... Эти характеристики "дао" точно отражают особенности графика соответствующих функций. В указанных характеристиках нашло отражение геометрическое представление о функциях. Поэтому для перевода "дао" весьма подходящим является слово график... "Дэ" означает некую точку (или – точки) на графике, т. е. оно представляет значение (или значения) некоторой функции (дао)" (Пятая научная конференция "Общество и государство в Китае". Тезисы и доклады. М., 1974, с. 45-46). Можно говорить о научном прозрении В. С. Спирина, положившего начало новому направлению в китаистике, можно понять желание придать. китайским учениям статус науки: "Часто можно встретить утверждение" что особенностью китайской философии является подавляющая роль гуманитарного знания в ней, слабая ее связь с наукой. Такие утверждения таят в себе угрозу отрицания наличия в Китае философии вообще, так как касаются коренной черты этой формы общественного сознания" (там же, с. 43). Но, может быть, китайские учения не нуждаются в такой защите, тем более что и точная наука в лице ее лучших представителей, скажем Н. Бора, признает недостатком науки ее отключенность от гуманитарного знания. Я не стала бы касаться этой темы, если бы мои расхождения с уважаемым автором не носили принципиального характера. Одно дело говорить о математическом аспекте китайских учений – тема сама по себе заслуживает внимания; другое – о "математическом" характере дао или о широте "математизации" идеологии древнего Китая, о том,, что "математическим" был сам язык этой идеологии (там же, с. 46), с чем согласиться трудно. Число, как и Слово, – лишь функция дао, не сущности ("явленное дао не есть постоянное дао"). Но это слишком серьезная тема, чтобы касаться ее походя, в примечаниях, хотя и обойти трудно. Может быть, будет случай вернуться к ней и затронуть вопрос о нравственных критериях китайских учений, о "квадратном" и "круглом" дэ, или о "квадратном" мышлении, с четырех сторон ограниченном, и "круглом" или расширенном сознании.
9 Дзюньитиро Танидзаки. Похвала тени. Избранные произведения. Т. 1, М., 1986, с. 510.
10 Л. С. Мартынов. Сила дэ монарха. – Письменные памятники Востока. М., 1974, с. 348.
11 "Две истины" или два аспекта разума: разум татхаты (яп. синнё) и разум, затуманенный иллюзиями. Татхата – таковость, вещи в их подлинном виде – праоснова сущего, подлинная реальность, имеет также два аспекта: выразимое в слове и невыразимое. Истинная татхата – вне слов, доступна лишь открытому уму в состоянии "не-я". По сути, это та же парадигма: "явленное дао не есть истинное дао", но есть путь к истинному дао. Или, как говорили сунские авторы, в каждой вещи есть две природы: неявленная в форме, "небесная", и явленная в форме; в первой все вещи едины, во второй – различны. Буддологи, занимающиеся классическим буддизмом, подчеркивают относительность и этого определения. По учению Будды Истина не исчерпывается каким-либо принципом, а есть факт, данность внутреннего опыта постоянно меняющегося сознания личности
12 Все сущее и не-сущее есть три тела будды (яп. сансин): 1) тело дхармы (дхарма-кая) – нет того, что не имело бы дхарм (то же, что татхата, подлинная реальность); 2) самбхога-кая – воплощенное тело Будды, состояние просветленности, блаженства, которым вознаграждается тот, кто следует правильному пути на протяжении многих воплощений, Будда Амида его выразитель; 3) нирмана-кая – Будда в облике человека, явившийся в мир, чтобы указать всем существам путь к спасению; его воплощение – Шакьямуни.
13 Цит. по: Н. В. Абаев. Чань-буддизм. М., 1989, с. 210
14 Акарасама – букв. "прямой", "ясный", "очевидный", антоним иероглифа мё – "таинственный", "чудесный", "удивительный". В этой системе "ясное", "очевидное", "видимое" рассматривалось как частное проявление невидимого, истинно-сущего, как намек на него и, значит, как некая противоположность тому, что понимают, судя по "Философскому энциклопедическому словарю", под Логосом – "нечто явленное, оформленное и постольку "словесное"" (с. 323). Об этом уже шла речь, и скорее мне хотелось бы смягчить упрек, ибо Лао-цзы сравнивается с Гераклитом ("высший ум един"). Скажем, такое утверждение, как "в свете Логоса мир есть целое и постольку гармония, но обыденное сознание ставит свой частный произвол выше "общего" и по-разному оценивает равно необходимые части целого. Внутри этого всеединства "все течет", вещи и даже субстанции перетекают друг в друга, но равным себе остается Логос – ритм их взаимоперехода" (с. 323). И это дает повод для сравнении. Разница, может быть, в том, что Космический Логос, как и подобает Слову, "окликает" людей, но они, даже "услышав" его, не способны его схватить. Истинное же дао невыразимо в слове и постигается в молчании, через таинственную мглу (югэн), через проницание чудесного (мё), и нет того, кто не мог бы погрузиться в творческое молчание. Потому дао не вызывает ощущения конечной катастрофичности мира, напротив, ведет и Добру, Свету. В словах Гераклита есть безысходность: "Грядущий огонь все объемлет и всех рассудит".
15 Тюкоку котэисэн. Т. 6, с.5.
16 Л. Е. Глускина. Заметки о японской литературе, с. 275-276.
17 Японские ученые тем не менее немало пишут о "групповой логике", о том, что интересы группы ставятся выше интересов личности, в чем я видят отличие, скажем, от социальной психологии европейцев. Но хотя в западной системе ценностей акцент стоит на свободе личности, истинная Свобода – удел немногих (поэтов и пророков). Индивидуализм не есть раскрытие индивидуального, скорее наоборот. Акцент на множественности, на количественном критерии, вопреки индивидуальному, – засилье "ведомственной логики". Японец скажет: "За лесом не видеть дерева", а не "за деревьями не видеть леса". "Групповая логика" не притупила чувство единичного, неповторимости каждого жеста. Не случайно в традиционных видах японского искусства пенится именно мгновенность (мэдзурасиса) – образа ли, мига, обновляющего чувство. В японском языке нет понятия "брак", не в силу ли подобного отношения к каждой вещи как неповторимой? Свободу же ищут на другом уровне, вне социального императива, на пути очищения изначально чистого сознания или высшего Я.
18 А. А. Холодович. Проблемы грамматической теории. М., 1979, с. 185.
19 Кавабата Ясунари. Уцукусий Нихон-но ватакуси (Красотой Японии рожденный). Токио, 1968, с. 18.
20 Школа Кэгон получила свое название от "Аватамсака сутры" ("Кэгонкё"), на которую и опиралась, проповедуя идею о том, что все существа имеют природу будды. В Японию это учение пришло из Китая в эпоху Нара (VIII в.) и достигло расцвета в эпоху Хэйан (IX-XII вв.) – "золотой век" японской культуры. До сих пор школе Кэгон принадлежит около 30 храмов, и среди них такой известный, как Тодайдзи. (Подробнее об учении Кэгон см.: А. Н. Игнатович. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М., 1987, с. 237-252.).
21 Дхарма-дхату (яп. хоккай) – мир дхармы, татхата. Согласно школе Кэгон, каждое существо имеет свой внутренний мир (дхату). По учению школы Тэндай (основана в IX в.) – это десять взаимопроникающих миров или состояний психики: 1) мир ада; 2) мир голодных духов; 3) мир животных (когда человек только с виду человек); 4) мир демонов (асур, агрессивных существ, одержимых идеей лидерства); 5) мир человека; 6) мир неба (небожителей); 7) мир шраваков (слушающих голос, учеников Будды); 8) мир пратьекабудд (самостоятельно идущих к спасению); 9) мир бодхисаттв (достигших просветления, но продолжающих земное существование во имя освобождения других существ); 10) мир Будды.
22 D. Т. Suzuki. Manual of Zen Buddhism. N. Y., 1960, с. 78.
23 Правда, с точки зрения Аристотеля, "правильно мыслить – значит разделять разделяемое и соединять соединяемое". Причину склонности к анализу иногда объясняют тем, что в основе наук лежала геометрия, фигуры которой членились на конечные элементы, а конечное, дискретное пространство располагает к делению, к анализу. Но и геометрия не случайно оказалась в основе наук. Думается, что главная причина в определенном настрое ума, в задаче переустройства мира, организации из хаоса космоса: придать форму бесформенному, выстроить мир сообразно своему представлению о нем.
24 Иероглиф касанэру означает "возводить одну над другой вещи того же рода" и по-своему передает структуру мышления японцев: один виток находит на другой, на ту же ось, образуя пагодообразную модель. Разные слои пронизаны одним стержнем. Такое видение сказалось на законах композиции – будь то архитектура, иероглифический текст, поэзия. Нобелевская речь Кавабата Ясунари так же подводит к этому выводу. Вспоминая стихи Догэна:
Цветы – весной.
Кукушка – летом.
Осенью – луна.
Чистый и холодный снег –
Зимой.
"Если вы подумаете, что в стихах Догэна о красоте четырех времен года всего-навсего поставлены рядом привычные образы природы, знакомые японцам с давних времен, – весны – лета – осени – зимы, – думайте! Но как они похожи на предсмертные стихи монаха Рёкана (1758-1831):
Что останется
После меня?
Цветы – весной,
Кукушка – в горах,
Осенью – листья клена.
В этих стихах, как и у Догэна, простейшие образы, обыкновенные слова незамысловато, даже подчеркнуто просто поставлены рядом, но, воздвигнутые друг над другом (касанэру), они и передают сокровенную суть Японии" (Кавабата Ясунари. Красотой Японии рожденный, с. 12-13). Как думает человек, так и воспринимает время. Японец скажет но "дни идут чередой" (в духе линейного мышления, – по горизонтали), а "один день находит на другой" (по вертикали).
25 Тюкоку котэнсэн. Т. 6, с. 13-14.
26 См.: Дзюнъитиро Танидзаки. Избранные произведения. Т. 1. М., 1986, с. 514, 506, 496-497.
27 См.: Тюкоку котэнсэн. Т. 6, с. 8.
28 Рикиикитоцу, как и хэ, кацу, – голосовые выкрики, принятые в дзэнской практике: призыв к прямому действию.
29 Окакура Какудзо. Тя-но хон (Книга о чае). Токио, 1973 (51-е издание), с. 86.
30 Цит. по: A. W. Watts. The Spirit of Zen. N. Y., I960, с. 49.
31 Цит. по: Ю. К. Шуцкий. Китайская классическая Книга Перемен, с. 135.
32 Лет десять назад, выступая с докладом в Доме ученых, я попыталась под этим углом зрения рассмотреть три модели культуры: европейскую, у истоков которой лежит Слово-Логос, индийскую, в основе которой лежит Звук (мелодическая, интонационная культура – рага), и китайскую, в основе которой лежит Образ-Иероглиф (иероглифическое мышление со своими специфическими законами).
33 Шанкара (VIII-IX вв.) – религиозный реформатор Индии, ратовавший за возрождение "истинного" индуизма. Проповедуя учение "адвайта веданта" (адвайта – недвойственность, Веданта – завершение Вед, Упанишад), выдвигал идею недуальности индивидуального и вселенского начала (Атмана-Брахмана).
34 Я говорила об этом в беседе "круглого стола" "Диалог и коммуникация – философские проблемы" (см.: Вопросы философии. 1989, № 7).
35 И. С. Лисевич. Литературная мысль Китая, с. 18.
36 Цит. по: А. С. Богомолов. Античная философия. М., 1985, с. 98.
37 Дзиссо – букв. истинный вид всех вещей; Правда, Истина, единая реальность – Татхата.
38 Нама-рупа – "имя-форма", в буддийских текстах – то, что вызывает страдания (дукху). Цель буддийского пути – освобождение сознания от гнета "имени-формы". Как сказано в "Дхаммападе": "Пусть он откажется от гнева, пусть он оставит самодовольство, пусть он превозможет все привязанности. Никакие несчастья не случаются с тем, кто не привязан к имени и форме" (XVII, 221) (Дхаммапада. М., 1960, с. 97).
39 Имеется в виду закон со-возникновения (пратитья самутпада) круговой цепи из двенадцати психологических состояний (кидан). В легенде говорится – тогда Блаженный в течение первой стражи ночи остановил свой ум на цепи причинности, понимаемой в прямом и обратном порядке: "Из неведения возникают санскары (очертания); из санскар возникает сознание; из сознания возникают имя и форма; из имени и формы возникают шесть областей (области шести органов чувств – глаза, уха, носа, языка, тела, т. е. осязания, ума); из шести областей возникает соприкосновение; из соприкосновения возникает ощущение; из ощущения возникает жажда (или желание); из жажды возникает привязанность; из привязанности возникает становление; из становления возникает рождение; из рождения возникают старость и смерть, скорбь, стенание, страдание, уныние и отчаяние" (С. Радхакришнан. Индийская философия. Т. 1. М., 1956, с. 348). Условно первым членом ряда (или круга) называют "неведение" (авидья), оно имеет 9 периодов (в пределах прошлой, настоящей и будущей жизни). Избавление же от неведения приходит с осознанием закона зависимого происхождения. Освобождение мыслилось как преодоление цепи нидан, возвращение к изначальному состоянию покоя, невозмутимости, целостности, – как переход в нирвану. А. Кугявичюс (Каунас) дает такую трактовку учения тибетского мыслителя Цзонхавы (1357-1419): 1) Неведение понимается не как простая противоположность знанию, ведению или отсутствие такового, а как его противник... эгоцентрическое воззрение – вера в реальное существование "я" или ложное понимание ежемгновенно нового (меняющегося) конгломерата личности как длящегося (постоянного) и единого "я"; 2) движущие факторы – карма; психические импульсы и их отпечатки в сознании; 3) сознание: для йогачаров – это универсальное сознание – (алаявиджняна), для других – умственное сознание индивида (мановиджняна)... первое является сознанием этой жизни, в которое водворяются отпечатки кармы, а второе – сознание, вступающее в новую жизнь на базе первого; 4) психофизическое; 5) шесть органов чувств; 6) контакт; 7) ощущение; 8) влечение; 9) привязанность; 10) сансарное существование – состояние, когда водворенные в сознание отпечатки кармы питаются влечением и привязанностью; созревают силы, приносящие новое существование; 11) рождение – первый момент вступления сознания в одно из четырех "мест" рождения (в чрево, яйцо и т. д.); 12) старение и смерть: старение начинается со второго момента вступления сознания {А. Кугявичюс. Формула зависимого происхождения в "Лам-риме" Цзонхавы, – Тезисы докладов всесоюзной конференции "Взаимодействие культур Востока и Запада". Вильнюс. 1988, с. 43-44).
40 Тюкоку котэнсэн. Т. 6, с. 4.
41 Близкие мысли можно найти, скажем, у Плотина, в трактате "О числах" (3.5): "Беспредельности свойственно, значит, одинаково и движение и покой; и потому мыслится она может не сама по себе, но лишь в связи с эйдосом, который только один и может, входя во взаимодействие с беспредельностью, одновременно и двигаться, и покоиться" (см.; А. Ф. Лосев. Диалектика числа у Плотина. М., 1928).
42 Тюкоку котэнсэн. Т. 6, с. 7-14.
43 Там же, с. 7.
44 Л. Е. Померанцева. Поздние даосы, с. 76-77.
45 Антология мировой философии. Т. 1, с. 610.
46 Не из Индии ли пришла идея метемпсихоза? И Платон побывал на Востоке. "На тысячный год и те и другие являются, чтобы получить, новый удел и выбрать себе вторую жизнь, и избирают какую кто хочет. Тут и жизнь животного может получить человеческая душа, а душа того животного, что было когда-то человеком, снова внедриться в человека; но душа, никогда не выдавшая истины, не примет такого облика" (Федр, 249 В).
47 Приведенные фрагменты из "Чжуан-цзы" даны в переводе В. Сухорукова. – Из книг мудрецов. Проза древнего Китая. М., 1987.
48 Можно вспомнить автора "Записок от скуки" Кэнко-хоси (1283-1350): "Причинить человеку душевную боль – значит сделать ему гораздо больнее, нежели даже изувечив его тело. Болезни наши тоже в большинстве своем проистекают из души" (цит. по: Классическая японская проза XI-XIV веков. М., 1988, с. 372.
49 Что понимали под "семенами" греки? По определению Аристотеля, гомеомерии ("подобочастные"), т. е. качественно однородные (как, скажем, кости, кровь, металлы), служили материальными первоначалами. Аристотель оспаривал Анаксагора: "Нелепо утверждать изначальное смешение всех вещей – и потому, что они в таком случае должны были бы ранее существовать в несмешанном виде; и потому, что от природы несвойственно смешиваться чему попало с чем попало" ("Метафизика", 1, 8). Сам Анаксагор термин "гомеомерия" не употреблял и имел в виду именно смесь (migma) всего со всем, или всего во всем, "универсальную смесь", микрокосм: "Во всем может заключаться все" (фр. 6); во всех соединениях содержится многое и разнообразное, в том числе и семена всех вещей, обладающие всевозможными формами, цветами, вкусами и запахами, т. е. в потенции все формы уже присутствуют в семенах (цит. по: И. Д. Рожанский. Анаксагор. М., 1983, с. 70). Аристотелю нужно было сместить акцент к Уму, к Деятельности, потому, видимо, и понадобились вместо "универсального семени" (sperinata) качественно однородные гомеомерии, нуждающиеся в участии Разума. Так бывает с великими умами, когда захватывает идея. В результате – конструируемый сознанием мир все более отдалялся от реального. Согласно Анаксагору, в первичной смеси "ничто не было различимо – из-за малости" (фр. I), но Разум привел ее в движение, "все это разделилось. а круговращение движущихся и разделявшихся веществ вызвало еще большее разделение" (фр. 13). Разум же "беспределен и самодержавен и не смешан ни с одной вещью... Эта примесь мешала бы ему, так что он не мог бы ни над одной вещью властвовать, подобно тому как он властвует, будучи один и сам по себе" (фр. 12) (цит. по: И. Д. Рожанский. Анаксагор, с. 132-133). И хотя идея архе (начала-власти) сформулирована Аристотелем, она присутствует и в умах досократиков. У Лао-цзы же никто ни над кем не господствует, и все существует само по себе. Семена (цзин) – тончайшие ци и сама мысль, поэтому не понадобилось вводить первопричину Нус, ибо все развивается самоестественно (цзыжань).
50 Тюкоку котэнсэн. Т. 4. Токио, 1967, с. 40, 42.
51 Г. В. Ф. Гегель. Сочинения. Т. 9. М., 1932, с. 15.
52 Цит. по: В. М. Алексеев. Китайская классическая проза. М., 1958, с. 189.
53 Это уловили и наши философы. См.: А. Н. Чанышев. Начало философии. М., 1982, с. 155.
54 Древнеиндийские афоризмы. М., 1966, с. 16.
55 Р. Тагор. Сочинения. Т. 11, с. 345, 352, 247.
56 Р. Тагор. Национализм, с. XI.
57 В. К. Гокак. Открытие Индии, с. XI.
58 Беседа со Свами Локешваранандой. – Наука и религия. 1988, № 11 с. 41-42.
59 Р. Роллан. Опыт исследования мистики и духовной жизни современной Индии, с. 26, 33, 118, 128, 192, 241.
60 Наталия Рокотова (псевдоним Е. И. Рерих) напоминает: учение Будды не делает различия между физическим и психическим миром: "Идеи, представления и все интеллектуальные процессы есть, прежде всего, дхармы. Для нашего сознания дхармы то же, что цвет, форма и звук для зрения и слуха... Каждая дхарма является причиной, ибо каждая дхарма есть энергия. Если эта энергия присуща сознательному существу, она выявляется двояко: внешне она проявляется как непосредственная причина феноменов, внутренне она изменяет породившего ее... Дхармы – это мысли. Мысли эти так же реальны, как и четыре элемента или органы чувств, ибо с момента, как вещь продумана, она уже существует" (Наталия Рокотова. Основы буддизма. (Б. М., 1940, с. 101-104).
61 Карма (от санскр. корня "кри" – "делать") – одно из основных понятий буддизма. Сознательное действие, нравственный закон, формирующий жизнь человека. Карма наследуется от прежних существовании и творится настоящей жизнью (по пословице – "что посеешь, то и пожнешь"). В каком-то смысле карма – это память, или подсознание, от которого ничто не утаится, рано или поздно найдет соответствующий отклик; в этом смысле карма – абсолютная Справедливость. Иногда переводится как закон воздаяния за добрые и злые дела: ни то, ни другое не проходит бесследно. Карма так же одна из сил, контролирующих мировой процесс, – космический закон. Согласно "Кармическим афоризмам" В. К. Джаджа, "карма – это неуклонное и не ошибающееся стремление Вселенной восстановить равновесие, действующее бесконечно". По мнению специалистов, "учение о карме – наиболее явное свидетельство морального устройства мира. Вера в это учение предполагает три условия: первое – человек должен иметь свободную волю, без чего моральная жизнь просто невозможна. Должна существовать связь между добропорядочностью и человеческим благополучием, т. е. быть вознаграждаемы добрые дела и наказуемы злые. И, наконец, индивидуум должен ощущать, что его развитие продолжается и после того, как нынешнее существование закончится" (Buddhism, a Non-theistic Religion. L., 1970, с. 61-62). Есть момент всеобщей ответственности за мировую карму, ибо она творится сообща: национальной, социальной, индивидуальной кармой – каждого существа. Ф. И. Щербатской называл карму законом наследственности: "Когда возникает новая жизнь, то составляющие ее элементы, т. е. 18 категорий (dhatu) элементов, наличествуют, хотя и в неразвитом состоянии. Первый момент новой жизни условно называется vijnana. Он образует третий член (nidana) вечно обращающегося "колеса жизни" (пратитья самутпада. – Т. Г.). Его предшественники – карма, т. е. хорошие или плохие инстинкты, как бы прилипшие к нему с самого начала" (Ф. И. Щербатской. Избранные труды по буддизму, с. 138). Осознание закона кармы коренным образом изменит психику человека, и, думаю, недалеко то время, когда на стыке знаний этот закон найдет свое объяснение и признание. Тем скорее, чем более ученые займутся человеческим аспектом идей В. И. Вернадского.
62 "Элементы бытия – это моментальные проявления, моментальные вспышки в феноменальном мире из неведомого источника. Так же как они разобщены, так сказать, в своей ширине, не будучи связаны вместе какой-либо всепроникающей субстанцией, совершенно так же они разобщены в глубине или в длительности, поелику они длятся один-единственный момент (ksana). Они исчезают, как только появляются, для того чтобы за ними последовало в следующий момент другое моментальное существование. Таким образом, момент делается синонимом элемента (dharma), два момента – это два различных элемента. Элемент становится чем-то вроде точки во времени-пространстве... Исчезновение – самая сущность существовании; то, что не исчезает и не существует" (Ф. И. Щербатской. Избранные труды по буддизму, с. 142). С точки зрение Нагарджуны, ни одна вещь не обладает самобытием (свабхава) или независимым существованием, а существует в зависимости от других вещей. Потому каждая отдельная форма является пустой, уникально лишь ее расположение по отношению к другим вещам. Это учение представлено поздней махаянской сутрой "Аватамсака". Правда, нельзя забывать, что Ф. И. Щербатской опирался в своих выводах главным образом на "абхидхармакошу" Васубандху и живую традицию Тибета и сопредельных стран, – как о том говорит в Комментариях В. Н. Топоров. Сарвастивадины, например, различали истинно-сущие дхармы (свабхава-дхарма) и их мгновенные проявления или функции (лакшана-дхарма). Как сказано в "Алмазной сутре": "Если я, Бхагават, понимаю смысл изложенного, то нет какой-либо дхармы, которую Татхагата понимал как "наивысшее совершенное просветление", нет такой дхармы, в которой наставлял бы Татхагата. Почему так? Та дхарма, которую понимал и в которой наставлял Татхагата, непостижима и неизрекаема, она ни "дхарма", и ни "недхарма". Почему так? Определенное (самскрита) не влияет на благородных индивидов" ("Ваджрачхедика праджня-парамита", 7). "Алмазная сутра" – одна из сутр махаяны и основных текстов буддизма чань (яп. дзэн). Популярна не только в странах Востока (в Китае известны по крайней мере шесть ее переводов), но и на современном Западе. По духу близка школе мадхьямиков (Срединного пути), признает первичность праджни и пустоту всех дхарм, которые сравниваются с пузырями на воде. Нереальны, пусты все вещи и идеи, так как все есть проявления ума. Чтобы дать почувствовать своеобразие логики этого текста, приведу пару примеров (из рукописного перевода О. Волковой и Л. Мялля): "Сутра о запредельной интуиции, рассекающей как громовая стрела". "Бхагават сказал так: "В этом мире, Субхути (один из учеников Будды. – Т. Г.), вступивший на стезю бодхисаттвы должен поднять в себе такую мысль: сколько ни есть, Субхути, существ в сфере существ, объединяемых под понятием "существо", рождающихся из яйца, рождающихся из лона, рождающихся из пота или рождающихся произвольно, имеющих форму или не имеющих форм, обозначенных или необозначенных, какую бы ни представить себе сферу существ, могущую быть представленной, всех их я должен привести в сферу нирваны, нирваны без субстанции существования"" (§ 3). "Бхагават сказал: "Если какой-нибудь бодхисаттва, Субхути, скажет так – "я создам гармонию полей", – он скажет не то. Почему так? Гармонии полей, гармонии полей, Субхути, Татхагата говорил о них как о не-гармониях. Поэтому говорят: "гармонии полей"" (§ 10).
63 О. О. Розенберг. Проблемы буддийской философии, с. 250.
64 Самадхи – способность сознания к полной концентрации. Существуют разные виды и степени самадхи. Будда располагал всеми высшими качествами самадхи и мог в любой момент направить свою мысль в любом направлении. "Тот, кто практикует самадхи, – говорил Хуэйнэн, – пребывает в ней всегда, ходит он или стоит, лежит или сидит, ибо Истина (чжэнь, яп. макото) и есть непосредственность-прямота (чжи)".
65 В. М. Алексеев. Китайская поэма о поэте, с. 17.
66 Я писала об этом в статьях "Один из случаев влияния китайской философии на мировоззрение японцев". – Роль традиций в истории и культуре Китая. М., 1972 и "Даосская и буддийская модели мира". – Дао и даосизм в Китае. М., 1982.
67 Напомню: цзин – тончайшее ци. Все есть ци, но оно различается по степени плотности или утонченности, тонкий и грубый мир. А. С. Мартынов приводит мнение цинского ученого Цуй Дунби: "Ученые полагают, что рождение совершенномудрого происходит не из субстанции человеками, а в результате заимствования чистой субстанции цзин Неба" (Л. С. Мартынов. Статус Тибета в XVII-XVIII веках". М., 1978, с. 18).
68 А. С. Мартынов. Представление о природе и мироустроительных функциях власти китайских императоров в официальной традиции. – Народы Азии и Африки. 1972, № 5, с. 81. В этой же статье дается описание этого состояния. "Искренность (чан) – свойство дао. Для "варвара" измениться (кит. – хуа) – значит приобщиться к искренности" (там же).
69 D. F. Sudzuki. Zen Buddhism. Selected writings. N. Y., 1956, с. 281.
70 И нирвана есть переправление на "тот берег": успокоение волнения Дхарм, преодоление страдания, переход в состояние просветленности, праджни, блаженства. Е. И. Рерих рассказывает о проповедях Будды в доступной читателю форме: "Представьте себе, – сказал Благословенный однажды своим последователям, – человека, отправившегося в дальний путь и который был остановлен широким разливом воды. Ближайшая сторона этого потока была полна опасностей и угрожала ему гибелью, во дальняя была прочна и свободна от опасностей... И представьте себе, что этот человек сказал себе: "Истинно, стремителен и широк этот поток, в нет никаких средств, чтобы перебраться на другой берег (Нирвана). Но если я соберу достаточно тростника, ветвей и листьев и построю из них плот, то, поддерживаемый таким плотом и работая усердно руками и ногами, я переберусь в безопасности на противоположный берег". Перебравшись на другой берег, человек отбросил плот за ненадобностью. "Точно так же, о ученики, предлагаю и я вам мое Учение именно как средство к освобождению и достижению, но не как постоянную собственность. Усвойте эту аналогию Учения с плотом. Дхамма (учение) должна быть оставлена вами, когда вы переберетесь на берег Нирваны"" (Наталия Рокотова. Основы буддизма, с. 39-41). "Не следует думать, что достижение нирваны представляет собою возвращение к какому-то первоначальному состоянию невзволнованности. По учению буддизма, волнение безначально, оно, следовательно, не есть результат грехопадения, оно не грех, который нужно искупить, а первобытное страдание, которое должно быть приостановлено" (О. О. Розенберг. Проблемы буддийской философии, с. 257).
71 Ученые, кстати, свидетельствуют: "В том смысле, в каком это понятие (архе) фигурирует у Аристотеля, его нет ни в одном из дошедших до нас текстов досократиков" (И. Д. Рожанский. Анаксагор, с. 51). Аристотель выделил "соединенные в одном противоположности", отстаивая в "Метафизике" закон противоречия: "Невозможно, чтобы одно и то же в одно и то же время было и не было присуще одному и тому же в одном и том же отношении... это, конечно, самое достоверное из всех начал" (Аристотель. Метафизика, 3, 3). Можно сравнить со словами Будды из "Ланкаватара сутры" (III, З): "И все же, Махамати, что же значит "недуальность"? Это значит, что свет и тень, длинный и короткий, черное и белое – суть относительные названия, Махамати, они зависимы друг от друга, как нирвана и сансара. Все вещи нераздельны, одного нет без другого.
72 Цит. по: Н. И. Конрад. Избранные труды. Литература и театр. М., 4978, с. 270.
73 В. ф. Эри. От Канта к Круппу. – Вопросы философии. 1989, № 9, с. 106.
74 Н. Бердяев. О рабстве и свободе человека (опыт персоналистической философии). Париж, 1939, с. 52. Кстати, отношение Н. Бердяева характерно для русской философии начала века, ищущей выход из того тупика, в который попала европейская цивилизация. "Грехопадение" последней связывали с характером европейской, и прежде всего немецкой, философии: "В его (Канта. – Т. Г.) философии почти совершенно отсутствует категория духа. Мне также чужд и враждебен шопенгауэровский антиперсонализм. Но мне совершенно чужд монизм, эволюционизм и оптимизм Фихте, Шеллинга и Гегеля, их понимание объективации духа, универсального Я, разума в мировом и историческом процессе, особенно гегелевское учение о самораскрытии духа и развитии к свободе в мировом процессе... Мое очень раннее убеждение в том, что в основе цивилизации лежит неправда, что в истории есть первородный грех, что все окружающее общество построено на лжи и несправедливости, связано с Л. Толстым" (там же, с. 13).
75 Эти слова Соломона, кстати, вспоминает Т. Карлейль вслед за характеристикой С. Джонсона, "величайшего ума" Англии, обладающего "великим талантом молчания" (Т. Карлейль. Герои, почитание героев и героическое в истории, с. 240-241.
76 Н. В. Гоголь называл современную цивилизацию "страшным царством слов вместо дел".
77 И. С. Лисевич. Слово мудрости. – Из книг мудрецов. Проза древнего Китая, с. 5-24.
78 Потому я избегаю называть древнекитайские или древнеиндийские учения "философией" ("любовью к мудрости") – это иная стадия познания, более отдаленная во времени; "любовь" перешла в самоё "мудрость". Желание же наших и порой европейских ученых "подтянуть" эти учения до ранга "философии" кажется наивным (дань все тому же европоцентристскому комплексу "сильнее кошки зверя нет"). Тогда как Запад всего лишь один из вариантов живой Истории народов, более приближенный к нам по времени. Еще Августин говорил: "Философией называется не самая мудрость, а любовь к мудрости; если ты к ней обратишься, то хотя и не будешь мудрым, пока живешь, (ибо мудрость у бога и человеку доступна быть не может), однако если достаточно утвердишь себя в любви к ней и очистишь себя, то дух твой после этой жизни, т. е. когда перестанешь быть человеком, несомненно, будет владеть ею" ("Против академиков", 111, 9).
79 По мнению современного японского философа Юаса Ясуо, "можно считать, что характерная черта философского образа мышления японцев состоит в том, что за исходную точку берут практический вопрос: "Как нужно прожить жизнь?". Западноевропейская метафизика, воспринявшая традицию греческой онтологии, начинает с постановки теоретического онтологического вопроса: "Как существует мир?", "Что такое бытие вещей?". В Японии же такой образ мышления фактически не развивался. Однако можно утверждать, что для традиции японского (в широком смысле восточного) философского образа мышления было характерно то, что вопрос "Как нужно прожить человеческую жизнь?" не сводился к практическо-этическому вопросу, а мыслился глубже, доводился до теоретического онтологического вопроса относительно истинной картины бытия; мира и космоса" (цит. по: 10. Б. Козловский. Философия экзистенциализма в современной Японии. М., 1975, с. 115-116).
80 Клеша (санскр.; яп. – бонно) – иллюзии, те ментальные функции, которые разрушают ум. Делятся на "коренные" и "производные". К первым относятся зависть, гнев, невежество, высокомерие, сомнения, заблуждения. От коренных проистекают производные: глупость, леность, недоверчивость, скаредность, суетность, бездуховность – все то, что заполняет и загрязняет сознание, лишает человека возможности видеть вещи, как они есть. Говоря словами Щербатского, "структура внешнего мира в точности соответствует тому, что находится в самом нашем познании и в категориях нашего языка. Эта структура включает в себя субстанции и чувственные качества, которые могут восприниматься нашими органами чувств" (Ф. И. Щербатской. Избранные труды по буддизму, с. 78). Комментируя, В. Н. Топоров приводит мнение индийского логика Дигнаги: "Все наше познание, поскольку оно состоит из истин умозаключаемых, проникнуто категориями субстанции и акциденции (вне коих мы ничего представить не можем), и оно не имеет ни малейшего отношения к истинному бытию или нрбытию" (там же, с. 322).
81 Еще в 1919 г. в публичных лекциях о буддизме Ф. И. Щербатской говорил: "Основные стороны буддийского философского учения, будучи правильно поняты и переложены на наш язык, обнаруживают замечательную близость к самым последним достижениям нашего научного миросозерцания. "Миросозерцание без Бога", "психология без души", "вечность элементов материи и духа", что является особым выражением закона причинности, наследственности, жизненный процесс вместо бытия вещей" (Ф. И. Щербатской. Философское учение буддизма. Пг., 1919, с. 48). И в фундаментальной работе "Буддийская логика" он утверждает: "Едва ли можно сказать, что все это представляет систему религии" (Ф. И. Щербатской. Избранные труды по буддизму, с. 60). По мнению О. О. Розенберга, буддизм исходит из таких учений о жизни, которые не противоречат науке о природе. Можно найти сколько угодно аналогичных высказываний. В "Словаре по буддизму" говорится, что "учение Будды", трипитака ("три корзины"), состоит из сутр (слова самого Будды), винаи (правила поведения) и шастр (комментаторские сочинения). Единое учение со временем распалось на хинаяну, махаяну и тхераваду. Но ни одно не характеризуется как религия. Лишь раз упоминается, что "эзотерический буддизм соединился с популярной религией" (Japanese-English. Buddhist Dictionary. Tokyo, 1965, с. 22). Будда не помазанник, не мессия, призванный воплотить слово Божье. Он полностью очистил сознание и достиг Просветления, в момент которого ему открылся Закон сущего. Я далека от мысли умалять мировые религии (было бы наивно умалять путь нравственного спасения). Но хочу привлечь внимание к структурным особенностям восточных учений. При недуальной модели мира (когда одна форма перетекает в другую) трудно говорить о религии, науке, искусстве в чистом виде. Все эти формы взаимопроникаются и, несомненно, в большей степени, чем на Западе, для которого характерна не одновременность, а последовательность, смена фаз, формаций. На Западе явственнее дает о себе знать принцип доминантности, скажем, на смену мифологическому сознанию приходит религиозное, на смену религиозному – научное (лишь в наше время эти уровни, по необходимости, сближаются, взаимопроникаются в процессе движения к целостному мышлению). Естественно, "все есть во всем", но доминировало на Западе, определяло дух эпохи что-то "одно" ("одно", не зная Великого Предела, достигая завершенности, отпадает, продолжает существовать как бы само по себе (о чем шла речь в гл. 1). На буддийском Востоке существует не последовательный, а скорее одновременный или параллельный тип связи одного с другим, – не смена господствующих форм, а их сосуществование, перетекание одной формы в другую. Разумеется, это живой процесс и какие-то стороны преобладали, мы говорим о разных стилях эпох, но они появлялись не за счет отрицания, отпадения от Целого, а за счет нового поворота того же многогранника. При доминанте власти (архе) как формообразующего начала и религия, и наука попадают в сферу отношений господства-подчинения. При доминанте Единого одно не может властвовать над другим и существовать за его счет. Эта мировоззренческая установка сказалась на характере восточных учений, не располагавших к религиозным войнам или конфликту религии с наукой, религии с искусством. Это не значит, что история па буддийском Востоке протекала безмятежно, но тут уж социальные страсти брали верх над буддийско-даосским или конфуцианским отношением к жизни. Нет плохих религий, есть плохие адепты. Буддизм, таким образом, не религия в строгом смысле слова, а некое целостное образование, тип мышления и существования – Путь. Естественно, Учение выполняло и религиозную функцию, без которой не сохранились бы человеческие сообщества, но оно именно полифункционально, включало все сферы знания. Другое дело, что исследователи буддизма. работающие в европейской парадигме, нередко эти функции разделяют.
82 "Будда же постоянно учил, что такого самостоятельного "я" нет, что нет и обособленного от него мира, нет сомнительных "предметов", нет обособленной "жизни", все это – неразрывные корреляты, отделимые друг от друга только в абстракции" (О. О. Розенберг. Проблемы буддийской философии, с. 60).' Или как сказано в упанишадах: "Влекомый потоками свойств, оскверненный и нестойкий, колеблющийся, обеспокоенный, алчущий и возбужденный, он впадает в самомнение. "Я – Он", "Это – мое", – думая так, он связывает сам себя, как птица – сетью" (Майтри упанишада, 3, 2).
83 В. Ф. Асмус. Предисловие. – Платон. Избранные диалоги, с. 22-23.
84 За последнее время обострился интерес к китайской науке. Достаточно напомнить о многотомном труде английского синолога Дж. Нидэма, издавшего в 50-60-е годы в Кембридже пять томов фундаментального исследования "Наука и цивилизация в Китае" (всего планировалось около 20 томов), или книге Ф. Капра "Дао и физика" (переиздана в Бостоне в 1985 г.). Интерес к проблеме проявляет новое поколение китаистов (А. И, Кобзев, С, В, Зинин) (см.: Наука в традиционном Китае, М., 1987; С. В. Зинин. Китайская наука и западное науковедение. – Четвертая всесоюзная школа молодых востоковедов. М., 1986; он же. Проблема специфики китайской науки. – Восемнадцатая научная конференция "Общество и государство в Китае". М., 1987 и др.). На вопрос, почему точные науки не стали развиваться в Китае, первым в мире создавшем бумагу, фарфор, компас, порох, шелк, книгопечатание, или в Индии – родине математики, логики, грамматики, можно ответить словами Чжуан-цзы: "У того, кто применяет машину, дела идут механически. Кто утратил целостность чистой простоты, тот не утвердится в жизни разума" ("Чжуан-цзы", гл. 12).
85 По мнению А. Уоттса, "чтобы понять суть буддизма и индуизма, нужно отказаться от всевозможных "идеалистических" философий Запада, с которыми их нередко сравнивают... "Освобожденный" (достигший просветления) видит мир так же, как мы, но не классифицирует его, не разъединяет, не распредмечивает. Однако это не монизм... Объединять, как и разделять, – есть майя. Поэтому индуисты и буддисты предпочитают говорить о реальности как "не-дуальной", а не "единой", так как понятие единого предполагает понятие множества" (A. W. Watts. The Way of Zen. с. 59-60). (Потому я и пишу Единое с большой буквы). Вторичное состояние – майя – разделение, дробление и противопоставление одного другому; творимые ею иллюзии заслоняют истинный мир. Как говорил третий патриарх чань, Сэн-цань, "все противоположности – плод нашего неведения. Если хочешь познать реальность, избегай двойственности" ("Доверяющий разум") (Цит. по: D. J. Sudzuki. Manual of Zen Buddhism. N. Y. 1960, с. 79).
86 Цит. по: К. А. Попов. Законодательные акты средневековой Японии. М.,1984, с. 22.
87 Л. 3. Эйдлин. Тао Юань-мин и его стихотворения. М., 1967, с, 351.
88 Принцип "естественности" (цзыжань) означает, что все само по себе следует собственной природе или своему внутреннему закону (ли). Так проявляет себя дао. Принципиально не отличается от буддийского восьмеричного Пути конфуцианский, но с характерной перестановкой акцентов – на гармонию в семье и в Поднебесной, как это звучит в "Великом Учении": "Воспитание у человека морально-этических принципов предполагает восемь ступеней: взаимодействие с вещами, познание вещей, воспитание искренности, исправление сердца, совершенствование, обеспечение мира в семье, надлежащее управление государством, умиротворение Поднебесной" (цит. по: В. Г. Буров. Мировоззрение китайского мыслителя XVII в. Ван Чуань-шаня. М., 1976, с. 116).
89 Для определенного стиля жизни или образа мышления китайцы находили соответствующие символы-метафоры: скажем, жить или творить (что одно и то же) в стиле "ветра и потока" (фэнлю), т. е. слиться с энергией ветра и воды, уподобиться их ритму. Этот стиль процветал в Китае с III по VI в. н. э. "Совершенным человеком почитался в те века тот, кто подчинялся потоку жизни, как движению, ветра, забывал о различиях и становился единым с вещами, отождествляя себя с ними" (Е. В. Завадская. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975, с. 541. Л. Е. Бежин посвятил этому стилю книгу "Под знаком "ветра и потока". Образ жизни художника в Китае III-VI веков" (М., 1982 г.), где акцентирует жизнелюбие его приверженцев: ""Ветер и поток" звучит яркой апологией жизни буквально в каждом своем проявлении. Стремление любоваться живым, всюду улавливать его пульсацию и биение... Эта материя хрупка и эфемерна, и вечная тень небытия готова поглотить ее. Но тем острее чувство прекрасного, вызываемое жизнью" (с. 40).
90 Цит. по: И. С. Лисевич. Литературная мысль Китая, с, 202.
91 Monumenta Nipponica. Vol. 34, № 3. Tokyo, 1979, с. 273.
92 Согласно учению синто, существуют три категории богов: небесные ками – высшая сфера, земные нами и ками-духи различных предметов и явлений природы: божества гор, моря, духи растений, животных; божества обитают и в словах (котодама). Есть божества разума (омоиканэ), добра (наохи) и зла (магацухи). Так что ками бесчисленное множество. Они самовоспроизводятся и способны разделяться: "Считалось, что митама – божественный дух – обладает способностью разделяться таким образом, что, оставаясь в прежнем синтай (божественной субстанции), он одновременно переходит в другой священный предмет, который становится синтай другого святилища. При этом прежний синтай ни на йоту не утрачивает своей магической силы, а в целом могущество "божественного духа" лишь возрастает. Такое представление – бунрэй (разделение духа) позволяет создавать множество святилищ одним и тем же божествам" (Г. Е. Светлов. Путь богов. М., 1985, с. 22). Если миропорядок представлялся как процесс беспрепятственного перетекания одной формы в другую (дзидзимугэ), то это не могло не сказаться и на отношении между разными учениями и верованиями: "современный синто немыслим без заимствований из конфуцианства, а многочисленные народные верования и суеверия, органически вплетающиеся в ткань синто, сложились под влиянием даосизма... Элементы даосизма и конфуцианства вошли составными частями в религиозную практику буддизма. Синто не только явился вместилищем многочисленных локальных культов, но и формировался под сильным влиянием всех трех заимствованных религиозных течений, особенно буддизма. В свою очередь, буддизм в процесс" утверждения на японской почве подвергался преобразованию под воздействием местных верований" (там же, с. 13).
93 Учение о Пустоте (шуньяте) было изложено в ряде сутр "Праджня парамита сутры", которые относятся к четвертому из пяти периодов, на протяжении которых Будда проповедовал свое учение, – к периоду праджни. "Шунья, шуньята (яп. ку) часто переводится как "пустота" или "ничто", но предпочтительнее понятие "относительность", предложенное Щербатским. Шуньята не отрицает существование как таковое, но говорит о том, что все существования и составные элементы зависимы от причинности. А так как причинная связь меняется ежемгновенно, то и невозможно статичное существование. Шуньята, таким образом, категорически отрицает возможность неизменного существования феноменов в какой-либо форме" (Japanese-English Buddhist Dictionary, с. 184).
94 Медитация – практика ментальной концентрации, в процессе которой прекращается интеллектуальная работа ума, очищается сознание. Цель – снятие всякой двойственности, переживание однобытия с миром. Можно передать это словами даоса Чжуан-цзы: "Наслаждайся сердцем в бесстрастии, соединись с эфиром в равнодушии, предоставь каждого естественному (пути), не допускай ничего личного, и в Поднебесной воцарится порядок" ("Чжуан-цзы", гл. 7). О медитации в последнее время пишут немало, в частности специалист по чань-буддизму Н. В. Абаев: "Медитация обычно начиналась с сознательной концентрации внимания, когда медитирующий сосредоточивает его в одной точке и интенсивно "всматривается" своим внутренним взором в "пустоту", стремится опустошить свое сознание до полного отсутствия каких-либо мыслей или образов восприятия. Такое состояние называлось "одноточечностью сознания" (и-нянь-синь), или "сознанием, лишенным мыслей" (у-нянь-синь), "не-сознанием" {у-синь)" (Н. В. Абаев. Чань-буддизм, с. 83). В понятиях К. Г. Юнга, в процессе медитации выявляется архетип "самости" (selfness) или приходит ощущение истинного Я через встречу с вторичным "я", "персоной".
95 Д. Е. Померанцева. Поздние даосы, с. 209.
96 Нельзя сказать, что идея недуальности чужда мысли Запада, но она не стала господствующей. В связи с этим в первую очередь следует упомянуть Августина. Автор новейшего перевода "Исповеди" замечает: "В этой изменяемости нет ничего определенного: материя одновременно и "ничто" и "нечто"; она "есть" и "не есть". Материя бл. Августина не соответствует первичной материи Аристотеля, мыслимой и существующей только в связи с формой; у бл. Августина это некая парадоксальная реальность; "это и полное отсутствие формы, и способность принимать самые разные формы"" (Богословские труды. № 19, с. 258)
97 Цит. по: В. М. Алексеев. Китайская литература с. 261.
98 A. W. Watts. The Way of Zen, c. 36.
99 J. Needham. Science and Civilization in China. Vol. 3. Cainbridee 1956, с. 280-290.
100 Древнекитайская философия. Т. 1, с. 319.
101 Цит. по: Я. И. Конрад. Запад и Восток, с. 219-220.
102 Там же, с. 221.
103 Кавабата Ясунари. Красотой Японии рожденный, с. 22-23, 36.
104 Ясунари, Кавабата. Мастера современной прозы. М., 1971, с. 320, 322.
105 См.: С. Аверинцев. Теизм. – Философская энциклопедия. Т. 5. М, 1970, с. 191.
106 Антология мировой философии. Т. 1, с. 318-319.
107 Большая энциклопедия. Т. 14. СПб., 1904, с. 102.
108 В работе "Что такое метафизика?" (Франкфурт, 1967 г.) М. Хайдеггер обосновывает существование Ничто: "Единственно потому, что в основании человеческого бытия приоткрывается Ничто, вся отчуждающая странность сущего способна захватить нас в полной мере. Только когда нас томит отчуждающая странность сущего, оно пробуждает в нас и вызывает к себе удивление. Только на основе удивления – т. е. приоткрытости Ничто – возникает "почему?" Только благодаря возможности "почему?", как такового, мы способны определенным образом спрашивать об основаниях и обосновывать" (цит. по: Работы М. Хайдеггера по культурологии и теории идеологий. М., 1981, с. 29).
109 Цит. по: Богословские труды. № 17, с. 135, 141.
110 Ф. X. Кессиди. От мифа к логосу. М., 1972, с. 68.
111 Л. Э. Мялль. Об одном возможном подходе к пониманию sunyavada. – Terminologia Indica. I. Tartu, 1967, с. 17-19.
112 Мне уже приходилось касаться этого вопроса, в частности, в статье "Махаяна и китайские учения (попытка сопоставления)", где я веду речь о трех моделях развития, условно говоря: белое или черное – европейская модель (дихотомическая: "или то, или это"); белое станет черным – китайская модель ("одно инь, одно ян и есть дао", то станет этим, это ста-! нет тем) белое и есть черное – индийская модель (пустой круг, снятие всяких противоположностей: "это есть то"). И добавляю: невозможно говорить о предпочтительности какого-то пути. Каждый естествен и органичен для своего времени и для своего народа (Изучение китайской литературы в СССР. М., 1973, с. 108-110.
113 Ф.И. Щербатской подробно описывает действие закона совозникновения: "Хотя отдельные элементы (dharma) не связаны друг с другом ни всепроникающим веществом в пространстве, ни длительностью во времени, несмотря на это, все же между ними есть связь". Иными словами, эти элементы подчинены закону причинности, совозникновения, – пратитъя самутпада: возникновение (самутпада) некоторых элементов в отношении (пратитья) других элементов. Основная идея буддизма – понятие множественности отдельных элементов, но их деятельность в мировом процессе контролируется строгой причинностью. Однако у европейских ученых понимание этого закона вызывало большие трудности, связанные с привычкой к дискурсии, к выстраиванию элементов (всего их 12) в последовательном порядке, тогда как на самом деле с возникновением каждого из них возникают и все остальные (как клетка содержит закодированные образы всех органов). Таким образом, согласно традиционной модели, принимается во внимание не последовательная, а параллельная или одновременная связь элементов между собой; разница между ними лишь в том, что одни могут находиться в скрытом, другие – в явленном виде. В махаяне переносится акцент на не-существование этих элементов, их относительность (шуньята): "В хинаяне элементы бытия, несмотря на их взаимозависимость, считались реальными. В махаяне, напротив, все элементы бытия именно потому, что они были взаимозависимы, считались нереальными", ибо нечто зависимое не может рассматриваться как конечная реальность (Ф. И. Щербатской. Избранные труды по буддизму, с. 134, 240.
114 П. Т. Федоренко. Избранные произведения. Т. 2, с. 119.
115 Уже не раз шла речь о принципе недвойственности, непротивопоставления одного другому, но он настолько важен для понимания буддийско-даосской модели мира, что я время от времени возвращаюсь к нему.
116 Сокка гаккай (Общество установления ценностей) – одна из массовых организаций буддийской секты Нитирэн Сёсю (Истинное учение Нитирэна). Основана в 1930 г., опирается на сутру Лотоса. Икэда Дайсаку – третий ее президент (1960-1979). Пропагандист буддийского учения, его миротворческого духа – судя по диалогу с ректором МГУ А. Логуновым: "В настоящее время, как никогда, необходимо, преодолев национальные межгосударственные и идеологические барьеры, открыть "духовный шелковый путь", который бы связал души людей и создавал возможность для развития культурного обмена между народами". Он вспоминает слова Учителя Тода-сэнсэй: "Те, кто применит ядерное оружие, – порождения сатаны, чудовища". Зло теряет силу, как только обнажишь его лицо. Испокон веков зло обитало во тьме. "И свет, который благодаря богу света уничтожил зло, был не что иное, как человеческая мудрость, которая в конце концов распознала истинное лицо сатаны. Для сатаны, обитающего во тьме, свет равносилен "смертной казни". И поскольку тьма наступает, нам, людям, нужно делать все для того, чтобы свет мудрости и здравого смысла никогда не исчезал" (Д. Икэда, А. Логунов. Третий радужный мост. Поиск человека и мира. М., 1988, с. 9, 11).
117 Буккёго дайдзитэн (Большой словарь буддийских слов). Токио, 1985, с. 574.
118 Ikeda Daisaka. Buddhism: the Living Philosophy. Tokyo, 1974, с. 30.
119 Похожее чувство испытал девятнадцатилетний Лютер, на глазах которого молнией убило друга; и ему вдруг открылась Реальность. Об этом рассказывает Т. Карлейль, добавляя: "Характерную особенность всякого героя... составляет именно то, что он возвращается назад к действительности, что он опирается на сами вещи, а не на внешность их... По существу, реформация – возвращение к истине и действительности от лжи и видимости... Будьте непосредственны, будьте искренни: таков весь смысл протестантизма" (Т. Карлейль. Герои, почитание героев и героическое в истории, с. 142-143).
120 Цит по; Современные японские мыслители. М., 1958, с. 232.
121 Nishida Kitaro. Intellingness. Tokyo, 1958, с. 166.
122 Цит. по; Современные японские мыслители, с. 232, 236, 245, 246.
123 А. А. Долин. Японский романтизм и становление новой поэзии. М., 1978. с. 44.
124 Цит. по: Д. П. Бугаева. Таока Рэйун – японский критик и писатель-документалист. Л.. 1987, с. 77.
125 Р. Тагор. Центр индийской культуры. – Сочинения. Т. 11, с. 242.
1 О популярности Ницше в России свидетельствуют, в частности, переиздания его работ: за 1900-1910 гг. увидели свет четыре издания книги "Так говорил Заратустра" (в переводе Ю. М. Антоновского). Интерес к Ницше в России захватил, естественно, не только литераторов – от Достоевского до акмеистов (с их броским девизом: "пустота, дыра, ничто"). "Поэт революции" А. В. Луначарский писал в 1919 г.: "Для меня она (революция 1905 г. – Т. Г.) была необходимым в своем трагизме моментом в мировом развитии человеческого духа к "Вседуше", самым великим и решительным актом в процессе "богостроительства", самым ярким и решающим подвигом в направлении программы, формально удачно намеченной Ницше, – "в мире нет смысла, но мы должны дать ему смысл"" (цит. по: А. А. Лебедев. Последняя религия. – Вопросы философии. 1989, № 1, с. 37). "Вот почему русским богостроителям из среды левых социал-демократов, – заключает автор статьи, – в ту пору оказался столь близок и "сверхчеловек" Ницше" (там же, с. 39).
2 Ф. Ницше. Воля к власти. – Полное собрание сочинений. Т. 9. М., 1910, с. 114, XV.
3 Там же, с. XI, XIX, 60, IX, 12-13.
4 Нигилизм во второй половине XIX в. захватил многие страны мира, от Европы до Японии. В 1967 г. в Токио вышла книга Ниситани Кэйдзи . "Нигилизм", выдержавшая за десятилетие семь изданий. Ее герои: Ницше, Штирнер, Кьеркегор, Хайдеггер. "Нигилизм, – с точки зрения японского философа, – есть самосознание коренного и всестороннего кризиса в Европе... ощущение того, что рушится фундамент, тысячелетия поддерживавший европейскую историю, рушатся сами основы европейской культуры и общественной мысли, морали и религии. Одновременно человеческая жизнь утрачивает твердую опору и человеческое "бытие", как таковое, становится чем-то проблематичным". Однако, замечает автор, происходит "преодоление нигилизма через нигилизм" (мысль Ницше) или через созидательный, творческий нигилизм (цит. по: 10. Б. Козловский. Философия экзистенциализма в современной Японии. М., 1975, с. 141).
5 Ф. Ницше. Воля к власти, с. 70-71, 23.
6 Как пишет Н. И. Конрад в статье "Шекспир и его эпоха": "Гуманизм на всякой ступени своего исторического пути всегда требовал определенной дисциплины ума и чувства, дисциплины интеллектуальной и моральной. Средневековый гуманизм создал такую дисциплину; это была дисциплина, основанная на религиозных представлениях о мире и деятельности человека в нем. Ренессансный гуманизм стал создавать свою дисциплину, строя ее уже на антропологических воззрениях. Интеллектуальную сторону этой дисциплины он искал на путях рационализма (против которого, добавим, вслед за Шопенгауэром и Ницше, взбунтовался в XIX в. интеллектуальный мир. – Т.Г.)... недостаточная еще развитость в условиях. Ренессанса новой мировоззренческой опоры – рационализма – и привела к краху моральной дисциплины гуманизма... Принцип "человек – мера всех вещей", т. е. антропологический гуманизм, превратился в практический девиз "все дозволено"" (Н. И. Конрад. Запад и Восток, с. 299-300).
7 Ф. Ницше. Воля к власти, с. 34.
8 Ф. Ницше. Воля к власти, с. 37.
9 Ф. Ницше. Так говорил Заратустра. СПб., 1911, с. 83.
10 Стоит ли говорить, что понятие "толпа", нарицательное во все времена, столь же далеко от понятия "народ", как тьма от света. И не случайно "толпа" ассоциируется с "чернью" – воплощением темных, разрушительных сил. "Чернь" – род трутней, лишенных дара созидания. В этом ее отличительный признак. В Китае, при отсутствии антропоцентрической модели, для проблем такого рода не было почвы, не было иллюзий на тот счет, что "мелкий человек" (сяожэнь) в состоянии вершить судьбами мира, хотя какое-то время и он может стоять у власти. "Гуманность – это то, что не может делать толпа, – вспоминает слова Конфуция Мэн-цзы. – Если правитель страны любит гуманность, то у него не будет врагов в Поднебесной" (М. Л. Титаренко. Древнекитайский философ Мо Ди, его школа и учение. М., 1985, с. 132).
11 Ф. Ницше. Так говорил Заратустра, с. 39. Можно вспомнить слова Карлейля из "Прошлого и настоящего": "Поистине, с нашим евангелием маммоны мы пришли к странным выводам! Мы говорим об обществе и все же проводим повсюду полнейшее разделение и обособление. Наша жизнь состоит не во взаимной поддержке, а, напротив, во взаимной вражде, выраженной в известных законах войны, именуемой "разумной конкуренцией" и т. п. Мы совершенно забыли, что чистоган не составляет единственной связи между человеком и человечеством".
12 Ф. Ницше. Так говорил Заратустра, с. 10, 6, 5.
13 Ф. Ницше. Воля к власти, с. XVIII.
14 Raja Rао. The Serpent and the Rope. L., 1960, с. 207. Ауробиндо Гхош (1872-1950) – индийский мыслитель, широко известны его книги "Духовная эволюция человека", "Человеческий цикл", "Интегральная йога", "Идеал человеческого единства" (см.: Открытие Индии, с. 339-425).
15 Как свидетельствует В. И. Вернадский, уже 5-6 тыс. лет назад появились представления о порядковом исчислении. "Скрытым образом понятие нуля было уже здесь заложено, хотя оно появилось только при полном расцвете научного знания, его не было в эллинской науке". В Западной Европе о нуле узнали в XI-XII вв. Гораздо раньше нуль был известен в Индии и в Индокитае. "Археологические находки указывают, что около 3000 лет до н. э. нуль и десятичный счет были известны в доарийской цивилизации Мохенджаро в бассейне Инда". Халдеи обладали пониманием нуля, когда греки едва ли обладали азбукой. Но "понятие нуля совершенно не захватило пытливую мысль греков и на западе Европы вошло в жизнь в Средние века через арабов и индусов" (В. И. Вернадский. Размышления натуралиста, с. 45. 48). Психологически это можно объяснить все тем же комплексом неприятия Пустоты, пустого, незаполненного пространства. И, напротив, идеал Пустоты, ощущение пустотности мира привели к противоположному пониманию нуля на буддийском Востоке. Индийские математики обозначали "нуль" словом sunya; есть точка зрения, что математики Индии, усвоившие нуль в III в. до н. э., описали его так же, как буддисты описывали нирвану (см.: Л. Мялль. Об одном возможном подходе к пониманию sunyavad. – Terminologia Indica, с. 19). Естественно, и понимание нуля не могло совпасть при несовпадении мировоззрений. (Я уже касалась этого вопроса, пытаясь доказать, что в основе одной мировоззренческой системы лежит символ "ноля", в основе другой – "единицы", располагавшей к причинно-следственному ряду, к дискурсивному мышлению. – Т. П. Григорьева. Махаяна и китайские учения. – Изучение китайской литературы в СССР. М., 1973, с. 86-111).
16 Raja Rао. The Serpent and the Rope, c. 207.
17 К. Э. Циолковский. Нирвана. Калуга, 1914, с. 1.
18 К. Э. Циолковский. Нирвана, с. 5.
19 Ф. Ницше. Воля к власти, с. 21, 53-54.
20 Конечно, слово "сверхчеловек" понимали по-разному, в зависимости от времени и уст, его произносивших. Лукиан называл так деспота; для ортодоксального христианина – это сам Иисус Христос; гностики говорили не о "спасенном", а о "сверхчеловеке". К категории "сверхчеловека" относили и Тамерлана и Фауста. Для Гёте сверхчеловек – это "гений", к которому неприменимы обычные мерки. В обывательском смысле – "супермен". Понятие многомерное, хотя для Ницше вполне определенное – над-человек, способный преодолеть слабости "последнего человека".
21 Панлогизм Гегеля, по сути, отрицание изначального Логоса, "сам себя познающий разум". Истина, по Гегелю, доступна только Науке логики – посредством логических категорий. Так что логика, порождение живого Логоса, похоже, покинула своего прародителя, отпала от Целого, что вызвало к жизни иррациональную философию – ущемленную половину Целого (в Германии – Шопенгауэр, Шеллинг, Гумбольдт. Ницше; философы России на рубеже веков). В России началась "Борьба за логос" (название книги В. Эрна), Логосу посвящались фундаментальные труды: "Учение о логосе в его истории" С. Н. Трубецкого (М.. 1906), "Логос" Ф. А. Степуна (ин. 1-3. М., 1910-1912). В 1910-1915 гг. в издательстве "Мусагет" издается журнал "Логос" – русский вариант международного журнала "Логос". Против направления этого журнала – интернационализации Логоса ("философские изыскания в конечном итоге должны привести к наднациональному слиянию их результатов") – выступали такие философы, как В. Эрн, не считавшие возможным соединять столь различные по духу философии, как русскую и немецкую. "В своей устной и письменной полемике, – вспоминает Ф. Степун, – Эрн пытался доказать, что мы, представители научной философии, порвавшие с древней христианской традицией, не имеем ни малейшего права оперировать понятием Логос, взятым у Иоанна Богослова, и профанировать его". (цит. по: Ю. Шеррер. Неославянофильство и германофобия. – В. Ф. Эрн. – Вопросы философии. 1989, № 9, с. 88). Считая Россию единственной наследницей изначального Логоса, Эрн изложил свои взгляды в упомянутой выше книге "Борьба за Логос", вышедшей в 1911 г. в издательстве с символичным названием "Путь", и, как верно подмечено "От редакции" "Вопросов философии", – затронул "нервный узел" современной культуры (там же, с. 84). В своей книге Эрн убеждал: "Логос – есть лозунг, зовущий философию от схоластики и отвлеченности вернуться к жизни и не насилуя жизни схемами, наоборот, внимая ей, стать вдохновенной и чуткой истолковательницей ее божественного смысла, ее скрытой радости, ее глубоких задач" (с. VII).
22 Ф. Ницше. Так говорил Заратустра, с. 63.
23 Ф. Ницше. Воля к власти, с. 75.
24 О. Шпенглер. Закат Европы. М., 1923, с. 216.
25 Ф. В. И. Шеллинг. Сочинения. Т. 1. М., 1987, с. 85.
26 Акутагава Рюноскэ. Жизнь идиота. – Избранное. Т. 2. М., 1971, с. 396.
27 Акутагава намекает на известное хайку Басе:
Старый пруд!
Прыгнула лягушка.
Всплеск воды.
28 Акутагава Рюноскэ. Ад одиночества. – Новеллы. М., 1985, с. 43-44.
29 Ф. Ницше. Так говорил Заратустра, с. 7, 9, 16, 36-37.
30 Там же, с. 32, 6-7.
31 "Литературная газета" (27.09.1989) привела надпись на обложке западногерманского журнала "Шпигель": "Человек слишком глуп, чтобы выжить?"
32 Ф. Ницше. Так говорил Заратустра, с. 63.
33 В каким-то смысле А. Тарковский противопоставляет неверию Ницше веру в чудодейственность добра и веры, рассказывая притчу о монахе, который молитвенно поливал высохшее дерево – и оно ожило. "Только разве это чудо? Это истина", – верит Тарковский (Знание – сила. 1988, № 12, с. 48).
34 Ф. Ницше. Так говорил Заратустра, с. 52.
35 Ф. В. И. Шеллинг. Сочинения. Т. 1, с. 1-6.
36 Ф. Ницше. Так говорил Заратустра, с. 98-99.
37 Ф. Ницше. Воля к власти, с. 54.
38 А. Шопенгауэр. Мир как воля и представление. М., 1900, с. 334 – 335, 331, 333, 426.
39 Тем не менее находились философы (Т. Карлейль), которые говорили: "Мир – тайна, жизнь – тайна; но эта тайна, лежащая открытой для всех. Глядите открытыми глазами на действительность – и вы проникните глубже в эту тайну, чем любая метафизическая система"... (цит. по: В. И. Яковенко. Томас Карлейль, его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1891, с. 60).
40 Известно, с каким восторгом говорил Шопенгауэр об упанишадах, считая их вершиной мудрости, свободно оперируя древнеиндийскими понятиями, и лишь в понимании Изначального расходился с индийскими Учителями, хотя и считал сострадание величайшим из достоинств человека: "Если в глазах какого-нибудь человека пелена Майи, principium individuationis, стала так прозрачна, что он не делает уже эгоистической разницы между своей личностью и чужой, а страдание других индивидуумов принимает так же близко к сердцу, как и свое собственное, и потому не только с величайшей радостью предлагает свою помощь, но даже готов жертвовать собственным индивидуумом, лишь бы спасти этим несколько чужих, то уже естественно, что такой человек, во всех существах узнающий себя, свое сокровенное и истинное Я, должен и бесконечные страдания всего живущего рассматривать как свои собственные и приобщить себя несчастию Вселенной" (А. Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Т. 1. М., 1900, с. 392). Можно сказать, Шопенгауэр проникся одним принципом буддизма, состраданием (каруна) – вселенским свойством, но не проникся другим, Изначальной мудростью (праджня), о чем свидетельствует его пессимизм. Любопытна реакция японцев на попытку сопоставить пессимизм Шопенгауэра и нигилизм Ницше с буддизмом. "Однако ни Шопенгауэр, – по мнению Ниситани Кэйдзи, – ни отталкивавшийся от него Ницше не поняли истинного смысла буддизма". Ницше говорил о буддийском характере "тоски по небытию" и воспринимал европейский нигилизм как вторичный приход буддизма, видя в буддизме "полное отрицание жизни и воли, предел декаданса", понимая слово "пустота" как бессодержательность, отсутствие чего бы то ни было, что не соответствует действительности. По мнению Ниситани, Ницше ближе к буддизму, когда воспевает "дионисийство", понимая его как "одну радость и одну муку", как чувство единства творчества и угасания (Ниситани Кэйдзи. Нигилизм Токио 1970 с. 230-232).
41 С. Н. Трубецкой. Учение о логосе в его истории, М., 1906, с. 8-9.
42 По определению А. М. Пятигорского, память – сати (pali – sati; skr. smriti) – это то, что, согласно буддийскому пониманию, "постоянно живет в психике человека, постоянно формируя его поведение, что пришло в психику человека ниоткуда и никогда, что не связано с имеющим тройственное членение (на прошлое, настоящее и будущее) и имеющим одно направление (соответственно от прошлого через настоящее к будущему) времени (А. М. Пятигорский. Три термина древнеиндийской психологии. – Terminologia Indica, I, с. 36).
43 Хочется привести мнение востоковеда божьей милости В. Семенцова о существовании "Высокого Ничто" и "низкого ничто", как необходимого субстрата бытия (материи). Традиция "Высокого Ничто" в значительной мере подготовила кантовскую идею несомненно сущего, "вещей в себе", которые в терминах феноменального мира описуемы как Ничто. Непонимание этой апофатической интуиции (и разноплановая на нее реакция), по его мнению, лежит у порога тупоумия новейшего времени (заметка на полях статьи).
44 См.: Мейстер Экхарт. Проповеди и рассуждения. М., 1912, с. 100-102. Эти проповеди и рассуждения привели к тому, что в 1329 г. 28 пунктов учения Экхарта были объявлены папской буллой еретическими.
45 Ф. В. И. Шеллинг. Сочинения. Т. 1, с. 24.
46 См.: П. П. Гайденко. Шеллинг. – Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
47 Ф. И. Шеллинг. Сочинения. Т. 1, с. 85.
48 Там же, с. 84, 86.
49 А. В. Гулыга. Философское наследие Шеллинга. – Ф. В. И. Шеллинг. Сочинения. Т. 1, с. 19, 26, 33.
50 H. А. Бердяев. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989, с. 132, 120.
51 А. В. Гулыга. Философское наследие Шеллинга, с. 37.
52 Ф. В. И. Шеллинг. – Сочинения. Т. 1, с. 572.
53 В. Ф. Эрн. От Канта к Круппу. – Вопросы философии. 1989, № 9, с. 102, 103, 106.
54 Е. Н. Трубецкой. Учение о логосе в его истории, с. 6. К проблеме "меона" (как "не-сущего") проявляли интерес русские мыслители уже в XIX в. Так, понятие "меонизм" встречается в книге Н. М. Минского "При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни" (СПб., 1890) – в применении к собственной философии. По мнению В. Соловьева, "другие теософические системы, – александрийский неоплатонизм, еврейская каббала, – усвоивши себе вполне эту идею отрицательного абсолюта (у каббалистов он имеет и особое название – эн-соф, которое мы рекомендуем г. Минскому вместо его измышленного "меона"), не ограничиваются, однако, ею, а развивают и положительное содержание абсолютного начала" (Вестник Европы, 1890. Кн. 3, с. 440-441). Эрн понимал под "меонизмом" полное отрицание духовности, чистый рационализм. С. Н. Булгаков толкует понятие "меон" – как "срединное" состояние, обозначающее "нечто" неявленное, неоформленное, что ближе восточному пониманию Ничто (см.: С. Булгаков. Свет Невечерний. Созерцания и умозрения. Сергиев Посад, 1917).
55 Н. А. Бердяев. Философия свободы, с. 119-120, 136.
56 В. Ф. Эрн. Борьба за логос. М., 1911, с. 83, VII, 339-340, 128.
57 Антология мировой философии. Т. 3, с. 278.
58 Работы М. Хайдеггера по культурологии и теории идеологии (европейский нигилизм). М., 1981, с. 165-166.
59 Г. В. Ф. Гегель. Работы разных лет. Т. 1. М., 1970, с. 821.
60 Цит. по: В. Ф. Эрн. Борьба за логос, с. 27.
61 Цит. по: В. Ф. Эрн. Борьба за логос, с. 29.
62 Там же, с. 355, 345.
63 Основная идея русского космизма (от Федорова до Циолковского, Чижевского, Вернадского): в процессе космической Эволюции происходит утончение энергии, одухотворение материи. По словам Циолковского, "ни один атом вселенной не избегнет ощущений высшей разумной жизни" (Воля вселенной. Калуга, 1928-1930, с. 6).
64 В. Ф. Эрн. Борьба за логос, с. 187, 200, 90
65 П. Д. Юркевич. Сердце и его значение в духовной жизни человека. – Труды Киевской Духовной Академии. Кн. 1, отд. 2. Киев, 1860. Кстати, как свидетельствуют источники, в первом переводе Библии на греческий слово "сердце" было переведено как "ум", что характерно для мироощущения греков, ориентированных на Нус. (Проблеме перевода Библии на греческий посвятил свой доклад на конференции "Взаимодействие культур: религиозный аспект", проведенной сектором религии ИВАН в октябре 1989 г., М. Г. Селезнев).
66 Е. Н. Трубецкой. Россия в ее иконе. М., 1918, с. 121. Е. Трубецкому созвучна мысль из "Русской идеи" Бердяева: "В душе русского народа есть такая же необъятность, безграничность, как и в русской равнине... Русский народ не был народом культуры по преимуществу, как народы Западной Европы, он был народом откровений и вдохновений, он не знал меры и легко впадал в крайности". Оттого "катастрофическим" было развитие России. (От крайностей, от саморазрушения Россию может спасти лишь образованность, культура. Талант – от бога, претворение таланта – от просвещенности человека, если нет последней, и талант – в страдание). Об отличии русского пути от католического Запада писал за полвека до того А. С. Хомяков: "Западная Европа развивалась не под влиянием христианства, но под влиянием латинства, т. е. христианства, односторонне понятного, как закон внешнего единства. Тот, кто понимает историю, может легко усмотреть развитие этого начала в идее всехристианства (tota Christianitas), понятого как государство, в борьбе императоров и пап, в крестовых походах, в военно-монашеских орденах, в принятии одного церковно-дипломатического языка (латинского) и т. д. Он увидит, что и вся жизнь Запада была проникнута этим началом и развивалась в полной зависимости от него, в иерархии феодальной, в аристократизме, в понятии о праве, в понятии о государственной власти и т. д." (А. С. Хомяков. О старом и новом. Статьи и очерки. М., 1988, с. 200).
67 Е. Н. Трубецкой. Россия в ее иконе, с. 146, 100-107.
68 Литературная газета. 18.01.1989.
69 В. Соловьев. Собрание сочинений. Т. 9. СПб., 1913, с. 97.
70 П. Флоренский. Культ и философия. – Богословские труды. Вып. 17. М., 1977, с. 123.
71 История новой философии. Т. 4. СПб., 1901, с. 123.
72 Точнее было бы перевести "Закат "западного мира"", включающего США и не включающего ни Балкан, ни России (см.: Философская энциклопедия. Т. 5, с. 517). В России перевод первого тома работы Шпенглера появился в 1923 г.
73 Гегеля славянофилы, естественно, не жаловали. Можно вспомнить тираду А. С. Хомякова о гегелевской системе, где не нашлось места "нравственному закону взаимной любви": "Никогда такой страшной задачи, такого дерзкого предприятия не задавал себе человек. Вечное, самовозрождающееся творение из недр отвлеченного понятия, не имеющего в себе никакой сущности" (А. С. Хомяков. Полное собрание сочинений. Т. 1. 1911, с. 265). Конечно, как у большого мыслителя, у Гегеля можно найти все, но это как бы надмирное царство абстракции. Русские философы, сострадающие сущему, видели, к чему ведет отпадение мысли от Бытия. Чем могучее надмирная система, тем более может увлечь за собой умы, оставив жизнь без попечения Разума. Потому и ратовали за Логос, имманентный миру. К тому же всякое Целое, и Мышление в том числе, живет в колебательном режиме: рационализм, как всякая односторонность, изживая себя, уступает место целостному уму.
74 Освальд Шпенглер и Закат Европы. М., 1922, с. 7. Русские философы сразу же отметили книгу Шпенглера, опубликовав этот сборник статей. Естественно, откликнулись Н. А. Бердяев, Я. М. Букшпан, Ф. А. Степун, С. А. Франк. Сборник позволяет судить о живой мысли России, которая и теперь может служить образцом философствования, по сути, – о соотношении разных планов Бытия (ноуменального и феноменального), что и можно считать основным вопросом философии, К которому не убывает интерес человека.
75 Освальд Шпенглер и Закат Европы, с. 42, 52, 25, 95, 15, 35.
76 По мысли Ф. Степуна, "Есть книги, в которых правильны все положения и верны все факты, но которые не имеют отношения к истине, потому что не имеют отношения к духовному бытию" (там же, с. 13).
77 Для Степуна жизнь есть воплощение всеединства духа, который не поддается законам формальной логики. Существуют, по его мнению, три душевных уклада. Первый, мещанский, лишен каких бы то ни было творческих потенций, и потому к Жизни, как таковой, не имеющий отношения, это всего лишь ее имитация. Мистический уклад осуществляет божественное предначертание; но лишь артистический способен соединить и реализовать духовный потенциал человека. Современную эпоху он критикует за научно-техническую односторонность, которая порождает тоталитарные режимы, "отменившие человека", не посчитавшись с его "достоинством и святостью".
78 Освальд Шпенглер и Закат Европы, с. 3.
79 Там же, с. 40. Эти вспыхнувшие огоньки "творящих духовных сил" напоминают буддийские дхармы; последние, однако, не вызывают у человека сомнений и страха: "Каждый момент представляет отдельный элемент; мысль мимолетна, нет движущихся тел, но последовательные появления, вспышки новых элементов в новых местах" {Ф. И. Щербатской. Избранные труды по буддизму, с. 170).
80 Н. А. Бердяев. Философия свободы, с. 125-126.
81 Освальд Шпенглер и Закат Европы, с. 59-60. Я. М. Букшпан добавляет: "Но морфология дается им без систематики". По мнению самого Шпенглера, "нет ничего легче, как взамен отсутствующих мыслей создать систему... Значение какого-нибудь учения определяется исключительно степенью его необходимости для жизни". Букшпан, однако, считает возможным говорить о системе символов, образов и называет Шпенглера "великим символистом": "Морфология мировой истории необходимым образом становится у него универсальной символикой" (там же с. 79, 82).
82 Н. А. Бердяев. Философия свободы, с. 123-124.
83 Освальд Шпенглер и Закат Европы, с. 70, 72,. 89. Шпенглер сокрушался: "Очевидно, утерян великий смысл философской деятельности. Смешивают ее с проповедью, с агитацией, фельетоном или научной специальностью. От перспективы птичьего полета опустились до уровня лягушачьей перспективы" (там же, с. 84). (Не отголосок ли это даосского образа: лягушка судит о величии Неба по прорези в колодце).
84 П. Я. Чаадаев. Сочинения и письма, с. 131, 240.
85 В. Ф. Эрн. Борьба за логос, с. 259-260.
86 Освальд Шпенглер и Закат Европы, с. 67, 60, 30, 54.
87 Подход, постулирующий существование одного за счет другого, противоречит традиционным восточным представлениям о Едином, где одна форма бытия не уничтожает, а переходит в другую. Правда, в Японии в XVIII в. появились свои "нигилисты", такие, как Андо Сёэки или Томинага Накамото. Последний выдвинул принцип кадзё (букв. прибавлять к одному другое по вертикали), доказывая, что ни одну систему идей, в том числе буддизм и конфуцианство, нельзя считать абсолютно безупречными, что каждый последующий мыслитель создавал новую теорию, опровергая прежнюю. И все же это скорее не отрицание, а наращивание на ту же ось (кадзё). Его взгляды тем не менее не нашли признания, а работы увидели свет лишь в XX в. (см.: Kato Shaichi. The Life and Thought of Tominaga Nakamoto (1715-1746). A Tokugawa iconoclast. – Monumenta Nipponica, vol. 22. January 1967). Духовная и интеллектуальная жизнь его соотечественников продолжала следовать традиционному пути, суть которого можно передать словами Догэна (трактат "Сёбогэндзо"): "Будды всегда идут за буддами, предки всегда идут за предками. Следование от одного к другому ведет к спасению". Следование Единому – Путь к единству "я" и "ты". "Я есть будда, ты есть будда, я есть ты", – как говорил Синран.
88 А. Пуанкаре. О науке. М., 1983, .с. 491.
89 Л. И. Герцен. Собрание сочинений. Т. II, 1960, с. 252-253.
90 И этот взгляд не чужд японцам, судя по "Запискам от скуки" преподобного Кэнко-хоси: "Даже мудрейшие люди, умея судить о других, ничего не знают о себе. Но, не познав себя, нельзя познать других. Следовательно, того, кто познал себя, можно считать человеком, способным познать суть вещей" (Классическая японская проза XI-XIV вв., с. 374).
91 Работы М. Хайдеггера по культурологии и теории идеологии, с. 10 – 11.
92 Там же, с. 27, 115, 124.
93 Метафизический способ мышления подверг критике, в частности, Ф. Энгельс, как противоречащий диалектике, природе вещей: "Перенесенный Бэконом и Локком из естествознания в философию, этот способ понимания создал специфическую ограниченность последних столетий – метафизический способ мышления... Он (метафизик. – Т. Г.) мыслит сплошными непосредственными противоположностями; речь его состоит из: "да-да, нет-нет; что сверх того, то от лукавого". Для него вещь или существует, или не существует, и точно так же вещь не может быть самой собой и в то же время иной (Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. – К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 20, с. 20-21.
94 См: Проблема человека в западной философии. М., 1988; Человек и его ценности. Ч. 1-2. М., 1988.
95 М. Хайдеггер. Письмо о гуманизме. – Проблема человека в западной философии, с. 317, 315-316.
96 Ж.П. Сартр. Экзистенциализм – это гуманизм, М., 1953, с. 18, 29.
97 Проблема человека в западной философии, с. 539.
98 Цит. по: Р. Гароди. Ответ Жан-Полю Сартру. По поводу последней работы Сартра "Критика диалектического разума". М., 1962, с. 8.
99 Проблема человека в западной философии, с. 316, 328-331, 335-336, 319.
100 Согласно Гумбольдту, язык присутствует в мыслящем человеке как "интеллектуальный инстинкт разума", как "формирующий орган мысли". Живое Слово укоренено в Бытии. Между Словом и Миром существует "энергетическая связь". Так что, если плохо с языком, плохо и с мыслью. а если плохо с мыслью, то ничего хорошего быть не может. Язык не только отражает мир, но и творит его, выполняет мыслетворящую функцию; где гибнет язык, гибнет и человек (см.: В. фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. М., 1984).
101 Проблема человека в западной философии, с. 314, 318.
102 Об этой сопряженности молчания и слова писал в непростое время Г. С. Померанц (Басе и Мандельштам. – Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока. 1970, с. 195-202).
103 Цит. по: С. С. Аверинцев. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977, с. 55, 71. Это – всемирное ощущение: "Исполняется слово писания: когда мы молчим, вопиют камни" (Г. В. Ф. Гегель. Работы разных лет. Т. 2. М., 1971, с. 539); "Чувство родины должно быть великим горячим молчанием" (Р. Розанов. Опавшие листья. Пг., 1915, с. 236); И ярчайший представитель восточной культуры Р. Тагор призывал: "Пыль мертвых слов. пристала к тебе. Омой свою душу молчанием" ("Искры", с. 158).
104 Есть это, естественно, и в западной традиции: образы, творимые умом, согласно Плотину, есть "первообразы", тогда как в здешнем мире нам приходится довольствоваться "подобиями". Но на Востоке нет противопоставления одного другому. Эта способность видеть невидимое, ощущать витающие образы оживает в сознании, скажем, Габриеля Гарсиа Маркеса: "Первоначально всегда возникает образ, который зачастую не связан ни с какой историей или сюжетом. Поначалу это совершенно автономная клетка, которая отчего-то, – и я не смогу вам сказать отчего – вдруг начинает иногда размножаться. Каким бы малозначительным этот образ ни был, в нем заключена возможность дальнейшего развития, он может поистине перерасти в фабулу" (Вопросы литературы. 1982, № 10, с. 191).
105 Проблема человека в западной философии, с. 319.
106 D. Т. Sudzuki. Zen Buddhism. Selected Writings. N. Y., 1956, с. 292.
107 Проблема человека в западной философии, с. 333.
108 Там же, с. 315-316.
109 "Для успеха в жизни, – говорил Л. Толстой, – быть послом, министром, главнокомандующим, даже царем – надо быть орудием, а это не может самобытный человек" (Полное собрание сочинений. Т. 13, с. 131).
110 Т. Карлейль. Герои и героическое в истории, с. 217.
111 Проблемы человека в западной философии, с. 329, 315, 280-281, 314, 315, 285-286.
112 Техника, или век техники, естественно, оказала влияние на сферы жизни, особенно на сознание, психику человека. По мысли Т. А. Содейки, дух техники начинает господствовать и в философии: "Если технику будем понимать как всякое умение, методы которого являются внешними по отношению к цели, то нетрудно будет заметить, что развитие такого умения ведет в конечном итоге к обесцеливанию и, тем самым, к обессмысливанию самой деятельности, которая начинает все больше основываться на собственной инертности. В философии эта инертность проявляется в том, что значение начинает развиваться по сугубо внутренней логике и лишается измерения переживания... Таким образом, мышление превращается в чисто техническое мероприятие, где цель и средство деятельности положены вне актуально функционирующего сознания". В этом суть, человек становится орудием, выпадает из поля деятельности как ее целевая установка, оказывается не при чем – конечный итог самососредоточенной цивилизации. (См.: Т. А. Содейка. Современная западная философия и принципы восточной медитации. Тезисы докладов всесоюзной научной конференции "Взаимодействие культур Востока и Запада". Вильнюс, 1988, с. 23).
113 Проблемы человека в западной философии, с. 310.
114 Исихазм (от греч. – покой, безмолвие) – учение, возникшее в Византии, "о пути единения человека с богом через очищение сознания", самососредоточение.
115 Работы М. Хайдеггера по культурологии и теории идеологий, с. 167. В. Бибихин добавляет, что сам Хайдеггер возражал против отождествления его "бытия" с Богом: бытие не есть какое-либо сущее. Для Хайдеггера именно человек есть тот "кров", где может раскрыться сокровенность истины бытия, лишь человеку "открыто бытие".
116 Проблемы человека в западной философии, с. 328.
117 По мнению С. Хоружего, именно для Ницше характерно "наиболее резкое отрицание онтологического значения ничто" (С. Хоружий. Ничто. – Философская энциклопедия. Т. 4. М., 1967, с. 78). Любопытно мнение Гегеля на этот счет: "Бытие есть простая бессодержательная непосредственность, имеющая свою противоположность в чистом Ничто, а их соединение представляет собой становление: как переход от ничто к бытию – это возникновение, наоборот – прохождение. Здравый человеческий рассудок, как часто называет себя односторонняя абстракция, отрицает соединение бытия и ничто. Либо бытие есть, либо его нет. Третьего не дано" (Работы разных лет. Т. 2, с. 95).
118 Работы М. Хайдеггера но культурологии и теории идеологий, с. 166.
119 Там же, с. 165.
120 Нисида Китаро. Дзэнсю (Полное собрание сочинений). Т. 7. Токио, 4950, с. 25. Этот взгляд характерен для буддизма махаяны. В "Махапраджня парамита сутре" (XI, XXX) и в "Вималакирти сутре" говорится о явленном в форме и Пустоте (шунъя, яп. ку); первое есть лишь временное проявление шуньи. Махаяна проповедует единство нирваны и сансары, эмпирического и ноуменального, единого начала всех элементов сознательной жизни. Популярная в Японии "Алмазная сутра" близка по духу учению мадхьямиков (Срединного пути), признающих Пустоту дхарм, которые сравниваются с пузырями на воде. Как говорил шестой патриарх чань – Хуэйнэн (яп. Эно), "нет ни одной вещи (яп. муитимоцу)" – все пусто. О состоянии Ничто поведал Кавабата Ясунари в Нобелевской речи: "Когда сидишь молча, с закрытыми глазами, в сосредоточении, то через какое-то время наступает состояние не-думания, не-размышления. Исчезает "я", наступает "Ничто", но это не то, что понимают под ним на Западе. Напротив, Просветленная душа сливается со Вселенной, бескрайней безмерной Пустотой, где все становится самим собой... Это совсем не то, что называют нигилизмом на Западе" (Красотой Японии рожденный, с. 22, 36).
121 Nishida Kitaro. Intelligibility and the Philosophy of Nothingness. Tokyo, 1958, с. 168.
122 С. G. Jung. Psychology and Religion: West and East. L., 1958, с. 482.
123 Нося Асадзи. Дзэами дзюроку бусю хёсяку (Комментарий к 16 сочинениям Дзэами). Т. I. Токио, 1958, с. 536.
124 См.: С. С. Аверинцев. Поэтика ранневизантийской литературы, с. 54.
125 Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. – Собрание сочинений. Т. 14. Л.. 1976. с. 290-291.
126 И. А. Бунин. Собрание сочинений. Т. 4. М., 1966, с. 377.
127 Проблема человека в западной философии, с. 336.
128 Уже в конце XVIII в., когда слово "нигилизм" стало входить в обиход Ф. Шлегель назвал обозначаемое им явление восточно-мистической формой пантеизма (такова была степень изученности Востока). Нигилизм – чисто европейское явление – не мог возникнуть при недуальной модели мира. Я уже говорила, на Западе и на Востоке сложилось противоположное отношение к Небытию. В одном случае Небытие внушало ужас, как страшная бездна, в которой все исчезает, – признак надвигающегося конца; в лучшем случае – инертная материя, которая нуждается в участии Кормчего, Нуса. В другом Небытие – вечное блаженство и покой – внушало не ужас, а надежду, ибо в нем Свет и Истина, и они доступны просветленному. Это не отсутствие Бытия и не после-бытие, а пред-бытие; точнее – лоно Бытия-Небытия, то, что Над двойственностью. Все рождается из Небытия и в него возвращается, но оно не где-то, а здесь, не когда-то, а сейчас: миг возводится в вечность, точка – в бесконечность. Но европейский ум до сих пор страшится Ничто, о чем говорит и А. Уоттс в своей последней книге "Дао – путь воды": "Трудно, следуя нашей логике, понять, что бытие и небытие взаимопорождаются, взаимопроникаются, ибо сознание западного человека сковано великим ужасом перед Ничто, как концом вселенной" (A. Watts. Dao: The Watercourse Way, p. 23).
129 Проблема человека в западной философии, с. 335.
130 Работы М. Хайдеггера по культурологии, с. 138.
131 Человек и его ценности, с. 66-67.
132 Немногие смогли в такой степени преодолеть "метафизическое", одномерное мышление ("или-или"), встать на Путь и обрести полное спокойствие, Свободу, как это удалось А. Уоттсу, судя по его последней книге "Дао – путь воды". "Вдруг Алан вскочил и начал радостно импровизировать тай-цзи ("великий предел", комплекс психофизических упражнений. – Т.Г.). Он выкрикивал: "О тай-цзи – Дао, Увэй (недеяние), Цзыжань (естественность) – вода, ветер, парус, прибой, танец – руками, головой, спиной, бедрами, коленями, волосами, голосом... Ха-ха-ха-Ла-ла-ла, – вспоминает Э. Гидлоу, друг Алана. – Всякий контроль требует следующего контроля, пока сам контролирующий не запутается окончательно... Алан верил, что освоение глубин мудрости даосов преобразит Запад и его книга – вклад в это дело" (A. Watts. Dao: The Watercourse Way, о. Х).
133 Человек и его ценности, с. 98, 99, 100.
134 D. T. Sudzuki. Essays in Zen Buddhism. First Series. N. Y., 1961, с. 197.
135 Человек и его ценности, с. 108-109, 109, 111.
136 Проблема человека в западной философии, с. 324.
137 М. Хайдеггер. Время картины мира. – Новая технократическая волна на Западе. М., 1986, с. 118.
138 Человек и его ценности, с. 114, 115.
139 Я касалась этого вопроса в статье "Встреча с Гумбольдтом – встреча времен" (Иностранная литература. 1987, № 8).
140 Генрих Якоби (1743-1819) – немецкий, не-классический философ (чтобы не называть его иррационалистом, как принято), друг Гете, Гумбольдта; полемизировал со Спинозой, Кантом, Фихте.
141 Письмо В. фон Гумбольдта К. Г. Бринкману. – Иностранная литература. 1989, № 11, с. 235.
142 Человек и его ценности, с. 105.
143 Проблемы человека в западной философии, с. 335.
144 М. Хайдеггер. Что такое метафизика? – Новая технократическая волна на Западе. С. 35, 41, 37.
145 О природе "Страха" см.: Философская энциклопедия. Т. 5, с. 139.
146 М. Хайдеггер. Время картины мира. – Новая технократическая волна на Западе, с. 118.
147 Работы М. Хайдеггера по культурологии и теории идеологий, с. 158.
148 Проблема человека в западной философии, с. 343.
149 Там же, с. 332-333.
150 Новая технократическая волна на Западе, с. 43.
151 Проблема человека в западной философии, с. 328.
152 Восточные учения Хайдеггер называл не "философией", подразумевающей субъектно-объектные отношения, а Путем, вхождением в подлинный мир Бытия; предлагал вернуться к доплатоновскому, целостному мышлению, ибо "мышление есть путь", а не рефлексия. "Вступление на путь" для Хайдеггера – возможность Понимания и Единства Запада – Востока.
153 Проблема человека в западной философии, с. 319.
154 Насколько актуальной, животрепещущей становится тема Бытия, свидетельствуют последние публикации наших философов – поиск целостного подхода, постепенное преодоление односторонности. При разделении на два, скажем на дух и материю, когда одно противопоставляется другому, страдают обе стороны; и ни о том, ни о другом не может быть верного представления. Мысль подошла к Целому, к Бытию. Насколько подобный подход плодотворен, говорят публикации обновленного журнала "Вопросы философии", в частности глава из "Введения в философию" Н. В. Мотрошиловой – "Бытие". Именно потому, что "философское понимание бытия близко к сокровенным глубинам человеческой жизни, к тем коренным вопросам, какие человек способен ставить перед собой в минуты высочайшего напряжения духовно-нравственных сил" (Вопросы философии. 1989, № 4, с. 3).
1 Ф. Ницше. Воля к власти, с. 12-13.
2 X. Ортега-и-Гассет. Восстание масс. – Вопросы философии. 1989, № 3. Кстати, идея поворота Истории вспять характерна для современной литературы, в частности японской (Абэ Кобо, Оэ Кэндзабуро). Можно вспомнить и слова Ч. Айтматова на Иссыккульском форуме 1986 г.: "Нынешнему человеку грозит самоуничтожение в тенетах собственных противоречий и предрассудков, когда технически он демиург, а нравственно еще дикарь и варвар" (Литературная газета. 22.10.1986).
3 П. П. Гайденко. Послесловие. – X. Ортега-и-Гассет. Восстание масс. – Вопросы философии. 1989. № 4, с. 163.
4 X. Ортега-и-Гассет. Восстание масс. – Вопросы философии. 1989, № 4, с. 115-116; № 3, с. 119.
5 См.: Ф. Ницше. Воля к власти, с. 60.
6 Ориген (ок. 185-253) – христианский мыслитель, представитель патристики (стоического платонизма), скончался под пытками в тюрьме. Ему принадлежит учение об апокатастасисе – всеобщем просветлении, полном "спасении" всех без исключения, включая сатану (в этом он близок буддизму). Именно Ориген впервые вводит понятие "богочеловека", будучи убежден в тождестве ангельской и человеческой природы. Августин говорил: Бога надо искать в самой глубине своего сердца – Бог выше самого высокого в человеке, но Он присутствует в сердце даже грешника ("Исповедь Блаженного Августина", III, 6, 11, примеч.). Можно вспомнить и "Ареопагитики": "Во всем сущем нет зла. В самом деле, если все сущее происходит из Блага и Благо все сущее объемлет и пребывает в нем, то в сущем ала быть не может, в противном случае необходимо будет признать, что зло – в Благе; но, разумеется, его нет в Благе, подобно тому как в огне нет холода, поскольку не может исказиться то, что претворяет зло в добро" (Псевдо-Дионисий Ареопагит. О Божественных именах, 4, 21. – Философская и социологическая мысль. 1989, № 12, с. 99). У Плотина же сказано: "Нелепо обвинять целое, исходя из его частей; следует соотносить части с самим этим целым, насколько они созвучны и прилажены к нему, а не рассматривать это целое под впечатлением от его незначительных частей" (Энн., III. 2, З). Что касается А. Швейцера, то, по словам А. Эйнштейна, "ни в ком не находил я столь идеального единения доброты и страстного стремления к прекрасному, как в Альберте Швейцере". Последний же называл среди родственных душ Лао-цзы, поздних стоиков, апостола Павла и разделял веру Гегеля в то, что все действительное разумно, а потому и обращался непосредственно к самой Жизни. Не организовывать Истину, а жить в согласии с пей, жить в Истине – вот что может спасти человечество. Видел в Этике безграничную ответственность человека перед сущим, исповедовал философию жизни.
7 X. Ортега-и-Гассет. Восстание масс. – Вопросы философия. 1989, № 3, с. 151, 121, 122, 144, 142, 143, 136.
8 Что и подвигло Ортегу сказать о себе: "Моя книга – первый вызов триумфатору нашего века и предупреждение о том, что в Европе найдутся люди, готовые решительно сопротивляться его попыткам тирании... Эта книга – попытка набросать портрет европейского человека определенного типа, главным образом – в его отношении к той самой цивилизации, которая его породила. Необходимо это потому, что этот тип – представитель какой-то новой цивилизации, борющейся с предшествующей; он знаменует собою голое отрицание, за которым кроется паразитизм" (Вопросы философии. 1989, № 4, с. 114, 154).
9 X. Ортега-и-Гассет. Восстание масс. – Вопросы философии. 1989, № 4, с. 119. Каких-нибудь 30 лет назад Ортега сетовал, что наука вырождается из-за узкой специализации и непонимания того, что ум и талант решают все; "послевоенное время поставило ученого в положение парии – не философов, а именно физиков, химиков, биологов" (Вопросы философии. 1989, № 3, с. 149). Насколько тема падения науки актуальна для нас, свидетельствуют многие публикации, в частности статья "Науке нужна защита" вице-президента Всесоюзного астрономо-геодезического общества Г. Хромова (Известия. 23.08.1989): "Полагаю, что все большее число людей с выраженными личностными качествами и способностями будут уходить из фундаментальной науки. Напротив, работники средних достоинств и невысокого морального статуса как нельзя лучше приспосабливаются к этой удушливой атмосфере (монополизма и групповщины. – Т. Г.) и начинают определять облик нашей сегодняшней науки". Это до удивительности напоминает то, что беспокоило Ортегу и с чем мириться может только равнодушный ум).
10 ...Я
знаю все,
Но только не себя
(Франсуа Виньон).
П. П. Гайденко обратилась к теме "Проблема личности в экзистенциализме" еще в 1961 г. В одноименной статье она ссылается на книгу М. Шелера "Положение человека в космосе", где, в частности, говорится: "В известном смысле все центральные проблемы философии можно свести к вопросу, что такое человек и какое метафизическое место и положение он занимает внутри общей структуры бытия, мира и бога". А также – на свидетельство Хайдеггера: "Ни одна эпоха не имела столько разнообразных знаний о человеке, как нынешняя. Ни одна эпоха не могла так быстро и легко получать эти знания, как нынешняя. Но ни одна эпоха не знала так мало о том, что такое человек, как нынешняя. Никогда человек не был до такой степени проблемой, как в нашу эпоху" (Вестник истории мировой культуры. 1961, № 5, с. 46
11 X. Ортега-и-Гассет. Восстание масс. – Вопросы философии. 1989, № 3, с. 150, 121.
12 В работе "Духовная ситуация времени" К. Ясперс ссылается на описание Фукидидом Пелопоннесской войны как на свидетельство повторяемости истории: "Начинается эра господства черни, она возвышается над всем и радуется этому по-своему. Эти люди носят тончайшие льняные одежды и умащают свою плешь мирром... Своему богу, которым они раньше не интересовались, они теперь курят фимиам, правда, фимиам другого. В то время как те, кто не имел ничего, стали богаты, прежние богатые люди лежат беззащитными на ветру, не имея постели... Даже сановники старого государства вынуждены в своем несчастье льстить поднявшимся выскочкам" ("Человек и его ценности", ч. 1, с. 69-70).
13 X. Ортега-и-Гассет. Восстание масс. – Вопросы философии. 1989, № 3, с. 121, 140; № 4, с. 154.
14 Там же, № 4, с. 122, 114, № 3, с. 145, 150, № 4, с. 124, 125.
15 В 1945 г., как считают, группа американских физиков открыла атомную эру. А в 1950 г., вопреки протесту А. Эйнштейна, Р. Оппенгеймера и Э. Ферми, Э. Теллер убедил Трумена в необходимости создания водородной бомбы; в 1983 г. убеждают Рейгана в необходимости "звездных войн". Как тут не вспомнить Августина: "Если бы Адам не отпал от Тебя, не излился бы из его чрева этот морской рассол, род человеческий, предельно любопытный, неистово надменный, неустойчиво шаткий" ("Исповедь Блаженного Августина", XIII, 20, 28).
16 Экзистенциалисты и в этом отношении перекликаются с греками: "Понимание своего положения, которое было причиной его мук, дарует ему победу. Нет такой судьбы, которую нельзя было бы преодолеть, презирая ее" (А. Камю. Миф о Сизифе). Но "правда судьбы" у Ортеги – скорее преодоление греческого комплекса, т. е. призвание или предназначение человека: "Правда только в такой жизни, в которой все вызвано подлинной, неотвратимой необходимостью... Только жизнь, укорененная в глубине, в почве, слагается из неизбежных событий, только она ощущает свои действия, как непреложную необходимость" (Вопросы философии. 1989, № 4, с. 151). Кстати, Ортега проводит сомнительные параллели с буддизмом хинаяны – "более строгой и трудной" религией, противопоставляя "малый путь" "великому пути" махаяны, называет последний "легким и неглубоким". Видимо, сказывается его неприятие всякой массовости, "большинства". Путь архата в хинаяне называют узким, индивидуалистическим, а путь бодхисаттвы – посредника между миром живых существ и Буддой – широким, но оба они достаточно глубоки, чтобы судить о них с такой легкостью (там же, № 3, с. 121).
17 Там же, № 4, с. 117, 133, 118; № 3, с. 124, 146, 147; № 4, с. 154. Ортега писал об этом еще в работе "Дегуманизация искусства": "Все остатки традиционного духа исчезли. Образцы, нормы, стандарты больше нам не служат. Мы обречены разрешать наши проблемы без содействия: прошлого, будь то в искусстве, науке или политике" (там же, № 3, с. 130). Время изменилось. Прошлое, которое никуда не может деться, опять служит мерилом жизни, оттесняя то настоящее, которое этой жизни не служит.
18 X. Ортега-и-Гассет. Восстание масс. – Вопросы истории. 1989, № 4" с. 147, № 3, с. 154.
19 Н. Бердяев. Освальд Шпенглер и Закат Европы, с. 67, 70.
20 "Дхармы существуют так, как они не существуют. Их несуществование называется незнанием (avidya). От них зависят обыкновенные люди, которые конструируют несуществующие дхармы. Сконструировав дхармы, они стремятся к двум противоположностям и не узнают и не видят дхарм. Поэтому они конструируют несуществующие дхармы. Сконструировав дхармы, они зависят от двух противоположностей и поэтому конструируют дхармы прошлого, дхармы будущего и дхармы настоящего. Их сконструировав, они зависят от имени и формы и конструируют несуществующие дхармы" (Astasahasrika, пер. Л. Мялля. – Terminologia Indica, с. 24).
21 П. П. Гайденко. Послесловие, с. 160, 164.
22 X. Ортега-и-Гассет. Восстание масс. – Вопросы философии. 1989, № 3, с. 146.
23 К. Г. Юнг говорил о своеобразии мышления китайцев: "То, что мы называем случайностью, для их мышления является, судя по всему, главным принципом, а то, что мы превозносим как причинность, не имеет никакого значения... Их, видимо, интересует сама конфигурация случайных событий в момент наблюдения, а вовсе не гипотетические причины, которые якобы обусловили случайность. В то время как западное мышление тщательно взвешивает, анализирует, отбирает, классифицирует, изолирует, китайская картина мгновенно все сводит к незначительной детали, ибо все ингредиенты и составляют наблюдаемый момент... Этот любопытный принцип я назвал синхронностью... и он диаметрально противоположен нашей причинности. Древние китайцы смотрели на космос, как современный физик, который не может отрицать, что его модель мира есть не что иное, как психофизическая структура" (С. G. Jung. Psychology and Religion: West and East. L., 1958, с. 591). Не зная принципа каузальности, считает Юнг, Восток не мог создать науку, но преуспел в исследовании мгновения. И крупнейший американский синолог Дж. Нидэм называл эту связь "не-причинной", осуществляемой по принципу "эха", "отклика", "резонанса" вещей "того же рода" (тун лэй). По-моему, очень точно охарактеризовал этот тип связи Д. Боддэ: "Следует мыслить себе влечения этого рода как такие, которые осуществляются скорее по типу стихийного отклика (отклик одного струнного инструмента на другой с такой же высотой тона) или по типу взаимного притяжения (притяжение между железом и магнитным железняком), нежели по типу механического импульса (удар одного бильярдного шара по другому). Ясно, что такие соотношения ие только противоречат обычным категориям времени и пространства, абстрактного и конкретного, но также ликвидируют кажущийся разрыв между миром людей и миром природы. На самом деле эти два мира практически сливаются, образуя единый континуум, половины которого так тесно сплетены, мельчайшее натяжение или напряжение в одной стихийно вызывает соответствующее натяжение или напряжение в другой" (цит. по: Ю. Л. Кроль. Сыма Цянь – историк. М., 1970, с. 113-114).
24 Е. Wood. Zen Dictionary. Tokyo, 1972, с. 35.
25 Освальд Шпенглер и Закат Европы, с. 29, 71.
26 По-моему, симптоматичен для нашего времени выход такой книги, как "Образ "человека культуры"" В. А. Кругликова (М., 1988 г.), где схвачен Момент перехода "человека разумного", цивилизованного, к человеку разумному и гуманному – "человеку культуры" (Homo humanitatis). Похоже, что смещается, наконец, доминанта с Цивилизации на Культуру, что было предсказано Эрном более 70 лет назад. Это позволит разрешить противоречие между тем и другим, ибо "человек культуры" – недвойствен, целостен. На мой взгляд, сама книга В. А. Кругликова написана в духе Идеи – в поисках доброго.
27 Е. Н. Трубецкой. Два мира в древнерусской иконописи, с. 107.
28 Представление об изначальной Единице дает жизнь определенному типу мировоззрения, в конечном счете идее исторического прогресса, в отличие от "изначального" Нуля, от которого нельзя оттолкнуться, чтобы устремиться вперед (я посвятила этому одну из ранних статей – "Махаяна и китайские учения").
29 Можно еще раз вспомнить "Книгу о чае" Окакура Какудзо: "XIX век с его идеей эволюции приучил нас думать о человечестве, не думая о человеке. Коллекционер усердно собирает образцы, чтобы высветить период или школу, забывая о том, что одно прекрасное произведение искусства может научить нас больше, чем многочисленные примеры посредственных сочинений целого периода или школы" (с. 68).
30 X. Ортега-и-Гассет. Восстание масс. – Вопросы философии. 1989, № 3. с. 128.
31 В китайской символике "квадрат" олицетворяет Землю, земное начало, инь, а "круг" – Небо, небесное начало, Ян.
32 В. Н. Топоров. Космогонические мифы. – Мифы народов мира. Т. 2, с. 67.
33 Вивекананда называет АУМ основой всех звуков и символом Брахмана; из этого звука возникает Вселенная.
34 То, что называют "сингулярностью", характерно для традиционной японской модели, и художественной, и социальной: "одно во всем, и все в одном". Японский ученый Уэда Есифуми посвятил этому отношению статью "Индивидуум в махаянской философии". Когда наступает просветление, высвобождается подлинное Я, каждая вещь становится самой собой. Самосознание индивида есть не просто факт индивидуального сознания, но действительный факт Вселенной. Узнать реального себя – значит узнать реальность, узнать реальность – значит узнать все вещи, как они есть и будут. Догэн говорил: "Знать Будду – значит знать себя. Знать себя – значит забыть себя. Забыть себя – значит осознать себя равным другим вещам". Автор комментирует: "Подлинное Я возможно в состоянии "нея", или Свободы. Когда в одном соединяются многие, то каждый становится центром Вселенной". Связи при этом не исчезают, а приходят в соответствие, гармонизуются и потому не мешают, не опутывают человека. Уэда приводит рассуждение буддийского монаха Фа-цаня (643-712): "В том случае, когда один представляет всех, каждый индивид соответственно есть центр Вселенной. Когда индивид А – господин, все остальные индивиды и природа, т. е. весь мир, – его вассалы. В то же время А – вассал по отношению к В и С, т. е. каждый индивид одновременно и господин и вассал... Один идентичен многим, и многие идентичны одному. Мир творится каждым существом. Индивидуум и мир взаимно создают друг друга. Но если многие соединяются в одном, значит, каждый индивид есть центр Вселенной" (The Japanese Mind: Essentials of Japanese Philosophy and Culture. Honolulu, 1981, с. 170-171). В духе структуры "одно во всем, и все в одном" условие "неповторимости" (мэдзурасиса) каждого мига в японском искусстве – уникальной точки пересечения пространства-времени. Способность схватывать эту "точку" рождает подлинное искусство, позволяющее каждый раз заново переживать мир, как впервые увиденный. В традиционной живописи любой штрих живет самостоятельной жизнью, перекликаясь ненарочито о другими ("истинное дэ ненарочито").
35 Цит. по: Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970, с. 279.
36 X. Ортега-и-Гассет. Восстание масс. – Вопросы философии. 1989, № 3, с. 130.
37 Как говорит Аристотель в "Политике": "Природа государства стоит впереди природы семьи и индивида: необходимо, чтобы целое предшествовало части".
38 Процесс "атомизации" не может не стать всеобщим, если структура сознания меняется именно в этом направлении, т. е. дает себя знать не только в сфере художественного творчества, но и в социальных и экономических отношениях. По мнению экономиста, исследователя Японии Я. А. Певзнера, современный капитализм меняет свою природу – монополистическую на корпоративную: на смену моноцентрической модели приходит полицентрическая.
39 П. А. Флоренский видел в "прерывности", в свободе отдельного, путь к Всеединству: "Все вышло из одного источника и стремится к одной цели". И в конце жизни, о котором и говорить трудно, – слова останавливаются, писал с Соловков сыну Кириллу 21 февраля 1937 г.: "Что я делал всю жизнь? – Рассматривал мир как единое целое, как единую картину и реальность, но в каждый момент или, точнее, на каждом этапе своей жизни, под определенным углом зрения. Я просматривал мировые соотношения на разрезе мира по определенному направлению, в определенной плоскости и старался понять строение мира по этому, на данном этапе меня занимающему признаку" (Литературная газета. 30.11.1989). Естествен его интерес к проблеме "точки", которой он посвящает специальную работу. "Точка" для него – символ Единого, в ней все сошлось: пустота и полнота, свет и тьма, мир видимый и невидимый (она есть и не есть одновременно), соединение единицы и нуля. Прямая, по Флоренскому, – машина для уничтожения реальности. Не линия состоит из точек, а точки составляют линию; и лишь вертикаль, восходящая, обусловливает пространственный синтез (см. ст. "Точка" из задуманного, но не осуществленного "Словаря символов". – Памятники культуры. М, 1982).
40 Незадолго до смерти Малер писал: "У меня нет ипохондрического страха смерти. Что я должен умереть, я знал еще раньше. Я не могу Вам объяснить словами мое сознание, что я стою лицом к лицу с ничем" (Г. Малер. Письма. Воспоминания. М., 1964, с. 107). Что уж говорить о тех, кто стал на Путь, как А. Уоттс, взглянувший па мир глазами даоса, вошедший в него, как в свой дом. Об этом свидетельствует и его последняя книга "Путь воды": "Чем мы больше стараемся постичь и контролировать мир, тем более он ускользает от нас" (с. 20).
41 Г. Гессе. Избранное. М., 1977, с. 258.
42 Л. Н. Толстой. Дневник. Собрание сочинений. Т. 20. М., 1965, с. 98.
43 О. О. Розенберг выделяет этот тип связи: не одно и другое, а одно в другом: объективный мир становится составным элементом личности; "так называемое живое существо, или "континуум", является не существом, живущим в мире, а существом переживающим мир" (О. О. Розенберг. Проблемы буддийской философии, с. 103).
44 Ю. Н. Рерих. Буддизм. – Философская энциклопедия. Т. I. M., 1960, с. 197. В буддизме махаяны сосуществуют оба структурообразующих начала – "прерывность" и "непрерывность", или "точечное" (корпускулярное) и "линейное" (волновое). Они комплиментарны, присущи одному а тому же явлению. Сознание – это мгновенное проявление океана бессознательного, притом что в каждом моменте присутствует весь временной ряд – прошлое, настоящее, будущее. Каждое мгновение (ksana) есть сжатая Вселенная и сжатая Вечность – время и пространство так же недуальны, присутствуют друг в друге. Если на уровне сансары время и пространство еще имеют относительный смысл, то в Нирване для пробужденного сознания, пространство исчезает, становится Пустотой (Sunya), а время – "отсутствием времени" или вечностью. Мы имеем дело с традиционным типом связи "одно во всем, и все в одном" – "соприсутствием", "совозникновением", ибо весь круг жизнедеятельности возникает одновременно. Это предполагает и особый тип восприятия – целостное видение(что и служит причиной огромного интереса к восточной методологии.
45 Отрадно наблюдать, что печать стала обращаться к философским трудам К. Э. Циолковского, которыми мыслитель дорожил, видимо, больше, чем своими техническими изобретениями. Названия его работ говорят сами за себя: "Воля Вселенной. Неизвестные разумные силы". "Существа выше человека", "Этика, или естественные основы нравственности". В центре его внимания космическая этика, осознание связи моральности с законами космоса как путь к счастью, стремление к которому не может не быть заложено в человеке, если заложено в атоме. Благополучие каждого "атома духа" зависит от благополучия Целого, всей Вселенной, – идея, близкая буддизму ("одно во всем, и все в одном"). Ученый пришел к этому своим путем, продолжая начатое русскими философами-космистами и оставаясь верным идеалу деятельного участия в жизни Вселенной и даже заселения и преобразования Солнечной системы во имя распространения разума и счастья в космосе (вопреки восточному принципу недеяния, невторжения – "самоестественности").
46 Фотография эмблемы Н. Бора есть в моей статье "Линия и точка" (Наука и религия. 1989, № 2, с. 21).
47 Тейяр де Шарден. Феномен человека. М., 1987, с. 228-229.
48 Эти модели я рассматриваю в нескольких работах, в частности в статье "Образы мира в культуре: встреча Запада с Востоком" в сборнике" "Культура, человек и картина мира" (М., 1987 г.). Сопоставляю ряды инь и ян: инь – покой, инерция; ян – движение, энергия; инь – тьма, холод, ян – свет, тепло и т. д. (кстати, на с. 266 в этой статье допущена опечатка: на самом деле, инь – сжатие, а ян – расширение).
49 С. П. Курдюмов. Интервью. – Знание-сила. 1988, № 8, с. 40, 41, 39. Напомню, что древние китайцы понимали под состоянием хаоса; "Воля – главное, а ци – второстепенное. Поэтому я и говорю: "Укрепляйте волю и не вносите хаоса в ци"" ("Мэн-цзы", гл. 2). Следовательно, хаос – дисгармония – творится, порождается неправильными действиями, человеческим невежеством, которое и приводит к разбалансированности изначально чистого гармоничного ци, к нарушению морального закона: "Если не доверять человеколюбивым и мудрым, государство придет в упадок. Если не будут (соблюдаться) ритуал и справедливость (в отношениях) между высшими и низшими, наступит хаос" ("Мэн-цзы", гл. 7).
50 В докладе о своеобразии восточной методологии (в "Клубе ученых" МГУ в 1981 г.) я попробовала определить черты даосско-буддийского мышления: нелинейность, сингулярность, синхронность, вытекающие из не-причинного типа связи; недуальность, обусловленная взаимопроникаемостью инь-ян; недвойственность уровней единого, универсального, непреходящего и единичного, уникального, преходящего (одно в другом, что японцы называют законом фуэки-рюко, единством "неизменного и изменчивого"). Перемены сохраняют постоянство. Целостный подход, а именно о нем шла речь, обусловлен осознанием принципиального единства макро- и микромира. В зерне заключена вселенная, говорят буддисты, в атоме – весь мир (планетарная модель атома, предложенная Резерфордом, думается, имеет ту же структуру, что и взаимодействующие в пределах Тайцзи инь-ян, скажем, инь – электрон, ян – протон (яп. ecu – дитя ян). Но это особая тема, может быть, к ней вернусь).
51 Диссипация – хаос на микроуровне – диффузия, вязкость – обусловлены хаотическим движением атомов и молекул (видимо, в поисках нового "дома бытия", более благоустроенного).
52 С. П. Курдюмов. Интервью, с. 44, 42.
53 Л. Watts. Tao: The Watercourse Way, с. 46.
54 Цит. по: J. Р. Bruce. Chu Hsi and his Masters. L., 1923, с. 162.
55 Л. Е. Померанцева. Поздние даосы, с. 210.
56 Л. Н. Чанышев. Аристотель. М., 1987, с. 87.
57 Г. В. Ф. Гегель. Работы разных лет. Т. 2. М., 1971, с. 104.
58 М. Хайдеггер. Наука и осмысление. – Новая технократическая волна на Западе, с. 70.
59 В. Ф. Эрн. Борьба за логос, с. 318.
60 Видимо, сингулярная модель сопряжена с проницанием Ничто, Небытия: коррелят Небытия – Точка. Не случайно переосмыслено понятие физического вакуума, который теперь понимают не как отсутствие чего бы то ни было, а как потенциальное Все – некое затишье, покой, существование вещества в свернутом, непроявленном виде. Академик Я. Б. Зельдович выдвинул гипотезу возникновения Вселенной из Ничто: для образования Вселенной не требуется никаких известных науке материальных форм. Собственно, эта идея рано или поздно должна была появиться: то, что приходит в откровении, подтверждается в опыте. "Существует ли форма материи, способная нести функцию памяти?" – задаются вопросом авторы статьи о Циолковском. По-видимому, это физический вакуум. Ученые пришли к выводу, что атом является сложной и в то же время стабильной средой, способной сохранять следы происходящих физических процессов, что "история развития Метагалактики – это история развития вакуума". И каждый новый этап в восхождении материи к духу начинается с синтеза вещества по коду, сформулированному в мировой памяти во время предыдущих циклов (см.: М. Дерковский, М. Брызгалов Космическая философия Константина Циолковского. – Наука и религия, 1989, № 5, с. 9). Очень любопытно и похоже на чередование сна и бодрствования Вселенной – Ночь и День Брахмы. Смена состояний происходит и раз в миллионы лет, и ежемгновенно – в жизни каждого атома. Закон пульсации всеобщ – лишь масштабы различаются, частотность ритма. Это напоминает свертывание инь-ян в Тай-цзи – в идеальное состояние Покоя для нового, качественно более совершенного развертывания космических сил. Может быть, периодически выпадающие из поля зрения электроны я модели атома Бора пульсируют, свертываются, на миг уходят в Ничто? Переосмысление физического вакуума имеет "колоссальное значение для изменения сознания, психики. Исчезает страх перед Ничто, перед якобы изначальным Хаосом, что в корне меняет мироощущение человека. Исчезнет боязнь Пустоты, стремление заполнять ее чем попало; наступит более естественная и ровная жизнь. Исчезнет комплекс, о котором говорит Уоттс в книге "Путь дзэн", человек во вражде с Абсолютом, с самими основами бытия. Этот комплекс порождает непомерное чувство вины, так что человек ищет выход в отрицании своей собственной природы, или а бунте против бога (A. Watts. The Way of Zen. N. Y., 1968). Согласно буддийскому учению, дхарма "точечна", в ней содержатся любые тексты, для каждого. Выбор одной из возможностей меняет предшествующее состояние сознания. И в этом смысле текст должен быть "пустым" (как и божественное Ничто, оставляющее право выбора и ответственности за человеком). Недаром состояние "пустотности" сознания сравнивается с "вакуумом" современной физики, порождающим безграничное разнообразие "виртуальных частиц". Такой акт сознания всегда происходит заново, как бы "в первый раз", ибо мышление есть именно личное открытие Истины, "мысль возникает, как отклик на уловленный сознанием призыв реальности" (Ю. Шрейдер. В поисках сознания. – Знание-сила. 1988, № 11, с. 51).
61 Можно вспомнить известные слова В. Гюго: "Наука непрестанно продвигается вперед, перечеркивая самое себя... Наука – лестница. Поэзия – взмах крыльев... Шедевр искусства рождается навеки, Данте не перечеркивает Гомера". Так было и будет, пока наука не избавится от односторонности, функциональности, не одухотворится, не станет целостной. "Наука и религия суть родные сестры", – говорил М. В. Ломоносов. А в наше время П. Флоренский выражал надежду на восхождение через; Науку к богочеловеку. Т. Манн, имея в виду Гете и немецких романтиков, уверял, что духовное восхождение стирает границы между наукой и искусством, вливает живую пульсирующую кровь в отвлеченную мысль, одухотворяет пластический образ и создает тот тип книги, который назвали "интеллектуальным романом".
62 М. Хайдеггер. Наука и осмысление, с. 69.
63 Очень интересны свидетельства японцев о материи. Под влияние" учения Нисида Китаро вводится понятие "субъективной материи": первоначальная материя уже содержит неограниченное историческое будущее.
64 С. П. Курдюмов. Интервью, с. 40.
65 Там же, с. 43.
66 Не устарел еще вопрос М. А. Маркова, заданный более 10 лет назад в связи с двадцатилетием Пагуошского движения ученых: "Научились ли мы мыслить по-новому?". Сигнал тревоги в "Покаянии" Т. Абуладзе – через символы прошедшего, пережитого. "Покаяние" и в словах Эйнштейна: лишь пробуждение Ума спасет человечество.
67 Б. В. Раушенбах. Интервью. Точные науки и науки о человеке. – Вопросы философии. 1989, № 4, с. 111. Можно вспомнить размышления Шеллинга ("Философские письма о догматизме и критицизме") о том, что интеллектуальное созерцание наступает тогда, когда мы перестаем быть для самих себя объектом; в момент созерцания исчезает время в длительность: не мы находимся во времени, но время – или чистая абсолютная вечность – находится в нас.
68 Вернадский добавляет, что образцом здесь может служить древняя и современная философия индусов: "И в новой, и в старой индусской мысли есть философские течения, ничем не противоречащие нашей современной науке (меньше ей противоречащие, чем многие философски" системы Запада), как, например, некоторые системы, связанные с Адвайтой-Ведантой" или даже религиозно-философские искания Ауробиндо Гхоша (1872-1950) (В. И. Вернадский. Размышления натуралиста, с. 111,
69 Там же, с. 57.
70 Б. В. Раушенбах. Интервью, с. 111.
71 Цит. по: W. W. Smith. Confucianism in Modern Japan. Tokyo, 1959,. с. 25.
72 Можно сказать, приятной неожиданностью оказалась в свое время книга Н. С. Мудрагей "Рациональное и иррациональное. Историко-теоретический очерк" (М., 1985). Хотелось бы привести одно высказывание о человеческом рационализме: "Так дух совершает сложный и долгий путь – от непосредственной, бессознательной целокупности, когда он еще не знает себя, через раздвоение себя (на субъективное и объективное, понятие и реальность, форму и содержание и т. п.) к высшей, кульминационной точке своего развития, где дух достигает абсолютной целокупности, различенной внутри себя, полной и конкретной – истинной; где дух – знающая себя истина, знание разума" (с. 64). Говоря словами Лао-цзы, "одно порождает два. Два порождает три. Три порождает все вещи" – та сакраментальная Троица, которая равна Единице – "абсолютной целокупности". "Дух можно назвать соответственно его истине вечным, как равным образом совершенно блаженным и святым. Ведь святым может быть названо только то, что разумно и знает о разумном" (Г. В. Ф. Гегель. Сочинения. Т. 3, с. 232). По неоконфуцианской модели (Чжу Си), универсум распространяется из центра к периферии, к окружности (если вспомнить аллегорию Паскаля, "центр находится везде, а окружность – нигде" – сингулярная модель). Правда, исследователь Чжу Си Дж. П. Брюс подчеркивает, что последний имел в виду этическое, а не энергетическое воздействие: "Повеление Неба распространяется по всей Вселенной и является, таким образом, небом каждого индивидуального существа". Как сказано в "Лиц-зи", "Великое Единое (тайн.) разделилось и стало Двумя Формами" (инь-ян, надо полагать). Чжу Си нередко говорит, что "Небо и есть ли", и потому оно чисто. А ли есть человечность (жэнь), справедливость (и), почтительность (ли), мудрость (чжи). По Чжу Си: "Одно инь, одно ян есть дао", потому что "изначальная природа (син) сама по себе содержит Человечность (жэнь) и Чувство Долга-Справедливости (и)". Четыре луча гармонично сочетаются в ясном свете совершенной добропорядочности. И это, согласно Чжу Си, атрибуты Тай-цзи (Великого Предела). Очень интересен вывод Чжу Си: "Небесная твердь – то, что называется Небом, – вращается в бесконечном круговом движении. В самом деле, не правы те, кто говорит, как приходится слышать в наши дни, что на Небесах пребывает Человек, который наказывает за грехи. Но тик же неверно утверждать, что вовсе нет того, что все направляет" (J. Р. Brace. Chu Hsi and his Masters. L., 1923, с. 285, 292-296). И это в XII в.! Можно лишь добавить мнение А. Уоттса: "Понятие шэнь – то, что переводится как врожденный Ум каждого организма в отдельности и мира а целом, т. е. ли. Так же как любая точка на поверхности сферы может рассматриваться как центр поверхности, каждый орган тела и каждое явление космоса может рассматриваться как его центр и повелитель (ruler). С даосской точки зрения, нет ни того, кто управляет, ни того, кем управляют. Все происходит самоестественно (цзыжань). Все со-возникает... По наша единственная возможность понять дао – наблюдать процессы и образы природы. Приведя свой ум в состояние покоя, медитируя, мы поймем, что это такое, но вряд ли сможем передать в словах" (4. W. Watts. Тао: The Watercourse Way, с. 53, 55).
73 Б. В. Раушенбах. Интервью, с. 111.
74 Работы М. Хайдеггера по культурологии, с. 164.
75 Освальд Шпенглер и Закат Европы, с. 8, 10.
76 П. А. Флоренский. Пифагоровы числа. – Труды по знаковым системам. Тарту, 1971, № 5, с. 504-505.
77 А. Вознесенский. Взгляд. М., 1972, с. 85.
78 Цит. по: Г. С. Кнабе. Диалектика повседневности. – Вопросы философии. 1989, № 5, с. 39.
79 Th. Roszak. Where the Wasteland ends? N. Y., 1972, с. XVII.
80 Г. С. Кнабе. Диалектика повседневности, с. 41, 40.
81 Я. Бердяев. О рабстве и свободе человека. Париж, 1939, с. 210.
82 Шеллинг в лекциях по "Философии языка и слова" говорил, что "внутренняя двойственность" столь "укоренена в нашем сознании, что даже, когда мы наедине с собой или думаем, что мы наедине, мы все же неизменно мыслим как бы вдвоем и обнаруживаем это в своем мышлении. и должны признать наше сокровенное глубочайшее бытие по существу своему драматическим" (Ф. Шеллинг. Сочинения. Т. 2, с. 360).
83 Предчувствие Великого потопа подвигло японского писателя. Оэ Кэндзабуро на роман "И объяли меня воды до души моей" (М., 1978)" который пронизан ощущением того, что "Великий потоп" – кара за нравственное опустошение личности, с неизбежностью ведет к экологической катастрофе, – подошел уже к самой груди человека и угрожает смыть его лик с планеты, чтобы остальные обитатели земли могли вздохнуть спокойно: "Все хорошо!" – опасность миновала.
84 Еще раз напомню о карме, которую Ф. И. Щербатской называет "нравственным законом", явлением "нравственной причинности", можно сказать – "нравственной памяти". "По абхидхарме, это одна из сил, контролирующих мировой процесс, это главная сила, поскольку она контролирует его постепенный прогресс к конечному освобождению" (Ф. И. Щербатской. Избранные труды по буддизму, с. 137). Щербатской также сравнивает карму с законом наследственности. Думается, наука подошла к пониманию этого закона. Физиологи установили, что живые организмы, экстраполируя предыдущий опыт, способны моделировать будущее – "опережающее отражение". Совсем недавно американские генетики открыли, что по наследству передаются и приобретенные признаки, т. е. получается – по закону кармы: психические импульсы отпечатываются в сознании, и дурные и хорошие, предопределяя его дальнейшее существование. Странным образом, люди до сих пор не ведают, что всякое их. действие и даже всякая мысль сказывается на их судьбе, хотя осознание этой простой истины (закон сохранения энергии) преобразило бы человеческий мир. Тут слово за Наукой, если она осознает, наконец, свое назначение и то, что в основе всякой виджняны (научного знания) лежит праджня (мудрость), имманентная миру.
85 Так назвал свою книгу удивительный человек – Аурелио Печчеи, основатель Римского клуба. Он находил причину современного кризиса в забвении человечности: "Постепенно утрачивая свои природные способности к приспособлению и выживанию, сочтя за благо все больше и больше доверять свою участь разуму, т. е. своим техническим возможностям,. человек, вместо того чтобы меняться самому, принялся изменять окружающий мир, став в нем звездой первой величины... В результате – вот он, человеческий парадокс: как в зыбучих песках, увязает человек в своих невиданных возможностях и достижениях" (А. Печчеи. Человеческие качества. М., 1980, с. 90.
86 В. Гейзенберг. Цит. по: Новая технократическая волна на Западе, с. 435.
87 В современной физике существует идея "Великого объединения". Максвелл соединил теории электрических и магнитных явлений. Затем возникла теория электрослабых взаимодействий. "Великое объединение"призвано соединить теории сильных и слабых взаимодействий с гравитационным.
88 Ф. М. Достоевский. Сочинения. Т. 10. Л., 1974, с. 189.
89 Разве не о новом понимании Пути, не о возвращении к Единому свидетельствуют слова Далай-ламы XIV: "По-моему, нет необходимости следовать какой-то определенной религии. Люди, стоящие вне религии, могут духовно совершенствоваться, просто развивая в себе ощущение важности сострадания и любви, заботливого уважения к другим" (Наука и религия. 1989, № 7, обл.).
90 В. Ф. Эрн. Борьба за логос, с. 94.
91 Ф. М. Достоевский. Сочинения. Т. 8. Л., 1973, с. 184.
92 Проблемы недвойственности, непротиворечивости научного знания и религиозного чувства я касаюсь в статье "Линия и точка" – о "знании сердца", популяризируя мысль Достоевского "без чистого сердца – полного, правильного сознания не будет".
93 Е. Трубецкой. Умозрение в красках. М., 1916, с. 53.
94 По крайней мере для Бердяева "романтизм есть результат пережги того одиночества, т. е. разрыва субъективного и объективного, выпадение "я" из объективного иерархического порядка, который представляется вечным" (Н Бердяев. Я и мир объектов. Париж, 1934, с. 92).
95 Г. Гессе. Избранное. М., 1984, с. 45.
96 Цит. по: В. А. Кругликов. Образ "человека культуры". М., 1988, с. 88.
97 Басе Мацуо. – Нихон котэн бунгаку (Японская классическая литература). Т. 41. Токио, 1972, с. 311-312.
98 Таков закон. Доминирует то энергия ян, то инь, то они находятся в равновесии. В своих глубоких исследованиях Л. Н. Гумилев делится наблюдением: "Во всех живых организмах есть биохимическая энергия живого вещества биосферы, – аналогичная электромагнитной, тепловой, гравитационной и механической; в последней форме она и проявилась. Большей частью биохимическая энергия живого вещества находится в гомеостазе – неустойчивом равновесии, но иногда наблюдаются ее флуктуации – резкие подъемы и спады" {Л. Н. Гумилев. Биография научной теории или Автонекролог. – Знамя. 1988, № 4, с. 211). Можно вспомнить слова Гераклита – о вселенском Огне, "мерою возгорающемся и мерою угасающем" (В 30), или учение Оригена о том, что История и Космос исчерпывают свой смысл, и одряхлевшее космическое тело устраняется мировым пожаром для нового возникновения – в процессе чередования "выдоха" – перехода Единого во "Все" и "вдоха" – возвращения "Всего" в Единое.
99 Из писем Вильгельма фон Гумбольдта. – Иностранная литература. 4989, № 11, с. 233.
100 С. Аверинцев. К. Ясперс. – Философский энциклопедический словарь. М., 1983, с. 818.
101 Р. Роллан. Жизнь Вивекананды, с. 278-279.
102 X. Ортега-и-Гассет. Восстание масс. – Вопросы философии. 1989, № 3, с. 125.
103 Цит. по: Ю. К. Шуцкий. Китайская классическая Книга Перемен, с. 106.
104 X. Ортега-и-Гассет. Восстание масс. – Вопросы философии. 1989, № 3, с. 125.
105 Н. Бердяев. О рабстве и свободе человека. Париж, 1939, с. 52-53
106 Ф. Шеллинг. Сочинения. Т. 1, с. 456.
107 Николай Кузанский. Сочинения. Т. 2. М., 1980, с. 386.
108 Н. Бердяев. О рабстве и свободе человека, с. 37, 171, 206, 210.
109 Там же, с. 20, 34, 64.
110 Н. Гумилев. Наследие символизма и акмеизм. – Аполлон. 1913, X" 1, с. 42-43.
111 H. Бердяев. О рабстве и свободе человека, с. 87, 158, 125, 205, 35.
112 Д. Ф. Эрн. Борьба за логос, с. 96-97ю
113 Н. Бердяев. О рабстве и свободе человека, с. 51, 37-38, 141, 136, 138.
114 В. фон Гумбольдт. Язык и философия культуры. М., 1985, с. 316.
115 Н. Бердяев. О рабстве и свободе человека, с. 49, 50, 65.
116 Человек – душа вселенной, – говорил Кэпко-хоси, – Вселенная не имеет пределов. Тогда почему должны быть отличны от нее свойства человека?". Даосы называли человека "душой вещей".
117 Н. Бердяев. О рабстве и свободе человека, с. 60.
118 Интересно сопоставить с буддийским пониманием личности: "Очевидно и то, что вся совокупность дхарм является чем-то цельным: в состав сознательного живого существа или континуума входят все разновидности элементов; а из этого вытекает, что в теории дхарм мы действительно имеем дело с анализом личности человека, ибо только в нем, а не в неодушевленных предметах содержатся "се элементы, т. е. и чувственное, и сознание, и процессы. В то же время очевидно, что живое существо анализируется целиком, т. е. не только материальное тело и психическая жизнь человека, но и все объективное, что он переживает и что он называет внешним материальным миром". Тот же тип связи – одно в другом, человек в мире, и мир в человеке; "объективный мир становится составным элементом личности" (О. О. Розенберг. Проблемы буддийской философии, с. 140, 99).
119 Н. Бердяев. О рабстве и свободе человека, с. 20, 126, 42, 24, 56, 261, 45, 32, 11, 211, 11, 109, 162, 61.
120 В. фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию, с. 46-47.
121 Н. Бердяев. О рабстве и свободе человека, с. 212.
122 Эрн называет прерывные процессы продуктом иного, ноуменального мира. "Врезываясь в процессы естественные, они их прерывают, переводят на качественно новую ступень, с тем чтобы с этой ступени до известного пункта процесс развития опять шел непрерывно... Каждый перерыв – это та реальная в пределах нашего мира лежащая точка, где два мира: мир "этот" и "тот", мир сущего и существующего, мир абсолютной свободы и мир причинной обусловленности соприкасаются в реальном взаимодействии. И это соприкосновение, как огонь палящий, сжигает всю шелуху естественного развития... а подлинно ценное продолжает свой рост" (5. Ф. Эрн. Борьба за логос, с. 256).
123 Н. Бердяев. О рабстве и свободе человека, с. 28, 220, 39, 35, 58
124 Богословские труды, № 19, с. 238.
125 Ощущением вечного странствия души пронизана поэзия Уитмена, Эмерсона, или Э. Дикинсон (1830-1886): "Я нахожу в жизни счастье – доходящее до экстаза". Умирая, она оставила записку: "Отозвана назад. Эмили" (см.: В. Маркова. Предисловие. – Э. Дикинсон. Стихотворения. М., 1981). Это ощущение открыто Поэту:
Смерти нет – это всем
известно,
Повторять это стало пресно,
А что есть – пусть расскажут мне.
(Ахматова)
126 Р. Тагор. Искры, с. 185.
127 Н. Ф. Федоров. Сочинения. М., 1982, с. 433. О Н. Ф. Федорове и о проблеме бессмертия стали появляться наконец работы, в частности, усилиями ученого-энтузиаста С. Г. Семеновой: помимо ее предисловия к Сочинениям Н. Ф. Федорова – "Этика "общего дела" Н. Ф. Федорова" (М., 1989 г.), "Преодоление трагедии" (М., 1989 г.) и др. А. И. Георгиевский в статье "О воскресении мертвых в связи с евхаристией" приводит слова апостола Павла, открывающего тайну мгновенного анастасического изменения самого существа человека: "Говорю вам тайну: не все мы умрем, во все изменимся Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся" (I Кор. 15, 51-52). И продолжает мысль: воскреснем же не в "греховном теле", а во плоти, сотканной из невообразимо прекрасной и всесовершенной "материи", подготовляющейся к этому всей эволюцией мира (Богословские труды. 1976, № 16, с. 40, 43). Появляются и газетные публикации на тему бессмертия, скажем статья А. Гарбовского "В поисках вечности" (Труд. 05.07.1989), напоминающая, что в биологии нет закона, предусматривающего конечность индивидуальных форм. Может быть, человек подходит к завершению, избавляясь от страха перед вечностью. И кто знает, возможно, победит смерть (по крайней мере на Востоке смерть воспринимается как исчезновение данной формы для возникновения новой. Существовала категория людей, которых так и называли "бессмертными" – отнюдь не в переносном смысле).
128 К. Э. Циолковский. Воля вселенной. Неизвестные разумные силы. Калуга, 1928-1930. с. 6-7. 30.
129 Насколько злободневна эта тема, свидетельствуют многочисленные публикации. Вот хотя бы одна из них: "Дорога к Храму" В. Голованова, беседующего с настоятелем храма в Торжке, отцом Владиславом Свешниковым: "В вашей же газете представлены многие примеры невероятного одичания человеческой природы... тотального равнодушия к нравственной Проблематике, когда, по Пушкину, добро и зло – все стало тенью, когда чрезвычайно возросли в силе и разнообразии греховные проявления человеческой природы: злобность, самодовольство, дикая гордость, мрак ума, безволие, безответственность, можно ожидать страшной катастрофы, которой не могут предотвратить никакие социальные, экономические и политические реформы. Да более того, при таком нравственном строе они не пойдут, захлебнутся" (Литературная газета. 23.08.1989). Есть над чем задуматься.
1 Ф. М. Достоевский. Сочинения. Т. 14, с. 290.
2 Н. А. Бердяев. Философия свободы. М., 1989, с. 129-130.
3 Цит. по: Э. Шюре. Великие посвященные. СПб., 1910, с. 17.
4 В. Ф. Эрн. Борьба за Логос, с. 244.
5 А. Т. Toynbee. A Study of History. L., 1946, с. 253.
6 Шеллинг. Сочинения. Т. 1, с. 465-466.
7 В. С. Соловьев. Духовные основы жизни, с. 58.
8 Гегель. Сочинения. Т. 3. М., 1956, с. 232.
9 Пока я писала книгу, наука подошла к новому пределу, к проблеме бессмертия. По крайней мере за день до окончания работы над рукописью прозвучала по радио передача "Жизнь после смерти", "лептонная концепция" (аналог "тонкого мира") Б. И. Искакова: о существовании квантовых оболочек у человека, которые соединяются между собой по принципу матрешки, концентрируясь вокруг ядра, от которого и получают информацию (т. е. та самая структура "одно во всем, и все в одном"). Эти оболочки еще какое-то время живут и после смерти человека (но самый тонкий вид энергии, видимо, вообще не уничтожим и сохраняет индивидуальный отпечаток). Люди, народы, группы людей соединяются между собой общими биополями, каждый на своем энергетическом уровне. Таким образом, и человечество составляет единую иерархическую структуру наподобие квантовых оболочек человеческого тела, и оттого поведение каждого не может не сказаться на участи целого, а состояние целого – па участи каждого, т. е. человечество есть единое "лептонное существо". Если такого рода научные выводы станут фактом сознания, то коренным образом изменится психология человека: он будет думать прежде, чем что-либо сделать.
10 Р. Тагор. Сочинения. Т. 2. с. 293-294, 298, 299.
11 А. Ким. Отец-Лес. – Новый мир. 1989, №. 4-6.
12 Ю. К. Шуцкий. Китайская классическая "Книга Перемен с. 381-383.
Внимание! Сайт является помещением библиотеки. Копирование, сохранение (скачать и сохранить) на жестком диске или иной способ сохранения произведений осуществляются пользователями на свой риск. Все книги в электронном варианте, содержащиеся на сайте «Библиотека svitk.ru», принадлежат своим законным владельцам (авторам, переводчикам, издательствам). Все книги и статьи взяты из открытых источников и размещаются здесь только для ознакомительных целей.
Обязательно покупайте бумажные версии книг, этим вы поддерживаете авторов и издательства, тем самым, помогая выходу новых книг.
Публикация данного документа не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Но такие документы способствуют быстрейшему профессиональному и духовному росту читателей и являются рекламой бумажных изданий таких документов.
Все авторские права сохраняются за правообладателем. Если Вы являетесь автором данного документа и хотите дополнить его или изменить, уточнить реквизиты автора, опубликовать другие документы или возможно вы не желаете, чтобы какой-то из ваших материалов находился в библиотеке, пожалуйста, свяжитесь со мной по e-mail: ktivsvitk@yandex.ru