

|
|
|
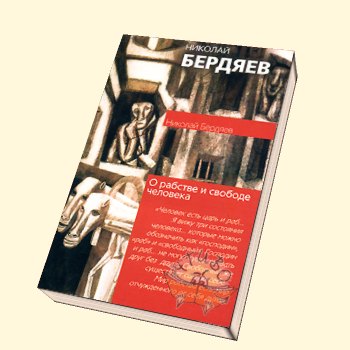
В книге собранны статьи российского философа Н Бердяева, напечатанные в российской и зарубежной прессе. Статьи посвящены православию в меняющемся мире, попытке осмыслить позицию православия по отношению к католичеству и протестантизму. В статьях поднимаются проблемы самоубийства и «Церковного национализма». Н Бердяев говорит о пути развития России и о том стоит ли выбирать между коммунизмом и демократией? И даёт ответы, что такое загадочная русская душа и что такое российское сознание.
Тема о фанатизме, связанная с приверженностью к ортодоксальным учениям, очень актуальна. История ритмична, в ней огромную роль играет смена психических реакций. И мы вступаем в ритм, когда преобладает направленность к принудительному единству, к обязательной для всех ортодоксии, к порядку, подавляющему свободу. Это есть реакция против ХIХ века, против его свободолюбия и человечности. Вырабатывается массовая психология нетерпимости и фанатизма. При этом нарушается равновесие и человек допускает себя до маниакальной одержимости. Индивидуальный человек делается жертвой коллективных психозов. Происходит страшное сужение сознания, подавление и вытеснение многих существенных человеческих черт, всей сложности эмоциональной и интеллектуальной жизни человека. Единство достигается не через полноту, а через все большую и большую ущербленность. Нетерпимость имеет родство с ревностью. Ревность есть психоз, при котором теряется чувство реальностей. Душевная жизнь опрокидывается и фиксируется на одной точке, но та точка, на которой происходит фиксация, совсем не реально воспринимается.
Человек, в котором нетерпимость дошла до каления. фанатизма, подобно ревнивцу, всюду видит лишь одно, лишь измену, лишь предательство, лишь нарушение верности единому, он подозрителен и мнителен, всюду открывает заговоры против излюбленной идеи, против предмета своей веры и любви. Человека фанатически нетерпимого, как и ревнивца, очень трудно вернуть к реальностям. Фанатик, одержимый манией преследования, видит вокруг козни диавола, но он всегда сам преследует, пытает и казнит. Человек, одержимый манией преследования, который чувствует себя окруженным врагами, – очень опасное существо, он всегда делается гонителем, он‑то и преследует, а не его преследуют.
Фанатики, совершающие величайшие злодеяния, насилия и жестокости, всегда чувствуют себя окруженными опасностями, всегда испытывают страх. Человек всегда совершает насилия из страха. Аффект страха глубоко связан с фанатизмом и нетерпимостью. Излечение от страха и было бы излечением от фанатизма и нетерпимости. Фанатику диавол всегда кажется страшным и сильным, он верит в него более, чем в Бога. Фанатизм имеет религиозные истоки, но он легко переходит на сферу национальную и политическую. Национальный или политический фанатик также верит в диавола и его козни, хотя бы религиозная категория диавола была ему совершенно чужда. Против сил диавола всегда создается инквизиция или комитет общественного спасения, всесильная тайная полиция, чека. Эти страшные учреждения всегда создавались страхом диавола. Но диавол всегда оказывался сильнее, он проникал в эти учреждения и руководил ими.
Нет ничего страшнее страха. Духовное излечение от страха нужнее всего человеку. Нетерпимый фанатик совершает насилие, отлучает, сажает в тюрьмы и казнит, но он, в сущности, слабый, а не сильный, он подавлен страхом и сознание его страшно сужено, он меньше верит в Бога, чем терпимый. В известном смысле можно было бы сказать, что фанатическая вера есть слабость веры, безверие. Это вера отрицательная. Архимандрит Фотий эпохи Александра I верил главным образом в диавола и антихриста. Сила Бога представлялась ему ничтожной по сравнению с силой диавола. Инквизиция так же мало верит в силу христианской истины, как гепеу (ГПУ – главное политическое управление – Прим. ред.) мало верит в силу коммунистической истины. Фанатическая нетерпимость есть всегда глубокое неверие в человека, в образ Божий в человеке, неверие в силу истины, т. е., в конце концов, неверие в Бога. Ленин так же не верил в человека и в силу истины, как и Победоносцев: они одной расы. Человек, допустивший себя до одержимости идеей мировой опасности и мирового заговора масонов, евреев, иезуитов, большевиков или оккультного общества убийц, – перестает верить в Божью силу, в силу истины и полагается лишь на собственные насилия, жестокости и убийства. Такой человек есть, в сущности, предмет психопатологии и психоанализа.
Маниакальная идея, внушенная страхом, и есть самая большая опасность. Сейчас фанатизм, пафос общеобязательной ортодоксальной истины обнаруживают себя в фашизме, в коммунизме, в крайних формах религиозного догматизма и традиционализма. Фанатизм всегда делит мир и человечество на две части, на два враждебных лагеря. Это есть военное деление. Фанатизм не допускает сосуществования разных идей и миросозерцаний. Существует только враг. Силы враждебные унифицируются, представляются единым врагом. Это совершенно подобно тому, как если бы человек производил деление не на я и множество других я, а на я и не‑я, причем не‑я представлял себе единым существом. Это страшное упрощение облегчает борьбу.
Для коммунистов есть сейчас только один враг в мире – фашизм. Всякий противник коммунизма тем самым уже фашист. И наоборот. Для фашистов всякий противник фашизма тем самым уже коммунист. При этом количество фашистов и коммунистов в мире непомерно возрастает. Люди из вражды к коммунизму становятся на сторону фашизма и из вражды к фашизму – на сторону коммунизма. Объединение происходит по отношению к диаволу, который есть другая половина мира. Вам предлагают нелепый выбор между фашизмом и коммунизмом. Непонятно, почему я должен выбирать между двумя силами, которые одинаково отрицают достоинство человеческой личности и свободу духа, одинаково практикуют ложь и насилие, как способы борьбы. Ясно, что я должен стать на сторону какой‑то третьей силы: так и делает во Франции течение, связанное с «Esprit» и «La Fleche», одинаково враждебное капитализму, фашизму и коммунизму. Фанатическая нетерпимость всегда ставит перед ложным выбором и производит ложное деление. Но интересно, что пафос фанатической нетерпимости в наше время есть результат не страстной веры и убежденности, а искусственного взвинчивания, часто стилизация и есть порождение коллективных внушений и демагогий. Есть, конечно, отдельные коммунисты и фашисты, верующие и убежденные до фанатизма, особенно среди русских коммунистов и немецких наци, менее среди итальянских фашистов, более скептических и подчиненных расчетливой политике. Но у коммунистической и фашистской массы никаких твердых и продуманных верований и убеждений нет. Эта масса, стилизуется под фанатизм вследствие внушения и подражания, а часто и интереса.
Современный пафос нетерпимости очень отличается от средневекового; тогда действительно была глубокая вера. Средний человек нашего времени идей не имеет, он имеет инстинкты и аффекты. Нетерпимость его вызвана условиями войны и жаждой порядка. Он знает лишь истину, полезную для организации. Двучленное деление мира, вызванное требованиями войны, имеет свои неотвратимые последствия. Наша эпоха не знает критики и идейного спора и не знает борьбы идей. Она знает лишь обличения, отлучения, и кары. Инакомыслящий рассматривается как преступник. С преступником не спорят. В сущности, нет больше идейных врагов, есть лишь враги военные, принадлежащие к враждебным державам. Спор есть терпимость, самый свирепый спорщик – терпимый человек, он допускает сосуществование иных идей, чем его идеи, он думает, что от столкновения идей может лучше раскрыться истина. Но сейчас в мире никакой идейной борьбы не происходит, происходит борьба интересов и кулаков. Коммунисты, фашисты, фанатики «ортодоксального» Православия, Католичества или Протестантизма ни с какими идеями не спорят, они отбрасывают противника в противоположный лагерь, на который наставляются пулеметы.
Пафос ортодоксальной доктрины, которая оказывается полезной для борьбы и для организации, ведет к полной потери интереса к мысли и к идеям, к познанию, к интеллектуальной культуре, и сравнение с средневековьем очень неблагоприятно для нашего времени. Никакого идейного творчества при этом не обнаруживается. В этом отношении наша нетерпимая эпоха поразительно бездарна и убога, в ней творческая мысль замирает, она паразитарно питается предшествующими эпохами. Мыслители наиболее влиятельные в современной Европе, – как Маркс, Ницше, Киркегардт, – принадлежат тому ХIХ веку, против которого сейчас происходит реакция. Единственная область, в которой обнаруживается головокружительное творчество, есть область технических открытий. Мы живем под знаком социальности, и в этой области происходит много положительного, но никаких социальных идей, социальных теорий сейчас не создается, все они принадлежат ХIХ веку. Марксизм, прудонизм, синдикализм, даже расизм, – все порождение мысли ХIХ века. Главное преимущество нынешнего века в том, что он более обращен к реальностям, разоблачает реальности. Но, разоблачая старые идолы, новый век создает новые идолы.
Для фанатика не существует многообразного мира. Это человек, одержимый одним. У него беспощадное и злое отношение ко всему и всем кроме одного. Психологически фанатизм связан с идеей спасения или гибели. Именно эта идея фанатизирует душу. Есть единое, которое спасает, все остальное губит. Поэтому нужно целиком отдаться этому единому и беспощадно истреблять все остальное, весь множественный мир, грозящий погибелью. С гибелью, связанной с множественным миром, связан и аффект страха, который всегда есть в подпочве фанатизма.
Инквизиторы бывали совершенно убеждены, что совершаемые ими жестокости, пытки, сжигания на кострах и прочее есть проявление человеколюбия. Они боролись против гибели за спасение, охраняли души от соблазна ересей, грозивших гибелью. Лучше причинить краткие страдания в земной жизни, чем гибель для многих в вечности. Торквемада был бескорыстный, отрешенный человек, он ничего не желал для себя, он весь отдавался своей идее, своей вере; истязая людей, он служил своему Богу, он все делал исключительно во славу Божью, в нем была даже мягкость, он ни к кому не испытывал злобы и вражды, он был в своем роде «хороший» человек. Я убежден, что таким же «хорошим» человеком, убежденным верующим, бескорыстным, был и Дзержинский, который ведь в молодости был страстно верующим католиком и хотел стать монахом. Это интересная психологическая проблема.
Верующий, бескорыстный, идейный человек может быть изувером, совершать величайшие жестокости. Отдать себя без остатка Богу или идее, заменяющей Бога, минуя человека, превратить человека в средство и орудие для славы Божьей или для реализации идеи значит стать фанатиком – изувером и даже извергом. Именно Евангелие открыло людям, что нельзя строить своего отношения к Богу без отношения к человеку. Если фарисеи ставили субботу выше человека и были обличаемы Христом, то и всякий человек, который поставил отвлеченную идею выше человека, исповедует религию субботы, отвергнутую Христом. При этом все равно, будет ли это идея церковной ортодоксии, государственности и национализма или идея революции и социализма.
Человек, помешанный на отыскании и обличении ересей, на отлучении и преследовании еретиков, есть человек, давно обличенный и осужденный Христом, хотя он этого не замечает. Патологическая ненависть к ереси есть одержимость «идеей», которая поставлена выше человека. Но все ортодоксальные доктрины мира есть ничто по сравнению с последним из людей и его судьбой. Человек есть образ и подобие Божье. Всякая же система идей есть порождение человеческой мысли или безмыслия. Человек не спасается и не гибнет от того, что придерживается какой‑либо системы идей. Единственная настоящая ересь есть ересь жизни.
Обличители и гонители ересей как раз и бывали еретиками жизни, еретиками в отношении к живому человеку, к милосердию и любви. Все инквизиторы были еретиками жизни, они были изменниками жизненному догмату о человеке. Кирилл Александрийский был более еретиком жизни, чем обличаемые им еретики. За обличениями еретиков всегда скрыта греховная похоть власти, воля к могуществу.
Патологическая одержимость идеей спасения и гибели, от которой следовало бы лечиться, может быть перенесена и на социальную сферу. Тогда эта паническая идея порождает революционный фанатизм и создает политические инквизиционные учреждения. Нетерпимость и инквизиция оправдываются грозящей социальной гибелью. Так, московские процессы коммунистов очень напоминают процессы ведьм. И здесь и там обвиняемые сознаются в преступных сношениях с диаволом. Человеческая психика мало меняется. В сущности, фанатизм всегда носит социальный характер. Человек не может быть фанатиком, когда он поставлен перед Богом, он делается фанатиком лишь когда он поставлен перед другими людьми.
Фанатик всегда нуждается во враге, всегда должен кого‑либо казнить. Ортодоксальные догматические формулы образованы не по отношению к Богу, а по отношению к другим людям, они образовались потому, что возникли еретические мнения. Фанатизм всегда означает социальное принуждение. Или он может принимать формы самосжигания, – как, например, в крайних течениях русского раскола, но и в этом случае он тоже означает социальное принуждение с обратным знаком. Фанатизм крайней ортодоксии в религии носит сектантский характер. Чувство удовлетворения от принадлежности к кругу избранных есть сектантское чувство. Фанатизм очень накаляет волю и организовывает для борьбы, для причинения мучений и для перенесения мучений. У самого мягкого, кроткого фанатика, сознающего себя человеколюбцем, заботящимся о спасении душ и обществ, есть элемент садизма. Фанатизм всегда связан с явлением мучительства. Идеологически фаиатизм всегда есть исступление ортодоксии.
Категория ортодоксии, противополагаемой ереси, применяется сейчас к типам мышления, ничего общего не имеющего с религией, – например, к марксизму; но она религиозного происхождения. Хотя она религиозного происхождения, но все же есть прежде всего явление социальное и означает господство коллектива над личностью. Ортодоксия есть умственная организация коллектива и означает экстерриоризацию сознания и совести. Ортодоксия утверждает себя в противоположности ереси. Еретик есть человек, мыслящий не в согласии с умственной организацией коллектива. Люди, почитающие себя ортодоксальными по преимуществу и обличающие еретиков, т. е. инакомыслящих, любят говорить, что они защищают истину и истину ставят выше свободы. Это есть самое большое заблуждение и самообольщение ортодоксов.
Пафос ортодоксии, питающий фанатизм, ничего общего не имеет с пафосом истины, он как раз ему противоположен. Ортодоксия образуется вокруг темы спасения и гибели, ортодоксы сами испуганы и пугают других. Истина же не знает страха. Именно хранители ортодоксии более всего искажали истину и боялись ее. Хранители религиозной ортодоксии искажали историю. Хранители марксистской или расистской ортодоксии также искажают историю. Эти люди всегда создают злостные легенды о враждебной им силе. Истина подменяется пользой, интересами организованного порядка.
Человек, фанатизированный какой‑либо идеей, как единоспасающей, не может искать истины. Искание истины предполагает свободу. Истины нет вне свободы, истина дается лишь свободе. Вне свободы есть лишь польза, а не истина, лишь интересы власти. Фанатик какой‑либо ортодоксии ищет власти, а не истины. Истина не дана готовой и не воспринимается пассивно человеком, она есть бесконечное задание. Истина не падает сверху на человека, как какая‑то вещь. И откровение истины нельзя понимать наивно‑реалистически. Истина есть также путь и жизнь, духовная жизнь человека. Духовная же жизнь есть свобода и ее нет вне свободы.
Фанатики ортодоксии, в сущности, не знают истины, ибо не знают свободы, не знают духовной жизни. Фанатики ортодоксии думают, что они люди смиренные, ибо послушны истине церковной, и обвиняют других в гордости. Но это страшное заблуждение и самообольщение. Пусть в Церкви заключается полнота истины. Но почему ортодокс воображает, что именно он обладает этой истиной Церкви, именно он ее знает? Почему именно ему дан этот дар окончательного различения церковной истины от ереси, почему именно он оказывается этим избранником? Это есть гордость и самомнение, и нет более гордых и самомнящих людей, чем хранители ортодоксии. Они отождествляют себя с церковной истиной. Существует ортодоксальная церковная истина. Но вот, может быть, ты, фанатик ортодоксии, ее не знаешь, ты знаешь лишь осколки ее вследствие своей ограниченности, сердечной окаменелости, своей нечуткости, своей приверженности форме и закону, отсутствию даровитости и благостности.
Человек, допустивший себя до фанатической одержимости, никогда не предполагает такой возможности о себе. Он, конечно, готов признавать себя грешником, но никогда не признает себя находящимся в заблуждении, в самообмане, в самодовольстве. Поэтому он считает возможным при всей своей грешности пытать и гнать других. Фанатик сознает себя верующим. Но, может быть, вера его не имеет никакого отношения к истине. Истина есть прежде всего выход из себя, фанатик же выйти из себя не может. Он выходит из себя только в злобе против других, но это не есть выход к другим и другому.
Фанатик – эгоцентрик. Вера фанатика, его беззаветная и бескорыстная преданность идее нисколько не помогает ему преодолеть эгоцентризм. Аскеза фанатика (а фанатики часто бывают аскетами) нисколько не побеждает поглощенности собой, нисколько не обращает его к реальностям. Фанатик какой‑либо ортодоксии отождествляет свою идею, свою истину с собой. Он и есть эта идея, эта истина. Ортодоксия – это он. В конце концов, это всегда оказывается единственным критерием ортодоксии.
Фанатик ортодоксии может быть крайним приверженцем принципа авторитета. Но он всегда незаметно отождествляет авторитет с собою и никакому несогласному с ним авторитету никогда не подчинится. Склонность к авторитету в нашу эпоху носит именно такой характер. Авторитарно настроенная молодежь никаких авторитетов над собой не признает, она себя сознает носительницей авторитета. Ультраправославно настроенная молодежь, которая не любит свободы и обличает ереси, себя почитает носительницей Православия. Это есть пример того, насколько идея авторитета противоречива и несостоятельна. Авторитет на практике никогда не стесняет его фанатических приверженцев, он стесняет других, их противников и насилует их. В сущности, никто никогда не подчинялся авторитету, если считал его несогласным с его пониманием истины. Исповедание какой‑либо крайней ортодоксии, какой‑либо тоталитарной системы всегда означает желание принадлежать к кругу избранных, носителей истинного учения. Это льстит гордости и самомнению людей. По сравнению с этим свободолюбие означает скромность.
Очень приятно и лестно почитать себя единственным знающим, что такое истинное Православие или истинный марксизм‑ленинизм (психология та же). Робеспьер беззаветно любил республиканскую добродетель, он был самый добродетельный человек в революционной Франции и даже единственный добродетельный. Он отождествил себя с республиканской добродетелью, с идеей революции. Это был законченный тип эгоцентрика. Вот это помешательство на добродетели, это отождествление себя с ней и было в нем самое отвратительное. Порочный Дантон был в тысячу раз лучше и человечнее.
Эгоцентризм фанатика какой‑либо идеи, какого‑либо учения выражается в том, что он не видит человеческой личности, невнимателен к личному человеческому пути, он не может установить никакого отношения к миру личностей, к живому, конкретному человеческому миру. Фанатик знает лишь идею, но не знает человека, не знает человека и тогда, когда борется за идею человека. Но он не воспринимает и мира идей иных, чем его собственные, неспособен войти в общение идей. Он обыкновенно ничего не понимает и не может понять; именно эгоцентризм лишает его способности понимания. Он совсем не хочет убедить в истинности чего‑либо, он совсем не интересуется истиной. Интерес к истине выводит из замкнутого круга эгоцентризма. Эгоцентризм совсем не то же самое, что эгоизм.
Эгоист в житейском смысле слова все же может выйти из себя, обратить внимание на других людей, заинтересоваться миром чужих идей. Но фанатик‑эгоцентрик, бескорыстный, аскетический, беззаветно преданный какой‑либо идее, совсем не может, идея центрирует его на самом себе. Для нашей смутной эпохи характерны не только вспышки фанатизма, но и стилизация фанатизма. Современные люди совсем не так фанатичны и совсем не так привержены ортодоксальным учениям, как это может казаться. Они хотят казаться фанатиками, имитируют фанатизм, произносят слова фанатиков, делают насилующие жесты фанатиков. Но слишком чисто это лишь прикрывает внутреннюю пустоту. Имитация и стилизация фанатизма есть лишь один из способов заполнения пустоты. Это означает также творческое бессилие, неспособность на мысли. Претендующие на знание ортодоксальной истины находятся в состоянии безмыслия. Любовь к мысли, к познанию есть также любовь к критике, к диалогическому развитию, любовь к чужой мысли, а не только к своей.
Фанатической нетерпимости противополагают терпимость. Но терпимость есть сложный феномен. Терпимость может быть результатом безразличия, равнодушия к истине, неразличения добра и зла. Это есть теплопрохладная, либеральная терпимость, и не ее нужно противополагать фанатизму. Возможна страстная любовь к свободе и к истине, пламенная приверженность идее, но – при огромном внимании к человеку, к человеческому пути, к человеческому исканию истины. Свобода может быть понята, как неотрывная часть самой истины. И не все человек должен терпеть. К современной нетерпимости, фанатизму, к современной ортодоксомании совсем не нужно относиться терпимо, наоборот, нужно относиться нетерпимо. И врагам свободы совсем не нужно давать безграничной свободы. В известном смысле нам нужна диктатура реальной свободы. Современные же диктатуры во всех их формах покоятся на душевном фундаменте, который обнаруживает тяжкое душевное заболевание. Нужен курс духовного лечения.
Русские записки № 1. Париж‑Шанхай, 1937.
Вопрос о самоубийстве – один из самых беспокойных и мучительных в русской эмиграции. Очень много русских кончают жизнь самоубийством. Многие, если еще и не решались убить себя, то носят в себе мысль о самоубийстве. Потеря всякого смысла жизни, оторванность от родины, крушение надежд, одиночество, нужда, болезни, резкое изменение социального положения, когда человек, принадлежавший к высшим классам, делается простым рабочим, и неверие в возможность улучшить свое положение в будущем – все это очень благоприятствует эпидемии самоубийств. Самоубийство как явление индивидуальное существовало во все времена, но иногда оно становится явлением социальным и таким оно является в наше время в русской эмиграции, где создается для него очень благоприятная коллективная атмосфера. Самоубийство бывает заразительно и человек, убивающий себя, совершает социальный акт, толкает других на тот же путь, создает психическую атмосферу разложения и упадка. Самоубийца имеет дело не только с самим собой, и насильственное уничтожение собственной жизни имеет значение не только для него одного. Самоубийца вызывает роковую решимость и в других, он сеет смерть. Самоубийство принадлежит к тем сложным явлениям жизни, которые вызывают к себе двойственное отношение, С одной стороны, сам человек, покончивший с собой, вызывает к себе глубокую жалость, сострадание к пережитой им муке. Но сам факт самоубийства вызывает ужас, осуждение как грех и даже как преступление. Близкие часто хотят скрыть этот страшный факт. Можно сочувствовать самоубийце, но нельзя сочувствовать самоубийству. Церковь отказывает самоубийце в христианском погребении, на него смотрят как на обреченного на вечную гибель. Церковные каноны в этом отношении слишком жестоки и беспощадны и на практике отношение это принуждены смягчать. Но в этой жестокости и беспощадности есть своя метафизическая глубина. Самоубийство вызывает жуткое, почти сверхъестественное чувство, как нарушение божеских и человеческих законов, как насилие не только над жизнью, но и над смертью.
Самоубийство русских в атмосфере эмиграции имеет не только психологический, но и исторический смысл. Оно означает ослабление и разложение русской силы, оно говорит о том, что русские не выдерживают исторического испытания. И бороться с ним нужно, прежде всего, повышением чувства и сознания своего достоинства, своего призвания. Русский, ощутивший сейчас роковую склонность к самоубийству, не может вызывать к себе слишком строгом и беспощадного отношения. При строгом и беспощадном к нему отношении он всегда вам ответит, что вы находитесь в более привилегированном и счастливом положении и потому не понимаете мучительности и безнадежности его жизни. И нужно, прежде всего, понять человека, понять сочувственно, поставив себя в его положение. И вот что нужно понять, прежде всего. Трудно, очень трудно жить человеку изолированно, одиноко, оторванным от питавшей его родной почвы, чувствовать себя выброшенным в необъятный темный океан чужой ему и страшной жизни. И когда жизнь человека не согрета верой, когда он не чувствует близости и помощи Бога и зависимости своей жизни от благой силы, трудность становится непереносимой. Самое страшное для человека, когда весь окружающий мир – чужой, враждебный, холодный, безучастный к нужде и горю. Не может жить человек в ледяном холоде, он нуждается в тепле. Русская молодежь, рассеянная по всему свету, нередко чувствует себя покинутой на произвол судьбы, беспризорной, предоставленной своим ограниченным силам. Она бьется, пытается отстоять свою жизнь, но иногда изнемогает, теряет силу сопротивления, не выдерживает слишком тяжких испытаний. Причиной склонности к самоубийству в эмиграции является не только материальная нужда, необеспеченность будущего, болезнь, но еще более ужас, что всегда, до конца дней, придется жить в чужом и холодном мире и что жизнь в нем бессмысленна и бесцельна. Человек может выносить страдания, сил у него больше, чем он сам думает, это достаточно доказано войной и революцией, Но трудно человеку вынести бессмысленность страданий. Ницше говорит, что человек не столько не может вынести страдание, сколько бессмысленности страдания. Страдание, смысл и цель которого сознаны, есть совсем уже иное страдание, чем страдание бесцельное и бессмысленное. Героическое переживание самых тяжких испытаний предполагает сознание смысла испытываемого.
Русская революция принесла людям неисчислимое количество страданий, она есть великое испытание духа. И вот для того, чтобы выдержать это испытание, перенести эти страдания, нужно сознать, что происходящее имеет какой‑то смысл, что оно не есть чистая бессмыслица и потеря. Неверное отношение к революции, как к чистой бессмыслице, как к совершенно внешнему несчастью, ударившему по жизни людей, как к случайному порождению кучки злодеев, приводит к духовно упадочным настроениям в эмиграции, к ощущению совершенной бессмысленности жизни и толкает к насильственному прекращению жизни. Но такой взгляд на несчастья революции совершенно внешний, не духовный, не религиозный, материалистический, обывательский. В действительности революция есть очень серьезный и трагический внутренний момент в судьбе народов, в судьбе каждом из нас. Революция есть историческое событие, происходящее в нас и с нами, как бы мы к ней ни относились, как бы ни возмущались ее злой стороной, она совсем не есть что‑то внешнее для нас и совершенно бессмысленное для нашей жизни. Бессмысленно то, что остается совершенно внешним для нас, никак не связанным внутренне с нашей жизнью. Ведь и к несчастьям и испытаниям в личной жизни – смерти близких людей, болезням, бедности, разочарованию в людях, которые казались друзьями и нам изменили, нужно относиться, как к имеющим смысл для личной судьбы, как к внутренним, а не внешним событиям, т. е. относиться духовно. Это и есть религиозное отношение к жизни. То же нужно сказать и о несчастьях исторических, войнах, революциях, потери отечества, социальной деградации. Революция есть возмездие за грехи прошлого и искупление. Она говорит об общей вине. Никто не может чувствовать себя изъятым из общей вины, из общей судьбы. И только переживание вины делает революцию переносимой. Революция всегда значит, что силы добра не раскрыли себя творчески в жизни, что накопилось много зла и яда, что необходимо обновление через катастрофу и действие злых сил, если не совершается обновление через благую духовную силу. Человек может находиться в эмиграции, быть непримиримым врагом зла большевизма, но и он должен чувствовать и сознавать, что революция есть внутреннее событие, происходящее и в нем и с ним и что смысл ее может быть огромным для исторической судьбы народа, хотя и совершенно несоизмеримым с тем, в чем его видят сами деятели революции. Душевная подавленность и потеря смысла жизни будут преодолены, если будет сознано, что мы живем в эпоху великого исторического кризиса и перелома, что наступает новый период истории, что старый мир рушится и создается новый, неведомый еще мир. И каждый человек призван быть деятелем в этом процессе. От проявленной им духовной силы зависит будущее. Но такие эпохи всегда порождают большое количество страданий. Страдания же эти не бессмысленны и не бесцельны. Во что бы то ни стало нужно преодолеть упадочное, разлагающее настроение в русской эмиграции, особенно в молодежи. Эти упадочные настроения вырастают от ложного взгляда на испытания революции, от разочарования в старых способах борьбы против большевизма, от ошибочных идей, мешающих духовно пережить революцию. Борьба против упадочности и склонности к самоубийству есть прежде всего борьба против психологии безнадежности и отчаяния, борьба за духовный смысл жизни, который не может зависеть от преходящих внешних явлений.
Самоубийство есть психологическое явление и, чтобы понять его, нужно понять душевное состояние человека, который решил покончить с собой. Самоубийство совершается в особую, исключительную минуту жизни, когда черные волны заливают душу и теряется всякий луч надежды. Психология самоубийства есть прежде всего психология безнадежности. Безнадежность же есть страшное сужение сознания, угасание для него всего богатства Божьего мира, когда солнце не светит и звезд не видно, и замыкание жизни в одной темной точке, невозможность выйти из нее, выйти из себя в Божий мир. Когда есть надежда, можно перенести самые страшные испытания и мучения, потеря же надежды склоняет к самоубийству. Безнадежность означает невозможность представить себе другое состояние, она всегда есть дурная бесконечность муки и страдания, т. е. предвосхищение вечных адских мук, от которых человек думает освободиться лишением себя жизни. Душа целиком делается одержимой одним состоянием, одним помыслом, одним ужасом, которым окутывается вся жизнь, весь мир. Самоубийца закупорен в своем «я», в одной темной точке своего «я» и вместе с тем он творит не свою волю, он не понимает сатанинской метафизики самоубийства. Человек переживает муку несчастной любви. В одной точке сгущается тьма и вытесняет все многообразие жизни. Человек видит лишь бесконечность, вечность несчастной любви. Он ни в чем не видит никакого смысла, а потому и ничего не видит притягательного в своей жизни. Он перестает видеть смысл в жизни всего мира, все окрашивается для него в темный цвет безнадежной бессмыслицы, все осмысленное вытесняется. Вопрос о самоубийстве есть вопрос о том, что человек попадает в темные точки, из которых не может вырваться. Человек хочет лишить себя жизни, но он хочет лишить себя жизни именно потому, что он не может выйти из себя, что он погружен в себя. Выйти из себя он может только через убийство себя. Жизнь же, закупоренная в себе, замкнутая в самости, есть невыносимая мука. Самоубийца – всегда эгоцентрик, для него нет больше Бога, ни мира, ни других людей, а только он сам. Для него нет и тех людей, из‑за которых он решает покончить с собой. Преодолеть волю к самоубийству значит забыть о себе, преодолеть эгоцентризм, замкнутость в себе, подумать о других и другом, взглянуть на Божий мир, на звездное небо, на страдания других людей и на их радости. Победить волю к самоубийству значит перестать думать главным образом о себе и о своем. В жизни людей есть опасные темные точки, в которых сгущается бездонная тьма. Если человеку удастся вырваться из этой точки, вырваться из себя, то он спасен, и воля к самоубийству у него может пройти. Вот почему в иные минуты так важна, бывает помощь человеку, может спасти сказанное слово или даже взгляд, дающий почувствовать, что человек этот не один на белом свете, который стал для него черным. Психология самоубийства есть психология замыкания человека в самом себе, в своей собственной тьме. Можно даже сказать, что когда человек находится в эгоцентрическом состоянии, сосредоточен исключительно в себе, на своих страданиях и мучениях, когда теряется для него реальное отношение к другим и другому, он всегда во тьме, в темной яме, которая оказывается бездонной. Всякий свет предполагает для меня существование другого и других, прежде всего предполагается существование Солнца мира. Вот почему так страшно одиночество и покинутость для человека, который не видит и не чувствует Бога. Тогда развертывается бездонная черная яма. Внешнее одиночество и покинутость можно выдержать только с Богом. Один из путей в борьбе против упадочных настроений, влекущих к самоубийству, есть духовное единение людей, духовное содружество. Великая задача человеческой жизни состоит в том, чтобы человек научился выходить из себя, из поглощенности собой к другим людям и миру, к ценностям, имеющим сверхличное значение, а когда человек углубляется в себя, находит не себя только, но и то, что ближе, чем он, находит Бога.
Психология самоубийства не знает выхода из себя к другим, для нее все теряет ценность. В глубине же человека она видит не Бога, а темную пустоту. Вот почему психология самоубийства есть не духовное состояние.
Но было бы большим упрощением рассматривать самоубийство как явление всегда однородное. Существуют очень разнообразные типы самоубийств и самоубийцы вызывают разные оценки. Люди убивают себя от несчастной любви, от сильной страсти или от несчастной семейной жизни; убивают себя от потери вкуса к жизни, от бессилия; убивают от позора и потери чести; от потери состояния и нужды; убивают себя, чтобы избежать измены и предательства; убивают от безнадежной болезни и страха страданий, Покончил с собой человек, которого я очень уважал и любил и считал одним из лучших людей. Причиной его самоубийства была безнадежная болезнь. Я не сужу его. Когда человек убивает себя, потому что его ждет пытка и он боится совершить предательство, то это в сущности не есть даже самоубийство. Самоубийство может быть от совершенного бессилия и от избытка сил. Психология самоубийства так странна, что бывали случаи, когда люди убивали себя от страха заразиться холерой. В этом случае они хотели прекратить невыносимое чувство страха, которое страшнее смерти. Самоубийство может совершиться и по мотивам эстетическим, из желания умереть красиво, умереть молодым, вызвать к себе особую симпатию. Соблазн красоты самоубийства бывает силен в некоторые эпохи и он заразителен. Самоубийство Есенина, самого замечательного русского поэта после Блока, вызвало культ его личности. Он стал центром упадочных настроений, идеализирующих красоту самоубийства. Но как ни разнообразны мотивы самоубийства и душевная их окраска, оно всегда означает переживание отчаяния и потерю надежды. Исключение можно было бы сделать для римлян времен упадка, которые, как Петроний, насильственно прерывали свою жизнь с полным самообладанием, философски, не в состоянии аффекта. И в этом явлении есть подпочва глубокой безнадежности, да оно и совсем не характерно для нашего времени и для русской среды. Сильные страсти, порождающие непреодолимые конфликты жизни, нередко ведут к самоубийству – любовь к женщине, ревность, азартная игра, похоть власти, страсть к наживе, чувство мести и гнева. Этот тип самоубийства может быть выделен в особую категорию и в нем самоубийство не есть явление социальное. Меня сейчас наиболее интересует тот тип самоубийства, который можно назвать явлением социальной слабости и упадка.
Самоубийство по природе своей есть отрицание трех высших христианских добродетелей – веры, надежды и любви, Самоубийца есть человек, потерявший веру. Бог перестал для него быть реальной, благой силой, управляющей жизнью. Он есть также человек, потерявший надежду, впавший в грех уныния и отчаяния и это более всего. Наконец, он есть также человек, не имеющий любви, он думает о себе и не думает о других, о ближних. Правда, бывают случаи, когда человек решается уйти от жизни, чтобы не быть в тягость своим ближним. Это – особый случай самоубийства, не типический, не основанный на эгоизме и на ложном суждении о жизни, он вызывается безнадежной болезнью, совершенной немощью или потерей способности к труду. Некоторые уходили из жизни, чтобы дать место другим, даже своим соперникам. Во всяком случае вера, надежда и любовь побеждают настроения, склоняющие к самоубийству. Даже одна из этих христианских добродетелей может спасти человека от гибели. Самоубийца в преобладающих формах этого явления есть человек уже ни во что не верящий, ни на что не надеющийся и ничего не любящий. Даже самоубийство на эротической почве более свидетельствует о любви к себе, чем к другому человеку. И сама любовь к другому человеку в этом случае бывает грехом идолопоклонства. Человек не верит, не надеется, не любит в то темное мгновение своей жизни, когда он решается покончить с собой. Если ему удастся вырваться из темной точки, миновать ее, то в нем могут пробудиться и вера, и надежда, и любовь. Но он принял это темное мгновение за всю жизнь, за все бытие. В следующее мгновение надежда могла бы пробудиться, но он не дожил до этого следующего мгновения. В этом великая тайна и парадокс времени. В одно мгновение может вобраться целая вечность и пережитое в это мгновение как бы заполняет собой все бытие. До этого страшного мгновения у человека была надежда, и она вернулась бы в следующее мгновение, но он принял это мгновение за вечность и решил эту вечность уничтожить, погасить бытие. Человек, в сущности, никогда не хочет убить себя, да это и невозможно, ибо человек принадлежит вечности, он хочет уничтожить лишь мгновение, принятое им за вечность, в одной точке хочет уничтожить все бытие и за это посягательство на вечность он перед вечностью отвечает. Неудавшееся самоубийство иногда даже приводит к возрождению жизни, как выздоровление после тяжкой болезни. По видимости, самоубийство может производить впечатление силы. Нелегко покончить с собой, нужда безумная решимость. Но в действительности самоубийство не есть проявление силы человеческой личности, оно совершается нечеловеческой силой, которая за человека совершает это страшное и трудное дело. Самоубийца, все‑таки, есть человек одержимый. Он одержим объявшей его тьмой, и утерял свободу. Это типическое явление. Самоубийство есть также проявление малодушия, отказ проявить духовную силу и выдержать испытание, оно есть измена жизни и ее Творцу. Психология самоубийства есть психология обиды, обиды на жизнь, на других людей, на мир, на Бога. Но психология обиды есть рабья психология. Ей противоположна психология вины, которая есть психология свободного и ответственного существа. В сознании вины обнаруживается большая сила, чем в сознании обиды.
Означает ли самоубийство нелюбовь к жизни и ее благам? Поверхностно самоубийство может произвести впечатление потери всякого вкуса к земной жизни, окончательной отрешенности от нее. Но в действительности это не так. Самоубийство есть в большинстве случаев особого рода проявление непросветленной любви к земной жизни и ее благам. Самоубийца есть человек, который потерял всякую надежду, что блага жизни могут быть ему даны. Он ненавидит свою несчастную, бессмысленную жизнь, а не вообще земную жизнь, не вообще блага жизни. Он хотел бы более счастливой и осмысленной земной жизни, но отчаялся в ее возможности. Психология, которая приводит к самоубийству, есть менее всем психология отрешенности от благ земной жизни. Люди аскетического типа, напряженной духовной жизни, обращенные к иному миру, к вечности, никогда не кончают жизнь самоубийством. Нужна, наоборот большая обращенность к временному и земному, забвение о вечности и небе, чтобы образовалась психология самоубийства. Для психологии самоубийства именно временное стало вечным, вечное же исчезло, именно земная жизнь с ее благами есть единственная существующая жизнь, и никакой другой жизни нет. Психология самоубийства совсем не означает презрения к миру и к хорошей жизни в мире. Наоборот, она означает рабство у мира. Человек, духовно свободный от власти мира, никогда не мог бы испытать состояния отчаяния и безнадежности, которое ведет к самоубийству. Он знает, что подлинная радость дается не благами мира, а возрастанием в духовной жизни и близостью Бога, что подлинная жизнь есть врастание в вечность. Но человек, врастающий в вечность, никогда не пожелает покончить насильственно свою жизнь во времени. Свобода от мира дается возрастанием в духовной жизни. Когда человек кончает жизнь самоубийством, то его убивает мир, ставший для него слишком горьким, в то время как сладость мира он считал единственной настоящей и подлинной жизнью. Яд, который человек в порыве отчаяния принимает внутрь, пуля, которую он пускает себе в лоб, река, в которую он бросается, все это есть уничтожающий его «мир», во власти которого он находится. Когда человек глубоко и жизненно проникается той мыслью, что жизнь в этом мире, в этом времени не есть единственная и окончательная жизнь, что есть иная, высшая, вечная жизнь, ему никогда не придет в голову мысль покончить с собой. Тогда является перед человеком бесконечная задача врастания в вечность, духовном восхождения, освобождения от власти дурной, несчастной, бессмысленной жизни мира. Победить волю к самоубийству значит победить власть «мира» над своей судьбой. Вот в чем основной парадокс самоубийства. Самоубийца есть менее всем человек, способный к жертве своей жизнью, он слишком привязан к ней и погружен в ее мрак. Самоубийство есть погруженность человека в себя и рабство человека у мира. Самоубийство эгоистично и оно противоположно жертве своей жизнью во имя других, во имя какой‑нибудь идеи, во имя своей веры. Если бы человек, решивший покончить с собой, был еще способен на жертву, то он остался бы жить, он совершил бы жертву, приняв тяготу жизни. Если бы самоубийца в роковую минуту способен был думать о других и совершить для других жертву, рука бы его дрогнула и жизнь его была бы спасена. Власть мира над самоубийцей выражается не в том, что он способен думать о мире, отрешившись от себя, забыв о себе, а в том, что он весь поглощен страданиями, которые ему мир приносит и отчаянием оттого, что мир никогда не принесет желанных благ. Это значит, что в отношении к миру он ориентирован эгоцентрически. Но эгоцентрическая ориентировка всегда и есть источник рабства. Потеря вкуса к миру и к жизни, когда все становится невыносимо скучным, есть самоубийственное настроение, но оно не значит, что человек свободен от власти мира. Человек хотел бы, чтобы мир имел для него вкус, возбуждал его, привлекал его, и мучается, что это прошло и уже невозможно. Тут прикованность к миру, хотя в отрицательной форме, остается полностью. История, правда, знает самоубийства по обязанности, рабов, когда умер их господин, жен, когда умер их муж. Эти самоубийства, конечно, не эгоцентричны, но они и совсем не характерны для современной, наиболее типической психологии самоубийства.
Самоубийство есть не только насилие над жизнью, но есть также насилие над смертью. В самоубийстве нет вольного принятия смерти в час, ниспосылаемый свыше. Самоубийца считает себя единственным хозяином своей жизни и своей смерти, он не хочет знать Того, Кто создал жизнь и от Кого зависит смерть. Вольное принятие смерти есть вместе с тем принятие креста жизни. Смерть и есть последний крест жизни. Самоубийца в большинстве случаев думает, что его крест тяжелее, чем крест других. Но никто не может решить, чей крест тяжелее. Тут нет никакого объективного критерия для сравнения. У каждого человека свой особый крест, иной, чем у другого человека. Самоубийство есть не только ложное и греховное отношение к жизни, но также ложное и греховное отношение к смерти. Смерть есть великая тайна, такая же глубокая тайна, как и рождение. И вот самоубийство есть неуважение к тайне смерти, отсутствие религиозного благоговения, которое она должна к себе вызывать. В сущности человек всю жизнь должен готовиться к смерти и значительность и качественные достижения его жизни определяются тем, готов ли он к смерти. Готовиться к смерти совсем не значит умирать, ослаблять и уничтожать свою жизнь. наоборот, это значит повышать свою жизнь, внедрять ее в вечность. Но в действительности люди очень мало бывают, готовы к смерти, они часто недостойны смерти. Христианское отношение к смерти очень сложное и, но видимости, двойственное. Жизнь есть величайшее благо, дарованное Творцом, Смерть же есть величайшее и последнее зло. Но смерть есть не только зло. Вольное принятие смерти, вольная жертва жизнью есть добро и благо. Христос смертью смерть попрал. Смерть имеет и искупляющее значение. Представить себе нашу грешную и ограниченную жизнь бесконечной есть кошмар. Через смерть мы идем к воскресению для новой жизни. Самоубийство прямо противоположно Кресту Христову, Голгофе, но есть отказ от креста, измена Христу. Поэтому оно глубоко противоположно христианству. Образ самоубийцы противоположен образу Распятого за правду. И психология самоубийства совсем не есть психология искупительной жертвы. Искупительная жертва основана на свободе. Самоубийца же не знает свободы, он не победил мир, а побежден миром. Христос победил мир и уготовал путь к всеобщей победе над смертью и воскресению. Вольная крестная жертва есть путь к вечной жизни. Самоубийство же есть путь к вечной смерти, оно отказывается от воскресения.
Гениальная диалектика о самоубийстве раскрыта Достоевским в «Бесах» в образе Кириллова. Кириллов одержим идеей человекобожества.
Человек должен стать Богом. Но, чтобы стать Богом, человек должен победить страх смерти, должен сознательно и свободно убить себя. Кириллов решает убить себя совсем не потому, что он субъективно переживает состояние безнадежности и отчаяния, его самоубийство должно быть метафизическим экспериментом, в котором человек убедится, а своей силе, в том, что он один хозяин жизни и смерти. Он не знает иного хозяина, Бога, и потому он сам становится богом. Бог существовал для человека только потому, что у него был страх. Идея самоубийства у Кириллова носит апокалипсический характер, через него побеждается время. Время остановится и будет вечность. Кириллов – человек «идеи», он не руководствуется никакими низменными побуждениями, он не знает страха. И вот образ Кириллова, по– своему аскета, человека чистого, во всем противоположен образу Христа. Человекобог и должен во всем быть противоположен Богочеловеку. Последнее слово метафизического самоубийства Кириллова есть смерть. Последнее слово крестной жертвы Христа есть жизнь, воскресение. Кириллов делает бессильный метафизический жест, он бессилен своей смертью смерть попрать, он бессилен победить время и перейти в вечность. Самоубийство Кириллова уродливо, как и всякое самоубийство, в нем нет луча света. А он – самый благородный и возвышенный из самоубийц. Распятие же Христа, которое было величайшим злодеянием тех, которые Его распяли, излучает свет, несет миру спасение и воскресение. Достоевский обнаруживает через метафизический эксперимент Кириллова, что самоубийство, по природе своей, атеистично, есть отрицание Бога, есть постановка себя на место Бога. Конечно, большинство людей, кончающих жизнь самоубийством, не имеет метафизических мыслей Кириллова, они находятся в состоянии аффекта и не размышляют. Но они, не сознавая этого, ставят себя на место Бога, ибо считают лишь себя единственным хозяином жизни и смерти, т. е. на практике утверждают атеизм. Обожествление человека, человекобожество может предельно проявить себя лишь в насильственной смерти. Тут мы подходим к вопросу об отношении между насильственной смертью и убийством. Есть ли самоубийство убийство?
Если смерть может быть не только злом, но и путем к воскресению, то убийство есть чистое зло и самое страшное зло. Самоубийство есть убийство живого существа, Божьего творения. Те, которые не видят в этом убийства, основываются на том, что убийство есть уничтожение чужой, не принадлежащей мне жизни. Моя жизнь принадлежит мне и потому я могу уничтожить ее, не совершая убийства. Так же как я не могу совершить кражи относительно принадлежащей мне вещи. Но это ложное и поверхностное рассуждение. Моя жизнь есть не только моя, на которую я имею абсолютное право собственности, но и чужая жизнь, она есть, прежде всего жизнь, принадлежащая Богу, который единственный имеет на нее абсолютное право собственности, она также есть жизнь моих близких, других людей, моего народа, общества, наконец, всего мира, который нуждается во мне. Принцип абсолютного права частной собственности сеть вообще ложный принцип. Римское понимание права собственности есть не христианское понимание. Классическая формула римского понимания права частной собственности гласит: dominium est jus utendi, fruendi, abutendi re sua quatenus juris ratio patitur, т. е. значит, собственность есть право не только пользоваться вещью во благо, но и злоупотреблять ею, делать с ней что хочешь. Но права абсолютной собственности не существует на вещи, на неодушевленные предметы, принадлежащие человеку. От рабства и крепостного права должны быть освобождены не только люди, но и вещи. Пусть с точки зрения действующего права я имею право ломать и уничтожать принадлежащие мне вещи и меня не привлекут за это к ответственности, не посадят в тюрьму. Духовно, морально, религиозно я не имею никакого права делать, что мне заблагорассудится с принадлежащими мне вещами, обращаться с ними дурно, уничтожать их и истреблять. Я не имею абсолютного права на вещи, я должен употреблять их на благо, но не злоупотреблять ими, должен обращаться с ними по‑божески. Да и если я в слишком резкой форме начну уничтожать принадлежащие мне вещи, ломать мою мебель, бить посуду, стекла моего дома, рвать на части собственную одежду, то меня, вероятно, подвергнут медицинскому осмотру и посадят в лечебницу. Мое право собственности на вещи относительное, а не абсолютное, вещи также принадлежат Богу и моим ближним и всему миру, неотрывную часть которого они составляют. Если даже с собственным карандашом, книгой, одеждой я не могу поступать, как мне заблагорассудится, то тем более не могу этого делать с собственным телом, с собственной жизнью, более драгоценной, чем вещи. Утверждение абсолютного права частной собственности есть ложный и не христианский индивидуализм.
Человек должен любить себя как Божие творение, и слишком большая нелюбовь и небрежение к себе, обычно сопровождающиеся корчами самолюбия (самолюбие не есть любовь к себе в должном смысле слова, наоборот) есть греховное состояние, отрицание Божьего творения, Божьего образа и подобия, Божьей идеи. Сказано: «люби ближнего, как самого себя». А это предполагает и любовь к себе, которая совсем не есть эгоизм. Без такой любви к себе невозможна была бы жертва, невозможна была бы любовь к ближнему. И вот в самоубийстве присутствует эгоизм и эгоцентризм, самопогруженность и самопоглощенность и отсутствует нормальная любовь к себе, как к принадлежащему Богу существу. Когда человек делается себе ненавистен и противен, когда он хочет истребить себя, то этого он никому не прощает, ему делаются, ненавистны и противны и другие люди и весь мир Божий. Психологический парадокс заключается в том, что ненависть и отвращение к себе есть вместе с тем эгоцентризм, поглощенность собой, бессилие выйти из себя, забыть себя и подумать о других. Люди, ненавидящие себя и желающие себя истребить, суть люди с ободранной кожей, которые вымещают на других то, что они самим себе не нравятся. Люди нередко хотят покончить с собой назло другим. Когда болезненное уродство в человеке вызывает в нем отвращение к самому себе и чувство своей слабости в жизни и униженного своем состояния, то человек часто вымещает это на других и злобствует относительно других. Духовно должно относиться к самому себе не только, как к самому себе и своей собственности, но и как к существу, принадлежащему Богу, миру и другим людям. С этим связано чувство призвания. Существуют обязанности не только по отношению к Богу и другим людям, но и к самому себе. К себе нужно по‑хорошему, а не по‑дурному относиться, не истреблять себя, не обращаться дурно с собственной душой и телом. Самоубийство есть предельное выражение дурного обращения с собой, нарушение долга по отношению к самому себе. Самоубийство есть несомненное убийство существа, принадлежащего Богу, людям и миру. И притом это есть убийство не только тела, но и души, т. е. в некотором смысле убийство еще большее, чем всякое другое. Когда человек истребляет свою душу развратом, пьянством, излишеством, небрежением, непросветленными страстями, злобой, мстительностью и т. д., то он совершает частичное самоубийство и убийство, он обращается недозволительно с тем, что не только ему принадлежит и что предназначено для высших целей. Точка зрения, которая считает, что человек – самодержавный властелин собственной души и тела, есть точка зрения атеистическая, безбожная. Человек не только не имеет права истреблять свою душу и тело, но он ответит и за небрежение в отношении к самому себе. Калеча и уничтожая себя, человек калечит и уничтожает мир, космическое целое, других людей, ибо все со всем связано и все от всего зависит. Убивая себя, человек наносит рану миру как целому, мешает осуществлению Царства Божьего. Человек есть более высокое по своему положению и по своему назначению существо, чем он это сам о себе думает в своем эгоизме, самопоглощенности и звериности. Эгоцентрик всегда обречен, думать о себе ниже, чем должен думать о себе человек. И самоубийца, поглощенный лишь собой, не знает значения, которое он имеет для человечества и для мира, не понимает, что отравляет он не только себя, но и Божий мир, что затрудняет он осуществление Божьего замысла о мире. Не сам себя создал человек, его создал Бог для вечной жизни и создал его так, что жизнь его связана с жизнью всего Божьего творения. Смерть же вошла в мир с первородным грехом. Св. Фома Аквинат говорит, что самоубийство есть грех относительно самого себя, относительно общества и относительно Бога. Самоубийца совершает великий грех относительно собственной души, лишая себя возможности покаяния, духовного возрождения и подготовления к страшной тайне смерти. Мужество, которое иногда проявляет самоубийца, есть кажущееся и иллюзорное мужество. За ним скрыто малодушие и страх перед жизнью. Самоубийство есть абсолютная изоляция себя от бытия, от Божьего мира, от человечества, Но такая изоляция невозможна по устройству бытия. Все и все связано со всеми и со всем. И все человечество и весь мир есть организм. Только христианское сознание раскрывает правду о самоубийстве и устанавливает правильное к нему отношение. Социологическая точка зрения, которая, основываясь на статистике, хочет установить социальную закономерность и необходимость самоубийства, в корне ложна, она видит лишь внешнюю сторону явления, лишь результат незримых внутренних процессов и не проникает в глубину жизни.
В мире дохристианском, языческом было иное отношение к самоубийству. Самоубийство среди дикарей было более распространено, чем это принято думать. Римляне были или равнодушны к вопросу о самоубийстве или одобряли его. Для Сенеки, представителя стоической философии, который считается вершиной римского нравственном сознания и близким к христианству, самоубийство было возможно. Римляне идеализировали и облагораживали самоубийство. В период империи самоубийство стало проявлением утонченности. Но это значило, что положительный смысл жизни был утерян или не найден. И эпикурейцы, и стоики боролись со страданиями жизни и пытались выработать внутреннюю самозащиту, бесстрастие. Но стоицизм, очень по‑своему высокая естественная мораль, боится страданий и прячется от них. Возможность самоубийства есть одно из утешений, если все другие утешения исчерпаны. Утонченные души, страдающие от грубости жизни, утерявшие веру в объективный смысл жизни, иногда склонны идеализировать самоубийство как явление благородное, как благородный уход из мира. Но это не религиозное и не христианское состояние души. Уже в ХIХ веке пессимизм Шопенгауэра призывает к мировому самоубийству, к угашению мировой воли к жизни, порождающей муку и страдание. Он зовет к небытию, к нирване. Но тут индивидуальный вопрос о самоубийстве притупляется и теряет остроту. Шопенгауэр, который был близок к буддизму, тоже боится страданий и хочет от них бежать. Только христианство утверждает бесстрашие перед страданиями и смысл страдания, значение Креста. Поэтому христианство есть самая мужественная религия. Идеология же самоубийства утверждает, что страдание страшнее убийства. Мы говорили уже, что самоубийство есть форма убийства. И с той же точки зрения можно оправдать убийство человека из сострадания, чтобы избавить его от невыносимых страданий, от безнадежной болезни, от позора и пр. Но христианская церковь твердо стоит на том, что убийство всегда страшнее страдания, что лучше страдать, чем убивать из сострадания. Утверждали даже, что Иуда был более виноват, убив себя, чем предав Христа. Японское харакири есть благородная, рыцарская форма самоубийства, но она невозможна для христианина. Христианство глубоко отличается и от стоицизма и от буддизма и от всех учений религиозных и философских в вопросе о смысле страданий. Только христианство и учит тому, что страдание выносимо и имеет смысл. Страдание было бы невыносимо, если бы оно было бессмысленно. Но смысл делает страдание выносимым. Самоубийство считает страдание невыносимым и бессмысленным. Но смысл страдания в том, что оно есть несение креста, к чему призвал нас Спаситель мира. Возьми крест свой и иди за Мной. Именно сознание несения креста жизни и делает страдание выносимым. Бунт против страдания делает страдание двойным, человек страдает не только от ниспосылаемых ему испытаний, но и от своего бунта против страдания. Крест же и есть единственная защита против самоубийства и единственная сила, которая может быть ему противопоставлена. Всякий человек, склоняющийся к самоубийству, должен осенить себя крестным знамением, принять крест внутрь себя. Именно тайна креста и есть осуждение самоубийства.
Человек в жизненном пути своем переживает душевные кризисы, иногда очень болезненно и мучительно. Душевный кризис может представляться человеку настоящей агонией. Такие бурные душевные кризисы знает молодость. Ими, например, сопровождается половое созревание человека, бурный прилив сил, не находящих исхода. Молодость знает свою меланхолию, меланхолию от избытка неизжитых сил, от неуверенности, что удастся их изжить, Молодость более склонна к меланхолии, чем это принято думать, но это не есть меланхолия от бессилия и изжитости, как меланхолия старости. Самоубийство в молодости часто бывает результатом бурных душевных кризисов, в которых силы человека не находят исхода. Необходимо очень внимательное и бережное отношение к душевным кризисам. Потеря детской веры, кризис миросозерцания может породить очень бурные душевные процессы и вызвать меланхолию. Также роковым может быть душевный кризис, вызванный неудачной любовью. Особенно тяжки и опасны по своим последствиям бывают душевные кризисы у натур эмоциональных, которыми аффект владеет безраздельно. Кризисы проходят легче у натур, у которых эмоциональный элемент сильно уравновешен элементом интеллектуальным и волевым. Весь вопрос в том, насколько легко вся душевная жизнь человека определяется одним каким‑либо аффектом, насколько легко человек делается одержимым одним каким‑либо состоянием, когда темные волны затопляют всю душу. Самоубийство делается более легким в момент душевных кризисов и тут вся задача в том, чтобы миновать опасные точки сгущения тьмы. Есть также немалое количество случаев самоубийства, которые являются результатом, если неполном, то частичного сумасшествия. Меланхолия есть форма психического расстройства. Современная психопатология учит, что человеческая душа больна и что в каждом человеке есть потенциальный сумасшедший, но сдерживаемый в границах. Человеку нужно бороться за свое душевное здоровье и равновесие. Нужно сказать, что в момент самоубийства человек в большинстве случаев находится в состоянии психического расстройства, психика его опрокинута и нарушено психическое равновесие, функция различения реальности поражается, иерархия ценностей извращена и какая‑нибудь одна, совсем не главная ценность делается единственной и абсолютной, сознание замутнено и память о слишком многом и важном парализована и удерживает лишь idee fixe самоубийцы.
Самоубийство есть, прежде всего, страшное сужение сознания, бессознательное заливает поле сознания. В бессознательном же человеке живет не только мощный инстинкт жизни, но и инстинкт смерти. Фрейд даже делает из этого целую метафизику. Ошибочно думать, что человек стремится только к жизни и самосохранению, он стремится также к смерти и самоистреблению. Душевный кризис, в котором какой‑либо аффект целиком овладевает человеком, легко отдает человека во власть бессознательного инстинкта смерти и самоистребления. Еще древние говорили, что Гадес и Дионис – один и тот же бог. Оргийная, дионистическая стихия избыточной жизни легко переходит в упоение гибелью и смертью. Это гениально выражено Пушкиным в «Пире во время чумы»:
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья.
Сила жизни и сила смерти в какой‑то точке не только соприкасаются, но и отожествляются. Потому так сближается между собой любовь и смерть. Любовь Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты неразрывно связана со смертью. И такова именно любовь юности, Человек способен осознать притяжение смерти как величайшую сладость, как разрешение всех мучительных противоречий жизни, как реванш, взятый над жизнью, и как возмездие жизни. Соотношения между сознанием и бессознательным очень сложны в человеке. Это достаточно выяснено современной психопатологией и психологией, Фрейдом, Адлером, Юнгом. Душевные и нервные болезни порождены конфликтом между сознанием и бессознательным, являются результатом утеснения цензурой сознания каких‑либо сфер бессознательного. В момент кризиса души установившееся соотношение между сознанием и бессознательным нарушается и оправдывается, бессознательное вступает в свои права. Традиционное для данного человека сознание – социальное, нравственное и даже религиозное – оказывается бессильным перед напором бессознательного: непосредственные инстинкты жизни, сила страстей, любви, мести, воли к преобладанию, сила страдания заявляют о своих правах и опрокидывают запрет сознания. Душевный кризис, порожденный столкновением бессознательного с сознанием, мгновенно ведет к расстройству психических функций, он опрокидывает неустойчивое психическое равновесие, которое покупалось полным подавлением бессознательного. Инстинкт истребления и смерти, идущий от темного бессознательного в момент бурных душевных кризисов, не может быть побежден установившимися, традиционными формами сознания, которые оказываются слишком слабым, бессильным средством. Не сила сознания, которая часто калечила жизнь, а сила сверхсознания, благодатная духовная сила может спасти от темных инстинктов бессознательного. Спасительно в этих случаях не традиционное религиозное сознание со своими законами и запретами, а сама благодатная сила Божья. Бессознательный инстинкт смерти, который есть одно из проявлений оргийного инстинкта жизни, непобедим слишком трезвым, рассудочным, размеренным сознанием. Он победим лишь благодатной силою Креста и воскресения, к которому Крест ведет. Психологию самоубийства можно определить как угашение сознания, порождающего мучения, и возврат в лоно бессознательного, как восстание против рождения из материнского лона жизни, породившего сознание. Но кроме бессознательного или подсознательного есть еще и сверхсознание. Кроме притяжения вниз есть еще притяжение вверх. Инстинкт смерти есть инстинкт бессознательной жизни. Достоевский в «Записках из подполья» говорит, что страдание – единственная причина сознания. Освобождение от сознания представляется освобождением от страдания. Также ищут освобождения от несчастного, мучительного сознания в пьянстве и наркотиках. Но сознание есть путь к сверхсознанию, к высшей духовной жизни, к жизни в Боге через крест и страдание. Весь вопрос в том, чтобы человек нашел в себе силы вынести сознание с сопровождающим его страданием. Когда человек прибегает к морфину, кокаину, опиуму, он не выносит мучительности сознания и идет от сознания вниз, а не вверх. Это есть частичное самоубийство. В душевных кризисах этот вопрос особенно обостряется и низшая бездна бессознательного притягивает человека. Притягивающая сладость смерти, как соблазн, подстерегающий человека в иные катастрофические минуты, есть сладость угашения мучительного сознания, есть восторг соединения с безликим подсознательным. Это есть отказ от личности, слишком дорогостоящей, и соединение с безликой стихией. Есть особый соблазн гибели, упоение гибелью как трагически прекрасной. Это – соблазн, глубоко противоположный религии Креста и Воскресения, отказ не только от личного бытия, но и от свободы, противление Божией воле, чтобы человек через сознание восходил к высшей, сверхсознательной жизни, через Крест к Воскресению. Бессознательный инстинкт смерти должен быть претворен в вольное принятие Креста жизни, смысла страдания, т. е. из инстинкта реакционного, обращенного назад, претворен в инстинкт творческий, обращенный вперед. Человек есть больное существо, в его бессознательном есть страшная тьма. Это открывает современная психология. Этому учит и христианство, когда говорит о первородном грехе. Воля к самоубийству, к самоистреблению свидетельствует о болезненном конфликте бессознательного и сознания. Исцеление же приходит из высшей сферы, стоящей и над бессознательным и над обыденным сознанием.
Самоубийство как явление индивидуальное побеждается христианской верой, надеждой и любовью. Инстинкт смерти и самоистребления, вера, надежда и любовь претворяют в несение Креста жизни, Все убеждает нас в том, что личность может достойно существовать и охранять себя от жажды самоистребления, если она имеет сверхличное содержание, если она живет не только для себя и во имя себя. Нельзя жить только для поддержания жизни и для наслаждения жизнью. Это есть зоологическое, а не человеческое существование. Жизнь приносит неисчислимое количество страданий и разочаровывает в возможности осуществить личные цели жизни и использовать жизнь для личного удовлетворения. Отрицание сверхличного содержания жизни оказывается отрицанием личности. Личность существует только в том случае, если существует сверхличное, иначе она растворяется в том, что ниже ее. Нельзя искать только самого себя и стремиться только к себе, искать можно только того, что выше меня самого, и к нему стремиться. Жизнь делается совершенно плоской с того момента, как я самого себя поставил выше всего, на вершине бытия. Тогда действительно можно покончить с собой от тоски и уныния. Нужно, чтобы было куда восходить, чтобы были горы, тогда только жизнь приобретает смысл. Когда человек сознает в себе сверхличное содержание жизни, он сознает свою принадлежность к великому целому и самое маленькое в жизни связывает с великим. Какой бы маленькой не казалась жизнь человека, он может сознавать свою принадлежность к Церкви, к России, к великим сверхличным организмам, к великим ценностям, осуществляемым в истории. В эпохи исторических процессов и переломов, когда целые социальные слои отрываются от исторических тел, в которых они родились и жили, самоубийство может сделаться социальным явлением. И вот тогда‑то особенно важно сознание сверхличных содержаний и ценностей жизни. Это предполагает пробуждение духовной жизни и особенную ее напряженность. В спокойные, устойчивые времена люди естественно живут в быту, связаны с организмами сверхличными, с родовыми семьями, сословиями, с традиционными национальными культурами. В такие времена религия бывает нередко исключительно бытовой, наследственной, традиционной и не предполагает горения духа, личных духовных усилий; патриотизм тоже бывает бытовым, традиционным, определяющимся внешним положением человека. Не такова для русских эпоха, в которую мы живем. Все исторические тела разлагаются, быт потерял всякую устойчивость и все пришло в бурное движение. Жизнь требует огромных духовных усилий. Нужна духовная сила и напряженность, чтобы верить, что жива Россия и русский народ, и что сам принадлежишь к нему, хотя бы ты был выброшен в Африку или Австралию. Нужно горение духа, чтобы верить, что Православная Церковь, гонимая и утесняемая, ослабленная в своей, организации, переживающая смуты и распри, в действительности возрождается и просветляется, становится духовно выше Церкви, которая была торжествующей, государственной, внешне блестящей, в парче и золоте. Нужны личные духовные усилия, чтобы устоять в буре и не быть снесенным ветром. Бывают внешне благополучные эпохи, когда во времени есть устойчивость и всякий естественно занимает в нем прочное положение. Но бывают эпохи катастрофические, когда во времени нет устойчивости и прочности, когда не на что опереться, когда почва колеблется под ногами. И вот в такие эпохи, более значительные, чем эпохи спокойные, прочность и крепость человека определяются лишь его духовной вкорененностью в вечности. Человек сознает, что он принадлежит, не только времени, но и вечности, не только миру, но и Богу. В такие эпохи раскрытие в себе духовной жизни есть вопрос жизни или смерти, вопрос спасения от гибели. Удержатся лишь те, которые раскроют в себе большую духовность. Сама вера в такие эпохи предполагает большие усилия личного духа и потому качественно выше веры бытовой и наследственной, Безумно в такие эпохи думать только о себе и о своих личных целях. Это есть путь самоистребления. Каждый несет страшную ответственность, он или утверждает жизнь, возрождение, надежду или смерть, разложение, отчаяние. Каждый русский сейчас в безмерно большей степени несет в себе Россию, чем нес тогда, когда он мирно жил в России. Тогда Россия давалась ему даром, теперь же она приобретается горением духа. Также каждый православный теперь в безмерно большей степени отвечает за Церковь и несет в себе судьбу Церкви, чем когда он мирно жил в Церкви, охраняемой государством и традиционным бытом. К каждому предъявляются сейчас безмерно большие духовные требования, чем раньше. Нельзя уже быть тепло‑прохладным, бытовым христианином, полу‑христианином, полу‑язычником, нужно выбирать, проявлять жертвоспособность, быть духовно горячим. В мире происходит огромная борьба сил христианских и антихристианских и никто не может уклониться от участия в ней. Мы живем в очень трудное, но гораздо более интересное время, чем эпохи предшествующие. Многое старое изжито и безвозвратно прошло, старая жизнь не вернется никогда и нельзя этого желать. Но пробуждается новый интерес к мировой и человеческой жизни, интерес с высоты и из глубины, из Бога и через Бога. Мы получаем возможность из вечности смотреть на время и вечность во времени утверждать. Теперь не время опускаться, разлагаться, предаваться отчаянию, теперь время подыматься, подтягиваться, время верить и надеяться, время вспоминать, что человек есть духовное существо, предназначенное для вечности.
Мы не должны сурово и беспощадно судить самоубийцу. Да и не нам принадлежит суд. Но нельзя идеализировать самоубийство. Не самоубийцы, а самоубийство должно быть осуждено, как грех, как духовное падение и слабость. Самоубийство есть измена Кресту. В то мгновение, когда человек убивает себя, он забывает о Христе, и, если бы он вспомнил, то рука бы его дрогнула, и он не нанес бы себе смертельного удара. Он сохранил бы свою жизнь, потому что решил бы ею пожертвовать. Он хотел убить себя, потому что не хотел пожертвовать своей жизнью, потому что думал лишь о себе и утверждал лишь себя. Самоотречение и самопожертвование во имя сверхличной святыни и есть явление прямо противоположное самоубийству. Жить кажется человеку труднее, чем умереть, и он выбирает более легкое. В жизни все минуты трудны и требуют усилий, самоубийство же предполагает лишь одну трудную минуту. Но иллюзия и самообман самоубийства основаны на том, что оно представляется окончательным освобождением от времени, несущего страдания и муки. Самоубийца верит, что страданий больше не будет. И это покупается тем, что самоубийство есть отказ от бессмертия. Но минута, в которую совершается самоубийство, есть последняя минута лишь нашего времени, за ней следует целая вечность и суд. И если бы человек, решивший убить себя, почувствовал себя стоящим перед вечностью, перед судом вечности, то решимость его поколебалась бы. Самоубийца надеется уничтожить не только время, но и вечность. И время и вечность связаны для него с сознанием, которое он хочет окончательно угасить. Но онтологически уничтожить себя невозможно, можно только перевести себя в другое состояние. Самоубийца не может дольше вынести муки пребывания в себе, в своей тьме, в своей замкнутости. Он надеется вырваться из себя через убийство себя. Но в действительности, он еще глубже входит в себя, в дурную бесконечность мучения, которое продолжается после акта самоубийства. Человек лишь временно находится во времени, он есть существо, предназначенное для вечности, и в нем есть вечное, неистребимое начало, которое не может быть уничтожено убийством и самоубийством. Можно угасить наше сознание и вернуться в лоно бессознательного. Но это угасание сознания не вечное, а временное. Сознание вновь пробудится и каким тяжким может показаться это пробуждение. Ученик Фрейда Ранк написал очень интересную книгу о «травме рождения». Он доказывает, что человек рождается в ужасе и страхе. он задыхается, отрываясь от материнского лона, и последствия этой травмы остаются на всю жизнь, она является источником и мифотворчества человека и болезней его. Ранк думает, что у человека остается желание вернуться в материнское лоно. Жизнь в мире страшит человека, первичный страх рождения не проходит. Я говорил уже о бессознательном инстинкте смерти в человеке. Но ужас в том, что возврат самоубийцы в лоно бессознательного может сопровождаться еще большим страхом, чем рождение. Расчет самоубийцы на избавление основан на грубых материалистических предпосылках, и мы сталкиваемся тут с основным вопросом о смысле жизни.
Инстинкт самоубийства есть регрессивный инстинкт, он отрицает положительное нарастание смысла в мировой жизни. Как мы должны относиться к сознанию, к личности, к свободе? Являются ли они ценностями, от которых ни в коем случае нельзя отказаться? Самоубийца подвергает сомнению ценность сознания, личности, свободы. Жизнь бессознательная, безличная, темно‑утробная, определяющая притяжением смерти и небытия, лучше жизни сознательной, личной, свободной, ибо сознание порождает страдание, ибо личность выковывается в страдании, ибо свобода духовно трудна и трагична. Человек изнемогает и отрекается от великой задачи до конца быть личностью, быть свободным существом, возрастать в своем сознании к сверхсознанию. Он от страха страданий готов вернуться назад. Нужно помнить, что сознание наше есть некоторая середина бытия, а не вершина, оно есть лишь путь к вершине, к сверхсознанию, к обожению человеческой природы. И стихия бессознательного, которая всегда шире и глубже сознания, должна через работу сознания, понимающего свои границы, перейти в сферу сверхсознательного, Божественного бытия. Это не значит, конечно, что все бессознательное может и должно целиком перейти в сознательное. Всегда останется бессознательное лоно жизни. Но великая задача движения вверх не допускает отречения от бытия личности сознательной и свободной. Нужно до конца выдержать испытание, остаться свободной и сознательной личностью, не допускать уничтожения ее стихией досознательного, зовущего назад. В каждом человеке есть человек архаический, унаследованный от древнего, первобытного человечества, есть дитя и есть сумасшедший. Возникновение сознания как пути к сверхсознанию, к личности, как носителю сверхличных ценностей, духовной свободы, высшего достоинства человека и знака его богоподобия, есть неустанная борьба с регрессивным движением возврата человека к первобытно‑архаическому инфантильному состоянию, борьба против разложения сознания в безумии, которое совсем не означает возникновения сверхсознания, как иногда думают. Быть человеком, быть личностью, быть духовно свободным, не допускать разложения своего сознания от страха противоречий и страданий жизни, есть героическая задача, есть осуществление в себе образа и подобия Божия. Самоубийство есть отступничество от этой задачи, отказ быть человеком, возврат к дочеловеческому состоянию. Жизнь есть восхождение, самоубийство есть опускание, ниспадание. Великая иллюзия и обман самоубийства есть упование, что самоубийство есть освобождение, освобождение от муки жизни, от бессмыслицы жизни. В действительности самоубийство и есть прежде всего и больше всего потеря свободы, которая всегда зовет к восхождению, к победе над миром. И в людях, склонных к самоубийству, нужно прежде всего пробудить достоинство свободных существ, детей Божьих, призванных к высшей жизни. Самоубийца не только сам отказывается до конца быть человеком, но и отравляет окружающую атмосферу ядом небытия. Быть человеком и есть великая задача, поставленная перед нами Творцом. Быть человеком значит быть личностью, быть духовно свободным, возрастать в своем сознании, быть творцом. И величайшая тайна жизни заключается в том, что все в человеке должно быть преодолено высшим состоянием и предполагает высшее. Человек становится человеком, преодолевая себя, личность предполагает существование сверхличных ценностей, истины, добра, красоты и возрастание к сверхличному бытию, сознание предполагает существование сверхсознания, душа живет и движется духом и духовной жизнью. Человек существует потому, что есть Бог и что он может к Богу двигаться. Но преодоление всякой ограниченности, ограниченности сознания, ограниченности личности, ограниченности всего человеческого не может быть достигнуто движением вниз и назад, оно достигается лишь движением вверх и вперед. Вопрос о самоубийстве есть вопрос о религиозном смысле жизни. Самоубийство его отрицает. Беспомощны, наивны и безумны те социологи‑позитивисты, которые думают, что общество и общественные цели могут заменить Бога и божественные цели жизни и дать человеческой личности смысл жизни. Мысль об обществе и об общественном долге сама по себе никогда и никого не может остановить от самоубийства. Что может значить отвлеченная идея для человека, для которого померкло все в мире? Только память о Боге как о величайшей реальности, от которой некуда уйти, как об источнике жизни и источнике смысла, может остановить от самоубийства. От общества можно уйти в смерть, в небытие и общество бессильно над вечной судьбой человека. От Бога же и через смерть уйти нельзя и некуда, нельзя избежать Божьего суда и Божьего определения вечных судеб человека. Само отношение человеческой личности к обществу получает смысл через отношение ее к Богу. Только Бог дает смысл жизни. И борьба против самоубийства, против самоубийственных настроений есть борьба за религиозный смысл жизни, борьба за образ и подобие Божие в человеке.
Париж: YMCA Press, 1931. (Клепинина, № 27)
Христианский мир мало знает Православие. Знают только внешние и по преимуществу отрицательные стороны Православной Церкви, но не внутренние, духовные сокровища. Православие было замкнуто, лишено духа прозелетизма и не раскрывало себя миру. Долгое время Православие не имело того мирового значения, той актуальной роли в истории, какие имели Католичество и Протестантизм. Оно оставалось в стороне от страстной религиозной борьбы ряда столетий, столетия жило под охраной больших империй (Византии и России) и хранило вечную истину от разрушительных процессов мировой истории. Для религиозного типа Православия характерно то, что оно не было достаточно актуализировано и выявлено во вне, не было воинственно, но именно потому небесная истина христианского откровения наименее в нем исказилась. Православие и есть форма христианства наименее искаженная в существе своем человеческой историей. В Православной Церкви были моменты исторического греха, главным образом в связи с внешней зависимостью от государства, но само церковное учение, самый внутренний духовный путь не подверглись искажению.
Православная Церковь есть, прежде всего, Церковь предания в отличие от Церкви Католической, которая есть Церковь авторитета, и церквей протестантских, которые суть церкви личной веры. Православная Церковь не имела единой внешне‑авторитарной организации, и она незыблемо держалась силой внутреннего предания, а не внешнего авторитета. Она оставалась наиболее связанной с перво‑христианством из всех форм христианства. Сила внутреннего предания в Церкви есть сила духовного опыта и преемственности духовного пути, сила сверхличной духовной жизни, в которой всякое поколение выходит из сознания самодовольства и замкнутости и приобщается к духовной жизни всех предыдущих поколений вплоть до Апостолов. В предании я имею один опыт и одно ведение с Апостолом Павлом, с мучениками, со святыми, и со всем христианским миром. В предании мое знание есть не только знание личное, но и сверхличное, и я живу не в отдельности, а в теле Христовом, в едином духовном организме со всеми моими братьями во Христе.
Православие есть, прежде всего, ортодоксия жизни, а не ортодоксия учения. Еретики для него не столько те, кто исповедует ложную доктрину, сколько те, кто имеет ложную духовную жизнь и идет ложным духовным путем. Православие есть, прежде всего, не доктрина, не внешняя организация, не внешняя форма поведения, а духовная жизнь, духовный опыт и духовный путь. Во внутреннем духовном делании видит оно сущность христианства. Православие есть наименее нормативная форма христианства (в смысле нормативно‑рациональной логики и морального юридизма), и наиболее духовная его форма. И эта духовность и сокровенность Православия нередко бывали источником его внешней слабости. Внешняя слабость и недостаток проявления, недостаток внешней активности и реализации бросались всем в глаза, духовная же его жизнь и духовные его сокровища оставались сокровенными и незримыми. И это характерно для духовного типа Востока в отличие от духовного типа Запада, всегда актуального и выявляющегося во вне, но нередко в этой активности себя духовно истощающего. В мире нехристианского Востока духовная жизнь Индии особенно сокровенна от внешнего взора и не актуализируется в истории. Эта аналогия может быть проведена, хотя духовный тип христианского Востока очень отличается от духовного типа Индии. Святость в мире православном, в отличии от святости в мире католическом, не оставила после себя памятников письменности, она оставалась сокровенной. И это еще причина, почему трудно извне судить о духовной жизни Православия.
Православие не имело своего века схоластики, оно пережило только век патристики. И Православная Церковь и доныне опирается на восточных учителей Церкви. Запад считает это признаком отсталости Православия, замирания в нем творческой жизни. Но факту этому можно дать и другое истолкование; в Православии христианство не было так рационализировано, как оно было рационализировано на Западе в Католичестве при помощи Аристотеля и воззрений греческого интеллектуализма. Доктрины никогда не приобретали в нем такого священного значения, и догматы не были прикованы к обязательным интеллектуальным богословским учениям, а понимались, прежде всего, как мистические факты. В богословском же и философском истолковании догматов мы оставались более свободными. В XIX веке в России была творческая православная мысль и в ней было проявлено больше свободы и духовного дарования, чем в мысли католической и даже протестантской.
Духовному типу Православия принадлежит изначальный и нерушимый онтологизм, который представлялся явлением православной жизни, и затем уже и православной мысли. Христианский Запад шел путями критической мысли, в которых субъект был противопоставлен объекту, и была нарушена органическая цельность мышления и органичная связь с жизнью. Запад силен сложным развертыванием своего мышления, своей рефлексией и критикой, своим уточненным интеллектуализмом. Но тут и была нарушена связь познающего и мыслящего с первобытием и первожизнью. Познание выводилось из жизни, мышление выводилось из бытия. Познание и мышление не протекали в духовной целостности человека, в органической связанности всех его сил. На этой почве Западом были сделаны великие завоевания, но от этого разложился изначальный онтологизм мышления, мышление не погружалось в глубину сущего. Отсюда схоластический интеллектуализм, рационализм, эмпиризм, крайний идеализм западной мысли. На почве Православия мышление оставалось онтологическим, приобщенным бытию, и это явлено всей русской религиозно‑философской и богословской мыслью XIX и XX веков. Православию чужд рационализм и юридизм, чужд всякий норматизм. Православная Церковь не определима в рациональных понятиях, она понятна лишь для живущих в ней, для приобщенных к ее духовному опыту. Мистические типы христианства не подлежат никаким интеллектуальным определениям, они также не имеют признаков юридических, как не имеют признаков и рациональных. Подлинное православное богословствование есть богословствование духовно‑опытное. Православие почти не имеет схоластических учебников. Православие сознает себя религией Cвятой Троицы; не отвлеченным монотеизмом, а конкретным тринитаризмом. В духовной жизни, в духовном опыте и духовном пути отображается жизнь Святой Троицы. Православная литургия начинается со слов: «Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа». Все идет сверху, от Святой Божественной Троичности, от высоты Сущего, а не от человека и его души. В Православном представлении нисходит сама Божественная Троичность, а не восходит человек. В западном христианстве гораздо меньше выражена Троичность, оно более христоцентрично и антропоцентрично. Это различие намечается уже в восточной и западной патристике, из которой первая – богословствует от Божественной Троицы, а вторая – от человеческой души. Поэтому Восток раскрывает, главным образом, тайны догмата тринитарного и догмата христологического. Запад же, главным образом, учит о благодати и свободе и об организации церкви. На Западе было большее богатство и разнообразие мысли.
Православие и есть христианство, в котором наиболее раскрывается Дух Святой. Православная Церковь, поэтому и не приняла filioque, что видит в этом субординационизм в учении о Духе Святом. Природа Духа Святаго наименее раскрывается догматами и доктринами, но по действию своему Дух Святый нам ближе всего, наиболее имманентен миру. Дух Святый непосредственно действует на тварный мир и преображает тварь. Это учение раскрыто величайшим русским святым Серафимом Саровским. Православие не только существенно тринитарно, но видит задачу мировой жизни в преображении Святой Троицы, и по существу пневматично.
Я говорю все время о глубинах тайн в Православии, а не о поверхностных в нем течениях. Пневматологическая теологоия, ожидание нового излияния Духа Святаго в мире легче всего возникает на православной почве. Это замечательная особенность Православия: оно, с одной стороны, консервативно и традиционно более, чем Католичество и Протестантизм, но, с другой стороны, в глубине Православия есть всегда великое ожидание религиозной новизны в мире, излияния Духа Святаго, явление Нового Иерусалима. Почти целое тысячелетие Православие не развивалось в истории; ему чужд был эволюционизм, но в нем таилась возможность религиозного творчества, которая как бы приберегалась для новой, еще не наступившей исторической эпохи. Это выявилось в русских религиозных течениях XIX и XX века. Православие более резко разграничивает божественный и природный мир, Царство Божие и царство кесаря, и не признает тут возможных аналогий, к которым часто прибегает католическая теология. Энергия Божественная действует скрытно в человеке и в мире. Про тварный мир нельзя сказать, что он есть божество, или что он божественен, нельзя и сказать, что он вне‑божественен. Бог и божественная жизнь не похожи на мир природный и природную жизнь, тут нельзя проводить аналогии. Бог – бесконечен; природная жизнь – ограничена и конечна. Но энергия божества переливается в природный мир, воздействует на него и просветляет его. Это и есть православное видение Духа Святаго. Для православного сознания учение Фомы Аквината о естественном мире, утверждающее его в противоположении миру сверхестественному, есть уже форма секуляризации мира.
Православие в принципе своем пневматично, и в этом его своеобразие. Пневматичность и есть последовательный, до конца доведенный Тринитаризм. Благодать не есть посредник между сверхестественным и естественным; благодать есть действие Божественной энергии на тварный мир, присутствие в мире Духа Святаго. Именно пневматизм Православия и делает его наименее законченной формой христианства, выявляя в нем преобладание новозаветных начал над началами ветхозаветными. На вершине своей Православие понимает задачу жизни, как стяжание, приобретение благодати Духа Святаго, как духовное преображение твари. И это понимание существенно противоположно законническому пониманию, для которого мир божественный и сверхестественный есть закон и норма для мира тварного и естественного.
Православие, прежде всего, литургично. Оно научает народ и развивает его не столько проповедями и преподаванием норм и законов поведения, сколько самим литургическим действием, в котором дан прообраз преображения жизни. Оно научает также народ образами Святых и внушает культ святости. Но образы святых не нормативны; в них дано благодатное просветление и преображение твари действием Духа Святаго. Эта ненормативность Православия делает его труднее для путей человеческой жизни, для истории, мало благоприятным для всякой организации и для творчества культуры. Сокровенная тайна действия Духа Святаго на тварь не была актуально переведена на пути человеческой жизни.
Для Православия характерна свобода. Эта внутренняя свобода может не замечаться извне, но она повсюду разлита. Идея свободы, как основы Православия, была выявлена русской религиозной жизнью XIX и XX века. Признание свободы совести очень отличает Православную Церковь от Церкви Католической. Но понимание свободы в Православии отличное и от понимания свободы в Протестантизме. В Протестантизме, как и во всей западной, мысли, свобода понимается индивидуалистически, как право личности, охраняющей себя от посягательства всякой другой личности и определяющей себя автономно. Православию чужд индивидуализм, ему свойственен своеобразный коллективизм. Религиозная личность и религиозный коллектив не противостоят друг другу, как внешние друг для друга. Религиозная личность находится внутри религиозного коллектива, и религиозный коллектив находится внутри религиозной личности. Поэтому религиозный коллектив и не является внешним авторитетом для религиозной личности, извне навязывающим личности учение и закон жизни. Церковь не находится вне религиозных личностей к ней противопоставляемых; Она внутри их, и они внутри Ее. Поэтому Церковь не есть авторитет. Церковь есть благодатное единство любви и свободы. Православию чужда авторитарность, потому что эта форма порождает разрыв между религиозным коллективом и религиозной личностью, между Церковью и ее членом. Без свободы совести, свободы духа, нет духовной жизни, нет даже представления о Церкви, так как Церковь не терпит внутри себя рабов, и Богу нужны лишь свободные. Но подлинная свобода религиозной совести, свобода духа раскрывается не в изолированной, автономной личности, самоутверждающейся в индивидуализме, а в личности, сознающей себя в сверхличном духовном единстве, в единстве духовного организма, в Теле Христовом, то есть в Церкви. Моя личная совесть не внеположна и не противоположна совести сверхличной, совести церковной: она раскрываетя лишь внутри церковной совести. Но без активного, духовного углубления моей личной совести, моей личной духовной свободы не осуществляется жизнь Церкви, ибо эта жизнь Церкви не может быть внешней для личности, навязанной ей. Пребывание в Церкви требует духовной свободы не только в первый момент поступления в Церковь, что признает и Католичество, но и в течении всей жизни. Свобода Церкви в отношении к государству всегда была в опасности, но свобода внутри Церкви всегда была в Православии. В Православии свобода сочетается органически с соборностью, то есть с действием Духа Святаго на религиозный коллектив, которое присуще Церкви не только во времена Вселенских Соборов, но и всегда. Соборность же в Православии, которая и есть жизнь церковного народа, не имела внешних юридических признаков, она имела лишь внутренние, духовные признаки. Даже Вселенские Соборы не обладали внешним непререкаемым авторитетом. Непогрешимость авторитета признавалась лишь за церковным целым, на протяжении всей ее истории, и носителем и хранителем этого авторитета являлся весь церковный народ. Вселенские Соборы обладали авторитетом не потому, что они соответствовали внешним юридическим признакам легалтности, а потому, что церковный народ, вся церковь признала их Вселенскими и подлинными. Лишь тот Вселенский Собор подлинный, в котором произошло излияние Святаго Духа; излияние же Духа Святаго не имеет внешних юридических критериев, оно узнается церковным народом по внутренним духовным свидетельствам. Все это указывает на не‑нориативный и не‑юридический характер Православной Церкви.
Вместе с тем православное сознание понимает Церковь наиболее онтологически, то есть видит в Церкви, прежде всего не организацию и учреждение, не просто общество верующих, а религиозный духовный организм, мистическое Тело Христово.
Православие космичнее западного христианства. Ни в Католичестве, ни в Протестантизме не была достаточно выражена космическая природа Церкви, как Тела Христова. Западное Христианство преимущественно антропологично. Но Церковь есть также охристовленный космос; в ней подвергается воздействию благодати Духа Святаго весь тварный мир. Явление Христа имеет космическое, космогоническое значение; оно означает как бы новое творение, новый день миротворения. Православию наиболее чуждо юридическое понимание искупления, как разрешения судебного процесса между Богом и человеком, и более свойственно онтологическое и космическое его понимание, как явления новой твари и нового человечества. Центральной и верной идеей восточной патристики была идея theosis'а, обожения человека и всего тварного мира. Спасение и есть обожение. И обожению подлежит весь тварный мир, весь космос. Спасение есть преображение и просветление твари, а не судебное оправдание. Православие обращено к тайне Воскресения, как к вершине и последней цели Христианства. Поэтому центральным праздником в жизни Православной Церкви является праздник Пасхи, Светлое Христово Воскресение. Светлые лучи Воскресения пронизывают православный мир. В православной литургике праздник Пасхи имеет безмерно большее значение, чем в Католичестве, где вершина – праздник Рождества Христова. В Католичестве мы, прежде всего, встречаем Христа Распятого, в Православии же – Христа Воскресшего. Крест есть путь человека, но идет он, как и весь мир, к Воскресению. Тайна Распятия может заслонить собой тайну Воскресения. Но тайна Воскресения есть предельная тайна Православия. Тайна же Воскресения не только человеческая, но и космическая. Восток всегда космичнее Запада. Запад же человечнее; в этом его сила и значение, но также и его ограниченность. На духовной почве Православия возникает стремление ко всеобщему спасению. Спасение понимается не только индивидуально, но и соборно, вместе со всем миром. И из недр Православия не могли бы раздаться слова Фомы Аквината, который сказал, что праведник в раю будет наслаждаться муками грешника в аду. Также на почве Православия не могло возникнуть учение о предопределении, не только в форме крайнего кальвинизма, но и в форме представлений Блаженного Августина. Большая часть восточных учитилей церкви, от Климента Александрийского до Максима Исповедника, были сторонниками апокатастасиса, всеобщего спасения и воскресения. И это характерно для современной русской религиозной мысли. Православная мысль никогда не была подавлена идеей божественной справедливости и она никогда не забывала идеи божественной любви. Главное, она не определяла человека с точки зрения божественной справедливости, а идеи преображения и обожения человека и космоса.
Наконец последнюю и важную черту в Православии нужно видеть в его сознании эсхатологичности. В недрах Православия более сохранилась первохристианская эсхатологичность, ожидание второго пришествия Христа и грядущего Воскресения. Эсхатологичность Православия означает меньшую привязанность к миру и земной жизни и большую обращенность к небу и вечности, то есть к Царству Божьему. В христианстве западном актуализация христианства в путях истории, обращенность к земной устроенности и земной организации заслонила собою тайну эсхатологии, тайну второго пришествия Христова. В Православии, именно вследствии его меньшей исторической активности, сохранилось великое эсхатологическое ожидание. Апокалиптическая сторона христианства осталась наименее выраженной в западных формах христианства. На Востоке же, на православной почве, особенно на почве русского Православия, возникли течения апокалиптические, ожидание новых излияний Духа Святаго. Православие наиболее традиционная, наиболее консервативная форма христианства, ибо охраняло древнюю истину, но в нем же заложена возможность наибольшей религиозной новизны, не новизны человеческой мысли и культуры, которая так велика на Западе, но новизны религиозного преображения жизни. Примат всей целостной жизни над дифференцированной культурой был всегда особенно характерен для Православия. На почве Православия не создалось той великой культуры, которая создана на почве Католичества и Протестантизма. И быть может, поэтому это так было, что Православие устремлено к Царству Божьему, которое должно явиться не в результате последствий исторической эволюции, а в результате таинственного преображения мира. Не эволюция, а преображение характерно для Православия.
Православие нельзя узнать по оставшимся теологическим трактатам; оно узнается в жизни Церкви и всего церковного народа, оно менее всего выражается в понятии. Но Православие должно выйти из состояния замкнутости и изолированности, должно актуализировать свои сокровенные духовные богатства. Тогда только оно и приобретет мировое значение. Признание исключительного духовного значения Православия, как наиболее чистой формы христианства, не должно порождать в нем самодовольства и вести к отрицанию значения западного христианства. Наоборот, мы должны узнать западное христианство и многому учиться у него. Мы должны стремиться к христианскому единению. Православие благоприятно для христианского единения. Но православное христианство наименее подвергалось секуляризации и поэтому оно может безмерно много дать для христианизации мира. Христианизация мира не должна означать обмирщения христианства. Христианство не может быть изолированно от мира, и оно продолжает в нем движение, не отделяясь и оставаясь в мире, должно быть победителем мира, а не быть побежденным.
Евразийцы выступили шумно и самоуверенно, с большими претензиями на оригинальность и на открытие новых материков. Недостатки обычные для молодых боевых направлений, – они не могут произрастать в скромности. Идеи евразийцев нужно оценивать не только по существу, сколько по симптоматическому их значению. Сами по себе идеи эти мало оригинальны (оригинальна только туранско‑татарская концепция русской истории у кн. Н.С. Трубецкого), они являются воспроизведением мыслей старых славянофилов, Н. Данилевского (Н. Данилевского в особенности), некоторых мыслителей начала XX века, (так типичным евразийцем был В.Ф. Эрн). Но у евразийцев современных есть новая настроенность, есть молодой задор, есть не подавленность революцией, а пореволюционная бодрость, и им нельзя отказать в талантливости. Они улавливают какое‑то широко распространенное настроение русской молодежи, пережившей войну и революцию, идеологически облагораживать «правые» инстинкты. Их идеология соответствует душевному укладу нового поколения, в котором стихийное национальное и религиозное чувство не связано с ложной культурой, с проблематикой духа. Евразийство есть, прежде всего, направление эмоциональное, а не интеллектуальное, и эмоциональность его является реакцией творческих национальных и религиозных инстинктов на происшедшую катастрофу. Такого рода душевная формация может обернуться русским фашизмом.
Хотелось бы, прежде всего, отметить положительные стороны евразийства. Евразийцы – не вульгарные реставраторы, которые думают, что ничего особенного не произошло и все скоро вернется на свое прежнее место. Евразийцы чувствуют, что происходит серьезный мировой кризис, что начинается новая историческая эпоха. Характер этого кризиса они не совсем верно себе представляют, полагая, что существо его заключается в разложении и конце романо‑германской, европейской цивилизации (старый традиционный мотив славянофильствующей мысли). Но заслуга их в том, что они остро чувствуют размеры происшедшего переворота и невозможность возврата к тому, что было до войны и революции. Евразийцы решительно провозглашают примат культуры над политикой. Они понимают, что русский вопрос духовно‑культурный, а не политический вопрос. Утверждать это сознание в русской эмигрантской среде есть очень важная насущная задача. Отношение евразийцев к Западной Европе превратно и ложно и подобное отношение заслуживает наименования азиатства, а не евразийства. Но они, верно чувствуют, что Европа перестает быть монополистом культуры, что культура не будет уже исключительно европейской, что народы Азии вновь войдут в поток мировой истории. Эта мысль, между прочим, с особенной настойчивостью высказывалась пишущим эти строки. Мысль эта очень важна, как противовес тем реакционным течениям, которые думают найти выход из русской катастрофы в помощи «буржуазной» Европы. Евразийцы стихийно, эмоционально защищают достоинство России и русского народа против того поругания, которому он предается ныне и русскими людьми и людьми Запада. Верхний слой русского общества, пораженный революцией, согласен денационализироваться и перестать считать себя русскими. Такой реакционо‑интернационалистической настроенностью слой это доказывает свою давнюю оторванность от русской почвы и от духовных основ жизни русского народа. Наибольшего сочувствия заслуживают политические взгляды и настроения евразийцев. Это – единственное пореволюционное идейное направление, возникшее в эмигрантской среде, и направление очень активное. Все остальные направления, «правые» и «левые», носят дореволюционный характер и потому безнадежно лишены творческой жизни и значения в будущем. Евразийцы стоят вне обычных «правых» и «левых». В только что вышедшей четвертой книги «Евразийского Временника» наносятся решительные удары «правым» и изобличается ложь их религиозно‑православных и национально‑русских претензий. Кн. Н.С. Трубецкой говорит, что для «правых» православие и народность были лишь атрибутами самодержавия, которое одно только их и интересует. Жестоки, но справедливы слова Кн. Н.С. Трубецкого, что интерес «правых» к православию выражается главным образом в посещении молебнов в дни тезоимяниств высочайших особ. Евразийцы не легитимисты. Это ясно уже было по предшествующему сборнику. Они не связывают православие и русский национальный дух с определенной государственной формой, напр. с самодержавной монархией, и согласны на республику, если она будет православной и национальной и президент будет «посадником». Евразийцы не демократического, но народного направления и учитывают значение народных масс в будущем строе в России. Они видят в отличие от «правых», что новый народный слой выдвинулся в первые ряды жизни и что его нельзя будет вытеснить. Евразийцы признают, что революция произошла и с ней нужно считаться. Пора перестать себе закрывать глаза на свершившееся. Ничто дореволюционное невозможно уже, возможно лишь пореволюционное. Евразийство по‑своему пытается быть пореволюционным направлением и в этом его несомненная заслуга и преимущество перед другими направлениями. Они реалистичнее других политических направлений и могут сыграть политическую роль. Да и нужно признать, что значение в политической жизни России будет иметь главным образом молодежь.
Но в евразийстве есть также элементы зловредные и ядовитые, которым необходимо противодействовать. Многие старые русские грехи перешли в евразийство в утрированной форме. Евразийцы чувствуют мировой кризис. Но они не понимают, что окончание новой истории, при котором мы присутствуем, есть вместе с тем возникновение новой универсалистической эпохи, подобной эпохе эллинистической. Национализм есть рождение новой эпохи. Ныне кончаются времена замкнутых национальных существований. Все национальные организмы ввергнуты в мировой круговорот и в мировую ширь. Происходит взаимопроникновение культурных типов Востока и Запада. Прекращается автаркия Запада, как прекращается автаркия Востока. Эллинистическая эпоха действительно была эпохой «евразийской» культуры, но в том смысле, что в ней соединились Восток и Запад, Азия и Европа. Такого рода «евразийство» есть универсализм, подготовивший почву для христианства. Но современное евразийство враждебно всякому универсализму, оно представляет себе евразийский культурно‑исторический тип статически – замкнутым. Евразийцы хотят остаться националистами, замыкающимися от Европы и враждебными Европе. Этим они отрицают вселенское значение православия и мировое призвание России, как великого мира Востоко‑Запада, соединяющего в себе два потока всемирной истории. Их евразийская культура будет одной из замкнутых восточных, азиатских культур. Они хотят, чтобы мир остался разорванным, Азия и Европа разобщенными, т. е. они в сущности антиевразийцы. Евразийство остается лишь географическим термином и не приобретает культурно‑исторического смысла, противоположного всякому замыканию, самодовольства и самоудовлетворенности. Задача, которая теперь стоит перед Россией, ничего общего не имеет с той задачей, которая стояла перед допетровской, старой Россией. Это есть задача не замыкания, а выхода в мировую ширь. И размыкание, и выход в мировую ширь вовсе не означает европеизации России, подчинения ее западным началам, а означает мировое духовное влияние России, раскрытие Западу своих духовных богатств. Так должен образоваться в мире единый духовный космос, в который русский народ должен сделать свой большой вклад. Русская идея, которая вырабатывалась русской мыслью XIX века, всегда была такой идеей. И евразийцы неверны русской идее, они порывают с лучшими традициями нашей религиозно‑национальной мысли. Они делают шаг назад по сравнению с Хомяковым и Достоевским и в этом они духовные реакционеры. Они партикуляристы, противники русской всечеловечности и всемирности, противники духа Достоевского. Данилевский им ближе, чем Достоевский. Хомяков и Достоевский находили удивительные слова для выражения русского отношения к Западной Европе, этой «стране святых чудес», для почитания ее великих покойников и великих памятников. К. Леонтьев решительный антиславянофил и антинационалист по своей идеологии, во многом родственный Чаадаеву и близкий Вл. Соловьеву, и нынешние евразийцы мало могут воспользоваться им для установления своей традиции. Отношение евразийцев к Западу и западному христианству в корне ложное и нехристианское. Культивирование нелюбви и отвращения к другим народам есть грех, в котором следует каяться. Народы, расы, культурные миры не могут быть исключительными носителями зла и лжи. Это совсем не христианская точка зрения. Христианство не допускает такого рода географического и этнографического распределения добра и зла, света и тьмы. Перед лицом Божьим добро и зло, истина и ложь не распределены по Востоку и Западу, Азии и Европе. Христианство, а не люди XIX века, принесло в мир сознание, что ныне нет эллина и иудея. Ненависть к западному христианству, к католичеству есть грех и человекоубийство, есть отрицание души западных народов, отвержение источников их жизни и спасения. Ненависть к католичеству есть, по‑видимому, один из существенных пунктов евразийской программы. (Я совсем здесь не касаюсь статьи Л.П.Карсавина «Уроки отреченной веры», так как она заслуживает специального рассмотрения. В статье этой есть очень интересные мысли, но к сожалению она испорчена неприятным тоном. ) Характерно, что обыкновенно особенно враждебны католичеству именно те, которые вносят в православие католические клерикальные и авторитарные черты. В отношении евразийцев к католичеству есть что‑то глубоко провинциальное и устаревшее, унаследованное от давно прошедших времен соответствующее современному духовному состоянию мира. Миром овладевает антихрист, русское царство перестало быть христианским, стало очагом антихристова духа, а евразийцам все еще мерещится польские ксензы и иезуиты, действительно совершающие иногда и до ныне действия предосудительные, но обладающие малым весом в мировой катастрофе.
Евразийцы восстанавливают историософическую теорию Данилевского и усваивают себе его натурализм номинализм. Историософические взгляды Данилевского и евразийцев есть наивная и философски неоправданная форма номинализма, номиналистического отрицания реальности человечества. Евразийцы реалисты в понимании национальности и номиналисты в понимании человечества. Но номиналистическое разложение реальных единств нельзя произвольно остановить там, где хочешь. Номинализм не может признать и реальности национальности, как не может признать и реальности человеческой индивидуальности, – разложение реальных единств идет до бесконечности. Если человечество или космос не есть реальность, то столь же не реальностны и все остальные ступени. Евразийцы как будто бы хотят вернуться к языческому партикуляризму, духовно преодоленному христианством. Если не существует человечества, как духовного единства и реальности, то христианство не возможно лишено всякого смысла боговоплощения и искупление. Отрицание реальности и единства человечества, как иерархической ступени бытия, есть в сущности отрицание догмата богочеловечества Христа. Крайние формы церковного национализма и партикуляризма есть языческая реакция внутри христианства, есть неспособность вместить истину о богочеловечестве Христа. Разделяет плоть и кровь, дух же соединяет. И одинаково ложно отрицать реальность и единство национальности. Мир есть иерархический организм, конкретное всеединство. Поэтому интернационализм есть такая же ересь, такая же абстракция, как и национализм. Евразийцы слишком легко относятся к вопросу о взаимоотношении христианства и языческого партикуляризма, они укрываются от этого тревожного вопроса в эмоциональность «бытового исповедничества». Евразийцы правы, когда они говорят, что западно‑европейская культура не есть универсальная и единственная культура романо‑германская, носящая черты ограниченности. И внутри европейской культуры существуют ведь огромное различие между типом культуры романской и германской. Для французов культура германская есть почти такой же Восток, не Европа, как и культура русская и индусская. Культура всегда национальна, никогда не интернациональна, и вместе с тем она сверхнациональна по своим достижениям и универсальна по своим основам. Универсальные основы человеческой культуры не романо‑германские, а античные. Русская культура текже имеет свои основы в культуре греческой, как и культура европейских народов. Мы принадлежим не только Востоку, но и Западу через наследие эллинства. Мы платоники. Западные люди по преимуществу аристотелевцы. На нас почил эллинский дух, универсальный эллинский гений. Мы стали бы окончательно азиатами, восточными людьми, если бы отреклись от греческой патристики, от св. Клемента Александрийского, от каподокийцев, если бы туранское начало в нас возобладало. И мне кажется, что евразийцы предпочитают плотское наследие туранское духовному наследию эллинскому, они более гордятся своей связью с Чингиз Ханом, чем связью с Платоном и греческими учителями Церкви. Евразийская философия истории чистый натурализм. Национально‑расовая и географическая историософия столь же материалистична, как и экономический материализм. Она отрицает, что философия истории есть философия духа, духовной жизни человечества. Она забывает, что кроме Востока и Запада, кроме столкновения рас и кровей есть еще царство духа и что потому только возможно стало в мире христианство. Славянофилы были менее натуралистичны. Они прошли школу германского идеализма и преодолевали его изнутри. В мышлении евразийцев совсем нет категории духовной свободы, которая была основной в мышлении Хомякова. Остается впечатление, что для евразийцев православие есть прежде всего этнографический факт, фольклор, центральный факт национальной культуры. Они берут православие извне, исторически, а не изнутри, не как факт духовной жизни, вселенский по своему значению. Поэтому они, прежде всего, дорожат бытовым православием, его статическими пластическими образами. Говорю, конечно, не о личном религиозном опыте отдельных евразийцев, а об их мышлении.
Евразийцы любят туранский элемент в русской культуре. Иногда кажется, что близко им не русское, а азиатское, восточное, татарское, монгольское в русском. Чингис Хана они явно предпочитают Св. Владимиру. Для них Московское царство есть крещеное татарское царство, московский царь – оправославленный татарский хан. И в этом близком сердцу евразийцев царстве чувствуется непреодоленное язычество азиатских племен, то непреодоленное магометанство. Христианство не вполне победило в евразийском царстве. Любовь к исламу, склонность к магометанству слишком велики у евразийцев. Магометани ближе евразийскому сердцу, чем христиане Запада. Евразийцы готовы создать единый фронт со всеми восточноазиатскими, не христианскими вероисповеданиями! против христианских вероисповеданий Запада. (Я имею тут ввиду не критику евразийцами империалистической политики европейских государств в отношении народов Азии и Африки. В этом отношении евразийцы правы. Я имею ввиду вопрос чисто религиозный ).) И это есть несомненное извращение религиозной психологии, частичная измена христианству. Евразийцам вновь уместно поставить вопрос Вл. Соловьева: «Каким же хочешь быть Востоком: Востоком Ксеркса иль Христа?» «Восток Ксеркса» очень их пленяет, они не могут его победить во себе и не хотят победить его в русском народе. Между тем, как и наш большевизм есть порождение «Восток Ксеркса». Все будущее русского народа зависит от того, удастся ли победить в нем нехристианский Восток, стихию татарскую, стереть с лица русского народа монгольские черты Ленина, которые были и в старой России. Можно вполне согласиться с тем, что татарское иго имело огромное, не только отрицательное, но и положительное значение в русской истории, что оно способствовало выработки в русском народе самостоятельного духовного типа, отличного от западного. Но это отнюдь не ведет еще к татарскому самосознанию, к подмене русской идеи идеей туранской. Между тем как у евразийцев исчезает своеобразие и единственность русского духовного типа, русской идеи, русской вселенской христианской идеи. Статичность, которой так упиваются евразийцы в результате реакции против бурных движений нашего времени, есть не русская, а татарско‑азиатская статичность. Христианство динамично по своей природе, оно создало бурное движение мировой истории. Ничто конечное не может быть навеки найденным онтологическим выражением бесконечного. В России евразийцев нельзя узнать России Достаевского. Следует помнить, что Достаевский явился в петровский период русской истории. Не чувствуется духовной близости евразийцев и к духовности Св. Серафима, тоже ведь явившегося в Петровский период. Евразийцам оказывается чуждым тревожный, ищущий, динамический, трагический дух русской религиозной мысли XIX века. Ничего туранскогов этой русской религиозной мысли не было. Бытовое и родовое православие евразийцев, православие статическое, родственно духу Ислама, и они сами этого не скрывают. Евразийцы дорожат русским язычеством, которое очень сильно было в старом русском быте. Думать, что этот быт может быть возрожден, значит не понимать характера нашей эпохи. Мы вступаем в эпоху новой христианской духовности. И религиозно реакционно все, что хочет преобладания крови и плоти над духом, что мешает победе духа над натурализмом. Возврат русского народа к самодовольству и самозамкнутости старой допетровской Руси есть задача не христианская, а языческая. Евразийцы не любят Вл. Соловьева и всего, что с Вл. Соловьевым связано. Но не патриотично и не национально отрицать своего величайшего мыслителя. И как бы мы не относились критически ко многим идеям Вл. Соловьева (я, например, совершенно отрицаю его теократическую концепцию), мы должны признать его огромную неумирающую заслугу. Он неустанно напоминал, что христианство не только данность, но и задание, обращенное к активности и свободе человека. Нам задано осуществление Христовой правды в жизни и заповедано искать превыше всего Царствия Божья. Бытовое исповедничество евразийцев как будто бы забывает об этом искании Царства Божьего и правды Божьей, которое очень свойственно русскому духу, но не свойственно духу туранскому. Православие не может быть только охранением, оно должно быть творческим богочеловеческим процессом. Евразийцы не замечают самой главной особенности русского православия, отличающей его от западного христианства, – его эсхатологичность, устремленности к концу. Есть два образа России: статический и динамический, бытовой и духовный. Русского странничества, русского искания правды Божьей, Града Китежа евразийцы не хотят видеть и знать. Им больше нравится бытовая устроенность и статичность Ислама. И это есть испуг и реакция против революции. Евразийцы не понимают, как понимал Достоевский, что русская интеллигенция была национально‑русским явлением, отражавшим и русские грехи и болезни и русское искание правды. Современная молодежь не любит образа русского скитальца. Она предпочитает Николая Ростова Князю Андрею и Пьеру Безухова. Но нужно помнить, что стиль православия меняется, – интеллигенция возвращается в церковь и возвратившийся блудный сын будет в ней играть преобладающую роль. Православие не прикреплено к стилю мужицкому, мещанско‑купеческому или дворянскому. Впрочем, нужно сказать, что евразийцы меняются и у них начинает усиливаться чувство исторической динамики.
П.П. Сувчинский поднимает очень интересный вопрос о смене поколений и пытается дать оценку поколению начала XIX века и связанному с ним течению, которое он называет идеалистическим, мистическим и эстетическим ренессансом. Поколение евразийское, выросшее во время войны и революции, не чувствует себя родственным нашему религиозному поколению и не хочет продолжать его заветов. Оно склонно отказаться от всего, что связанно с постановкой проблем нового религиозного сознания. Воля его направлена к упрощению, к элементаризации, к бытовым формам православия, к традиционализму, боязливому и подозрительному ко всякому религиозному творчеству. (В социально‑политическом отношении евразийцы напротив очень смелы и даже революционны. ) Духовный уклад нового религиозного поколения очень неблагоприятен для оценки по существу сложной проблематики предшествующего религиозного поколения. В силу пережитого опыта современная молодежь боится сложности и проблематичности, тяготеет к элементарности и простоте, направляет свою волю на осуществление практических задач. В известной ее части есть реакция против мистики и романтики, против усложненного гнозиса, против эсхатологических настроений. Поколение начала XX века вынесло на своих плечах трудную работу преодоления старого интеллигентского миросозерцания, прошло длинный духовный путь, вернулось в отчий дом, как блудный сын, и внесло в свое христианство всю сложность своей духовной культуры, поставило с большой остротой проблемы, которые имеют значение для далекого будущего и для вечности. Наше религиозно‑философское течение обращено к поколениям более далекого будущего и, если проблемы им выдвинутые не интересуют поколение современное, то этим нисколько не определяется еще оценка этих проблем по существу. Мы защищали аристократизм духовной культуры, аристократизм мысли, защищали то, что представлялось бесполезным и ненужным. Но современное поколение «справа» также не принимает иерархизма, в силу которого и непонятное и ненужное имеет значение для всей лестницы жизни, как раньше он отрицался русской интеллигенцией «слева». Отрицание духовного аристократизма, отрицание сложности мысли, бескорыстного созерцания и творческой проблематики есть большевизм, и большевизм этот есть повсюду, он есть у «правых», есть и у некоторых евразийцев. Этим я нисколько не отрицаю, что отдельные представители евразийства являются высоко культурными и духовно тонкими людьми.
Неуважение к человеческой мысли, к человеческому творчеству, неблагодарность к духовной работе предшествующих поколений, нежелание почитать даже великих своих людей есть русский грех, есть неблагородная черта в русском характере. Нигилизм остается в русской крови, он также проявляется «справа», как и «слева», так же возможен на религиозной почве, как и на почве материалистической. Русские ультра – православные люди также легко готовы низвергнуть Пушкина, как низвергали его русские нигилисты. Русские люди с легкостью откажутся от Достоевского и разгромят Вл. Соловьева, предав поруганию его память. Сейчас иные готовы отречься от всей русской религиозной мысли XIX века, от самой русской мессианской идеи во имя иступленного и нигилистического утверждения русского православия и русского национализма. Но быть может всего нужнее для нас утверждать традицию и преемственность нашей духовной культуры, противодействуя нигилистическим и погромным инстинктам, преодолевая нашу татарщину, наш большевизм. Русским людям нужно прививать благородное почитание творческих усилий духа, уважение к мысли, любовь к человеческому качеству.
Я старался указать на отрицательные и опасные стороны евразийских настроений, но я нимало не отрицаю положительных сторон и заслуг этого течения и несомненных качеств некоторых статей последнего евразийского сборника. Вместе с тем я признаю, что в новом, пореволюционном поколении вырабатывается новый тип религиозно‑национальной интеллигенции, более здоровой и реалистической, более закаленной духовно и преодолевшей рефлектирующую раздвоенность. В этой выработке принимают участие и евразийцы.
Путь. – Сент. 1925.– № 1. – С. 134–139«Евразийский вестник». Книга Четвертая. Берлин 1925 г.
Евразийцы выпустили систематическое изложение своей идеологии и программы. В мою задачу сейчас не входит рассмотрение политической программы евразийцев, это не соответствует задачам журнала “Путь”. Но в евразийском катехизисе есть идеологическая, религиозно‑философская и религиозно‑общественная сторона, которая не может нас не интересовать. Систематическое изложение евразийской идеологии, обладающее большими формальными качествами, не подписано ничьим именем и за него, очевидно, ответственно все направление. Но оно носит явную печать индивидуальной религиозно‑философской системы, которая без достаточных оснований выдается за православие. В брошюре “Евразийство” есть немало верных мыслей, заслуживающих полного сочувствия. Евразийское направление обращено к реальной России и реальным в ней жизненным процессам, оно признает факт совершившейся революции с ее перераспределением социальных групп бесповоротным, хочет работать в пореволюционной среде и потому живет не эмигрантскими фантазиями и галлюцинациями, а реальной действительностью. В политической программе евразийства есть несомненное угадывание того, к чему сейчас ведут происходящие внутри России процессы. И политический реализм евразийства прежде всего выражается в том, что оно хочет базироваться на слое, который образовался в результате революции и хочет быть строителем жизни. Евразийцы целостно понимают революцию, не делая искусственного разделения на революцию февральскую и революцию октябрьскую. Много есть схожего с мыслями, которые я развивал в своем “Новом средневековье”, несмотря на существенную разницу в моральном и религиозном пафосе. Нравственные обвинения против евразийцев, что они “сменовеховцы”,[1] что они приспособляются к большевистской власти и чуть ли не являются агентами большевиков, представляются мне не только неверными, но и возмутительными, свидетельствующими лишь о том, насколько разным старо‑эмигрантским направлениям неприятно напоминание о банкротстве их идейной установки в отношении к революции и к тому, что происходит внутри России. Но евразийская идеология несет с собой несомненные опасности и хотелось бы остановиться на самом главном евразийском соблазне. Эта опасность коренится в миросозерцании, которое я бы назвал натуралистическим монизмом и оптимизмом. Евразийцы, несмотря на свое подчеркнутое ортодоксальное православие, почти в такой же степени монисты, как и марксисты, и настроенность их полна натуралистического оптимизма. Евразийцы очень меняются, и среди них есть разные оттенки, но основное их мирочувствие все же можно уловить. Такого типа мышление всегда будет более базироваться на категории необходимости, чем на категории свободы, будет подчинять личность коллективу и не очень будет склонно вводить момент нравственной оценки в политику. При такой оптимистически‑монистической идеологии то, что нарождается, развивается и должно восторжествовать в будущем, представляется благим и добрым, необходимое почти совпадает с долженствующим быть. Нравственный пафос в отношении к жизни всегда предполагает известного рода дуализм, не онтологический, но религиозно‑нравственный дуализм. В систематическом изложении евразийства этого дуалистического момента, присущего христианству, нет и потому нет нравственного пафоса. Опасной стороной евразийской идеологии является то, что я назову их утопическим этатизмом, и опасность эта коренится в ложном монизме. Мне представляется ложным и не христианским отношение евразийцев к государству. С этим связано и их отношение к личности и свободе.
Евразийская идеология утверждает, что государство есть становящаяся, не усовершенствованная Церковь. Таким образом, утверждается принципиальный монизм в понимании отношений между Церковью и государством, и государство понимается как функция и орган Церкви, государство приобретает всеобъемлющее значение. Принципиальный дуализм двух порядков – Церкви и государства, Царства Божьего и царства кесаря, который останется до конца мира и до преображения мира, не признается, стирается, как это много раз уже делалось в истории христианства. Это есть один из вечных соблазнов, подстерегающих христианский мир, и на этой почве рождаются утопии, принимающие разнообразные формы – от теократии папской и императорской до коммунизма и евразийства. Вот место, которое представляется мне наиболее зловещим в нынешней евразийской идеологии: “Наряду с Церковью, которая и есть истинная форма личного бытия культуры, возникает и другая, производная или вторичная форма личного бытия той же культуры. Ее‑то мы и называем государством, а ее сферу и бытие государственностью, понимая под “государственным” или “политическим” направленное к целостности или единству, культуру (или народ), как объединяющееся и единое. Принципиально государство есть сама культура в ее единстве и в качестве единства многообразия, т. е. принципиально, государство объемлет все сферы жизни”. Государство объемлет все сферы жизни и совершенное государство окончательно должно захватить все сферы жизни, организовать всю жизнь, не оставив места для свободного общества и свободной личности. Это и есть принципиальный монизм, который ведет к абсолютизации государства, к пониманию государства, как земного воплощения истины, истинной идеологии. Евразийцы называют это не теократией, а идеократией. Идеократия есть господство подобранного правящего слоя, который является носителем истинной идеологии, государственной идеологии. Формально это очень походит на коммунизм. Коммунизм тоже есть идеократия, господство подобранного правящего слоя, претендующего быть носителем истинной коммунистической идеологии, идеи пролетариата. С точки зрения истории идей в идеократии вы узнаете старую утопию, изложенную в “Республике” Платона. Совершенное государство Платона есть абсолютная тирания. Правящий слой, который будет носителем истинной евразийской идеологии, и должен создать республику Платоновского типа, управляемую “философами” (такими “философами” будут себя считать все евразийские молодые люди, никогда о философии не помышлявшие). У Платона была вечная и истинная аристократическая идея господства лучших, но Платоновская утопия совершенного государства, очень живучая в истории, означает подавление личности и свободы. По сравнению с этим политика Аристотеля с его несовершенным государством представляется блаженством, возможностью свободно дышать. По‑видимому, во имя свободы добра необходимо допустить и некоторую свободу зла. Сам Бог допустил существование зла и этим указал на значение свободы.
Опыт русского коммунизма научает нас тому, что стремление к совершенному государству, организующему всю жизнь, есть нечестивое и безбожное стремление. Я откровенно должен сознаться, что мечтаю о несовершенном государстве и в нем вижу больше правды, чем в совершенном государстве. Совершенное государство, объемлющее все стороны жизни, есть ложная утопия, подмена христианского искания и ожидания Царства Божьего. Монизм возможен лишь в Царстве Божьем, в преображенном и обоженном мире, на новой земле и новом небе. На старой земле государство должно быть ограниченным, оно не может быть совершенным, ибо совершенство есть преодоление и отмена государства, и остается в силе правда дуализма, который отражает греховность нашей природы, но вместе с тем охраняет свободу, личность и различение между тем, что есть, и тем, что должно быть. Государство должно быть сильным, но должно знать свои границы. Подлинная идеократия невозможна, она возможна лишь в Царстве Божьем. Невозможна и теократия, и ложь ее притязаний изобличены в истории. Евразийцы правы, когда хотят базироваться на подобранном правящем строе, но утопический этатизм евразийцев приводит их к той ложной и опасной идее, что идеократическое государство должно взять на себя организацию всей жизни, т. е. организацию всей культуры, мышления, творчества, организацию и душ человеческих, что есть задача Церкви. Такова ведь и задача коммунистического государства, которое понимает себя, как Церковь и заменяет Церковь. Евразийская идеократия также может пожелать организовать сверху литературу, как это пыталась сделать идеократия коммунистическая. Но государство на веки веков отлично по своей задаче и своим методам и от Церкви и от свободно творящего духа. Государство по природе своей ограниченно и относительно, оно ограниченно в принципе субъективными правами личности и свободой творящего духа, не поддающегося никакой организации. Государственный абсолютизм есть язычество, есть древняя восточная и римская идея. Христианство духовно ограничивает государство и не допускает власти государства над человеческими душами, над духовной жизнью, над человеческим творчеством. Божеских почестей не должно воздавать никакому кесарю, сколько бы он ни почитал свою власть идеократической или теократической. Душа человеческая стоит дороже, чем все царства мира. Человек выше государства. Я не вижу, чтобы евразийцы защищали свободу человеческого духа, которой грозят со всех сторон опасности. Они – коллективисты почти в такой же степени, как и коммунисты, как и крайние правые монархисты, они склонны признавать абсолютный примат коллектива и его господство над личностью. Человеческая личность будет принуждаться к симфоническому мышлению путем муштровки. Отсюда пафос ортодоксии в мышлении – он всегда ведь обусловлен тем, что творцом почитается коллектив, а не личность. Отсюда нелюбовь к профетизму, который всегда рождается от личности, а не от коллектива. Евразийцы имеют формальное сходство с современными французскими томистами, которые тоже крайне ортодоксальны и социальны, антиромантики, рационалисты, формалисты и конструктивисты. Пафос организованности и социальности у евразийцев скорее римский, латинский, чем русский. Склонность евразийцев к пониманию религии, прежде всего как силы социально‑организующей и формальной, более исторической, чем духовной, тоже очень напоминает римское отношение к религии. Субъективные права личности, более абсолютные по своему значению, чем формы государства, мало вдохновляют евразийцев. О свободе совести они говорят только для того, чтобы отделаться от лиц, которые к ним с этим пристают. На практике же готовы ограничить свободу вероисповедания для католиков. Евразийцев вдохновляет движение коллективов, масс. Это есть пафос не столько духовный, сколько натуралистический. Государство не есть воплощение на земле абсолютного духа, как думал Гегель, как думали римляне. Государство имеет свою миссию на земле, и христианство освящает начало власти. Но государство всегда не адекватно, всегда греховно и в нем всегда возможно торжество царства зверя. Это царство зверя, Левиафан, обнаруживается и в государствах монархических и в государствах демократических и социалистических. Диктатура партии или правящего слоя, который будет носителем истинной идеологии, скопирована евразийцами у коммунистов. Но диктатура партии много горше диктатуры одного лица. Диктатура Муссолини менее тягостна, чем диктатура неисчислимого количества фашистских мальчишек. Диктатура Ленина все‑таки лучше, чем диктатура центрального комитета коммунистической партии. И это определяется тем, что в монархическом начале есть своя непреходящая правда, хотя и относительная. Диктатура по существу своему может быть лишь переходным состоянием, а не идеалом политического устроения. В этом отношении евразийская идеология не чиста и слишком насыщена аффектами и эмоциями нашей эпохи. Есть большие основания думать, что мы идем от диктатуры к диктатуре. Но это не имеет отношения к построению идеального строя общества.
Крайний этатизм евразийцев приводит их к своеобразной утопии идеальной диктатуры. В действительности же это есть лишь отражение настроений сегодняшнего дня.
Своим этатизмом, своей мечтой о совершенной организации жизни через государство, евразийцы порывают с традициями нашей национально‑религиозной мысли, порывают со славянофилами и Достоевским, и в сущности, как это ни странно, вступают на путь европеизации и американизации России. Евразийцы – государственники, имеют волю и вкус к власти, они сторонники организации, конструктивисты, в них очень силен элемент рационалистический, они очень отталкиваются от мистики, и им совершенно чужда эсхатологическая настроенность. На этом пути происходит существенное перерождение русской души и отступничество от русских чаяний, это есть своеобразный путь европеизации. Западной Европе очень свойственна государственность, национализм, любовь к власти, инстинкт организации и конструкции, рационализм и формализм, боязнь мистики, особенно мистики апокалиптической. В этом парадокс евразийства. Отталкивание от Европы и обращение к Азии ничуть не мешают европеизации. Евразийство хочет опереться на молодого человека нового психического склада. Евразийцы совершенно правы в своей идеологической борьбе против индивидуализма и формального либерализма, которые разложились и принадлежат отмирающей эпохе. Индивидуализм и в Европе кончается и не имеет будущего. Но преодоление индивидуализма не означает отрицания его исторического значения. Европейский индивидуализм имел миссию, подобную той, какую имел гуманизм греческий. Евразийцы склонны усваивать себе организаторски‑конструктивные методы Европы, но не понимают того значения, какое имел индивидуализм для развития человеческой души. Разрыв евразийского поколения с традициями русской творческой религиозной мысли выражается в его церковном консерватизме и в его тяготении к бытовому исповедничеству. Профетизм русской религиозной мысли евразийскому поколению остался чуждым, и великие мессианские упования русской религиозной мысли этому поколению не передались. Духовно евразийское поколение находится во власти реакции, его представители жаждут церковного покоя и порядка. Политическое, социальное, литературное новаторство и даже революционерство евразийцев соединяются с церковным консерватизмом и реакционерством. Говорю, конечно, о преобладающем настроении. Эсхатологическое сознание в евразийском катехизисе отсутствует, и отсутствие это и порождает утопический этатизм.[2] Пророческому эсхатологическому христианскому сознанию чужда идея, что благостное, праведное государство победит в этом мире, что государство прогрессивно будет оцерковляться и станет Церковью. Более оснований есть думать, что царство антихриста будет государством, царством кесаря, Левиафана. Прообразы этого мы видим в коммунизме, религиозное зло которого недостаточно видят евразийцы. Царство Божье не может иметь формы государства. Нужно всеми силами стремиться к христианизации государства изнутри, через христианизацию общества и народа. Но государство нужно ограничивать, чтобы смирить в нем Левиафана, ограничивать Церковью, субъективными правами личности, свободой творческого духа. Также бороться нужно и против абсолютизации общества. Дуализм и плюрализм в строении государства более гарантируют свободу духа, чем государственный монизм. И я склонен думать, что мы вступаем в эпоху ослабления государств в тех их формах, которые сложились в новой истории, и усиления самоорганизации общества и общественных союзов. Диктатура и цезаризм являются симптомами этого разложения старого государства. Евразийцы в нынешней своей стадии более являются выразителями империалистической идеи, татарско‑чингисханской и немецко‑петровской, чем русских духовных упований. Иосиф Волоцкий им ближе, чем Нил Сорский. Данилевский им ближе, чем Достоевский. Такого рода движение должно было явиться в наши дни, оно естественно и понятно, оно соответствует некоторым настроениям в России. Но не оно может претендовать на господство и менее всего на господство духовное. Это есть опять настроение десятилетия, противополагающего себя всем остальным десятилетиям. Но мы должны освободиться от гипноза десятилетий. Положительную заслугу евразийцев нужно видеть, прежде всего, в том, что они поддерживают достоинство России и русского народа в эпоху, когда русские, почитающие себя патриотами, его унижают. Евразийство может сыграть положительную политическую роль, но оно должно освободиться от соблазнов утопии, от эксцессов этатизма, от вожделений диктатуры партии. Новое поколение в России более реалистично, более прозаично и менее утопично, чем евразийцы.
Евразийцы развиваются и могут двигаться в разных направлениях. Они прислушиваются к тому, что происходит в России, и в этом их сильная сторона. Они – поколение пореволюционное, свободное от старых доктринерских идеологий. Но евразийцы подвергаются опасности отождествить происходящее с долженствующим быть и утерять свободу духа в отношении к тому, что представляется необходимым.1927 г
Напечатано по тексту религиозно‑философского журнала “Путь” (номер 8, С. 141–144), основанного Бердяевым в 1925 году в Париже.
Духу Православия чужд клерикализм. Это отрицательное явление более развилось на католической почве. Но мы сейчас присутствуем при нарождении русских клерикальных настроений и клерикальной идеологи. Наша православная молодежь, иногда даже в лучшей своей части, болеет этой болезнью. У молодежи это есть детская болезнь русского христианского ренессанса, увлечение реакцией против долгого периода отпадения от православной церкви. У стариков, у поколения дореволюционного, это есть скорее старческий склероз, совершенная неспособность к творчеству и свободе.
Последний архиерейский собор в Карловцах, вступивший на путь церковного раскола, разгромивший митрополитов, почти осудивший христианское движение молодежи, выделивший из себя яд злобных подозрений, пожелавший заразить здоровые души своей безумной мнительностью, наносит страшный удар клерикальным настроениям и заставляет задуматься над основными вопросами церковного самосознания. В этом положительная сторона этого несчастного собора. Иногда через зло достигается добро. Промысел Божий пользуется и злом для целей добра. Гнойный нарыв вскрылся. И это хорошо. Авторитету русских епископов Югославии и Болгарии, практиковавшему все эти года духовное запугивание, нанесен страшный удар. И это испытание нужно выстрадать тем, которые подвержены были иллюзиям клерикализма.
В известной части русской молодежи, религиозно горячей и искренней, но не продумавшей до конца и не осознавшей еще основ Православия, была тенденция считать каждого епископа непогрешимым и видеть в нем что‑то вроде папы. В поколении, захваченном реакцией против разрушительной стихии революции, есть потребность прислониться к незыблемой скале, потребность в твердом авторитете, есть боязнь свободы духа, свободы выбора. Но такого рода настроенность должна привести к трагическим конфликтам для совести.
Только в католичестве до конца продумана концепция внешнего непогрешимого иерархического авторитета и сделаны из нее все выводы. В православии эта концепция всегда может быть лишь половинчатой и противоречивой. Если с одним папой можно прожить жизнь, то с двадцатью пятью папами, друг с другом спорящими и друг друга отрицающими, можно легко попасть в сумасшедший дом. В действительности православие отличается от католичества не тем, что в нем двадцать пять пап вместо одного, а тем, что в нем нет ни одного папы. И это нужно сознать до конца.
Православное сознание не знает непогрешимого авторитета епископов. Внутренне непогрешимым авторитетом обладает лишь вся Церковь, лишь церковная соборность, и носителем ее является весь церковный народ всех христианских поколений, начиная с апостолов. В окружном послании патриархов Востока 1848 г. говорится: Непогрешимость почиет единственно во вселенскости Церкви, объединенной взаимной любовью, и неизменяемость догмата, равно как и чистота обряда, вверена охране не одной иерархии, но всего народа церковного, который есть тело Христово. Носителем и хранителем христианской истины является весь церковный народ, а не одна иерархия. И нет никаких формально‑юридических гарантий для выражения внутреннего авторитета Церкви. Один православный может быть более прав, чем преобладающее большинство епископов. Было время, когда св. Афанасий Великий, который был тогда диаконом, т. е. лицом иерархически незначительным, был носителем истины православия против всего почти епископата Востока, склонившегося к арианству. Клерикалы того времени, поклонники внешнего иерархического авторитета должны были быть против св. Афанасия Великого и за епископов‑ариан. Для православного сознания вполне допустимо, что светский писатель А. С. Хомяков более выражал дух православия, чем некоторые митрополиты, подверженные влиянию школьного богословия, католического и протестантского.
В православии возможна была большая свобода религиозной мысли. Великое преимущество православия в том и заключается, что оно не знает внешних гарантий, что оно не мыслит Церкви по образу царства этого мира, по аналогии с государством, требующим формально‑правовых условий, что оно верит в непосредственное действие Самого Духа Святого. Вопрос, который сейчас затемнен и который должен быть поставлен во всей остроте, есть вопрос о том, признает ли православие свободу совести, как первооснову духовной жизни. Тютчев написал когда‑то по поводу папы Пия IX: их загубило роковое слово – свобода совести есть бред. Эти слова, столь близкие нашим славянофилам, имеют смысл и оправдание лишь в том случае, если православие само твердо признает, что свобода совести есть не бред, а величайшая ценность христианства. Но мы живем в эпоху страха перед свободой совести, робости, нежелания взять на себя бремя свободы, бремя ответственности.
Современные клерикальные настроения представляют собой католический уклон в понимании Церкви и церковного авторитета. И этот католический уклон особенно силен у тех, которые считают себя фанатическими и исключительными православными, ненавидят католичество и неспособны понять его положительные стороны. Сейчас происходит реакция не только против русской антирелигиозной мысли, что есть великое благо, но и против русской религиозной мысли XIX века, что есть уже неблагодарность и недолжный разрыв преемственности. Русская религиозная, православная мысль была необычайно свободолюбива, она вынашивала идею свободного духа, свободы совести и готовила творческую духовную реформу, духовное возрождение, которое сорвано было силами давно начавшейся атеистической революции и неотрывными от нее силами мертвящей реакции, угашающей дух. А сейчас творческое и возрождающее движение в церкви затруднено и парализовано ложью живоцерковников и неправдой церковного реформаторства в советской России.
Проблема свободы совести представляется мне основной в христианском сознании и ставить ее нужно с как можно большей ясностью и радикализмом. Свободе всегда принадлежит примат над авторитетом. Даже в католичестве искание незыблемого авторитета, обладающего внешне уловимыми признаками, в конце концов, фиктивно и основано на иллюзии. Непогрешимый авторитет папы предполагает его признание и удостоверение свободной совестью верующего католика. Папский авторитет не есть внешняя предметная реальность, не есть реальность природно‑материального порядка, подобного реальности насилующего нас камня или куска дерева, извне на нас ударяющего, это есть реальность духовного порядка. Но папский авторитет становится духовной реальностью лишь вследствие акта веры, который есть акт свободы, вследствие признания религиозного субъекта.
Особенность господствующего католического сознания в том, что оно хочет очень скоро остановить действие свободы совести, что оно не признает ее перманентного действия. Православное же сознание в принципе не признает этой остановки свободы совести, этого перенесения ее на высший церковный орган – свобода совести действует непрерывно, через нее осуществляется сама соборная церковная жизнь. Жизнь Церкви есть единство любви в свободе. В сущности все духовно значительное, и в мире католическом тоже, предполагало свободу совести, творчество свободного духа, а не действие внешнего формального авторитета.
Свобода совести в православии совсем не означает протестантского индивидуализма, она извнутри, в глубине соединена с соборностью. Реформация была свято права в своем утверждении свободы совести, но в дальнейшем встала на ложный путь индивидуализма. Свобода не есть уединение души, противопоставление ее всякой другой душе и всему миру. В стихии свободы, свободы христианской, таинственно соединяется индивидуально‑неповторимое с универсально‑всеобщим. Но свобода никогда не может быть прекращена и пресечена, никогда не может быть переложена на другого и другое, она может быть лишь просветлена.
Против моей свободной совести я никогда и ничего не приму, не приму и Самого Бога, ибо Бог не может быть насилием надо мной. И мое смирение перед высшим может быть лишь просветлением и преображением моей свободной совести изнутри, лишь таинственным приобщением моим к высшей реальности.
Даже вселенский собор, высший орган православия, не обладает формальным авторитетом. Вселенский собор не обладает формальными и юридическими признаками, чувственно уловимыми, он не имеет законнической природы. Из собора тоже не надлежит делать идола и абсолютизировать его. Собор может оказаться разбойничьим, имея все обличье законности. Подлинно вселенский собор есть тот, в котором реально действует Дух Святой. И подлинность, духоносность вселенского собора обличается и удостоверяется свободной совестью церковного народа. Дух Святой действует в церковном народе, в церковной соборности и устанавливает различие истины от лжи, подлинности от подделки.
Порядок бытия церковного, как бытия духовного, тем отличается, что в нем нет внешних гарантий, нет правовых и материально уловимых признаков подлинности. Все решается духовной жизнью, духовным опытом. Дух Святой действует не так, как действуют природные силы и силы социальные. Тут нет никаких аналогий. Слишком большая установка такой аналогии в церковной жизни есть соблазн, есть уподобление Церкви миру сему.
Иерархический строй церкви, исторически неизбежный, выработка канонов – явление вторичного, а не первичного порядка. Первична лишь сама духовная жизнь и то, что в ней узревается. Ею держится Церковь в своей святости. Утверждение примата внешнего иерархического авторитета всегда есть самообман и иллюзия. Окончательно подчиняются внешнему иерархическому авторитету лишь те, внутренние убеждения которых с ним оказываются тождественными или сходными. Никто еще никогда не подчинился внешнему авторитету, если совесть его решительно против того восставала, или подчинился лишь в порядке чисто внешней дисциплины.
Это нужно сказать и про католиков. Внешний авторитет сам по себе никогда и никого ни в чем не мог убедить. Убеждение всегда приходит изнутри и всегда предполагает взаимодействие свободы совести и Духа Божьего. Клерикализм убедителен лишь для клерикалов по убеждению, для тех, которые сами дорожат более всего клерикальным строем жизни, которые хотят, сами хотят торжества клерикального направления, клерикальной партии. Защитники авторитета и противники свободы обыкновенно для себя признают полную и неограниченную свободу, но не хотят ее признать для других. Это – самые несмиренные люди, наиболее своевольные.
Это подтверждается на примере правоклерикального направления в эмиграции. Крайние и иногда фанатические сторонники линии архиерейского синода в Карловцах против митрополита Евлогия представляют крайнюю правую монархическую группу, которая выбирает высший церковный орган и митрополитов не на основании церковно‑канонических соображений, а на основании своих политических симпатий, своих черно‑реакционных вожделений. Если бы архиерейский синод и архиерейский собор обнаружил вдруг более левое и свободолюбивое церковное направление, если бы он порвал с правым монархическим течением, то нынешние его сторонники отступили бы от него и начали бы отрицать его церковность и его авторитетность. Таковы ведь и коммунисты, которые для себя признают полноту свободы, но не дают дышать свободно другим.
Все эти крайние правые монархисты в эмиграции вполне признают для себя свободу совести и свободу выбора и полагают авторитет церкви, где им хочется и нравится, наделяя авторитетом тех митрополитов и епископов, которые потакают их инстинктам и сочувствуют им. Я не раз слыхал от русских в Берлине, что они не признают авторитета митрополита, юрисдикции которого они подчинены, потому что им не нравится его направление. Голоса Церкви, который осудил бы их вожделения и политические симпатии, эти люди никогда бы не послушались и не признали бы его церковным. Ведь они никогда не желали слушать патриарха Тихона, т. е. верховный орган православной русской церкви, не слушали его и епископы, которым не нравилось направление патриарха. Само образование архиерейского синода было нарушением воли патриарха, было самочинным актом.
Все эти своевольные люди правого лагеря никогда не признавали свободы церкви и всегда отстаивали насилие государства над церковью, вернее, не государства, а своего политического направления, своих интересов. Первый карловацкий собор, осужденный патриархом, весь прошел под знаком засилья правых монархических организаций над церковью. При чем же тут иерархичный церковный авторитет! Его не признают, когда он не нравится.
Сейчас в правой эмиграции признается церковный авторитет там, где одобряются и поощряются реакционно‑реставраторские политические вожделения, где есть одержимость духом обскурантизма и злобной манией жидо‑масонства. С канонами никто не церемонится и ими лишь лицемерно и лживо прикрываются. Совершенно ясно, что с канонической точки зрения, правда, на стороне митрополита Евлогия, но право‑клерикальное направление признает, что церковный авторитет принадлежит архиерейскому синоду, потому что он выражает их дух и их стремления. Правоклерикальное направление и состоит из тех людей, которые хотят засилья церкви своей политикой, монархической государственностью. Оно тоже признает примат свободы над авторитетом, но только собственной свободы. Оно проецирует свою свободу или свое своеволие в органе, который им нравится и им подходит. И эта ложь должна быть изобличена и изобличается самой жизнью.
Карловатский епископат есть известная партия, известное течение, а не голос Церкви. Притязания этого течения загранично‑эмигрантской православной церкви на автокефалию и на возглавление всей русской православной церкви жалки и смехотворны. Эмигрантская иерархия в значительной своей части (не вся, конечно) есть иерархия, покинувшая свою паству, и потому она не может иметь большого нравственного авторитета для всего русского православного мира. Ни один епископ или священник в эмиграции не имеет нравственного права судить епископов и священников, обреченных на мученическую жизнь в России. А есть такие, которые с презрением и осуждением говорят о патриархе Тихоне, о митрополите Вениамине. Это – безбожное и отвратительное явление. Неизвестно, как вел бы себя в советской России презирающий и осуждающий, не примкнул ли бы он к живой церкви, как сделали многие бывшие черносотенцы, так как и раньше занимались прислужничеством к начальству и доносами. А мы уже знаем, что и патриарх Тихон, и митрополит Вениамин были, хотя и по разному, мучениками.
Мы вступили в длительную эпоху церковных смут. Для того, кто знает историю церкви, ничего небывалого в этом нет. Но мы, русские, привыкли к длительному периоду церковного покоя и устойчивости. Православные люди жили в устойчивом быту, в крепкой сращенности церкви и государства. В XIX веке в русском мире происходили бурные движения, которые и привели к кризису и катастрофе, но церковь находилась по видимости в состоянии могильного покоя и бездвижности. Быть может катастрофа и произошла от этой бездвижности церкви. Монархия охраняла покой церкви, но вместе с тем мешала в ней и всякому творческому движению, не допускала даже собора.
Многие православные люди думали, что этот покой и бездвижность будут вечны. Но для взора более проницательного видно было, что не все было так благополучно и спокойно в Православной церкви. Происходили внутренние процессы, раскрывались внутренние противоречия, которые не выявлялись лишь потому, что церковь находилась в рабстве у государства. Преобладающий стиль императорской церкви был стиль мертвого и мертвящего застоя и бездвижности. Не было церковных смут и борьбы, потому что было мало творческой жизни, или она была лишь в меньшинстве, которое бессильно было себя выразить. Когда в церкви первых веков были смуты, в ней была и бурная творческая жизнь. Церковные смуты могут быть обратной стороной бурной внутренней жизни, религиозной напряженности, внутренних борений духа.
Мы вступаем в такую эпоху, очень трудную, мучительную, ответственную, но радующую возникновением творческого движения. Православный душевный уклад должен будет переделаться. Новый стиль возникает в православии. И нужно душу свою вооружить для бурной эпохи смут. К старому покою и устойчивости возврата нет и быть не должно. Нельзя снять с себя бремя свободы выбора, нельзя опереться на вне нас находящуюся незыблемую скалу. Скала в глубине нашего духа.
Мы присутствуем в истории православной церкви при окончании и ликвидации не только петровского синодального периода, но и всего константиновского периода в истории христианства и при начале новой эпохи в христианстве. Церковь по‑новому должна будет определить свое отношение к миру и совершающимся в мире процессам. Она должна быть свободна и независима от государства, от царства кесаря, от мирских стихий и вместе с тем более благожелательно отнестись к положительным и творческим процессам в мире, благословить движение мира ко Христу и христианству, хотя бы еще неосознанные, иначе встретить блудного сына, возвращающегося к Отцу, чем это делалось до сих пор.
В эпоху исторического кризиса и перелома, крушения старого мира и нарождения нового мира церковная иерархия не сразу и не вся сознает размеры событий, не сразу и не вся понимает церковный, религиозный смысл происходящего. Часть иерархии остается целиком в старом и вожделеет реставрации старой, спокойной, бездвижной жизни, она нечувствительна к историческому часу, слепа к тому, что происходит в мире, с нелюбовью и недоброжелательством смотрит на трагедию человечества, полна фарисейской самоправедности и замкнутости. Другая часть иерархии начинает чувствовать совершившийся перелом, но недостаточно еще сознает его, третья часть уже более сознает его. Такое разное чувство и сознание происходящего порождает борьбу внутри самой иерархии и церковную смуту. Как и всегда, к идейным мотивам примешиваются мотивы классовые и личные, классовая борьба и личное соревнование.
Епископы карловатские, карловатский синод и преобладающая часть собора, представляют течение в иерархии, целиком принадлежащее разлагающемуся прошлому, отмирающей эпохе в православии. Они ничего не видят и не понимают в происходящем, они духовно слепы и озлоблены на трагедию, происходящую в мире и человечестве, они – современные книжники и фарисеи, для них Суббота выше человека. Последний Карловатский собор и его проклятие всякому творческому в христианстве движению есть последние судороги ликвидирующегося церковного периода, монофизитского по духу, т. е. отрицающего человека, и цезарепапистского по плоти, т. е. обоготворяющего на земле кесаря. Это течение должно анафематствовать все, что происходит в человечестве и в мире, оно одержимо злобной мнительностью и подозрительностью, всюду видит лишь нарастание зла, так как хочет лишь старой жизни и ненавидит всякую новую жизнь.
Оно привязано не к вечному в церкви, а к тленному, преходящему в ней. Оно мешает восходам молодой жизни в православии. За этим течением не только нет духовной правды, но нет и канонической правды. Правое синодальное течение в эмиграции формально схоже с левым синодальным течением в советской России. Свобода церкви не блюдется ни там, ни здесь. Правда духовная и правда каноническая целиком на стороне той части иерархии, которая блюдет свободу церкви, которая ставит церковь над мирскими стихиями и политическими страстями, которая ощутила размеры совершившегося исторического переворота и невозможность возврата к старому. Эта часть иерархии за границей представлена митрополитом Евлогием. И дело тут не в личных взглядах митрополита Евлогия, а в том, что он является орудием Высшей Воли, Божьего Промысла в трудный и мучительный переходный период в существовании Православной церкви за границей. Таков был и патриарх Тихон для всей России. В этом ясно дана нам помощь Божия.
Патриарх и митрополит не могут быть выразителями каких‑либо крайних течений в церковной жизни и редко им принадлежит инициатива бурных движений. Их миссия – поддерживать церковное равновесие в период смут и волнений. Но в этой своей миссии они не должны мешать нарождающимся творческим движениям, они могут их благословлять, вводя их в основное русло церковной жизни.
Равновесие церковной жизни, ее единство не может быть поддержано через компромисс с разлагающейся частью иерархии, проклинающей творческую жизнь и мешающей церкви войти в новую эпоху. Это разлагающееся течение обречено на отмирание. Церковное развитие находится по ту сторону его мертвящей политики, угнетающей дух. Я думаю, что раскол раньше или позже неизбежен. От него православная Церковь не перестанет существовать и не потеряет своего единства. Важно единство в истине, а не компромисс истины с ложью. И страх перед тем, что реакционно‑реставраторское течение окончательно отколется и отомрет, есть не религиозно‑церковный, а политический страх, так как это будет смертельным ударом для всего правого монархического течения. Но этот удар должен быть нанесен, ибо это течение мешает выздоровлению России и русского народа, мешает нарождению лучшей жизни.
Крайняя правая партия в православии держится за церковный национализм, за уединение и изоляцию православия в христианском мире, она не понимает духа вселенскости. Нам, вероятно, придется пережить новый раскол старообрядчества и староверия, но в самом дурном смысле слова. В старом расколе была вся народная правда, которой не будет в новом расколе. Этот раскол возможен и в самой России, и в эмиграции. И к этому следует быть духовно готовыми. Это требует мужества и решимости.
Наша эпоха в церковной жизни ставит очень трудную и сложную духовную проблему. Что значит, если епископ, известный своей аскетической жизнью, подлинный монах, исполнявший заветы святых отцов, известный своей духовностью, оказывается духовно‑слепым, а не зрячим, если он не способен к различению духов, если повсюду в мире и человечестве видит лишь зло и тьму и обречен, распространять вокруг себя проклятие и мрак? Это очень тревожный вопрос, требующий вдумчивого к себе отношения. По‑видимому, аскетика сама по себе не ведет к высшим духовным достижениям и не вырабатывает духовной зрячести, она может даже иссушить и ожесточить сердце. Диавол тоже аскет. Необходим другой элемент в духовном пути, без которого аскетика лишается преображающего и просветляющего смысла. Аскетика без любви бесплодна и мертва. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая, или кимвал звучащий. Если я имею дар пророческий, и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, все переносит (1 Кор 13: 1–7).
Епископы, собравшиеся на архиерейский собор в Карловцах, не исполнили заветов апостола Павла. В словах и делах их нет любви, есть глубокое недоброжелательство, нелюбовь к человеку и к Божьему творению. Они не долготерпят, не милосердствуют, они превозносятся, раздражаются, мыслят зло, они ничего не покрывают, ни на что не надеются, ничего не переносят. Аскет монах может исполнить заповедь любви к Богу, но если он не исполняет заповеди любви к ближнему, не любит человека и Божьего творения, если видит в человеке лишь зло, то сама его любовь к Богу искажается и извращается, то он – медь звенящая или кимвал звучащий.
Аскетически‑монашеское недоброжелательство, нелюбовь, подозрительность к человеческому миру, ко всякому движению в мире есть извращение христианской веры. Христианство есть религия любви к Богу и любви к человеку. Одна любовь к Богу без любви к человеку есть извращение любви к Богу. Одна любовь к человеку без любви к Богу (гуманизм) есть извращение любви к человеку. Тайна христианства есть тайна Богочеловечества. Монах‑аскет, в котором сердце иссушилось и охладилось, который любит Бога, но с нелюбовью относится к человеку и миру, есть практический, жизненный монофизит, он не исповедует религии Богочеловечества. Он виновник нарождения в мире безбожного гуманизма.
В православии был этот монофизитский уклон, и теперь мы изживаем его злые плоды. Мы присутствуем при последних судорожных движениях монофизитского, враждебного человеку православия или, вернее, лже‑православия. Этот дух обречен на гибель, он злобствует против человека и проклинает всякое движение жизни. Этот вопрос остро ставится в нашей церковной смуте. Ныне происходит борьба за христианство, как религию Богочеловечества, соединяющую в себе полноту любви к Богу и человеку. Аскетика без любви мертва, она делает слепым, а не зрячим, делает человека скопцом. Эта истина должна быть выстрадана в нынешней смуте. Тот, кто исключительно заботится о спасении своей души и кто холоден и жесток к ближнему, тот губит свою душу. В епископах, вынесших свои резолюции на карловатском соборе, нет признаков христианской любви, они творят дело нелюбовное, враждебное человеку. Они – монофизиты в духовно‑моральном смысле слова, сколько бы они ни исповедовали безупречные церковно‑догматические формулы. В этом метафизической смысл событий.
В наши дни много говорят об оцерковлении жизни. Это есть лозунг христианского движения русской молодежи. Лозунг, бесспорно, истинный, но требующий уяснения и раскрытия своего содержания, так как в него можно вложить очень разнообразное содержание.
Оцерковление жизни можно понимать в духе ложного иерократизма и клерикализма, в духе старой византийской теократической идеи, исторически разложившейся и не восстановимой. Некоторые и понимают оцерковление, как подчинение всех сторон жизни иерократическому началу, прямому водительству иерархов. Это есть скорее католическое, чем православное понимание оцерковления, католическая теократическая идея, от которой и многие католики освобождаются. Непонятно, откуда взялась у известной части нашей молодежи та идея, что церковная иерархия обладает своего рода непогрешимостью и особыми харизмами знания и учительства. В сущности, такого рода учения в Православной церкви нет, хотя бы отдельные иерархи и держались его. Оно в корне противоречит началу соборности, которое лежит в основе Православной церкви. Соборность Церкви, которая не может иметь никакого формально‑юридического выражения, непримирима с утверждением непогрешимого авторитета епископата и исключительными харизматическими привилегиями его в учении и учительстве.
Дух дышит, где хочет. Для православного сознания Церковь не есть общество неравное. Священство имеет, прежде всего, литургическое значение, и в этом оно непогрешимо и не зависит от свойств и дарований человеческих. Но христианскую истину раскрывает и хранит весь церковный народ, и в нем могут являться люди с особого рода индивидуальными дарами учения.
Священству принадлежит водительство в духовном пути спасения душ, но не в пути творчества, которое есть призвание человеческое. Да и старчество, столь характерное для православия, свидетельствует о том, что даже духовные дары водительства душ не связаны прямо с иерархическим чином. Ибо старец есть человек, наделенный индивидуальными харизмами, угадываемыми народом, человек духоносный, а не определенный иерархический чин. Старцы сплошь и рядом преследовались епископами.
Бесспорно, епископу принадлежит дисциплинарная власть в своей епархии, без которой невозможно управление Церковью. Но это не означает ни непогрешимого авторитета, ни особого дара учительства. Епископат возглавляет иерархический строй церкви, поддерживает церковное единство, охраняет православную традицию. Но ему не принадлежит господство над всей творческой жизнью человека и народа, над его познанием, над его общественным строительством, ему не принадлежит творческая инициатива в духовной жизни. Даже католичество признает, что внутренне священство принадлежит всем христианам, и что в известном смысле все христиане священники. Только во внешнем плане католичество в крайней форме утверждает иерархическое начало. Тем более потенциальное всеобщее священство признает православие. Это согласно с учением апостолов и многих учителей церкви. Между тем как иерократизм есть уклон и извращение, нежелание признать, что Дух Святой действует во всем христианском человечестве, что Христос пребывает в Своем народе. Это есть соблазн Великого Инквизитора, отречение от свободы духа и снятие бремени свободы выбора, возложение ответственности на немногих и снятие ее с совести всех христиан. И несправедливо винить в этом одних католиков.
Оцерковление жизни можно понимать в диаметрально противоположном смысле, видеть в нем именно возложение большей ответственности на весь церковный народ, на всех христиан, более сильное действие духовной свободы. Может и должно быть осознано, как потенциально церковное, и то, что не имеет официального, формально‑юридического штемпеля церковности.
Оцерковление жизни есть процесс незримый, не бросающийся резко в глаза. Царство Божие приходит незаметно, в глубине человеческих сердец. Народы устали от условной лжи внешней церковности, символически освящавшей жизнь без реального ее преображения и улучшения. И подлинное оцерковление жизни означает не только процессы, которые формально подчинены церковной иерархии и подвергаются условно‑символическому освящению, но, прежде всего те процессы, в которых реально изменяется и преображается жизнь в духе Христовом, осуществляется правда Христова. Эти процессы внешне могут оставаться свободными и могут казаться автономными, но внутренне в них может действовать Дух Христов. Очень хорошо говорит Бухарев, один из самых замечательных русских богословов, о снисхождении Христовом на землю, об усвоении себе Христа в каждом акте нашей жизни.
Оцерковление жизни есть реальная, онтологически‑реальная христианизация жизни, внесение Христова света, Христовой правды, Христовой любви и свободы во все сферы жизни и творчества. Этот процесс требует духовной свободы, он не может быть результатом действия внешнего авторитета или принуждения.
Оцерковление жизни не есть только процесс сакраментальный, процесс освящения жизни, но есть также процесс профетический, процесс творческий, преображающий жизнь, изменяющий ее, а не только освящающий. Поэтому он не может протекать под исключительным господством иерократического начала, в нем действует христианская свобода.
Ошибочно и произвольно утверждение, что благодать действует в авторитете и не действует в свободе. Указывают на то, что свобода совершила много бесчинств в мире, что она бывала темной и безблагодатной. Но ведь и авторитет совершал немало бесчинств, и он умножал тьму и злобу в мире. Гарантий нет ни в авторитете, ни в свободе, ибо и за авторитетом может скрываться злая свобода, своеволие и произвол. Но и свобода может быть просветленной и благодатной, и через свободу действует Дух Божий.
Где Дух Божий, там и свобода. И без свободы неосуществимо дело Божье в мире. Свободная совесть в человеке замутнена первородным грехом, но не уничтожена. Иначе стерт был бы в человеке образ и подобие Божье, и он не мог бы воспринять никакого откровения, для него невозможна была бы религиозная жизнь. Христовым же искуплением возрождена и просветлена человеческая свобода изнутри и утверждена в человеке свободная совесть, как непосредственное действие в нем Христова света.
Бесстрашное утверждение свободы духа, свободы совести имеет особенно значение в нашу критическую эпоху, в эпоху церковных смут и религиозных бурь. Свобода сурова и требует силы духа. Но эта суровость и сила сейчас нужна. Именно в нашу эпоху невозможно исключительно опереться на внешний авторитет, на скалу, возвышающуюся вне нас, а не в нас. Мы должны до конца пережить это чувство отсутствия внешних гарантий и внешней незыблемости, осознать его, чтобы в нас самих открылась незыблемая твердыня.
И это менее всего значит, что Бог покинул нас. Действие Духа Святого быть может сильнее, чем когда‑либо. Промыслительное значение имеет колебание всех внешних авторитетов, крушение всех иллюзий. Это послано нам, как испытание нашей христианской свободы, нашей внутренней твердыни. Ни одному православному христианину не дано будет уклониться от свободы выбора, от совершения акта свободной совести. От этого нельзя будет трусливо уклониться и спрятаться в безопасное место. Самой высшей иерархии в эпоху смут и борьбы понадобится свободная совесть христиан, свобода их выбора. Богу нужна свободная совесть человека, свободная решимость человека, свободная любовь его. В этом смысл миротворения. Отрицание свободы совести, как верховного начала и первоосновы религиозной жизни, есть отрицание смысла мира, есть рабье богопротивление, есть соблазн и срыв. Пафос свободы совести не есть пафос формального и индифферентного либерализма, он относится к самому содержанию христианской веры.
Я все время говорил не о той свободе, которую я требую от Бога, а о той свободе, которую Бог требует от меня. Церковные смуты, которые происходят сейчас внутри России и в эмиграции, ставят требование твердости, крепости и силы в свободе, требования мощи свободы в нас. Без духа свободы нельзя победить соблазн коммунизма и нечего ему противопоставить.
Бремя и тяжесть свободы, подвиг свободы нам не дано будет с себя сбросить. Мы в известном смысле, как это ни парадоксально звучит, принуждаемся к свободе самим трагическим ходом мировых событий. И сознание наше должно стоять на высоте исторических свершений. Печальные события, свершившиеся на архиерейском соборе, имеют свою положительную сторону – они освобождают от иллюзий и соблазнов, они отрицательным путем напоминают христианам о их первородстве и о их высшем призвании. Заподазрование христианского движения русской молодежи, самого ценного, что сейчас есть в эмиграции, научает молодежь тому, что вне свободы духа невозможно христианское возрождение. И сейчас яснее, чем когда‑либо, что Православная церковь держится не внешним авторитетом, не внешним организационным единством, а внутренней свободой духа, свободой Христовой, свободой и благодатью, действием Духа Святого на свободу человека.
(Журнал “Путь”, Париж, 1926, № 5)
Мы живем в универсалистическую эпоху, эпоху мировых объединений, религиозных, культурных, интеллектуальных, экономических, политических. Мировые организации, конгрессы, съезды, разнообразные международные встречи являются симптомами этой повсюду обнаруживающейся воли к сближению и объединению. Это началось после кровавого раздора мировой войны. Мир все еще терзают яростные национальные страсти. Грех и болезнь национализма все еще искажают христианские исповедания. Ужас возможности новой войны все еще мучит европейские народы. Но никогда еще не было и такой тоски по единству, такой жажды преодоления партикуляризма и обособленности. Эта мировая тенденция обнаруживается и в жизни христианских церквей. Вопрос экуменический стал для христианского сознания вопросом дня. Христианский Восток выходит из состояния вековой замкнутости и Христианский Запад как будто бы перестает себя считать единственным носителем истины. Много пишут и говорят о сближении разорванных частей христианского мира, о соединении Церквей. Начинают остро сознавать, что разделение и раздор внутри христианства есть великий соблазн перед лицом мира нехристианского и антихристианского. Но существуют ли благоприятные психологические предпосылки для сближения и соединения? Это первый вопрос, который мы должны поставить. Вопрос о преодолении разделения, о вселенском единстве христианского человечества мало должен беспокоить тех православных, католиков и протестантов, которые чувствуют совершенное довольство своей конфессией, видят в ней полноту истины и полагают ее единственной верной хранительницей христианского откровения. Нужно почувствовать беспокойство и недовольство, сознать исторические грехи своей конфессии, испытывать неполноту и потребность восполнения, чтобы загореться экуменическим движением. Нужно почувствовать наступление новой мировой эпохи, сознать новые задачи, стоящие перед христианством, чтобы преодолеть провинциализм конфессии. Не для всех христиан существует так называемая экуменическая проблема, многие считают ее ложной проблемой.
Самая постановка проблемы предполагает существование греха не только личного, но и греха церквей, в их человеческой, конечно, стороне. Экуменическая проблема есть не только проблема христианского единства, но и проблема христианской полноты. Но к полноте стремится лишь тот, кто сознает неполноту, кто нуждается в восполнении. Слишком многим еще христианам их провинциальный кругозор представляется кругозором вселенским. Особенно сложен и труден вопрос о католиках. Католикам официально запрещено принимать участие в экуменическом движении, они не посылают своих представителей на конгрессы и съезды. Отдельные католики движению сочувствуют, участвуют в частных интерконфессиональных кружках и собраниях. Но католическая церковь имеет свое веками выработанное отношение к проблеме вселенскости, и католическая психология сопротивляется новым формам движения к вселенскости. Вселенское единство католическая церковь признает основным своим свойством, изначально ей присущим, и от него принимает она свое наименование. Тоскующим по единству и вселенскости она говорит: приходите к нам, и тоска ваша утолится, ибо мы имеем то, чего вы ищете. Экуменическое движение для католической церкви есть не что иное, как движение к воссоединению с католической церковью. Католическое сознание считает естественным беспокойство и недовольство у схизматиков, отделившихся от вселенской церкви, но не допускает его для католиков, пребывающих в лоне церкви, знающих полноту и единство. Есть, конечно, католики, которые мучатся разделением христианского мира и испытывают беспокойство, но не они определяют католическую политику в отношении к экуменической проблеме. Нужно, впрочем, сказать, что не только для католиков, но и для всякого человека, видящего в своей конфессии абсолютную полноту истины, остается лишь вопрос о личном обращении других в эту конфессию. Католики понимают под соединением церквей присоединение к католической церкви. Но также и православные понимают под соединением церквей присоединение к православной церкви. Ярко выраженные протестанты, видящие в католической и православной церкви языческие и магические элементы, ждут личного обращения к церкви Слова Божьего. Так, школа Карла Барта, самое интересное течение религиозной мысли современной Европы, совсем не благоприятна для экуменического движения и равнодушна к нему. Это определяется ее протестантским пафосом, ее возвращением к истокам реформации. Но большая часть протестантов, особенно мира англо‑саксонского, настроена иначе. Экуменическое движение зародилось в недрах протестантизма. Если для православных и католиков само словосочетание «соединение церквей» неточно и двусмысленно, ибо они верят в существование единой видимой церкви, то для протестантов оно возможно, ибо едина для них невидимая церковь, видимых же церквей может быть много, столько же, сколько христианских общин. Для православных участие в возникшем движении легче, чем для католиков, православные гораздо свободнее католиков, но труднее, чем для протестантов, ибо и для православных существует единство видимой церкви с догматами и таинствами.
Важнее всего сознать, что церковь есть богочеловеческий процесс, взаимодействие Божества и человечества. В истории церкви действует не только Бог, но и человек. И человек вносит в жизнь церкви, как свою положительную творческую активность, так и активность отрицательную, искажающую. Человек наложил свою печать на историю всех церквей и всех конфессий, и он всегда склонен принимать свою собственную печать за печать Божества. За преданием, за традицией, не только православной, католической, но и протестантской, ибо есть и протестантская традиция, всегда скрывается человеческая активность. И эта человеческая активность не только развивала то, что, как семя, было заложено в Божественном Откровении, но и часто заменяла собой Божественное Откровение. Так сплошь и рядом в истории церкви Евангелие было заслонено и задавлено человеческим преданием. Слишком часто новому человеческому творчеству противопоставляли не самое Божественное Откровение, а окостеневшие уже результаты старого человеческого творчества. Человеческое творчество и активность прошлого иногда оказываются инерцией, мешающей человеческому творчеству и активности настоящего. Мы это постоянно видим в истории христианства. Требование охранения предания отцов и дедов часто бывает неверностью отцам и дедам, которые в свое время творили новое. Живое предание не только сохраняется, но и творится дальше. Нельзя ничего понять в религиозной жизни, если не помнить все время, что откровение двучленно и предполагает не только открывающегося Бога, но и воспринимающего откровение человека. Человек в восприятии откровения не может быть подобен камню или куску дерева, он активен. Когда человек слушает Слово Божье, – любимое выражение бартианства, – он не может быть пассивен, он всегда имеет творческую реакцию в самом слушании, всегда есть активное осмысливание слушающего. Восприятие откровения есть уже и ответ на него. Поэтому элемент божественного и элемент человеческого в жизни церкви, в христианской истории так перемешаны, что их очень трудно различать и разделять. Абсолютных гарантий чистоты божественного элемента, не усложненного элементом человеческим и не искаженного им, почти и быть не может. Такая гарантия была бы отрицанием человеческой свободы. Католики ищут этих гарантий в непогрешимом авторитете папы, протестанты – в авторитете Священного Писания, православные – в соборности и в Церковном предании. Но в этих исканиях гарантии не выходят из порочного круга, ибо авторитет папы существует лишь до тех пор, пока вера католиков, вера человеческая, наделяет папу этим авторитетом, ибо само Священное Писание, слово Божие проходит через человеческую стихию, выражено на человеческом языке и передано нам Церковным Преданием, ибо соборность церкви предполагает человеческую свободу и вне этой свободы не существует самого предания. Учение Хомякова о соборности имеет преимущества, ибо в нем сознательно поставлена в центре идея свободы, а не идея авторитета. А Достоевский признал даже идею авторитета антихристовым соблазном.
Вопрос сложен потому, что не только все искажающее, извращающее и греховное в жизни церковной происходит от человеческого элемента, но от него же происходит и все творческое, обогащающее и развивающее. Человеческая активность прошлого, человеческое предание часто мешают разрешению задач, поставленных нашей эпохой, но эти задачи могут быть разрешены лишь новой человеческой активностью, лишь зачинанием нового предания. Человеческий элемент, со своими активными реакциями индивидуализирует христианское откровение, преломляет в национальных типах мышления и национальных типах культуры, соединяет и сращивает с формами национально‑политическими. Вселенская истина христианства по‑разному воспринимается и дает разные типы на Востоке и Западе, в мире латинском, германском или англосаксонском. Мы не знаем типа христианства, который не был бы человечески индивидуализирован. Эта индивидуализация сама по себе есть положительное обогащение и благо. В доме Отца обителей много. Человеческим грехом является не индивидуализация, а разделение и вражда. Если бы не было разделения церквей, то все равно было бы огромное различие между типом христианства Восточного и типом христианства Западного. Это различие было огромно между восточной и западной патристикой, когда церковь была еще едина. Если Индия и Китай станут христианскими, то они создадут новый индивидуализированный тип христианства, отличный от восточного православия, и от западного католичества и протестантизма. Вы не убедите индусов или китайцев, ставших христианами, что античная греко‑римская культура с Платоном, Аристотелем и стоиками есть необходимая составная часть христианского откровения. У них была своя древняя мудрость, были свои великие философы, и они останутся им более близкими, чем Платон и Аристотель. Это должно быть отнесено к человеческому, а не божескому элементу. Наше христианство было до сих пор почти исключительно христианством народов средиземноморской, греко‑римской культуры. Такова была человеческая почва, воспринявшая христианство. Правда, почва эта сформировалась в эллинистическую эпоху, которая была универсалистической, но это все же была усложненная восточными влияниями греко‑римская культура. На Востоке влияла, главным образом, греческая культура, на Западе – латинская. На одних влиял, главным образом, Платон и неоплатонизм, на других – Аристотель и стоики. Но если мы верим в абсолютность христианства, то мы не можем его считать религией средиземноморской, греко‑римской. Необходимо различать христианское откровение от типов цивилизации и типов мышления, в которых оно преломилось. И вот это различие недостаточно делают все конфессии. Уж если Аристотеля сделали неотрывной частью христианского откровения, если томисты признают исповедание философии Аристотеля необходимым условием для правильного восприятия откровения, то значит человечески‑партикулярное было принято за божественно‑универсальное. Человеческий элемент, человеческая стихия превращают абсолютное христианское откровение в конфессии, в которых вселенскость всегда ущемлена. Бесспорно, народы, цивилизации и конфессии имеют свои специальные дары и миссии. Но сознание этих даров и миссий не должно парализовать вселенского сознания. Типы национальные и типы цивилизаций, характер мышления и различие формулировок разделяют более, чем сами религиозные реальности и сама истина откровения, чем духовная жизнь.
Когда ставится проблема христианской вселенскости, то нет ничего труднее, как определить, что принадлежит в конфессии элементу человеческому и психологическому, типу мышления и культуры, национальности и политики. И дальше есть большая трудность в разграничении в этом индивидуализирующем человеческом элементе того, что есть положительное многообразие, творчество и богатство, оттого, что в нем есть источник самодовольства, ограниченности, разделения и вражды к другим. Конфессия, всякая конфессия, есть историческая индивидуализация единого христианского откровения, единой христианской истины. Поэтому никакая конфессия не может быть полнотой вселенской истины, не может быть самой истиной. Конфессия есть категория историческая, и она определяется исторической стороной богочеловеческого религиозного процесса. Конфессия есть исповедание веры в Бога человеком, а не полная истина, открытая Богом. И человек накладывает сам границы на свое исповедание веры в Бога. Верующий имеет непреодолимую склонность видеть теофанию в том, что он сам вложил в исторический религиозный процесс. Его собственные деяния представляются ему как объективная, извне ему открывшаяся истина. Национально‑исторические вероисповедные особенности представляются объективными данными откровения. Церковный национализм, хотя бы он был так широк, как латинство, есть все еще непреодоленное внутри христианства язычество. Христианин не может не верить, что существует вселенская церковь Христова и что в ней есть единство, полнота и богатство. Но она лишь частично, неполно актуализована в истории, многое в ней остается в потенциальном состоянии. Конфессия со своей сращенностью с национальными и политическими формами, со своей ограниченностью известным типом мышления и известным стилем культуры не может претендовать быть совершенной актуализацией вселенской церкви, совершенным выражением единства и полноты. Но никакая конфессия в своем человеческом элементе не может претендовать быть носительницей полноты и чистоты православности, кафоличности и евангеличности. Конфессия всегда ограничена и часто бывает закостенелой, препятствующей движению духа. Никакая поместная православная церковь не может претендовать быть носителем и выразителем полноты православности. Существует православная церковь как истинная вселенская Церковь, но это не есть русская или греческая церковь, в которых православие ущерблено. Римская католическая церковь не может претендовать быть носителем и выразителем полноты кафоличности. И многочисленные протестантские церкви не могут претендовать быть носителями и выразителями полноты и чистоты евангеличности. Люди очень часто принимают свою гордость и самодовольство за верность истине. Но верны они бывают не столько истине, сколько себе и своей ограниченности. Истина лежит гораздо глубже и гораздо выше. Официальная католическая церковь имеет претензию быть носителем полноты и вселенскости. И во имя этого своего вселенского сознания она эксклузивна, она отталкивается от общения со всем остальным христианским миром. В действительности, она есть партикуляристическая, римская церковь, носящая на себе печать известного типа человеческого мышления, человеческой цивилизации, печать человеческой расы, расы латинской. Эта церковь огромная, большого стиля, с великим культурным прошлым, объемлющая все части света, но она есть лишь часть, принимающая себя за целое. В ней партикуляризм наиболее мнит себя универсализмом. Именно католическое сознание в своей классической системе томизма почитает свою церковь в истории вполне актуализированной, т. е. совершенной, и не хочет допустить ничего потенциального, еще требующего актуализации. Это вполне согласуется с томистской интерпретацией аристотелевского учения о потенции и акте. Православное сознание скорее может допустить потенциальность в церкви, еще требующую актуализации. Это определяется пониманием церкви, как живого духовного организма, или богочеловеческого процесса. Это и есть соборность, понятие, чуждое западному христианскому сознанию.
Но не ведет ли нас признание ограниченности всякой конфессии и невозможность увидеть в ней вселенскость к интерконфессионализму? Многие и понимают экуменическое движение как движение к интерконфессионализму. Я же склонен думать, что интерконфессионализм есть заблуждение и опасность для экуменического движения. Протестантские организации нередко выставляют принцип интерконфессионализма и в нем думают объединить все конфессии и церкви. Но интерконфессионализм менее всего может быть признан вселенским. Интерконфессионализм не есть обогащение, а обеднение, не конкретная полнота, а отвлеченность. Интерконфессионализм не богаче и полнее, а беднее и ущербнее конфессии. Это есть равнение по минимуму. Интерконфессиональное христианство есть христианство отвлеченное, в нем нет конкретной полноты жизни. Сторонники интерконфессионализма предлагают христианам объединяться на отвлеченном минимуме христианства, например, на вере в божественность Иисуса Христа, отбросив все, что разделяет. Но таким путем ничего нельзя достигнуть в религиозной жизни. Религиозная жизнь совсем не походит на жизнь политическую, в ней невозможны блоки, основанные на том, что я тебе уступлю то‑то, а ты мне уступи то‑то. Вера может быть лишь интегральной, целостной, в ней ничего нельзя уступить. Тогда только она жизненна, тогда только она может вдохновить к активности. Если у меня в качестве православного есть культ Божьей Матери, то я не могу делать вид, что я забыл об этом во имя соглашений с христианами, которым этот культ чужд. Вселенскость есть полнота и она не достигается путем отвлечения, путем сложения и вычитания. Воля к вселенскости есть воля к большей полноте и богатству и лишь в этой полноте и богатстве можно мыслить воссоединение христианского мира. Экуменическое движение можно мыслить интерконфессиональным лишь в том смысле, что в нем встречаются и совместно работают представители разных конфессий, что оно есть сотрудничество конфессий. Но это совсем не значит, что сама конфессия внутри делается интерконфессиональной, что интерконфессиональным делается верующий православный, протестант или католик. Такой интерконфессионализм означал бы равнодушие. Поэтому говорить нужно не об интерконфессионализме, а о сверхконфессионализме, о движении к сверхконфессиональной полноте. Вселенскость достижима через движение вверх и в глубину, через выявление полноты внутри каждого религиозного типа. Христианский мир един на глубине и на высоте, на поверхности же он безнадежно разъединен. Но движение к интерконфессионализму двигается по поверхности. Движение же к сверхконфессиональности есть движение в глубину и высоту. Мы хотим восполнить свою ущербность. Интерконфессиональное христианство есть ущербное, самое отвлеченное, умаленное и потому не к нему мы должны двигаться. Лишь оставаясь в своей конфессии, но углубляясь и возвышаясь, переходя с плоскости, на которой сталкиваются исторические конфессии, в более духовный план, я могу надеяться достигнуть сверхконфессиональной полноты. Православный в глубине, в подлинных реальностях, может встретиться с католиком и протестантом. Глубина христианской мистики встречается с глубиной мистики нехристианских религий. На поверхности нас разделяют доктрины и формы мышления, расовые психологии и формы церковной организации. В глубине мы соприкасаемся с самим Христом, а потому друг с другом. И это совсем не есть бескровный интерконфессионализм. Это есть движение к полноте.
Невозможно отказаться от истины, в которую веришь, и ничего нельзя в ней уступать. Конкретная интегральная истина неделима. Но не следует считать себя уже носителем этой истины. Никто не может претендовать на то, что он или его религиозная община вполне актуализировали полноту вселенской истины. Она не только в жизни, но и в мысли не вполне актуализирована. Не только отдельный человек, но и всякое религиозное сообщество нуждается в восполнении и всегда бывает виновно в самодовольстве, во вражде к другим, в принятии части за целое. Религиозная христианская жизнь бесконечна по своим задачам и не может быть вмещена ни в какие конечные формы. Между тем как все исторические конфессии стремятся к закреплению конечных форм, в которые хотят вместить полноту истины. Вселенскость же есть бесконечная задача, не вместимая ни в какие конечные формы. Христианство есть не только откровение истины, но и откровение любви. И фанатически преданный своей конфессиональной истине нередко грешит против любви. Он не верен Христу, который есть не только истина, но также любовь, как путь и жизнь. Только соединение истины и любви может раскрыть путь христианского единения. Законническая преданность истине сама по себе может вести к ненавистническим чувствам и разъединению. Исключительная же вдохновленность любовью, сопровождаемая равнодушием к истине, делает расплывчатой и неопределенной самую цель христианского единения. Необходимо делать различие между православием, как вселенской церковью, в которой должна быть полнота истины, и православием, как конфессией, на которой неизбежно лежит печать человеческой ограниченности. Я могу видеть в православии самую большую истину и потому хотеть до конца в нем оставаться. Но это не должно мешать мне видеть исторические грехи и вину православия и греко‑византийского, и русского. И таких грехов не мало – ложное отношение церкви к государству, приводившее к порабощению церкви государством, церковный национализм, обрядоверие, в которое нередко впадал православный мир, недостаток активности, активной христианизации жизни, подавление элемента евангельского элементом сакраментально‑литургическим, замкнутость в себе и вражда к западному христианскому миру. Самое слово православие значит исповедание истины. Но национальные православные церкви Востока не являются носителями этой полной истины. Православным и, в частности, нам, русским православным, подобает признать, что православие хранило древнюю истину, но очень мало и плохо ее осуществляло, очень мало сделало для воплощения ее в жизнь и не только в жизнь, но даже в мысль. Западное христианство гораздо более себя реализовало и актуализировало. Быть может, потому ему чаще представлялся соблазн изменить самой истине. Но истина открыта нам не только для того, чтобы мы ее ревниво хранили, она открыта нам для творчества жизни. Истина не есть мертвый капитал, она должна приносить проценты. Истина, которая себя не реализует в динамике жизни, становится мертвой, перестает быть путем и жизнью. Бесспорно, истина православия была духовным источником жизни русского народа. Она породила образы великих святых. Она формировала души. Но реализация не была пропорциональна размерам данной истины. Христианский Запад, быть может, слишком себя актуализировал, до надрыва сил, христианский Восток – недостаточно. Я убежден, что в православии большая догматическая истина, чем в католичестве и протестантизме, что в нем даны бесконечные возможности, именно вследствие его недостаточной актуализированности, что в нем разлит дух свободы. Но это не мешает сознавать грехи православного мира и ограниченность его. И на Западе существуют не только конфессии, как часто думали православные. На Западе есть подлинный христианский духовный опыт, очень богатый и многообразный, и мы многому должны учиться у христиан Запада. Но и западный христианский мир должен признать значительность и богатство духовного опыта у христиан Востока. Он также нуждается в восполнении и не всем владеет. Только такая взаимная настроенность может быть благоприятна для христианского сближения и единения.
Мы не можем претендовать на создание в ХХ веке вселенской церкви своими человеческими силами. Если вселенской церкви никогда не было, если она не ведет своего начала от Иисуса Христа, то ее никогда и не будет. Конгрессы, конференции, интерконфессиональные объединения могут быть символом возникновения нового вселенского духа среди христианского человечества, но они не могут претендовать на создание церкви, которая, наконец, впервые будет подлинно вселенской. Экуменическое движение, заслуживающее самого горячего сочувствия, имеет свои опасности, которые нужно осознать. В прошлом попытки уний между католичеством и православием носили совсем внешний характер, церковно‑правительственный, и совершались без внутреннего духовного единения. Эти унии обыкновенно приводили к обратным результатам и вызывали еще большую вражду. Нигде нет такой вражды между православными и католиками, как в странах, в которых есть униатство. Очень характерно, что максимально отталкивают православных те католики, которые являются специалистами по восточному вопросу и по православию, профессионалы так называемого «соединения церквей». Самое выражение «соединение церквей» лучше было бы совсем отбросить, как неискреннее и неточное. Разделения церквей не произошло, произошло разделение христианского человечества. И вопрос стоит не в соединении церквей, а в соединении христиан, соединении христиан Востока и Запада, соединении христиан на Западе. С этого всегда следует начинать, с соединения христианских душ. Менее всего это достигается переговорами и соглашениями церковных правительств. Процесс сближения и объединения должен идти снизу, из глубины. Опасность формальных уний возникает тогда, когда католики стремятся к приобретению православного Востока. На этой почве стоял еще Вл. Соловьев, который был велик своей мукой об единстве, но точка зрения которого устарела. Сейчас экуменическое движение, в котором главную роль играют протестанты, стоит под другим знаком, и с ним связана другого рода опасность. Христианскую вселенскость иногда понимают слишком внешне, по преимуществу социально и морально. В нашу эпоху существует понимание христианства, как религии социальной и моральной. Такое понимание нередко можно встретить в мире англосаксонском. Менее всего я склонен отрицать огромное значение социального вопроса для объединения христианского мира. Наоборот, я думаю, что социальный вопрос сейчас централен для христианского сознания. От изменения отношения христианства всех вероисповеданий к социальной жизни, от радикального осуждения христианами социальной неправды и требования осуществления правды Христовой и в социальной жизни зависит судьба христианства в мире. Именно на этой почве происходит объединение антихристианских сил. Христиане не должны уступать врагам христианства прерогативы борьбы за социальную справедливость, за улучшение положения рабочих классов. Но христианство не есть социальная религия, и основы христианства не социальны и не моральны, а мистичны и духовны. Забвение мистической стороны христианства и обращенности его к вечности не могут привести к истинному единству и вселенскости. Литургическое движение нашего времени напоминает о мистических основах христианства. И в известной части протестантского мира, который вообще литургически наиболее ущерблен и обеднен, пробуждается литургическая жажда. Единство христианского мира будет достигнуто не на почве чисто социальной, а на почве духовного углубления внутри всех конфессий, на почве возрождения духовной жизни. В последние столетия христианская духовность ослабела, христианство, становясь внешним, подверглось влиянию рационализма и нередко обслуживало буржуазные интересы. Невозможно надеяться на то, что при упадочном и внешнем христианстве будет достигнуто большее единство и вселенскость. Задачи экуменического движения выполнимы лишь при наличии христианского возрождения. Но над нашим миром, пережившим кризисы и катастрофы, проносится дуновение новой христианской духовности. И с этим связаны наши надежды. Нельзя уже быть внешним, бытовым христианином, полухристианином, полуязычником. Требования, предъявляемые нашим временем христианской душе, страшно повысились. И происходит качественный подбор. Мечем разделяется подлинное от неподлинного, реальное от иллюзорного, божественное от того, что человек сам создал и выдал за божественное. Само христианство за ряд столетий очень секуляризировалось и должно произойти очищение христианства. Необходимо решить изнутри христианства проблемы, которыми мучится мир, христианство не может быть равнодушно к движениям мира. Но тогда лишь оно будет силой в мире и для мира, когда оно не будет зависеть от мира и не будет определяться миром.
В мире происходит небывалая концентрация, объединение и организация антихристианских сил. Эти силы необыкновенно активны. И христианство, разделенное на части, на враждующие между собой конфессии, бессильно перед лицом антихристианской опасности, перед возрастающей дехристианизацией мира. Контраст объединенности, организованности и активности антихристианских сил и разделенности, дезорганизации и пассивности христианских сил не может не мучить христианскую совесть. Перед лицом могущественного врага, потребность христианского единства не может не быть сознана. Христиане сами во многом виноваты, христиане, а не христианство. Христиане сами должны были во имя Христа делать то положительное социальное и культурное дело, которое часто делали враги христианства. Они его не делали, или делали со страшным опозданием, или, что еще хуже, осуждали делающих. Почему христианские силы менее активны, чем силы антихристианские, вполне понятно, это объяснимо из самого христианского вероучения и мировоззрения. Христианство признает свободу человеческого духа и силу греха. Оно не может верить в разрешимость всех вопросов жизни внешней и принудительной организацией, в которую верит коммунизм. Именно христианская свобода затрудняет реализацию христианства в жизни. Это основной парадокс христианства. Материалистом легче быть, чем христианином. От христианина требуется несоизмеримо больше, а обычно исполняет он меньше. Но бывают эпохи, когда христианские души пробуждаются, когда активность делается неизбежной, вялость и инерция душ побеждаются. Мы вступаем в такую эпоху. Ответственность безмерно возросла. Мы не живем уже в уютном и спокойном христианском быту. Мы призваны к творческим усилиям. Экуменическое движение есть симптом пробуждения христианского мира, пока еще слабый. Но внутри всех конфессий и всех исторических церквей пробуждается это беспокойство и волнение. Все чаще и чаще происходят переходы за пределы замкнутой конфессии. Переходы из одной конфессии в другую носят чисто личный характер и они не решают экуменической проблемы, обыкновенно даже не ставят ее. Но люди, остающиеся верными своей конфессии, заболевают жаждой вселенского единства и полноты. Более углубленное и духовное понимание христианства должно ослабить конфессиональный фанатизм и самодовольство, оно переводит в иной план, чем тот, в котором разыгралась борьба разделенных и враждующих частей христианского мира. Необходимо решительно противоположить «мистику» «политике» в церкви, употребляя эти слова в том смысле, в каком их употребляет Шарль Пеги. Вся мучительность христианской истории определилась сращенностью церкви с «политикой». В раздоре и вражде огромное место занимала именно политика, которую можно вскрыть за всеми историческими религиозными преследованиями. И сейчас еще политический момент играет преобладающую роль в религиозной вражде, он вносится в догматические споры. Возрождение христианской духовности должно ослабить роли политического элемента в церкви. И этим должна раскрыться возможность нового и одухотворенного социального творчества в христианстве. Мы вступаем в совершенно новую эпоху и совсем по‑новому должны ставиться проблемы единства и вселенскости. В старых постановках этой проблемы еще чувствовался партикуляризм и провинциализм исторической жизни церкви. Мы живем в революционную эпоху, и все исторические границы, казавшиеся вечными, сметаются. Вселенское христианство может быть актуализировано лишь при остром эсхатологическом чувстве жизни.
Христиане думают, что их разделяет божественная истина. В действительности же разделяет их именно человеческое, человеческая душевная структура, различия в опыте и чувстве жизни в интеллектуальном типе. Объективируя свои собственные состояния, люди думают, что они борются за абсолютную истину. Но когда мы приходим к подлинным религиозным первореальностям, когда в нас раскрывается подлинный духовный опыт, мы приближаемся друг к другу и соединяемся во Христе. Православные имеют иное учение об искуплении, чем протестанты, и можно бесконечно спорить о том, чье учение более правильно. Но само искупление одно и то же, сама религиозная реальность едина. Православные имеют иное учение о почитании Божьей Матери, чем католики: они не приемлют догмата непорочного зачатия. Споры о догмате непорочного зачатия вызывают разделение и вражду. Но самый культ Божьей Матери, самый религиозный опыт один и тот же у православных и у католиков. Христианское сближение не следует ставить ни на почву схоластически‑доктринальную, ни на почву канонически‑правовую. Именно на этой почве произошли разделение и раздор. Сближение прежде всего нужно ставить на почву духовно‑религиозную, внутреннюю. Внешнее от внутреннего пойдет, церковное единство от духовного единения христиан, от христианской дружбы. Объединяет прежде всего вера в Христа и жизнь во Христе, искание Царства Божьего, т. е. самая сущность христианства. Ищите прежде всего Царства Божьего, и все остальное приложится вам. Объединяться можно на самом искании Царства Божьего, а не на том остальном, что прилагается. Но в греховном христианском человечестве то, что прилагается, заслонило собой самое Царство Божие, и оно‑то разрывает на части христианский мир. Идея Царства Божия в христианстве глубже, чем идея церкви, которая есть исторический путь к Царству Божьему. Идея Царства Божьего эсхатологична и профетична. На ней и должно быть построено единение. Это не минимум, а максимум, не абстракция, а конкретность. Перспектива достижения абсолютной полноты и абсолютного единства есть перспектива эсхатологическая, есть исполнение времен. Но исполнение времен совершается во времени еще.
Экуменическое движение означает изменение внутри христианского мира, возникновение нового христианского сознания. Православие может быть благоприятной почвой для экуменического движения и вступление православных в это движение может иметь огромное значение. Мир православный не участвовал в страшной исторической борьбе протестантов и католиков. Опыт интерконфессиональных собраний в Париже показал, что протестанты и католики легче встречаются на православной почве. Есть два понимания вселенскости – горизонтальное и вертикальное. Для горизонтального понимания вселенское единство означает охватывание как можно больших пространств земли, универсальную организацию всей поверхности земли. К этому пониманию склоняется католичество. Для вертикального понимания вселенскость есть измерение глубины, вселенскость может быть дана как качество каждой епархии. Это есть понимание православное. Оно более благоприятно для экуменического движения. Католики примут активное участие в этом движении в том лишь случае, если они откажутся от империализма в понимании вселенского единства христианства, если победят в себе империалистическую волю как соблазн и увидят вокруг себя не объекты воздействия, а субъекты. Это, может быть, самый важный вопрос в движении к единству. Без участия католиков движение не может быть полным по своим результатам. У протестантов есть другой соблазн, соблазн слишком большой легкости в достижении единства и вселенскости. Соблазн же православный есть соблазн изолированного и самодовлеющего бытия, безразлично к тому, что происходит с миром. У каждого есть свои соблазны. Почва для соединения может уготовляться человеческой активностью и направлением человеческой воли. И мы все для этого должны сделать. Но не человеческими силами совершится соединение, оно окончательно совершится действием Духа Святого, когда час для этого настанет. И во всяком случае, движение к этому центральному событию в судьбах христианства означает вступление в новую эпоху, когда излияние Духа Святого будет сильнее, чем было до сих пор.
Из сборника “Христианское воссоединение”, Париж, YMCA‑PRESS, 1933
Посвящается памяти Владимира Соловьева
Служите друг другу, каждый тем даром,
какой получил, как добрые домостроители
многоразличной благодати Божией.
(1 Петр. 4:10) I.
Взаимоотношение между путями человеческого спасения и путями человеческого творчества есть самая центральная, самая мучительная и самая острая проблема нашей эпохи. Человек погибает, и у него есть жажда спасения. Но человек есть также по природе своей творец, созидатель, строитель жизни, и жажда творчества не может в нем угаснуть. Может ли человек спасаться и в то же время творить, может ли творить и в то же время спасаться? И как понимать христианство: есть ли христианство исключительно религия спасения души для вечной жизни или также творчество высшей жизни оправдано христианским сознанием? Все эти вопросы мучат современную душу, хотя и не всегда сознается вся глубина их. Желая оправдать свое жизненное призвание, свое творческое жизненное дело, христиане не всегда сознают, что речь идет о самом понимании христианства, об усвоении его полноты. Мучительность проблемы спасения и творчества отражают расколы между Церковью и миром, духовным и мирским, сакральным и светским. Церковь занята спасением, творчеством же занят светский мир. Творческие дела, которыми занят мир светский, не оправданы, не освящены Церковью. Есть глубокое пренебрежение, почти презрение церковного мира к тем творческим делам в жизни культуры, в жизни общества, которыми полно движение, происходящее в мире. В лучшем случае творчество допускается, попускается, на него смотрят сквозь пальцы, не давая ему глубокого оправдания. Спасение есть дело первого сорта, единое на потребу, творчество же есть дело второго и третьего сорта, приложение к жизни, а не самое существо ее. Мы живем под знаком глубочайшего религиозного дуализма. Иерократизм, клерикализм в понимании Церкви есть выражение и оправдание этого дуализма. Церковная иерархия в существе своем есть иерархия ангельская, а не человеческая. В мире человеческом лишь символизуется небесная, ангельская иерархия. Система иерократизма, исключительное господство священства в жизни Церкви, а через Церковь и в жизни мира, есть подавление человеческого начала ангельским, подчинение человеческого начала ангельскому началу, как призванному водительствовать жизнью. Она всегда есть господство условного символизма. Но подавление человеческого начала, недопущение его своеобразного творческого выражения, есть ущербление христианства как религии Богочеловечества. Христос был Богочеловеком, а не Богоангелом, в Нем в совершенстве соединилась в одном лице Божественная природа с природой человеческой, и этим человеческая природа вознесена до жизни божественной. И Христос‑Богочеловек был основоположником нового духовного рода человеческого, жизни Богочеловечества, а не Богоангельства. Церковь Христова есть Богочеловечество. Ангельское начало есть начало, посредствующее между Богом и человечеством, начало пассивно‑медиумическое, передающее Божью энергию, проводник Божьей благодати, а не начало активно‑творческое. Начало активно‑творческое предоставлено человечеству. Но греховная ограниченность человечества не вмещает полноты христианской истины. И подавляющее господство ангельско‑иерократического начала есть показатель бессилия греховного человечества выразить свою творческую природу, понять христианство в полноте и всецелости. Путь спасения для греховного человечества нуждается прежде всего в ангельско‑иерократическом начале. Путь же творчества остался самочинным человеческим путем, не освященным и неоправданным, и в нем человек предоставлен себе.
Религиозная невыраженность человеческого начала как органической части жизни Богочеловечества, религиозная нераскрытость свободного призвания человека создает дуализм Церкви и мира. Церкви и культуры, резкий дуализм сакрального и светского. Для верующего христианина создается две жизни, жизнь первого и второго сорта. И этот дуализм, эта двойственность жизни достигает особенной остроты в христианстве Нового времени. В христианстве средневековом была своя теократическая, иерократическая культура, в которой все творчество жизни было самоподчинено религиозному началу, понятому как господство ангельской иерархии над человеческой. В средневековье культура и общество были сакральны, но религиозное оправдание было условно‑символическим. Культура по идее своей была ангельской, а не человеческой. Господство ангельского начала всегда ведет к символизму, к условному, знаковому отображению в человеческом мире небесной жизни без реального ее достижения, без реального преображения человеческой жизни. Новое время низвергло символику и совершило разрыв. Человек восстал во имя своей свободы и пошел своим самочинным путем. Для религии остался уголок души. Церковь начали понимать дифференциально. Христианин Нового времени живет в двух перебивающихся ритмах – в Церкви и в мире, в путях спасения и в путях творчества. В теократических обществах, в теократических культурах человеческое начало было подавлено, свобода человека не дала еще своего согласия на осуществление Царства Божьего. В гуманистических обществах и культурах Нового времени человеческое начало оторвалось от Бога и, от действия Божьей благодати. Соединение Божества и человечества не достигалось. Пути творчества мира гуманистического были без Бога и против Бога. Драма новой гуманистической истории есть драма глубокой оторванности путей творчества жизни от путей спасения, от Бога и Божьей благодати. Дуализм Церкви и мира достигает таких форм выражения, которых не знали прежние сакральные органические эпохи. В мире происходило огромное творческое движение в науке, в философии, в искусстве, в государственной и социальной жизни, в завоеваниях техники, в моральных отношениях людей, даже в религиозной мысли, в мистических настроениях. Все мы, не только неверующие, но и верующие христиане, участвуем в этом движении мира, движении культуры, отдаем ему значительную часть своего времени и сил. По воскресеньям мы ходим в Церковь. Шесть дней в неделю мы отдаем нашему творческому, созидательному труду. И наше творческое отношение к жизни остается неоправданным, неосвященным, не соподчиненным религиозному началу жизни. Старое, средневековое теократически‑иерократическое оправдание и освящение всего процесса жизни уже не имеет над нами силы, омертвело. Самые верующие, самые православные люди участвуют в неоправданной и неосвященной жизни мира, подчиняют себя светской, не сакральной науке, светскому, не сакральному хозяйству, светскому, не сакральному праву, быту, давно уже потерявшему сакральный характер. Верующие, православные люди живут церковной жизнью в Церкви, ходят по воскресным и праздничным дням в храм, говеют в великий пост, молятся Богу утром и вечером, но не живут церковной жизнью в мире, в культуре, в обществе. Творчество их, в жизни государственной и хозяйственной, в науках и искусствах, в изобретениях и открытиях, в повседневной морали остается внецерковным, внерелигиозным, светским, мирским. Это совсем другой ритм жизни. Бурное творческое движение происходило в мире, в культуре. В Церкви же на долгое время наступила сравнительная бездвижность, как бы окаменение и окостенение. Церковь начала жить исключительно охранением, связью с прошлым, т. е. выражала лишь одну сторону церковной жизни. Церковная иерархия стала враждебна к творчеству, подозрительна к духовной культуре, принижает человека и боится его свободы, противополагает путям творчества пути спасения. Мы спасаемся в одном плане бытия и творим жизнь в совсем другом плане бытия. И всегда остается опасение, что в том плане, в котором мы творим, мы погибаем, а не спасаемся. И нет никакой надежды на то, что непереносимый далее дуализм может быть преодолен через подчинение всей нашей жизни и всех творческих порывов началу иерократическому, через возвращение к теократии в старом смысле слова. К условному символизму иерократических обществ и культур нет возврата. Это могло бы быть лишь временной реакцией, отвергающей творчество. Во всей остроте поставлена религиозная проблема о человеке, о его свободе и творческом признании. И это есть не только проблема мира, проблема, выношенная и вымученная в современной культуре, это есть также проблема Церкви, проблема христианства как религии Богочеловечества.
Церковь перестали понимать интегрально, как вселенский духовный организм, как онтологическую реальность, как охристовленный космос. Победило дифференциальное понимание Церкви как учреждения, как общества верующих, как иерархии и храма. Церковь превратилась в лечебное заведение, в которое поступают отдельные души на излечение. Так утверждается христианский индивидуализм, равнодушный к судьбе человеческого общества и мира. Церковь существует для спасения отдельных душ, но не интересуется творчеством жизни, преображением жизни общественной и космической. Такого рода исключительно монашески‑аскетическое Православие в России возможно было лишь потому, что Церковь возложила все строительство жизни на государство. Лишь существование Церковью освященной самодержавной монархии делало возможным такой православный индивидуализм, такую отделенность христианства от жизни мира. Мир держала и охраняла православная монархия, ею держался и церковный строй. Церковь была равнодушна не только к строительству жизни культурной и общественной, но и к строительству жизни церковной, к жизни приходов, к организации независимой церковной власти. Существование православной самодержавной монархии есть обратная сторона монашески‑аскетического Православия, понимающего Православие исключительно как религию личного спасения. И потому падение самодержавной монархии, русского православного царства, вносит существенные изменения в церковное сознание. Православие не может оставаться по преимуществу монашески‑аскетическим. Христианство не может сводиться к индивидуальному спасению отдельных душ. Церковь неизбежно обращается к жизни общества и мира, неизбежно должна участвовать в строительстве жизни. В самодержавной монархии, как типе православной теократии, господствовало ангельское, а не человеческое начало. Царь, согласно этой концепции, есть, в сущности, ангельский, а не человеческий чин. Падение православной теократии должно вести к пробуждению творческой активности самого христианского народа, активности человеческой, к строительству христианского общества. Этот поворот начинается прежде всего с того, что православные люди делаются ответственными за судьбу Церкви в мире, в исторической действительности, что они на себя принуждены возложить строительство церковное, жизнь приходов, заботы о храме, организацию церковной жизни, братств и т. п. Но это изменение православной психологии не может ограничиться строительством церковной жизни, оно распространяется и на все стороны жизни. Вся жизнь может быть понята как жизнь церковная. В Церковь входят все стороны жизни Неизбежен поворот к интегральному пониманию Церкви, т. е. к преодолению церковного номинализма и индивидуализма. Понимание христианства исключительно как религии личного спасения, сужение объема Церкви до чего‑то существующего наряду со всем остальным, в то время как Церковь есть положительная полнота бытия, и было источником величайших расстройств и катастроф в христианском мире. Принижение человека, его свободы и его творческого призвания, порожденное таким пониманием христианства, и вызвало восстание и бунт человека во имя своей свободы и своего творчества. На пустом месте, которое оставлено в мире христианством, начал строить антихрист свою вавилонскую башню и далеко зашел в своем строительстве. Манившая свобода человеческого духа, свобода человеческого творчества на этом пути окончательно погибает. Церковь должна была охранять себя от злых стихий мира и злых в нем движений. Но подлинное охранение святыни возможно лишь при допущении христианского творчества.
На какой духовной основе базируется православный индивидуализм, чем оправдывается понимание христианства как религии личного спасения, равнодушной к судьбе общества и мира? Христианство в прошлом необычайно богато, многообразно и многосторонне. В Евангелии, в апостольских посланиях, в святоотеческой литературе и в церковном предании можно найти основание для разнообразных пониманий христианства. Понимание христианства как религии личного спасения, подозрительной ко всякому творчеству, опирается исключительно на аскетическую святоотеческую литературу, которая не есть все христианство и не есть вся святоотеческая литература. «Добротолюбие» как бы заслонило собой все остальное. В аскетике выражена вечная истина, которая входит во внутренний духовный путь как неизбежный момент. Но она не есть полнота христианской истины. Героическая борьба с природой ветхого Адама, с греховными страстями выдвинула известную сторону христианской истины и преувеличила ее до всепоглощающих размеров. Истины, раскрывавшиеся в Евангелии и в апостольских посланиях, были отодвинуты на второй план, подавлены. В основу всего христианства, в основу всего духовного пути человека, пути спасения для вечной жизни, было положено смирение. Человек должен смиряться, все же остальное приложится само собой. Смирение заслоняет и подавляет любовь, которая открывается в Евангелии и является основой Нового Завета Бога с человеком. Онтологический смысл смирения заключается в реальной победе над самоутверждающейся человеческой самостью, над греховной склонностью человека полагать центр тяжести жизни и источник жизни в себе самом, – смысл этот в преодолении гордыни. Смысл смирения в реальном изменении и преображении человеческой природы, в господстве духовного человека над душевным и плотским человеком. Но смирение не должно подавлять и угашать дух. Смирение не есть внешнее послушание, покорность и подчинение. Человек может быть очень дисциплинирован, очень послушен и покорен и не иметь никакого смирения. Мы это видим, например, в коммунистической партии. Смирение есть действительное изменение пуховной природы, а не внешнее подчинение, оставляющее природу неизменной, внутренняя работа над самим собой, освобождение себя от власти страстей, от низшей природы, которую человек принимает за свое истинное «я». В смирении утверждается истинная иерархия бытия, духовный человек получает преобладание над душевным человеком. Бог получает преобладание над миром. Смирение есть путь самоочищения и самоопределения. Смирение есть не уничтожение человеческой воли, а просветление человеческой воли, свободное подчинение ее Истине. Христианство не может отрицать смирения как момента внутреннего духовного пути. Но смирение не есть цель духовной жизни. Смирение есть подчиненное средство. И смирение не есть единственное средство, не есть единственный путь духовной жизни. Внутренняя духовная жизнь безмерно сложнее и многограннее. И нельзя отвечать на все запросы духа проповедью смирения. И смирение может пониматься ложно и слишком внешне. Внутренней духовной жизни и внутреннему пути принадлежит абсолютный примат, она первичнее, глубже, изначальнее всего нашего отношения к жизни общества и мира. В духовном мире, из глубины духовного мира определяется все наше отношение к жизни. Это – аксиома религии, аксиома мистики. Но возможно понимание смирения, извращающее всю нашу духовную жизнь, не вмещающее Божественной истины христианства, Божественной полноты. И в этом вся сложность вопроса.
Построение жизни на одном духе смирения и создает внешнюю авторитарно‑иерократическую систему. Все вопросы общественного устроения и культурного созидания решаются в применении к смирению. Хорош тот строй общества, в котором люди наиболее смиряются, наиболее послушны. Осуждается всякий строй жизни, в котором дано выражение творческим инстинктам человека. Так не решается ни один вопрос по существу, а лишь в отношении к тому, способствует ли это смирению человек". Вырождение смирения ведет к тому, что оно перестает пониматься внутренне, сокровенно, как мистический акт, как явление внутренней духовной жизни. Смирение в мистической своей сущности совсем не противоположно свободе, оно есть акт свободы и предполагает свободу. Только свободное смирение, свободное подчинение душевного человека человеку духовному имеет религиозное значение и ценность. Принудительное смирение, навязанное, определяющееся внешним строем жизни, не имеет никакого значения для духовной жизни. Рабство и смирение – разные духовные состояния. Смиряюсь я сам в своем внутреннем духовном пути, в свободном акте полагаю в Боге, а не в своей самости источник жизни. Для феноменологического анализа раскрывается, что моя свобода предшествует моему смирению. Смирение есть внутреннее, сокровенное духовное состояние. Но выродившееся, деградировавшее смирение, смирение упадочное превращается во внешне навязанную, принудительную систему жизни, отрицающую свободу человека, принижающую человека. На почве смирения легко рождается лицемерие и ханжество. В то время как онтологический смысл смирения заключается в освобождении духовного человека, упадочное смирение держит человека в состоянии подавленности и угнетенности, сковывает его творческие силы. Великие подвижники и святые совершали героический акт духовного освобождения человека, противления низшей природе, власти страстей. Упадочники смирения отрицают героический акт духовного освобождения человека и держат человека в подчинении авторитарной системе жизни. Когда я смиряюсь перед волей Божией, когда я побеждаю в себе рабий бунт самости, я иду от свободы и иду к свободе. Самость порабощает меня, и я хочу освободиться от нее. Смирение есть один из методов перехода от состояния, в котором господствует низшая природа, к состоянию, в котором господствует высшая природа, т. е. оно означает возрастание человека, духовный его подъем. Упадочное же смирение хочет системы жизни, в которой никогда не наступает освобождение, никогда не достигается духовного подъема, никогда не выявляется высшей природы. Освобождение духа, духовный подъем, выявление высшей природы объявляется несмиренным состоянием, недостатком смирения. Смирение из средства и пути превращается в самоцель.
Смирение начинают противопоставлять любви. Путь любви признается не смиренным, дерзновенным путем. Евангелие окончательно подменяется «Добротолюбием». Где уж мне грешному и недостойному притязать на любовь к ближнему, на братство. Моя любовь будет заражена грехом. Сначала я должен смириться, любовь же явится как плод смирения. Но смиряться я должен всю жизнь и безгрешного состояния не достигну никогда. Поэтому и любовь не явится никогда. Где уж мне, грешному, дерзать на духовное совершенствование, на мужество и высоту духа, на достижение высшей духовной жизни. Сначала нужно победить грех смирением. На это уйдет вся жизнь, и не останется времени и сил для творческой духовной жизни. Она возможна лишь на том свете, да и там вряд ли, на этом же свете возможно лишь смирение. Упадочное смирение создает систему жизни, в которой жизнь обыденная, обывательская, мещански‑бытовая почитается более смиренной, более христианской, более нравственной, чем достижение более высокой духовной жизни, любви, созерцания, познания, творчества, всегда подозреваемых в недостатке смирения и гордости. Торговать в лавке, жить самой эгоистической семейной жизнью, служить чиновником полиции или акцизного ведомства – смиренно, не заносчиво, не дерзновенно. А вот стремиться к христианскому братству людей, к осуществлению правды Христовой в жизни или быть философом и поэтом, христианским философом и христианским поэтом – не смиренно, гордо, заносчиво и дерзновенно. Лавочник, не только корыстолюбивый, но и бесчестный, менее подвергается опасности вечной гибели, чем тот, кто всю жизнь ищет истины и правды, кто жаждет в жизни красоты, чем Вл. Соловьев, например. Гностик,[3] поэт жизни, искатель правды жизни и братства людей подвергается опасности вечной гибели, так как недостаточно смиренен, горд. Получается безвыходный, порочный круг. Стремление к осуществлению Божьей Правды, Царства Божьего, духовной высоты и духовного совершенства объявляется духовным несовершенством, недостатком смирения. В чем же основной порок упадочного смирения и его системы жизни? Этот основной порок скрыт в ложном понимании соотношения между грехом и путями освобождения от греха или достижения высшей духовной жизни. Я не могу рассуждать так – мир лежит во зле, я грешный человек и потому мое стремление к осуществлению Христовой Правды и к братской любви между людьми есть горделивое притязание, недостаток смирения, ибо всякое подлинное движение в направлении осуществления любви и правды есть победа над злом, есть освобождение от греха. Я не могу говорить так – я грешный человек, мое и дерзновение познавать тайны бытия и творить красоту есть недостаток смирения, гордость, ибо подлинное познание и подлинное творчество красоты есть уже победа над грехом, преображение жизни. Нельзя сказать: грех искажает и извращает и любовь, и духовное совершенствование, и познание и все, и потому нет победы над грехом на этих путях. Ибо совершенно также можно сказать: путь смирения искажается и извращается человеческим грехом и корыстолюбием и есть искаженное, упадочное, извращенное смирение, смирение, превратившееся в рабство, в эгоизм, в трусость. Смирение не более гарантировано от искажения и вырождения, чем любовь или познание.
Грех побеждается с великим трудом и побеждается он лишь силой благодати. Но пути этой победы, пути стяжания благодати многообразны и объемлют всю полноту бытия. Наша любовь к ближнему, наше познание, наше творчество, конечно, искажаются грехом и несут на себе печать несовершенства, но так же искажаются грехом и несут на себе печать несовершенства и пути смирения. Христос завещал прежде всего любить Бога и любить ближнего, искать превыше всего Царства Божьего, совершенства подобного совершенству Отца Небесного. «Добротолюбие», в которое не вошли наиболее замечательные мистические творения Св. Максима Исповедника, Св. Симеона Нового Богослова и др., есть прежде всего собрание морально‑аскетических наставлений для монахов, а не выражение полноты христианства и его путей. Не только дух Евангелия и апостольских посланий, но и дух греческой патристики в наиболее глубоких своих течениях иной, чем напр. односторонний дух православия Феофана Затворника. Конечно, у Феофана Затворника есть много верного и вечного, особенно в его лучшей книге «Путь к спасению», но отношение его к жизни мира – упадочно‑боязливое, христианство его умаленное и ущербное. Центральной идеей восточной патристики была идея теозиса, обожения твари, преображение мира, космоса, а не идея личного спасения. Не случайно величайшие восточные учителя Церкви так склонны были к идее апокатастасиса, не только св. Климент Александрийский и Ориген, но и св. Григорий Нисский, св. Григорий Назианзин, св. Максим Исповедник. Судебное понимание мирового процесса, судебное понимание искупления, созидание ада, спасения избранных и вечной гибели всего остального человечества выражено главным образом в западной патристике, у блаж. Августина, а потом в западной схоластике. Для классической греческой патристики христианство не было только религией личного спасения. Она направлена была к космическому пониманию христианства, выдвигала идею просветления и преображения мира, обожения твари. Лишь позже христианское сознание начало более дорожить идеей ада, чем идеей преображения и обожения мира. Быть может, это явилось результатом преобладания варварских народов с их жестокими инстинктами. Эти народы должны были быть подвергнуты суровой дисциплине и устрашению, так как их плоть и кровь, их страсти грозили гибелью христианству и всякому порядку в мире. Христианство, понятое как религия личного спасения от вечной гибели через смирение, привело к панике и террору.[4] Человек жил под страшным давлением ужаса вечной гибели и соглашался на все, лишь бы избежать ее. Авторитарная система повиновения и подчинения создалась аффектом ужаса гибели, панического ужаса вечных адских мук.[5] При такой духовной настроенности, при таком состоянии сознания очень затруднено творческое отношение к жизни. Не до творчества, когда грозит гибель. Вся жизнь поставлена под знак ужаса, страха. Когда свирепствует чума и ежесекундно грозит смерть, человеку не до творчества, он исключительно занят мерами спасения от чумы. Иногда и христианство понимается, как спасение от свирепствующей чумы. Творчество и строительство жизни оказывалось возможным лишь благодаря системе дуализма, которая давала минуты забвения о спасении от гибели. Человек отдавался наукам и искусствам или общественному строительству, забыв на время о грозящей гибели, раскрывая для себя другую сферу бытия, отличную от той сферы, в которой свершается гибель и спасение, и ничем не связывая эти две сферы. Понимание христианства как религии личного спасения от гибели есть система трансцендентного эгоизма, или трансцендентного утилитаризма и эвдемонизма. К. Леонтьев с обычной для него смелостью исповедовал такую религию трансцендентного эгоизма. Но именно потому его отношение к жизни мира было вполне языческим, и он дуалистически сочетал в себе человека афонского и оптинского аскетически‑монашеского православия с человеком итальянского Ренессанса XVI века. При трансцендентно‑эгоистическом сознании человек поглощен не достижением высшей совершенной жизни, а заботой о спасении своей души, думой о своем вечном благополучии. Трансцендентный эгоизм и эвдемонизм естественно отрицает путь любви и не может быть верен евангельскому завету, который предлагает нам погубить свою душу для приобретения ее, отдать ее для своего ближнего, учит прежде всего любви, бескорыстной любви к Богу и ближнему. Но выдавать христианство за религию трансцендентного эгоизма, не знающую бескорыстной любви к божественному совершенству, значит клеветать на христианство. Это есть или христианство варварское, христианство, усмиряющее дикость страстей и этими страстями искаженное, или христианство упадочное, ущербленное, обедненное. Христианство всегда было, есть и будет не только религией личного спасения и ужаса гибели, но также религией преображения мира, обожения твари, религией космической и социальной, религией бескорыстной любви, любви к Богу и человеку, обетования Царства Божьего. При индивидуалистически аскетическом понимании христианства как религии личного спасения, заботы лишь о собственной душе, непонятно и ненужно откровение о Воскресении всей твари. Для религии личного спасения нет никакой мировой эсхатологической перспективы, нет никакой связи личности, отдельной человеческой души с миром, с космосом, со всем творением. Этим отрицается иерархический строй бытия, в котором все связано со всем, в котором не может быть выделена индивидуальная судьба. Индивидуалистическое понимание спасения более свойственно протестантскому пиетизму, чем церковному христианству. Я не могу спасаться сам, в одиночку, я могу спасаться лишь вместе с моими братьями, вместе со всем Божиим творением, и я не могу думать лишь о собственном спасении, я должен думать и о спасении других, о спасении всего мира. Да и спасение есть лишь экзотерическое выражение для достижения духовной высоты, совершенства, богоподобия как верховной цели мировой жизни.
Величайшие христианские мистики всех вероисповеданий любовь к Богу и слияние с Богом ставили выше личного спасения. Христианство внешнее часто обвиняло мистиков в том, что для них центр тяжести духовной жизни лежит совсем не в путях личного спасения, что они идут опасными путями мистической любви. Мистика есть ведь совсем иная ступень духовной жизни, чем аскетика. Своеобразие мистики можно изучать, читая «Гимны» св. Симеона Нового Богослова. Христианская мистика и спасение понимает как просветление и преображение, обожение твари, как преодоление замкнутой тварности, т. е. оторванности от Бога. Идея обожения господствует над идеей спасения. Это прекрасно выражено св. Симеоном Новым Богословом: «я насыщаюсь Его любовию и красотою, и исполняюсь божественного наслаждения и сладости. Я делаюсь причастным света и славы: лицо мое, как и Возлюбленного моего, сияет, и все члены мои делаются светоносными. Тогда я соделываюсь красивее красивых, богаче богатых, бываю сильнейшим всех сильных, более великим царей и гораздо честнейшим чего бы то ни было видимого, не только земли и того, что на земле, но и неба и всего, что на небе». Я цитирую величайшего мистика православного Востока. Можно было бы привести неисчислимое количество отрывков из западной мистики, католической латинской или германской мистики, которые подтверждают ту мысль, что у мистиков центр тяжести никогда не лежит в стремлении к спасению. Католическая мистика преодолевала юридизм католического богословия, судебное понимание отношений между Богом и человеком. Спор Боссюэта с Фенелоном и был спор богослова с мистиком. В мистическом пути всегда было бескорыстие, отрешенность, забвение о себе, обнаружение безмерной любви к Богу. Но любовь к Богу есть творческое состояние духа, в ней есть преодоление всякой подавленности, освобожденность, положительное раскрытие духовного человека. Смирение есть лишь средство, оно еще негативно. Любовь к Богу есть цель, она уже позитивна. Любовь к Богу есть уже творческое преображение человеческой природы. Но любовь к Богу есть также любовь к духовной высоте, к божественному в жизни. Эрос божественного есть духовный подъем, духовное возрастание, победа творческого состояния духа над состоянием подавленности, то вырастание крыльев души, о котором говорит Платон в «Федре». Положительное содержание бытия есть любовь, творческая, преображающая любовь. Любовь не есть какая‑то особенная, отдельная сторона жизни, любовь есть вся жизнь, полнота жизни. Познание есть также обнаружение любви, познавательной любви, познавательного слияния любящего со своим предметом, с бытием, с Богом. Творчество красоты есть также обнаружение гармонии любви в бытии. Любовь есть утверждение лика любимого в вечности и Боге, т. е. утверждение бытия. Но любовь к Богу неотделима от любви к ближнему, любви к Божьему творению. Христианство и есть раскрытие богочеловеческой любви. Меня спасает, т. е. преображает мою природу не только любовь к Богу, но и любовь к человеку. Любовь к ближним, к братьям, дела любви входят в путь моего спасения, моего преображения. В путь моего спасения входит любовь к животным и растениям, к каждой былинке, к камням, к рекам и морям, к горам и полям. Этим спасаюсь и я, спасается и весь мир, достигается просветление. Мертвое равнодушие к человеку и природе, ко всему живому во имя пути самоспасения есть отвратительное проявление религиозного эгоизма, есть высушивание человеческой природы, есть подготовка «сердцем хладных скопцов». Христианская любовь не должна быть «стеклянной любовью» (выражение В. В. Розанова). Отвлеченно‑духовная любовь и есть «стеклянная любовь». Лишь духовно‑душевная любовь, в которой душа преображается в духе, есть любовь живая, богочеловеческая. Иногда встречающееся монашеско‑аскетическое неблагожелательство к людям и миру, охлаждение сердца, омертвение ко всему живому и творческому есть вырождение христианства, упадок в христианстве. Подмена заповеди любви к Богу и любви к ближнему, данной самим Христом, заповедью внешнего смирения и послушания, охлаждающей всякую любовь, и есть вырождение христианства, неспособность вместить божественную истину христианства. Необходимо отметить, что именно православному Востоку наиболее близка идея космического преображения и просветления. Западному христианству более близка судебная идея оправдания. Отсюда приобретают особенное значение на Западе споры о свободе и благодати, о вере и добрых делах. Отсюда искание авторитета и внешнего критерия религиозной истины.[6] Только мистики возвышались над подавляющей идеей Божьего суда, Божьего требования оправдания от человека, и понимали, что Богу нужно не оправдание человека, а любовь человека, преображение его природы. Это есть центральная проблема христианского сознания. В оправдании ли и суде, в неумолимой ли Божьей справедливости сущность христианства или в реальном преображении и просветлении, в бесконечной Божьей любви эта сущность. Судебное понимание христианства, создающее настоящий духовный террор, есть суровый метод, которым воспитывало христианство народы, полные кровавых инстинктов, жестоких и варварских. Но этому пониманию противостоит более глубокое понимание христианства как откровения любви и свободы. Человек призван быть творцом и соучастником в деле Божьего творения. Есть Божий зов, обращенный к человеку, на который человек должен свободно ответить. Богу совсем не нужны покорные и послушные рабы, вечно трепещущие и эгоистически занятые собой. Богу нужны сыны, свободные и творящие, любящие и дерзновенные. Человек страшно исказил образ Бога и приписал Ему свою собственную извращенную и греховную психологию. И всегда нужно напоминать истину апофатической теологии. Если Богу и можно приписывать аффективную жизнь, то не следует представлять себе ее по образцу самых дурных человеческих аффектов. Духовный же террор и духовная паника, порожденные судебным пониманием отношений между Богом и человеком и постановкой оправдания и спасения в центр христианской веры, исходят из понимания аффективной жизни Божества, во всем подобной самой дурной аффективной жизни человека. Но Бог открылся в Сыне как Отец, как бесконечная любовь. И этим навеки преодолевается понимание Бога как жестокого Хозяина и Господина, гневного и мстительного. «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир» но чтобы мир спасен был через Него". «Воля же Пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Человек призван к совершенству, подобному совершенству Отца Небесного. Христианское откровение есть, прежде всего благая весть о наступлении Царства Божьего, искать которого нам заповедано прежде всего. Искание же Царства Божьего не есть искание лишь личного спасения. Царство Божье есть преображение мира, всеобщее воскресение, новое небо и новая земля.
Христианское миропонимание не только не обязывает нас, но и не позволяет нам думать, что реальны только отдельные души людей, что только они составляют творение Божье. Общество и природа тоже ведь реальности и сотворены Богом. Общество не есть человеческая выдумка. Оно так же изначально, так же имеет онтологические корни. И человеческую личность нельзя вырвать из общества, как общество нельзя отделить от человеческих личностей. Личность и общество находятся в живом взаимодействии, принадлежат одному конкретному целому. Духовная жизнь личностей отображается на жизни общества. И общество есть некий духовный организм, который питается жизнью личностей и питает их. Церковь есть духовное общество, и общество это обладает онтологической реальностью, оно не может быть сведено лишь к взаимодействию отдельных спасающихся душ. В церковном обществе осуществляется Царство Божье, а не только спасаются отдельные души. Когда я говорю, что спасаться можно лишь в Церкви, я утверждаю, соборность спасения, спасение в духовном обществе и через духовное общество, спасение с моими братьями во Христе и со всем творением Божьим, и отрицаю индивидуалистическое понимание спасения, спасение в одиночку (спасайся, кто может, продирайся в Царство Небесное, как говорил один православный), отвергаю эгоизм спасения. Многие думают, что истолкование христианства как религии личного спасения есть по преимуществу церковное истолкование. Но в действительности оно сталкивается с самой идеей Церкви. Если какие‑либо мнения внешне господствуют в православном мире и почитаются некоторыми иерархами особенно церковными, то это еще не означает, что они наиболее церковны в глубоком, онтологическом смысле слова. Когда‑то арианство господствовало среди иерархии Востока. Возможно, что эти мнения отражают упадок христианства, окостенение в христианстве. В мире не было бы таких страшных катастроф и потрясений, не было бы такого безбожия и умаления духа, если бы христианство не стало бескрылым, скучным, нетворческим, если бы оно не перестало вдохновлять и направлять жизнь человеческих обществ и культур, если бы оно не было загнано в небольшой уголок человеческой души, если бы условный и внешний догматизм и ритуализм не заменил реального осуществления христианства в жизни. И будущее человеческих обществ и культур зависит от того, получит ли христианство творческое, преображающее жизнь значение, раскроется ли вновь в христианстве духовная энергия, способная породить энтузиазм, повести нас от упадка к подъему.
Официальные люди Церкви, профессионалы религии, говорят нам, что дело личного спасения есть единое на потребу, что творчество для этой цели не нужно и даже вредно. Зачем знание, зачем наука и искусство, зачем изобретения и открытия, зачем правда общественная, творчество новой, лучшей жизни, когда мне грозит вечная гибель и единственно нужно мне вечное спасение. Такого рода подавленное и прямо‑таки паническое религиозное сознание и самочувствие не может оправдать творчества. Ничто не нужно для дела личного спасения души. Знание в такой же мере не нужно, как не нужно искусство, не нужно хозяйство, не нужно государство, не нужно самое существование природы. Божьего мира. Правда, иногда скажут вам, что нужно существование государства, и притом в форме самодержавной монархии, так как вся эта религиозная система жизни возможна была только благодаря существованию православной монархии, на которую и было возложено все строительство жизни. Но, последовательно мысля, нужно признать, что государство не только не нужно для моего спасения, но, скорее, вредно. Такого рода религиозное сознание никакого дела в мире оправдать не может или может лишь по непоследовательности и попустительству. Это есть буддийский уклон в христианстве. Остается только идти в монастырь. Но самое существование монастырей предполагает охранение их государственным порядком. Этого рода сознание склонно оправдать мещанский быт, как смиренный и безопасный, и сопрягать его в одну систему с монашеским подвигом немногих, но творчества оправдать никогда не может. Вопрос нужно ставить иначе, и христианство не только разрешает, но и предписывает нам ставить иначе вопрос. Простая баба, говорят нам, спасается лучше, чем философ, и для спасения ее не нужно знания, не нужна культура и пр. Но позволительно усомниться в том, что Богу нужны только простые бабы, что этим исчерпывается план Божий о мире. Божья идея о мире. Да и простая баба сейчас есть миф, она стала нигилисткой и атеисткой. Верующим же стал философ и человек культуры. Могут по‑своему спасаться невежды, дураки и даже идиоты, но позволительно усомниться, чтобы в Божью идею о мире, в замысел Царства Божьего входило население его исключительно невеждами, дураками и идиотами. Позволительно думать, нимало не нарушая подобающего нам смирения, что в него входит положительная полнота бытия, онтологическое совершенство. Апостол рекомендует нам быть младенцами по сердцу, но не по уму. И вот творчество человека, знание, искусство, изобретение, усовершенствование общества и пр. и пр., нужно не для личного спасения, а для осуществления замысла Божьего о мире и человечестве, для преображения космоса, для Царства Божьего, в которое входит вся полнота бытия. Человек призван быть творцом, соучастником в Божьем деле миротворения и мироустроения, а не только спасаться. И человек может иногда во имя творчества, к которому он призван Богом, во имя осуществления дела Божьего в мире, забывать о себе и своей душе. Людям даны Богом разные дары, и никто не имеет права зарывать их в землю, все должны творчески использовать эти дары, указующие на объективное призвание человека. Об этом с большой силой говорит апостол Павел (Первое посл. к Коринфянам, гл. 12, 28) и апостол Петр (Первое посл., гл. 4, 10). Таков замысел Божий о человеке, что природа человеческой личности творящая. Спасается личность. Но для того, чтобы личность спаслась, нужно, чтобы она была утверждена в своей подлинной природе. Подлинная же природа личности в том, что она есть центр творческой энергии. Вне творчества нет личности. Спасается для вечности творческая личность. Утверждение спасения против творчества есть утверждение спасения пустоты небытия. Человеку в положительном бытии его присуща творческая психология. Она может быть подавлена и скрыта, может быть раскрыта, но она онтологически присуща человеку. Творческий инстинкт в человеке есть бескорыстный инстинкт, в нем забывает человек о себе, выходит из себя. Научное открытие, техническое изобретение, творчество художественное, творчество общественное могут быть нужны для других, и использованы для целей утилитарных, но сам творящий бескорыстен и отрешен от себя. В этом существо творческой психологии. Психология творчества очень отличается от психологии смирения и не может быть на ней построена. Смирение есть внутреннее духовное делание, в котором человек занят своей душой, самопреодолением, самоусовершенствованием, самоспасением. Творчество есть духовное делание, в котором человек забывает о себе, отрешается от себя в творческом акте, поглощен своим предметом. В творчестве человек испытывает состояние необычайного подъема всего своего существа. Творчество всегда есть потрясение, в котором преодолевается обыденный эгоизм человеческой жизни. И человек согласен губить свою душу во имя творческого деяния. Невозможно делать научные открытия, философски созерцать тайны бытия, творить художественные произведения, создавать общественные реформы лишь в состоянии смирения. Творчество предполагает другое духовное состояние, не противоположное смирению, но качественно отличное от него, другой момент духовной жизни. И св. Афанасию Великому открылась истина омоусии (единосущия) не в состоянии смирения, а в состоянии творческого подъема и озарения, хотя смирение и предшествовало этому. Творчество предполагает своеобразную духовную аскезу, творчество не есть попускание своих страстей. Творчество предполагает самоотречение и жертву, победу над властью «мира». Творчество есть обнаружение любви к Богу и божественному, а не к миру сему. И потому путь творчества есть также путь преодоления «мира». Но творчество есть иное качествование духовной жизни, чем смирение и аскеза, есть обнаружение богоподобной природы человека. Иногда рассуждают так: сначала человек должен спасаться, побеждать грех, а потом уже творить. Но такое понимание хронологического соотношения между спасением и творчеством противоречит законам жизни. Так никогда не происходило и не будет происходить. Спасаться я должен всю жизнь, и до конца жизни моей мне не удастся окончательно победить грех. Поэтому никогда не наступит времени, когда я в силах буду начать творить жизнь. Но так же, как человек всю жизнь должен спасаться, он всю жизнь должен творить, участвуя в творческом процессе сообразно своим дарам и призванию. Соотношение между спасением и творчеством есть идеальное и внутреннее соотношение, а не соотношение реальной хронологической последовательности. Творчество помогает, а не мешает спасению, потому что творчество есть исполнение воли Божией, повиновение Божьему призыву, соучастие в деле Божьем в мире. Плотник ли я или философ, я призван Богом к творческому строительству. Мое творчество может быть искажено грехом, но полное отсутствие творчества есть выражение окончательной подавленности человека первородным грехом. Неверно, что подвижники и святые только спасались, – они также творили, были художниками человеческих душ. Апостол Павел по духовному своему типу был в большей степени религиозным гением творцом, чем святым.
Не всякое творчество хорошо. Может быть злое творчество. Творить можно не только во имя Божие, но и во имя дьявола. Но именно потому нельзя уступать творчества дьяволу, антихристу. Антихрист с большей энергией обнаруживает свое лжетворчество. И если не будет христианского творчества и христианского строительства жизни, христианского строительства общества, то антихристианское и антихристово творчество и строительство будет захватывать все большие и большие районы, будет торжествовать во всех сферах жизни. Но для дела Христова в мире нужно отвоевывать как можно большие районы бытия, нужно как можно меньше уступать антихристу и его работе в мире. Уходя от мира, отрицая творчество в мире, вы предоставляете судьбу мира антихристу. Если мы, христиане, не будем творить жизни в истинной свободе и братстве людей и народов, то это будет ложно делать антихрист. Дуалистический разрыв между личной духовной настроенностью и нравственностью, для которых христианство требует аскезы, отрешенности, жертвенности и любви, и настроенностью и нравственностью общественной, созидающей государство, хозяйство и пр., для которых христианство допускает привязанность к материальным вещам, культ собственности и жажду богатства, конкуренцию и соревнование, волю к власти и пр., дальше не может существовать. Христианское сознание не может допустить, чтобы общество покоилось на свойствах, которые оно признает порочными и греховными. Христианское возрождение предполагает новое духовно‑общественное творчество, созидание реального христианского общества, а не условно‑символического христианского государства. Невозможно далее терпеть условной лжи в христианстве. Торжествует антихристианский социализм, потому что христианство не решает социального вопроса. Торжествует антихристианский гностицизм, потому что христианство не раскрывает своего христианского гнозиса. И так во всем. Мы подходим к последнему пределу. Секулярная, гуманистическая, нейтральная культура становится все менее и менее возможной. Никто больше не верит в отвлеченную культуру. Повсюду человек стоит перед выбором. Мир разделяется на противоположные начала. Далее не может все происходить так, как происходило в новой истории. И вместе с тем невозможен возврат к старому средневековью. Проблема творчества, проблема христианской культуры и общества неразрешима церковно‑иерократически. Это есть проблема религиозного освящения начала человеческого, а не восстановление господства начала ангельского. Творчество есть сфера человеческой свободы, исполненной преизбыточной любви к Богу, миру и человеку. Вывести из кризиса мира и кризиса христианства не могут ни начала новой истории, ни начала старого средневековья, а лишь начала нового средневековья. Христианское творчество будет делом монашества в миру.[7] Религиозный кризис нашей эпохи связан с тем, что церковное сознание ущерблено, не постигло полноты. И раньше или позже эта полнота должна быть достигнута, и должно раскрыться, что положительное творческое движение в мире, в культуре было раскрытием человеческой свободы в Церкви, было обнаружением жизни человечества в Церкви, т. е. было неосознанно церковным. Творчество человека в мире было жизнью самой Церкви как Богочеловечества. Это отнюдь не значит, что все творчество и созидание человека в новой истории было неосознанно церковным. Процесс этот был двойствен, в нем уготовлялось и царство мира сего, царство антихриста. В гуманизме была и великая ложь, восстание против Бога, готовилось истребление человека и угашение бытия. Но было и положительное искание человеческой свободы, было обнаружение творческих сил человека. Далее творческий процесс в человечестве не может оставаться нейтральным, он должен стать положительно церковным, осознать себя или окончательно стать антицерковным, антихристианским, сатаническим. В мире, в культуре должно быть произведено реально‑онтологическое разделение, не формально и внешне‑церковное, а внутренне‑духовное и онтологически‑церковное. В этом смысл наших времен. Божественные энергии действуют повсюду в мире многообразными и часто незримыми путями. И не следует соблазнять «малых сил» нашего времени, блудных сынов, возвращающихся в Церковь, отрицая всякий положительный религиозный смысл за творческими процессами, происходившими в мире.
В новое время все духовно значительные люди были духовно одиноки. Страшно одинок, трагически одинок был гений, творческий зачинатель. Не было религиозного сознания о том, что гений – посланник небес. Это одиночество гения порождено дуализмом, о котором все время была речь. Преодолеть его может лишь христианское возрождение, которое будет творческим. Но творческое церковное возрождение нельзя мыслить в иерократических категориях, нельзя втиснуть в рамки церковного профессионализма, нельзя мыслить как исключительно процесс «сакральный», в противоположность процессам «профанным». Творческое церковное возрождение пойдет и от движения в миру, в культуре, от накопившихся в миру творческих религиозных энергий. Мы должны более верить, что Христос действует в своем духовном человеческом роде, не оставляет его, хотя бы действие это было для нас незримо. Христиане стоят перед задачей оцерковления всей жизни. Но оцерковление не означает непременно подчинения всех сторон жизни Церкви, понимаемой дифференциально, т. е. не означает возобладания теократии и иерократии. Оцерковление имеет своей неизбежной стороной признание церковным того духовного творчества, которое представлялось внецерковным для дифференциального и иерократического церковного сознания. Церковь в глубинном смысле слова жила и в миру, в миру были неосознанные церковные процессы. Восполнение Церкви как жизни богочеловеческой, раскрытие интегрального церковного сознания означает обогащение новым духовным опытом человечества. Этот духовный опыт нельзя оставлять неоправданным и неосвященным. Человек безмерно тоскует и жаждет освящения своих творческих исканий. Церковь есть жизнь, жизнь есть движение, творчество. Невозможно долее терпеть, чтобы творческое движение оставалось внецерковным и противоцерковным, а Церковь была бездвижной и лишенной творческой жизни. Известные формы церковного сознания охотно признавали теофанию в застывших формах быта, в неподвижных исторических телах (напр., монархической государственности). Но наступают времена, когда церковное сознание должно будет признать теофанию в творчестве. Внецерковное, секулярное, гуманистическое творчество исчерпано, повсюду упирается в тупик. Культура испошлена. Лучших людей мучит жажда вечности. А это значит, что должна наступить эпоха творчества церковного, христианского, богочеловеческого. Церковь не может остаться уголком жизни, уголком души. В безбожной цивилизации будет погибать образ человека и свобода духа, будет иссякать творчество, начинается уже варваризация. Церковь еще раз должна будет спасти духовную культуру, духовную свободу человека. Это я и называю наступлением нового средневековья. Пробуждается воля к реальному преображению жизни, не только личной, но и общественной и мировой. И эта благая воля не может быть остановлена тем сознанием, что Царство Божье на земле невозможно. Царство Божье осуществляется в вечности и в каждом мгновении жизни и независимо от того, в какой мере сила зла внешне побеждает. Наше дело – отдать всю свою волю и всю свою жизнь победе силы добра, правде Христовой во всем и повсюду.
Жизнь человеческая расщеплена и раздавлена двумя трагедиями – трагедией Церкви и трагедией культуры. Трагедии эти порождены дуалистическим ущерблением, обеднением Церкви до дифференциального, иерократического ее понимания, всегда противополагающего Церковь миру. Мы, христиане, не должны любить «мира» и того, что от «мира», должны победить «мир». Но этот «мир», по определению святоотеческому, есть страсти, есть грех и зло, а не Божье творение, не космос. Церковь противоположна такому «миру», но не противоположна космосу, Божьему творению, положительной полноте бытия. Разрешение двух трагедий – в жизненном, а не теоретическом только осознании христианства как религии не одного лишь спасения, но и творчества, религии преображения мира, всеобщего воскресения, любви к Богу и человеку, т. е. в целостном вмещении христианской истины о Богочеловечестве, о Царстве Божьем. И положительное разрешение находится по ту сторону старого противоположения гетерономии и автономии. Творчество не гетерономно и не автономно, оно вообще не «номно», оно богочеловечно, оно есть обнаружение избыточной любви человека к Богу, ответ человека на Божий зов, на Божье ожидание. Мы верим, что в христианстве заключены неисчерпаемые творческие силы. И обнаружение этих сил спасет мир от упадка и увядания. Вопрос в наше время идет не о борьбе церковного и внецерковного христианства, а о духовной борьбе внутри Церкви, внутренне церковных течений, – течения исключительно охранительного и течения творческого. И монополия церковности не может принадлежать исключительно течениям охранительным, враждебным творчеству. От этого зависит будущее Церкви на земле, будущее мира и человечества. В Церкви есть вечное консервативное начало, должны незыблемо храниться святыня и предание. Но в Церкви должно быть и вечное творческое начало, начало преображающее, обращенное ко Второму Пришествию Христову, к торжествующему Царству Божьему. В основе христианской веры лежит не только священство, но и пророчество. «И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры» (Рим, 12,6). Творчество, творческое обнаружение гения человека есть до времени секуляризованное пророчество, которому должно быть возвращено его священное значение.
Журнал “Путь”, Париж, 1926, № 2
Когда ультра‑православная «Религиозно‑Философская Библиотека», во главе которой стоит такой столп православия, как М.А.Новоселов, выпустила в свет ныне нашумевшую и признанную еретической книгу иеросхимонаха Антония Булатовича «Апология вера во Имя Божие и во Имя Иисуса», то в редакционном предисловии мы прочли патетические слова: "Подобно волне землетрясения, по всей вселенской церкви, от Юга и до Севера, от Востока и до Запада прошло негодование, когда несколько легкомысленных и подпорченных рационализмом монахов дерзнули посягнуть на тот нерв церкви, в котором сходятся все прочие нервы, – на тот догмат, в отрицании которого содержится отрицание всех догматов, – на ту святыню, которая лежит в основе всех святынь церковных. Если бы ничего не было еще, кроме этой волны 1912 года, то и ее одной было бы слишком достаточно, чтобы, как картонные домики, сбросить построения хулителей церкви, говорящих о ее мертвенности, о ее казенности, о ее застое, о ее параличности. Церковь слишком велика, чтобы трогаться из‑за пустяков. Неподвижность ее – неподвижность величия, а не смерти. Но когда покушение на нее задевает ее за живое – она являет свою мощь, она содрогается. Так содрогнулась она и ныне, когда со всех концов – из глухих провинциальных монастырей и из столиц – у полуграмотных подвижников и у образованных деятелей вырвался из груди общий крик негодования и возгорелось дружное желание вступиться за дражайшее достояние верующего сердца. Отступники церкви требовали знамения – да умолкнут: вот оно! Но где центр этой волны? Да где же, как не в исконной твердыне православия? Где же, как не в том историческо‑беспримерном и неподражаемом государстве монахов, которое живет наперекор законам земных государств. На Афоне не пахнет ни дымным, ни бездымным порохом, и провинившиеся граждане его наказуются не тюрьмами, а лишением сладкого дыма духовного отечества… Холодно в его культурном мире. Непроницаемая каменная кора рационализма затягивает огненный океан благодати всюду. Но вечно кипит в уделе Пресвятой и Пречистой Матери Божией та и опаляющая и согревающая лава, без которой замерзло бы человечество. Таким‑то духовным извержением, в ряду других, явился 1912 год. Прозвание же ему, если позволительно предвосхитить историю, которая лишь имеет быть написанной в будущем, – прозвание ему: “Год афонских споров об Имени Иисусове ”.
Прошло немного времени с тех пор, как были написаны эти слова, и история уже жестоко надсмеялась над ними. Год этот поистине оказался знаменательным для православной церкви.
В каждом номере газет пишут об именеславцах и именеборцах, о старце Илларионе, об иеросхимонаха Антонии Булатовиче, о волнениях на Афоне, о мерах борьбы св. синода против новой “ереси”, об ужасах, от которых вся кровь загорается негодованием. Повторил бы и сейчас автор цитированного предисловия свои немного риторические слова, или события последнего времени были слишком большим испытанием и для его православной романтики? Кто эти “несколько легкомысленных и подпорченных рационализмом монахов”, дерзнувших посягнуть на святое Имя Иисусово? Это св. синод и патриархи, церковь русская и церковь константинопольская, осудившие в самой резкой форме именеславство, как богохульную ересь. На Афоне запахло “дымным порохом”, и, по “законам земных государств”, граждане его “наказуются тюрьмами”. Истязаниями и изувечиваниями убеждают в правоте синодальной веры. Где же голос церкви, который скажет свое властное слово по догматическому вопросу, затрагивающему самые основы христианства? Впервые за долгие, долгие столетия вышел православный мир из состояния духовного застоя и заволновался вопросом духовного, мистического опыта, не мелочным вопросом церковного управления, а большим догматическим вопросом. И радостно было, что в XX веке люди могут так страстно волноваться вопросами религиозными. Споры именеславцев и именеборцев напомнили те старые времена, когда в православной церкви была еще духовная жизнь и духовное движение. И с волнением ждали лучшие православные люди, люди подлинного религиозного опыта и подлинной духовной жизни, как ответит церковной на глубокий духовный вопрос, на вопрос мистического опыта. Здесь не место входить по существу в догматический спор именеславцев и именеборцев. Скажу только, что на стороне именеславцев преимущества более напряженной духовной жизни, за ними есть мистические традиции, среди них есть люди религиозного опыта прежде всего. В учении именеславцев есть та частичная истина пантеизма, которая допускает, что энергия Божия становится имманентной миру и человеку. На стороне именеборства оказалось официальное, казенное, синодальное православие, давно порвавшее всякую связь с христианской мистикой, давно равнодушное ко всякой духовной жизни, давно выродившееся в государственный позитивизм и жизненный материализм. В ответ на духовное волнение православного мира, волнение лучших монахов, старцев и мирян, всем сердцем своим преданных православию, раздался голос официальной, казенной церкви, и она покрыла себя несмываемым позором. Для церкви синодальной и церкви патриархов это было великое испытание, испытание, посланное свыше.
Когда иеросхимонах Антоний Булатович приехал с Афона в Россию искать правды Божией у русской церкви, то его, прежде всего, подвергли обыску, потом св. синод предложил министерству внутренних дел выслать его из Петербурга, как человека беспокойного. Полицейскими преследованиями ответили на его духовную жажду. Архиепископ Антоний Волынский в “Русском Иноке” разразился площадной бранью, бранью – достойной извозчика, а не князя церкви, против книги старца Иллариона “На горах Кавказа”, из‑за которой началось все движение. Св. синод вознегодовал, что старец Илларион, иеросхимонах Антоний Булатович и афонские монахи осмелились нарушить духовный покой и застой, дерзнули мыслить о предметах духовного опыта и ведения. Св. синод, во всем подобный нашей государственной власти, прежде всего боится и ненавидит всякую жизнь и всякое движение, прежде всего хочет спокойствия и тишины. Первая забота его, как бы чего не вышло. Никакие догматические вопросы внутри православия не подымались, вопросы духовной жизни переставали волновать духовный мир. Интересовались такими второстепенными и теплохладными вопросами, как: быть или не быть патриарху, устраивать ли приход и т. п. Никакая мистика не нарушала мертвого покоя православного мира. И вдруг самые православные из православных заволновались, забеспокоились, зажаждали. Наши епископы, заседающие в св. синоде, давно перестали интересоваться религиозными вопросами по существу, да и никогда епископы не были сильны в вопросах религиозного знания и мистического созерцания. Что им за дело до того, присутствует ли реально сам Иисус в имени Иисус или имя есть лишь условный посредствующий знак. Они, люди, пропитанные жизненным утилитаризмом, не способны вникать в подобные вопросы, посильные лишь мистикам, религиозным философам и людям высших созерцаний. Св. синод объявил ересью именеславство за беспокойство, причиняемое людям, давно отвыкшим от всякой духовной жизни и всякого духовного волнения. Св. синод ненавидит всякую духовную жизнь, считает ее опасной и беспокойной. Можно ли обращаться к позитивистам синодальной церкви и их материалистам церкви патриархов, к людям, погруженным в низшие сферы бытия, с вопросом об имени Иисусовом, с вопросом духовной жизни и религиозного сознания? Когда возник серьезный вопрос, то официальная церковь оказалась постыдно бессильной. Вдруг обнаружилось что нет силы и жизни Духа в синодальной церкви. Зверская расправа архиепископа Никона над афонскими монахами, отдание схимников, проживших на Афоне по 30 и 40 лет, на растерзание войскам и полиции, обнаруживает небывалое падение церкви, последнее ее унижение. Любят иногда кричать о том, что церковь угнетена государством. Но епископы сами же призывают государственную власть к насилиям во имя своих целей, они в тысячу раз хуже солдат и городовых. Архиепископ Никон убедил монахов‑именеславцев в правой вере св. синода с помощью штыков, изувечивших беззащитных стариков. Духовный силой архиепископ Никон никогда и ни в чем никого не мог убедить. Синодальное православие ни для кого не убедительно: в нем нет убеждающей силы Духа (ни один синодальный миссионер никогда не мог переубедить ни одного сектанта). Вечное обращение синодальной церкви к силе государственного оружия есть откровенное признание в том, что ее православие бессильно, неубедительно и не соблазнительно. После изуверской расправы над несчастными монахами был разгромлен Афон, древний оплот православия, и св. синод решил, что русская и константинопольская церкви уничтожили ересь. Изувеченные монахи остались вещественными доказательствами победы синодальной истины над еретическим заблуждением.
Огромное значение “года афонских споров об имени Иисусове” в том, что он обозначает тяжелый и решительный час для всех искренних, глубоких, чистых православных. Должен, наконец, совершиться кризис религиозного сознания внутри православия. И прежде всего нужно будет пересмотреть традиционное учение о смирении. Среди самых лучших, самых духовных православных, как монахов и священников, так и мирян, есть много горячих приверженцев именеславства, осужденного и русским синодом и патриархами. Св. синод призывает к смирению, к отречению от мудрствования. Покорятся ли те, для кого прославление имени Божия и имени Иисусова есть “нерв церкви, в котором сходятся все прочие нервы, тот догмат, в отрицании которого содержится отрицание всех догматов, та святыня, которая лежит в основе всех святынь церковных”, – смирятся ли перед св. синодом? На одной стороне собственный духовный опыт, подтвержденный опытом святых и старцев, своя религиозная совесть, на другой – св. синод, никем не уважаемый, сомнительный даже с канонической точки зрения; корыстолюбивые патриархи, лживые епископы, голос видимой, а может быть лишь кажущейся церкви! Монахи дают обет послушания, смирение имеет для них значение формального принципа внутреннего духовного делания. Этот монашеский дух послушания и смирения перешел и к православным мирянам. Они готовы слушаться зла и смириться перед ним. И мы подходим к вопросу, есть ли христианство религия смирения и послушания или религия свободы и любви? Исторически бытовое, официальное, ветхое христианство, опекающее младенцев, окончательно выродилось в религию смирения и послушания, как начал самодовлеющих. Что нужно смиряться перед Богом, в этом нет никакой проблемы. Но нужно ли смиряться перед миром и людьми, смиряться перед злом, смиряться перед тем, что есть надругательство над религиозной совестью и религиозным опытом, над добытым высшей духовной жизнью? Учение о смирении превратилось в угашение духа, в омертвение духовной жизни, в потворству злу. Требование смирения всегда и во всем давно уже стало орудием диавола, самоохранением зла, обезоруживанием в борьбе со злом. Синодальная церковь, в которой не живет дух, только и знает, что требует всегда и во всем смирения и покорности. Она боится духовной жизни, как огня, и ищет способов задуть огонь Духа. Всякая мистика страшит ее, ибо мистика не нуждается во внешнем авторитете и не признает никакого авторитета. Мистику в духовном опыте даны последние реальности, и ему жалки и смешны внешние догматы синодальных епископов. Самая низкая, свинская материалистическая жизнь милее для синодальной церкви, чем высшая духовная жизнь, чем восхождение. Синодальная церковь хочет властвовать над душами людей через их грех и слабость. Лучше грешить, но не возноситься духовно, не мудрствовать, не дерзать восходить слишком высоко. Говорят, какой‑то старец сказал Вл. Соловьеву: “Греши, греши, Владимир Сергеевич, чтобы не возгордиться”. Это так характерно для православия. Грех снисходительно разрешается, чтобы человек не возносился слишком высоко. Официальное православие ненавидит всякое восхождение, всякое движение, оно благословляет лишь мертвый покой и духовное холопство. Всякий духовный, религиозный опыт прежде всего есть освобождение от гнета мирского утилитаризма, мирского позитивизма. мирской необходимости и мирских расчетов. Официальное православие целиком в утилитаризме и позитивизме, в мирских расчетах и мирской необходимости; оно ранит душу своей недуховностью, своей буржуазностью.
То, что у святых отцов было некогда подлинной духовной жизнью, стало трупным ядом в современном “духовном” мире, мертвечиной, лицемерным прикрытием отсутствия духовной жизни. Нельзя безнаказанно отрицать творческое духовное развитие. Смирение было когда‑то героическим противлением природному порядку, языческим страстям, совлечением с себя ветхого Адама. Ныне смирение стало рабством у гниющего, разлагающегося “мира сего”. По плодам узнаете их. Этот евангельский критерий остается вечным. Каковы же плоды синодальной церкви, официального православия? Эти плоды ужасны. Духовная смерть, мертвенность и трупность души человеческой – вот плоды упадочного, разлагающегося, мертвящего учения о смирении и послушании, о грехе и зле. Нынешние упадочные, одряхлевшие христиане громко кричат о свободе человека, когда речь идет о зле и грехе. Но когда речь заходит о добре и о творчестве, тогда не говорят уже о свободе, тогда отрицают свободу. Свобода у них существует для зла, для добра не существует свобода. Свобода лишь повод для неверия в человека, для отвращения к человеку, для ненависти к творческим порывам человека. В антихриста больше верят, чем в Христа. Христианство выродилось в религию греха и зла, в человеконенавистничество и человекоистребление. Будь свиньей, живи в грязи – этой греховностью, этой слабостью можно угодить одряхлевшему, упадочному христианскому сознанию. Но, упаси тебя Боже быть человеком, быть духовно‑сильным, идти ввысь, раскрывать свою творческую природу. Человеком быть гораздо хуже, гораздо опаснее, чем быть свиньей. Бытовое свинство православного мира снисходительно поощряется церковью. Смирись перед нашей божественностью, и мы сквозь пальцы будем смотреть на твою свинскую жизнь. Можно быт зверем (огромное большинство) и можно быть ангелом (небольшое меньшинство), но нельзя быть человеком. Православие незаметно вырождается в монофизитскую ересь. Господствующее православное сознание, как и монофизитство, признает Иисуса Христа Богом, но не признает его человеком. Православие не верит в Богочеловека, и оно не есть религия богочеловечества. Ведь признание Христа не только совершенным Богом, но и совершенным человеком, обязывает к вере в человеческую природу, к уважению человека, к признанию свободной человеческой стихии. Но монофизитствующее православие хотело бы истребить человека и признать одного Бога. Человек и человеческое – безнадежная грязь и свинство. Пусть грязью и свинством остается до полного исчезновения. Это будет смиренно. Грязь и свинство по крайней мере не возгордится. Вл. Соловьев учил о богочеловечестве, но его напоминание о том, что в идее богочеловечества – сущность христианства, не пользовалось благосклонным вниманием официальной церкви. Монофизитствующее православие верит в Бога, абсолютно трансцендентного человеческой природе, Бога далекого и чуждого, Бога дохристианского. На этой ветхой и, перед судом Христова сознания, еретической вере обосновывается неверие в преображение жизни, в восхождение человека, в раскрытие божественной жизни в человеке. Монофизитствующее православие считает ересью всякий христианский имманентизм. Но само официальное православие давно уже стало пагубной, антихристианской ересью. В нем не осталось и следов евангельского христианского духа, христианской мистики, религии любви и свободы, религии бесконечного сближения и соединения человека и Бога. Монофизитствующее православие совершает кровавые человеческие жертвоприношения во имя своего нехристианского Бога. Обвиняют католичество в юридическом учении об искуплении, но и официальное православие исповедует язычески‑юридическое учение об искуплении, как умилостивлении Божьего гнева. Наши епископы превыше всего возлюбили гнев Божий и запугивают души человеческие, открывая им единственный путь спасения через присущую им благодать священства. Христианство свелось по преимуществу к страху гибели, а искупление – к судопроизводству о преступнике.
В мире совершается глубокий кризис, в мире рождается страстная жажда высшей духовной жизни. На всех концах современной культуры видится переход к духовности после долгого периода погружения в материальность. Чувствуется дыхание Духа. Дух дышит, где хочет. Свободные мистики, теософы, штейнерианцы, толстовцы, добролюбовцы, сектанты разных толков, странники из народа и странники из интеллигенции – все жаждут духовной жизни, преображенной жизни. Все чаще и чаще встречаются уходящие странники, ищущие жизни в Духе, отрекающиеся от благ низшей жизни. Христос вошел в мир, и в мире действует Христова сила. И велика задача, чтобы мировой кризис перехода к новой духовной жизни совершился под знаком Христа. Официальная церковь ничего не делает, чтобы утолить духовную жажду мира и подчинить неопределенные духовные стремления христианскому сознанию. Ее лукавые слуги умеют только проклинать и насиловать. Православный мир погряз в низинах материальной жизни. Иначе он не держался бы так хищно за государственный утилитаризм. Даже йоги Индии со своей старой и далекой нам мудростью приходят по‑своему помочь европейскому человечеству выйти из духовного кризиса. А великий духовный опыт православного Востока не имеет голоса сказать свое слово помощи в тот решающий час, когда христианское человечество стоит на распутье.
Как мучительно ужасна наша православная жизнь. Православная церковь не указывает никаких путей жизни, путей духовного развития. В Харьковской губернии народ называет “шкопцом” всякого, кто не пьянствует и живет немного более духовно, чем того требует традиционный народный быт. Какой же ты православный, если не пьешь, не развратничаешь, не распускаешься, не погружен в материальные интересы, если слишком интересуешься вопросами духа? Слишком напряженный религиозный интерес уже не православен. Православно пьянство, распущенность, погружение в материальный быт. Не духовная бытовая жизнь – обрядовое отношение к религии, отсутствие жажды духовного возрождения – верные признаки ортодоксальности.
Врата адовы давно уже одолели синодальную церковь, как одолели и церковь папскую. А это значит, что синодальная церковь не есть подлинная церковь Христова, которой не одолеют врата адовы. Трагедия именеславство изобличает ложь официальной церковности, отсутствие в ней Духа Христова. Та “недвижность церкви”, в которой видит ее величие автор предисловия к книге иеросхимонаха Антония Булатовича, есть признак духовной смерти. Церковь Христова есть вечное богочеловеческое движение. В этом восхищении перед “недвижностью” чувствуется все тот же монофизитский уклон, отрицание человека. Церковь – богочеловеческий организм и предполагает активность человеческой стихии. Сам Бог вышел из состояния “недвижности”, из покоя, когда сотворил мир. Человек призван в церковной жизни действовать, творить. Человек несет ответственность за богочеловеческий организм церкви. Падение церкви есть падение человека. Когда церковь пребывает в духовной “недвижности”, тогда в движение приводятся солдаты, полиция, штыки и ружья. Это духовный паралич. И в синодальной церкви паралич перешел уже в омертвение, она выделяет трупный яд и отравляет им духовную жизнь русского народа. Все, что есть в России живого, духовного, ищущего божественной правды и божественной жизни, должно уйти из этой церкви разложения и гниения, должно охранить русский народ от действия трупного яда. Но это предполагает сдвиг в христианском сознании, радикальный пересмотр обветшалого учения о смирении и послушании, о зле и грехе, открытие внутренних источников возрождения духовной жизни, жизни положительной, а не отрицательной. Ныне нужно не смирение и послушание, а рост духовной жизни, накопление духовной милы, противящейся мертвящему злу. Ныне нужно гневно выгонять торговцев из храма.
Церкви Христовой не одолеют врата адовы, она вечно пребывает в Космосе как соединение Христа‑Логоса с душой мира и душой человека, как вечно совершающаяся в Космосе мистерия искупления. Церковь неодолимо пребывает в высшей духовной жизни, в соединении человека с Богом и через Бога с другим человеком. Духовная плоть, о которой говорит апостол Павел, должна, наконец, преодолеть физическую низшую плоть церковности, всегда связанную с низшей плотью человека. Низшая физическая плоть церковности омертвела и сгнила. И спасения можно искать лишь в раскрытии ее духовной плоти. Дело архиепископов Никонов и архиепископов Антониев и есть гниение физической плоти церкви, ее ветхих одежд, предназначенных для младенчествующего человечества. Ныне выросло человечество из этих ветхих одежд и должно облечься в новую духовную плоть. Разлагающаяся физическая плоть церковности зверское предпочитает человеческому, хочет грязи, распущенности, холопства, больше, чем чистоты, достоинства, духовности и восхождения. Слишком ясно, что приходит конец материалистической церкви младенчествующего человечества. Она не вмещает жизни духа, жажды духа, движения духа. Все пожато в свое время, ибо мир живет творческим духовным развитием, вечной динамикой, вечным восхождением. То, что раньше было в церкви мировым воспитанием и водительством незрелого человечества, то стало теперь насилием и угашением духа. Синодальная церковь, официальное православие, совершают хулу на Духа Святого. А сказано, что хула на Сына Божьего простится, но не простится хула на Духа Святого. Не церковь то, что не дает дышать Духу. Может ли церковь Христова быть гасительницей духа, гонительницей всякого духовного порыва? Реставрация старого святоотеческого сознания и старого православного быта есть великое препятствие на пути христианского возрождения. Сам иеросхимонах Антоний Булатович – человек ветхого сознания, книга его построена на мертвом авторитете текстов, а не на духовной жизни, не на мистическом опыте. Но книге этой суждено сыграть роль в разложении синодальной церкви. Если именеславская “ересь” вызовет раскол в церкви, то этому можно только радоваться и приветствовать, как жизнь. Желанно и радостно все, что срывает покров той лицемерной лжи, что все обстоит благополучно и спокойно в православии. Нужно желать всеми силами духа, чтобы раскрылась и обнаружилась всяческая правда, правда, превышающая всякий расчет и всякое благо земное, чтобы настал конец “подвижности” и покою, чтобы духовное землетрясение разразилось под гниющей физической плотью церковности. В этом залог новой духовной жизни, начало богочеловеческого делания. Подлинная религиозная жизнь есть победа над страхом, стяжание мужества, проникновенность благим смыслом мировой жизни. Омертвевшая церковность нуждается в удержании человека в состоянии страха и ужаса. И потому высшие ныне добродетели – храбрость и дерзание. Хватит ли храбрости и дерзания у тех православных, которых св. синод принуждает отречься от их религиозной совести и от их религиозного опыта? То, что узнал человек в своем религиозном опыте о мире ином, то авторитетнее и первичнее всякого внешнего авторитета. И вопрос об имени Иисусовом может быть решен лишь обращением к собственной духовной жизни и к людям высшего мистического опыта, а не к св. синоду и не к патриархам, которым нет дела ни до чего духовного, мистического и внутреннего. Пусть организация физической плоти церковности решает свои позитивно‑материальные вопросы. Люди духовные могут обращаться лишь к духовной плоти церкви мистической.
“Русская молва”. – Август 1913. – № 232.
В России формируется народно‑общественное национальное сознание и окончательно изобличается ложь официально‑казенного национального сознания. Об этом свидетельствуют и новая постановка вопроса об армии и флоте, и отношение общества к славянскому вопросу. Окончательно будет сломлен старый строй, когда всенародно будет осознано, что национальная идея и ее практическая защита находятся в ненадежных руках, что корыстные сердца лживыми устами произносят святое имя отечества и претендуют быть исключительными его хранителями.
И идейная, и практическая сила старой русской государственности покоится на том, что она охранила народ русский от вражеских нашествий, укрепила единство России. Русские историки объясняют небывалую силу русского абсолютизма тем, что наша государственность создалась и окрепла в борьбе с внешними врагами, что непомерными усилиями должна она была защищать национальное единство России. Русская государственная власть вырабатывалась и развивалась в неустанной борьбе за бытие нации, в процессе самосохранения национальной личности. Татарское нашествие в значительной степени определило историю русской государственной власти. То, что власть эта окрепла в отражении дикого нашествия, было заслугой не только перед Россией, но и перед Европой. Все силы русской государственности были направлены на самосохранение, и мало осталось творческих сил, сил, направленных на общественное совершенствование. Этим объясняется и слабое развитие у нас классов и сословий, слабость нашего общества по сравнению с властью, государственно‑служебный характер всех общественных сил. Духовные силы русского народа вошли вовнутрь, в религиозность не действенную, вовне же укреплялась и централизовалась государственная власть и охраняла тело России. Государственный абсолютизм охранял единство нации, укреплял за Россией место в мире. Великие заслуги предков перед Россией перенеслись на выродившихся потомков, и это перенесение заслуг затрудняет изобличение лжи и победу над ложью. Наша консервативная идеология всегда была прежде всего идеологией национальной, наши консерваторы прежде всего националисты. Лагери прогрессивный и революционный прежде всего подозреваются в антинациональном направлении, в равнодушии к величию и единству России. Государственная власть и теперь еще имеет смелость ссылаться на свои заслуги в создании России, в охранении ее тела, и этими заслугами прошлого оправдывает зло настоящего.
Идейно и жизненно победить русскую реакционную государственность, значит отнять у нее монополию хранителя национальной идеи, значит показать опасность подобной власти для судьбы нации. Космополитическими общими фразами, апелляциями к пролетариату или отвлеченной декларацией прав нельзя сокрушить твердыню реакции. Слишком отвлеченный, общий характер всех заявлений и требований первой Думы ослабил ее позицию. Необходимо конкретно считаться с тем, как создалась русская государственность и как вырабатывалось у нас историей национальное чувство. Освободительное движение (в широком смысле слова) тогда лишь окончательно приобретет национальное значение и сокрушит всякую реакцию, когда оно станет сознательно национальным, т. е. когда защита России и охранение русской национальной идеи перейдет к освободителям. Реакционная государственная власть враждебна народу н обществу и потому не в силах охранить Россию, поддержать ее честь и достоинство, она подрывает единство я величие России. Это так наглядно показала японская война, что даже октябристы и правые кое‑что заметили. А реакционная война власти против русского народа еще яснее это обнаружила.
Охранить отечество, отстоять его честь и возвеличить его могут лишь те люди, у которых в душе сохранилась народная святыня и не порвалась связь с народным целым. Русский абсолютизм тогда лишь мог отражать вражеские нашествия и укреплять величие России, когда он был народным, когда государственность была созданием нации, органической ее функцией. Но времена эти давно уже прошли. Государственная власть – подчиненная органическая функция национальной жизни – стала как бы высшим смыслом жизни, возомнила о себе как о некоей святыне, которой сам народ, сама нация должны подчиниться. Начался болезненный процесс вырождения нашей государственности, она стала не народной, антинациональной. Русский народ и сознательное русское общество должны раньше или позже потребовать у власти отчета в тех способах, которыми она охраняет Россию, т. е. перенести освободительную борьбу в ту сферу, к которой власть апеллирует как к главному оправданию своему и своей идейной опоре. Но отчета этого могут потребовать лишь те, которые дорожат идеей нации и признают охрану отечества великой задачей. Общие фразы социал‑демократов о том, что армия нужна лишь буржуазии, что идея нации – лишь классовая идея, ничего, кроме вреда, принести не могут и вызывают или раздражение, или насмешку. Необходимо конкретно обнаружить, что реакционная власть изменяет национальным традициям, не продолжает ни древнего дела охраны нации от врагов, ни дела Петра Великого – приобщения России к европейской культуре. Во имя национального самосознания должно быть побеждено вырождение исторической власти как силами общественно‑реформаторскими, призывающими к новой жизни, так и силами общественно‑консервативными, искренно и сознательно охраняющими все, что есть ценного в России.
Освободительное движение давно уже ведет борьбу с антинародным и антикультурным характером власти, изобличает ложь официального патриотизма, официальной охраны идеи нации. Но реакционный характер власти произвел большие опустошения в освободительном сознании, внушил отвращение к самой идее нации. Движение было антитезисом и по психологическому контрасту приняло характер не национальный, космополитический. С 6О‑х годов наше освободительное движение стало под знамя европейских социальных идей, идеология получила окраску международного социализма, хотя и своеобразно преломленного в русском духе. Если в русском революционном движении было много характерно русского, национального (все народничество порождено русской почвой; уклад души революционера‑интеллигента – чисто русский), то в революционной идеологии, в сознательных идеях не оказалось места для идеи национальной, а в революционном настроении было болезненное отщепенство от нации. Борьба с вырождающейся формой государственности и с реакцией не была борьбой за Россию, за народ в его единстве, а приняла форму борьбы классовой, борьбы за идеи и настроения интеллигентских кружков, и связалась с абстрактными социологическими теориями. Сословная и классовая вражда имела глубокие основания, и рост ее был неизбежен, но связанная с этой борьбой вражда была поставлена на почву ложных и чуждых России идей. Наши революционеры нередко бывали бессознательными славянофилами, но идеи их были совершенно космополитические, отвлеченные, и не имели никакой связи с сознанием национальным. В этом была слабость нашего освободительного движения и кажущаяся сила исторической власти, которая фактически изменяла национальной идее, но имела ее своим знаменем. Идеология русской революции в значительной степени определялась марксизмом, который точку зрения национального сознания заменил точкой зрения классовой и атомизировал саму идею народа. На почве подобной идеологии не могла совершиться национальная, всенародная революция. Борьба с отжившими формами государственности и реакционной политической властью должна быть борьбой за Россию, за ее национальную мощь, за ее великое будущее. Но для такой борьбы нужно иное сознание, в котором центральное место займут не классовые интересы и абстрактные классовые идеи, а идея национальная.
Освободительное движение тогда лишь станет сильным и народным, когда монополизирует себе национальную идею, когда будет дорожить охраной и защитой России, будет продолжать и дело той государственности, которая строила и укрепляла Россию и общекультурное дело Петра Великого. Вл. Соловьев окончательно формулировал нашу национальную задачу как задачу достойного существования, т. е., сообразного с высшей целью. Великая Россия как некое тело в мире уже существует, и просто существовать, существовать без смысла было бы недостойно ее. Нынешняя государственная власть не является наследницей этого прошлого, и великое национальное дело должно быть продолжено силами, освобождающими народ и страну. Радикальный переворот совершится, когда освободительное сознание выставит на своем знамени национальную идею. А это предполагает общий идейный кризис, пересмотр всех старых интеллигентских идеологий.
Национальное возрождение России связано с идейным обновлением, с новыми идеями, более могущественными, чем старые прогрессивные идеи. Оторванность передовой интеллигенции от народа – хроническая болезнь нашего национального развития. Болезнь эта идет еще со времен Петра. Излечить эту болезнь нельзя идеями отвлеченными и космополитическими, традиционными идеями нашей радикальной интеллигенции.
В истории нашего национального самосознания было две полосы, внутренне противоположные, но внешне нередко сплетавшиеся: национальный мессианизм, сознание великого призвания России, долга перед человечеством и миром, т. е. сознание идеальной задачи и апология национального самодовольства и национальной корысти, грубое преклонение перед фактами действительности. Мы должны быть хороши и можем быть хороши – вот идеальное национальное сознание; все наше – хорошо, мы не должны и не можем стать лучше – вот грубый, первобытно‑языческий национализм. Первое, т. е. лучшее национальное самосознание можно встретить лишь отчасти у лучших из славянофилов, затем у Достоевского, хотя и не без примеси национализма, всего более у Вл. Соловьева и наконец в новых религиозных течениях. Второе, худшее националистическое сознание мы встречаем у выродившихся славянофилов, у реакционеров‑националистов и в официальной практике государственной власти. Лучшие традиции национального самосоэиания, идеи национальные и в такой же мере всечеловеческие должны раньше или позже стать основой сознания освободительного, перейти в жизнь и определить ход истории. От лжи славянофильства необходимо освободиться, очиститься и провести резкую разделительную линию между национальной идеей и диким национализмом, между созданием великой России и преклонением перед фактической государственностью и фактическим бытом. Но также нужно освободиться и очиститься от лжи космополитизма и отвлеченного отрицания отечества. Идея нации должна ясно определить себя и по отношению к другим нациям и всему человечеству, и по отношению к внутренним ее частям, к отдельным группам и личностям. Нация есть некий организм, некое индивидуальное тело, но организм не единственный и не верховный, организм, идеально подчиненный верховной норме жизни человечества и личности. Через нацию осуществляется человек и человечество.
Многие русские искренно заблуждаются, думают, что власть есть носительница национальной идеи, а освободительная борьба с властью национальную идею совершенно отрицает. Это пагубное заблуждение должно быть сознательно устранено.
До сих пор у нас было беззастенчивое господство национализма, национальность утверждала себя как грубый эмпирический факт. Наш национализм был переживанием самого примитивного язычества, хотя и прикрытого христианскими словами, и язычество это всего более сказалось в отношении к другим народностям, в насильничестве над национальной личностью не только братьев по человечеству, но и братьев по славянству (поляков). Новое, освободительное национальное сознание прежде всего остро выдвинет и перерешит все наши больные национальные вопросы (не русские), и решит их не по‑язычески, а по‑христиански, к чему давно уже призывал Вл. Соловьев. Корыстное и бесчеловечное отношение к другим национальным личностям мешает сознать свою национальную личность. То же бывает и в отношениях между людьми: человек, который с неуважением н злобой относится к личности другого, теряет свою личность, свой облик. В национальную идею входит, как завершение, братство всечеловеческое, в частности братство всеславянское. Национальная личность, как и личность отдельного человека, должна быть утверждена не во имя самомнения и корысти, не во имя внешнего ее процветания, а во имя общечеловеческого назначения национальности, ее служения во всемирной истории. Нация, как и личность, должна себя охранять и укреплять не во имя свое, а во имя своего высшего назначения.
Укрепление нового национального сознания прекратит вековую рознь “интеллигенции” и “народа”, положит предел нашему болезненному отщепенству, вернет нам непосредственное чувство родины. Освободительное национальное сознание, прежде всего, идейно сотрет с лица родной земли “русский народ” в кавычках и его “союз”.
“Русский народ” в кавычках и был самым ярким показателем отсутствия у нас здорового национального сознания, здорового национального чувства, показателем розни и распада. В основе “союза русского народа” лежит не национальное сознание, а зоологический инстинкт. А то, что “союз” этот прикрывается христианством, это одно из самых отвратительных явлений лицемерия и лжи. Но “союз русского народа” более могущественный, чем, кажется, и все это лжехристианское лицемерие и ложь не в силах победить революционная интеллигенция с ее отщепенством, позитивизмом, космополитизмом и пр. Победить может лишь новая интеллигенция, соединенная с ширью народной жизни, твердо ставшая на почву освободительного религиозного и национального сознания и возвратившаяся к истокам народной жизни. Хотелось бы верить, что близится уже время, когда окончательно рухнет старое интеллигентское сознание, кончится период скитальчества русской интеллигенции и она возвратится на родину, к своему народу, с которым почувствует единство национальное и религиозное. В самой народной жизни совершается кризис, глубокая внутренняя работа разрушения старых кумиров и идолов, разочарование в старой церковности и старой государственности и жажда веры живой и действенной.
Петр Великий – источник нашей гордости и наших бед – был и национальным военным героем, создателем великой империи, и интеллигентом‑просветителем, первым отщепенцем, оторвавшим интеллигентные слои общества от народа. В могучей личности Петра соединились обе задачи: укрепление национального единства и могущества России и приобщение России к мировой культуре, внутреннее ее развитие. В дальнейшей истории задачи эти разделились. Власть охраняла Россию как национальное тело, расширяла ее (часто на счет внутреннего ее блага), но, за редкими исключениями, не продолжала дела внутреннего ее развития. Русская ”интеллигенция продолжала дело просвещения России, но отщепенство мешало ей создавать историю. Русская революция вскрыла болезненное отщепенство власти, изменившей своему назначению, и интеллигенции, бессильной соединиться с народом и стать исторически могущественной. И ныне Россия стоит перед великой задачей: в освободительном движении, в сознательном общественном организме должно произойти соединение обеих задач Петра – задачи национальной и задачи культурной. Тогда только историческая власть почувствует свое бессилие, а народ – свою силу.
“Слово”, 1908, № 643
«Я поставил тебя посреди мира, чтобы мог ты свободно обозревать все стороны света и смотрел туда, куда тебе угодно. Я не создал Тебя ни земным, ни небесным, ни смертным, ни бессмертным. Ибо ты сам сообразно воле своей и чести можешь быть своим собственным творцом и созидателем и из подходящего тебе материала формировать себя. Итак, ты свободен в том, чтобы нисходить на самые нижние ступени животного мира, но ты также можешь поднять себя в высочайшие сферы Божественного».
Пико делла Мирандола
«Ни одна из религий, кроме христианской, не знает, что человек есть самое превосходное творение и в то же время самое ничтожное».
Паскаль
«Смотри же, человек, как в одном лице совмещаешь ты земное и небесное, и несешь земной и небесный образы в одном лице; и потому ты состоишь из жесточайшей муки, и потому несешь в Себе адский образ, что создан Божественным гневом из мук вечности».
Якоб Беме
Бесспорно, проблема человека является центральной для сознания нашей эпохи.[8] Она обострена той страшной опасностью, которой подвергается человек со всех сторон. Переживая агонию, человек хочет знать, кто он, откуда он пришел, куда идет и к чему предназначен. Во второй половине ХIХ в. были замечательные мыслители, которые, переживая агонию, внесли трагическое начало в европейскую культуру и более других сделали для постановки проблемы человека, – это, прежде всего, Достоевский, Ницше, Кирхегардт. Есть два способа рассмотрения человека – сверху и снизу, от Бога и духовного мира и от бессознательных космических и теллурических сил, заложенных в человеке. Из тех, которые смотрели на человека снизу, быть может, наибольшее значение имеют Маркс и Фрейд, из писателей последней эпохи – Пруст. Но целостной антропологии не было создано: видели те или иные стороны человека, а не человека целостного, в его сложности и единстве. Я предполагаю рассматривать проблему человека как философ, а не как теолог. Современная мысль стоит перед задачей создания философской антропологии как основной философской дисциплины. В этом направлении действовал М.Шелер, и этому помогает так называемая экзистенциальная философия. Интересно отметить, что до сих пор теология была гораздо более внимательна к интегральной проблеме человека, чем философия. В любом курсе теологии была антропологическая часть. Правда, теология всегда вводила в свою сферу очень сильный философский элемент, но как бы контрабандным путем и не сознаваясь в этом. Преимущество теологии заключалось в том, что она ставила проблему человека вообще, в ее целости, а не исследовала частично человека, раздробляя его, как делает наука. Немецкий идеализм начала ХIХ в., который нужно признать одним из величайших явлений в истории человеческого сознания, не поставил отчетливо проблемы человека. Это объясняется его монизмом. Антропология совпадала с гносеологией и онтологией, человек был как бы функцией мирового разума и духа, который и раскрывался в человеке. Это было неблагоприятно для построения учения о человеке. Для специфической проблемы человека более интересны бл. Августин или Паскаль, чем Фихте или Гегель. Но проблема человека стала особенно неотложной и мучительной для нас потому, что мы чувствуем и сознаем, в опыте жизни и опыте мысли, недостаточность и неполноту антропологии патристической и схоластической, а также антропологии гуманистической, идущей от эпохи Ренессанса. В эпоху Ренессанса, быть может, наиболее приближались к истине такие люди, как Парацельс и Пико делла Мирандола, которые знали о творческом призвании человека.[9] Ренессансный христианский гуманизм преодолевал границы патристически‑схоластической антропологии, но был еще связан с религиозными основами. Он, во всяком случае, был ближе к истине, чем антропология Лютера и Кальвина, унижавшая человека и отрицавшая истину о богочеловечестве. В основе самосознания человека всегда лежало два противоположных чувства – чувство подавленности и угнетенности человека и восстание человека против этой подавленности, чувство возвышения и силы, способности творить. И нужно сказать, что христианство дает оправдание и для того, и для другого самочувствия человека. С одной стороны, человек есть существо греховное и нуждающееся в искуплении своего греха, существо низко павшее, от которого требуют смирения, с другой стороны, человек есть существо, сотворенное Богом по Его образу и подобию, Бог стал человеком и этим высоко поднял человеческую природу, человек призван к сотрудничеству с Богом и вечной жизни в Боге. Этому соответствуют двойственность человеческого самосознания и возможность говорить о человеке в терминах полярно противоположных. Бесспорно, христианство освободило человека от власти космических сил, от духов и демонов природы, подчинило его непосредственно Богу. Даже противники христианства должны признать, что оно было духовной силой, утвердившей достоинство и независимость человека, как бы ни были велики грехи христиан в истории.
Когда мы стоим перед загадкой человека, то вот что, прежде всего мы должны сказать: человек представляет собой разрыв в природном мире, и он необъясним из природного мира.[10] Человек – великое чудо, связь земли и неба, говорит Пико делла Мирандола.[11] Человек принадлежит и природному миру, в нем весь состав природного мира, вплоть до процессов физико‑химических, он зависит от низших ступеней природы. Но в нем есть элемент, превышающий природный мир. Греческая философия увидела этот элемент в разуме. Аристотель предложил определение человека как разумного животного. Схоластика приняла определение греческой философии. Философия просвещения сделала из него свои выводы и вульгаризировала его. Но всякий раз, когда человек совершал акт самосознания, он возвышал себя над природным миром. Самосознание человека было уже преодолением натурализма в понимании человека, оно всегда есть самосознание духа. Человек сознает себя не только природным существом, но и существом духовным. В человеке есть прометеевское начало, и оно есть знак его богоподобия, оно не демонично, как иногда думают. Но самосознание человека двойственно, человек сознает себя высоким и низким, свободным и рабом необходимости, принадлежащим вечности и находящимся во власти смертоносного потока времени. Паскаль с наибольшей остротой выразил эту двойственность самосознания и самочувствия человека, поэтому он более диалектичен, чем К.Барт.
Человек может быть познаваем как объект, как один из объектов в мире объектов. Тогда он исследуется антропологическими науками – биологией, социологией, психологией. При таком подходе к человеку возможно исследовать лишь те или иные стороны человека, но человек целостный в его глубине и в его внутреннем существовании неуловим. Есть другой подход к человеку. Человек сознает себя также субъектом и прежде всего субъектом. Тайна о человеке раскрывается в субъекте, во внутреннем человеческом существовании. В объективизации, в выброшенности человека в объективный мир тайна о человеке закрывается, он узнает о себе лишь то, что отчуждено от внутреннего человеческого существования. Человек не принадлежит целиком объективному миру, он имеет свой собственный мир, свой внемирный мир, свою несоизмеримую с объективной природой судьбу. Человек как целостное существо не принадлежит природной иерархии и не может быть в нее вмещен. Человек как субъект есть акт, есть усилие. В субъекте раскрывается идущая изнутри творческая активность человека. Одинаково ошибочна антропология оптимистическая и антропология пессимистическая. Человек низок и высок, ничтожен и велик. Человеческая природа полярна. И если что‑нибудь утверждается в человеке на одном полюсе, то это компенсируется утверждением противоположного на другом полюсе.
Загадка человека ставит не только проблему антропологической философии, но и проблему антропологизма или антропоцентризма всякой философии. Философия антропоцентрична, но сам человек не антропоцентричен. Это есть основная истина экзистенциальной философии в моем понимании. Я определяю экзистенциальную философию как противоположную философии объективированной.[12] В экзистенциальном субъекте раскрывается тайна бытия. Лишь в человеческом существовании и через человеческое существование возможно познание бытия. Познание бытия невозможно через объект, через общие понятия, отнесенные к объектам. Это сознание есть величайшее завоевание философии. Можно было бы парадоксально сказать, что только субъективное объективно, объективное же субъективно – Бог сотворил лишь субъекты, объекты же созданы субъектом. Это по‑своему выражает Кант в своем различении между «вещью в себе» и явлением, но употребляет плохое выражение «вещь в себе», которая оказывается закрытой для опыта и для познания. Подлинно экзистенциально у Канта «царство свободы» в противоположность «царству природы», то есть объективации, по моей терминологии.
Греческая философия учила, что бытие соответствует законам разума. Разум может познавать бытие, потому что бытие ему сообразно, заключает в себе разум. Но это лишь частичная истина, легко искажаемая. Есть истина более глубокая. Бытие сообразно целостной человечности, бытие – человечно, Бог – человечен.[13] Потому только и возможно познание бытия, познание Бога. Без сообразности с человеком познание самой глубины бытия было бы невозможно. Это есть обратная сторона той истины, что человек сотворен по образу и подобию Божью. В антропоморфических представлениях о Боге и бытии эта истина утверждалась нередко в грубой и неочищенной форме. Экзистенциальная философия основана на гуманистической теории познания, которая должна быть углублена до теории познания теоандрической. Человекообразность бытия и Божества есть снизу увиденная истина, которая сверху открывается как создание Богом человека по Своему образу и подобию. Человек – микрокосм и микротеос. Бог есть макроантропос. Человечность Бога есть специфическое откровение христианства, отличающее его от всех других религий. Христианство – религия Богочеловечества. Большое значение для антропологии имеет Л.Фейербах, который был величайшим атеистическим философом Европы. В переходе Фейербаха от отвлеченного идеализма к антропологизму была большая доля истины. Нужно было перейти от идеализма Гегеля к конкретной действительности. Фейербах был диалектическим моментом в развитии конкретной экзистенциальной философии. Он поставил проблему человека в центре философии и утверждал человечность философии. Он хотел поворота к конкретному человеку. Он искал не объекта, а «ты».[14] Он учил, что человек сотворил Бога по своему образу и подобию, по образу и подобию своей высшей природы. Эту истину предчувствовали И.Киреевский и А.Хомяков, когда основывали познание на целостности и совокупности духовных сил человека. К этому приближается экзистенциальная философия Хайдеггера и Ясперса, для которой бытие познается в человеческом существовании. Это была вывернутая наизнанку христианская истина. В нем до конца оставался христианский теолог, почти мистик. Европейская мысль должна была пройти через Фейербаха, чтобы раскрыть антропологическую философию, которую не в состоянии был раскрыть немецкий идеализм, но она не могла остановиться на Фейербахе. Человечность или человекосообразность Бога есть обратная сторона божественности или богосообразности человека. Это одна и та же богочеловеческая истина. Ее отрицает и антропология томистская, и антропология бартианская, как и монистическая антропология гуманистическая. Западной христианской мысли чужда идея Богочеловечества (теоандризма), выношенная русской христианской мыслью ХIX и ХХ вв. Тайна Богочеловечества одинаково противоположна монизму и дуализму, и в ней только и может быть вкоренена христианская антропология.[15]
Проблема человека может быть целостно поставлена и решена лишь в свете идеи Богочеловечества. Даже в христианстве с трудом вмещалась полнота богочеловеческой истины. Естественное мышление легко склонялось или к монизму, в котором одна природа поглощала другую, или к дуализму, при котором Бог и человек были совершенно разорваны и разделены бездной. Подавленность человека, сознающего себя существом падшим и греховным, одинаково может принять форму монизма и дуализма. Кальвина одинаково можно истолковать крайне дуалистически и крайне монистически. Гуманистическая антропология, признавшая человека существом самодостаточным, была естественной реакцией против подавленности человека в традиционном христианском сознании. Человек был унижен как существо греховное. И это часто производило такое впечатление, что человек есть вообще существо ничтожное. Не только из греховности человека, но из самого факта его тварности выводили подавленное и унизительное самосознание человека.
Из того, что человек сотворен Богом и не в самом себе имеет свою основу, делали вывод не о величии твари, а о ее ничтожестве. Нередко, слушая христианских богословов и простых благочестивых христиан, можно сделать заключение, что Бог не любит человека и не хочет, чтобы чисто человеческое было утверждено, хочет унижения человека. Так унижает человек сам себя, отражая свою падшесть, и периодически восстает против этой подавленности и унижения в гордом самопревозношении. В обоих случаях он теряет равновесие и не достигает подлинного самосознания. В господствующих формах христианского сознания человек был признан исключительно существом спасающимся, а не творческим. Но христианская антропология всегда учила, что человек сотворен по образу и подобию Божьему. Из восточных учителей Церкви больше всего сделал для антропологии св. Григорий Нисский, который понимает человека прежде всего как образ и подобие Божье. Эта идея была гораздо менее развита на Западе. Антропология бл. Августина, этого антрополога по преимуществу, одинаково определившего и католическое, и протестантское понимание человека, была почти исключительно антропологи ей греха и спасающей благодати. Но, в сущности, из учения об образе Божьем в человеке никогда не были сделаны последовательные выводы. Пытались открыть в человеке черты образа и подобия Божьего. Открывали эти черты в разуме и в этом следовали греческой философии, открывали в свободе, что было уже более связано с христианством, вообще открывали эти черты в духовности человека. Но никогда не открывали образа Божьего в творческой природе человека, в подобии человека Творцу. Это означает переход к совершенно иному самосознанию, преодоление подавленности и угнетенности. В схоластической антропологии, в томизме человек не является творцом, он есть интеллект второго сорта, незначительный.[16] Любопытно, что в возрождении христианской протестантской мысли ХХ в., в диалектической теологии, у К.Барта человек оказывается униженным, превращенным в ничто, между Богом и человеком разверзается бездна, и самый факт боговочеловечения необъясним. Богочеловечество Христа остается разорванным и безрезультатным. Но богочеловечество Христа приносит с собой истину о богочеловечности человеческой личности.
Человек есть существо, способное возвыситься над собой, и это возвышение над собой, трансцендирование себя, выход за замкнутые пределы самого себя есть творческий акт человека. Именно в творчестве человек преодолевает самого себя, творчество есть не самоутверждение, а самопреодоление, оно экстатично. Я говорил уже, что человек как субъект есть акт. М.Шелер даже определяет человеческую личность как конкретное единство актов.[17] Но ошибка М.Шелера была в том, что он считал дух пассивным, а жизнь активной. В действительности верно обратное: дух активен, а жизнь пассивна. Но активным может быть назван лишь творческий акт. Самый малый акт человека есть творческий, и в нем создается не бывшее в мире. Всякое живое, не охлажденное отношение человека к человеку есть творчество новой жизни. Именно в творчестве человек наиболее подобен Творцу. Всякий акт любви есть акт творческий. Нетворческая же активность есть, в сущности, пассивность. Человек может производить впечатление большой активности, делать очень активные жесты, распространять вокруг себя шумное движение и, вместе с тем, быть пассивным, находиться во власти овладевших им сил и страстей. Творческий акт есть всегда господство духа над природой и над душой, и предполагает свободу. Творческий акт не может быть объяснен из природы, он объясним из свободы, в него всегда привходит свобода, которая не детерминирована никакой природой, не детерминирована бытием. Свобода добытийственна, имеет источник не в бытии, а в небытии.[18] Творчество есть творчество из свободы, то есть заключает в себе ничем не детерминированный элемент, который и привносит новизну. Против возможности для человека быть творцом иногда возражают на том основании, что человек есть существо больное, раздвоенное и ослабленное грехом. Этот аргумент не имеет никакой силы. Прежде всего, можно было бы совершенно так же сказать, что больное, греховное, раздвоенное существо не способно не только к творчеству, но и к спасению. Возможность спасения определяется посылаемой человеку благодатью. Но и для творчества посылается человеку благодать, даются ему дары, гений и талант, и он слышит внутренний призыв Божий. Можно еще сказать, что человек творит именно потому, что он существо больное, раздвоенное и недовольное собой. Творчество подобно Платоновскому Эросу, имеет свой источник не только в богатстве и избытке, но и в бедности и недостатке. Творчество есть один из путей исцеления больного существа человека. В творчестве преодолевается раздвоенность. В творческом акте человек выходит из себя, перестает быть поглощенным собой и терзать себя. Человек не может определить себя лишь в отношении к миру и другим людям. Тогда он не нашел бы в себе силы возвыситься над окружающим миром и был бы его рабом. Человек должен определять себя, прежде всего в отношении к бытию, его превышающему, в отношении к Богу. Лишь в обращении к Богу он находит свой образ, возвышающий его над окружающим природным миром. И тогда только находит он в себе силу быть творцом в мире. Скажут, что человек был творцом и тогда, когда он Бога отрицал. Это вопрос состояния его сознания, иногда очень поверхностного. Способность человека возвышаться над природным миром и над самим собой, быть творцом, зависит от факта более глубокого, чем человеческая вера в Бога, чем человеческое признание Бога, – зависит от существования Бога. Это всегда следует помнить. Основная проблема антропологии есть проблема личности, к которой я и перехожу.
Если бы человек был только индивидуумом, то он не возвышался бы над природным миром.[19] Индивидуум есть натуралистическая, прежде всего биологическая категория. Индивидуум есть неделимое, атом. Все относительно устойчивые образования, отличающиеся от окружающего мира, как карандаш, стул, часы, драгоценный камень и т. п., могут быть названы индивидуумами. Индивидуум есть часть рода и подчинен роду. Биологически он происходит из лона природной жизни. Индивидуум есть также социологическая категория, и в этом качестве он подчинен обществу, есть часть общества, атом общественного целого. С социологической точки зрения, человеческая личность, понятая как индивидуум, представляется частью общества, и очень малой частью. Индивидуум отстаивает свою относительную самостоятельность, но он все же пребывает в лоне рода и общества, он принужден рассматривать себя как часть, которая может восставать против целого, но не может противопоставить себя ему, как целое в себе. Совершенно другое означает личность. Личность – категория духа, а не природы и не подчинена природе и обществу. Личность совсем не есть часть природы и общества и не может быть мыслима как часть в отношении к какому‑либо целому. С точки зрения экзистенциальной философии, с точки зрения человека как экзистенциального центра, личность совсем не есть часть общества. Наоборот, общество есть часть личности, лишь социальная ее сторона. Личность не есть также часть мира, космоса, наоборот, космос есть часть личности. Человеческая личность есть существо социальное и космическое, то есть имеет социальную и космическую сторону, социальный и космический состав, но именно потому человеческую личность нельзя мыслить как часть в отношении к общественному и космическому целому. Человек есть микрокосм. Личность есть целое, она не может быть частью. Это основное определение личности, хотя одного определения личности дать нельзя, можно дать целый ряд определений личности с разных сторон. Личность как целое не подчинена никакому другому целому, находится вне отношения рода и индивидуума. Личность должна мыслиться не в подчинении роду, а в соотношении и общении с другими личностями, с миром и с Богом. Личность совсем не есть природа, и к ней неприменимы никакие категории, относящиеся к природе. Личность совсем не может быть определена как субстанция. Понимание личности как субстанции есть натурализация личности. Личность вкоренена в духовном мире, она не принадлежит природной иерархии и не может быть в нее смещена. Духовный мир совсем нельзя мыслить как часть иерархической космической системы. Учение Фомы Аквината есть яркий пример понимания человеческой личности как ступени в иерархической космической системе: человеческая личность занимает среднюю ступень между животным и ангелом. Но это есть понимание натуралистическое. Нужно, впрочем, сказать, что томизм делает различие между личностью и индивидуумом.[20] Для экзистенциальной философии человеческая личность имеет свое особое внеприродное существование, хотя в ней есть природный состав. Личность противоположна вещи,[21] противоположна миру объектов, она есть активный субъект, экзистенциальный центр. Только потому человеческая личность независима от царства кесаря. Она имеет аксиологический, оценочный характер. Стать личностью есть задача человека. Определить кого‑либо как личность есть положительная оценка человека. Личность не рождается от родителей как индивидуум, она творится Богом и самотворится, и она есть Божья идея о всяком человеке.
Личность может быть характеризована по целому ряду признаков, которые между собой связаны. Личность есть неизменность в изменении. Субъект изменения остается одним и тем же лицом. Для личности разрушительно, если она застывает, останавливается в своем развитии, не возрастает, не обогащается, не творит новой жизни. И так же разрушительно для нее, если изменение в ней есть измена, если она перестает быть самой собой, если лица человеческого больше нельзя узнать. Это тема ибсеновского «Пер Гюнта». Личность есть единство судьбы. Это основное ее определение. Вместе с тем личность есть единство во множестве. Она не составляется из частей. Она имеет сложный многообразный состав. Но целое в ней предшествует частям. Весь сложный духовно‑душевно‑телесный состав человека представляет единый субъект. Существенно для личности, что она предполагает существование сверхличного, того, что ее превосходит и к чему она подымется в своей реализации. Личности нет, если нет бытия, выше ее стоящего. Тогда есть лишь индивидуум, подчиненный роду и обществу, тогда природа стоит выше человека, и он есть лишь ее часть. Личность может вмещать в себе универсальное содержание, и только личность обладает этой способностью. Ничто объективное не вмещает универсального содержания, оно всегда частично. Нужно делать коренное различие между универсальным и общим. Общее есть абстракция и не имеет существования. Универсальное же конкретно и имеет существование. Личность вмещает в себе не общее, а универсальное, сверхличное. Общее, отвлеченная идея, всегда обозначает образование идола и кумира, делающего личность своим орудием и средством. Таковы этатизм, национализм, сциентизм, коммунизм и пр., и пр., всегда превращающие личность в средство и орудие. Но этого никогда не делает Бог. Для Бога человеческая личность есть цель, а не средство. Общее есть обеднение, универсальное же есть обогащение жизни личности. Определение человека как разумного существа делает его орудием безличного разума, оно неблагоприятно для личности и не улавливает ее экзистенциального центра. Личность имеет чувствилище к страданию и к радости.
Личность может быть понята лишь как акт, она противоположна пассивности, она всегда означает творческое сопротивление. Акт всегда есть творческий акт, не творческий акт, как было уже сказано, есть пассивность. Акт не может быть повторением, он всегда несет с собой новизну. В акт всегда привходит свобода, которая и несет эту новизну. Творческий акт всегда связан с глубиной личности. Личность есть творчество. Как было уже сказано, на поверхности человек может производить впечатление большой активности, может делать очень активные жесты, очень шумные движения и внутри, в глубине быть пассивным, может совсем потерять свою личность. Мы это часто наблюдаем в массовых движениях, революционных и контрреволюционных, в погромах, в проявлениях фанатизма и изуверства. Настоящая активность, определяющая личность, есть активность духа. Без внутренней свободы активность оказывается пассивностью духа, детерминированностью извне. Одержимость, медиумичность может производить впечатление активности, но в ней нет подлинного акта и нет личности. Личность есть сопротивление, сопротивление детерминации обществом и природой, героическая борьба за самоопределение изнутри. Личность имеет волевое ядро, в котором всякое движение определяется изнутри, а не извне. Личность противоположна детерминизму.[22] Личность есть боль. Героическая борьба за реализацию личности болезненна. Можно избежать боли, отказавшись от личности. И человек слишком часто это делает. Быть личностью, быть свободным есть не легкость, а трудность, бремя, которое человек должен нести. От человека сплошь и рядом требуют отказа от личности, отказа от свободы и за это сулят ему облегчение его жизни. От него требуют, чтобы он подчинился детерминации общества и природы. С этим связан трагизм жизни. Ни один человек не может считать себя законченной личностью. Личность не закончена, она должна себя реализовать, это великая задача, поставленная человеку, задача осуществить образ и подобие Божие, вместить в себе в индивидуальной форме универсальное, полноту. Личность творит себя на протяжении всей человеческой жизни.
Личность не самодостаточна, она не может довольствоваться собой. Она всегда предполагает существование других личностей, выход из себя в другого. Отношение личности к другим личностям есть качественное содержание человеческой жизни. Поэтому существует противоположность между личностью и эгоцентризмом. Эгоцентризм, поглощенность своим «я» и рассмотрение всего исключительно с точки зрения этого «я», отнесение всего к нему разрушает личность. Реализация личности предполагает видение других личностей. Эгоцентризм же нарушает функцию реальности в человеке. Личность предполагает различение, установку разности личностей, то есть видение реальностей в их истинном свете. Солипсизм, утверждающий, что ничего, кроме «я», не существует и все есть лишь мое «я», есть отрицание личности. Личность предполагает жертву, но нельзя пожертвовать личностью. Можно пожертвовать своей жизнью, и человек иногда должен пожертвовать своей жизнью, но никто не имеет права отказаться от своей личности, всякий должен в жертве и через жертву оставаться до конца личностью. Отказаться от личности нельзя, ибо это значило бы отказаться от Божьей идеи о человеке, не осуществить Божьего замысла. Не от личности нужно отказаться, как думает имперсонализм, считающий личность ограниченностью,[23] а от затверделой самости, мешающей личности развернуться. В творческом акте человека, который есть реализация личности, должно произойти жертвенное расплывание самости, отделяющей человека от других людей, от мира и от Бога. Человек есть существо собой недовольное, неудовлетворенное и себя преодолевающее в наиболее значительных актах своей жизни. Личность выковывается в этом творческом самоопределении. Она всегда предполагает призвание, единственное и неповторимое призвание каждого. Она следует внутреннему голосу, призывающему ее осуществить свою жизненную задачу. Человек тогда только личность, когда он следует этому внутреннему голосу, а не внешним влияниям. Призвание всегда носит индивидуальный характер. И никто другой не может решить вопроса о призвании данного человека. Личность имеет призвание, потому что она призвана к творчеству. Творчество же всегда индивидуально. Реализация личности предполагает аскезу. Но аскезу нельзя понимать как цель, как вражду к миру и жизни. Аскеза есть лишь средство, упражнение, концентрация внутренней силы. Личность предполагает аскезу уже потому, что она есть усилие и сопротивление, несогласие определяется извне природой и обществом. Достижение внутреннего самоопределения требует аскезы. Но аскеза легко вырождается, превращается в самоцель, ожесточает сердце человека, делает его неблагожелательным к жизни. Тогда она враждебна человеку и личности. Аскеза нужна не для того, что бы отрицать творчество человека, а для того, чтобы осуществлять это творчество. Личность различна, единична, неповторима, оригинальна, не походит на других. Личность есть исключение, а не правило. Мы стоим перед парадоксальным совмещением противоположностей: личного и сверхличного, конечного и бесконечного, неизменного и меняющегося, свободы и судьбы. Наконец, есть еще основная антиномия, связанная с личностью. Личность должна еще себя реализовать, и никто не может о себе сказать, что он уже вполне личность. Но для того, чтобы личность могла себя творчески реализовать, она должна уже быть, должен быть тот активный субъект, который себя осуществляет. Этот парадокс, впрочем, связан с творческим актом вообще. Творческий акт реализует новое, не бывшее в мире. Но он предполагает творческого субъекта, в котором дана возможность самопреодоления и самовозвышения в творчестве небывшего. Это есть величайшая тайна человеческого существования. Быть личностью трудно, быть свободным – значит взять на себя бремя. Легче всего отказаться от личности и от свободы, жить под детерминацией, под авторитетом.
В человеке есть бессознательная стихийная основа, связанная с жизнью космической и с землей, стихия космо‑теллурическая. Сами страсти, связанные с природно‑стихийной основой, являются материалом, из которого создаются и величайшие добродетели личности. Рассудочно‑моралистическое и рациональное отрицание природно‑стихийного в человеке ведет к иссушению и иссяканию источников жизни. Когда сознание подавляет и вытесняет бессознательно‑стихийное, то происходит раздвоение человеческой природы и ее затвердение и окостенение. Путь реализации человеческой личности лежит от бессознательного через сознание к сверхсознательному. Для личности одинаково неблагоприятна и власть низшего, бессознательного, когда человек целиком определяется природой, и затверделость сознания, замкнутость сознания, закрывающего для человека целые миры, ограничивающего его кругозор. Сознание нужно понимать динамически, а не статически, оно может суживаться и расширяться, закрываться для целых миров и открываться для них. Нет абсолютной, непереходимой границы, отделяющей сознание от подсознательного и сверхсознательного. То, что представляется средне‑нормальным сознанием, с которым связывается общеобязательность и закономерность, есть лишь известная ступень затверделости сознания, соответствующая известным нормам социальной жизни и общности людей. Но выход из этого средне‑нормального сознания возможен, и с ним связаны все высшие достижения человека, с ним связаны святость и гениальность, созерцательность и творчество. Потому только человек может быть назван существом себя преодолевающим. И в этом выходе за пределы средне‑нормального сознания, притягивающего к социальной обыденности, образуется и реализуется личность, перед которой всегда должна быть открыта перспектива бесконечности и вечности. Значительность и интересность человека связаны с этой открытостью в ней путей к бесконечному и вечному, с возможностью прорывов. Очень ошибочно связывать личность, главным образом, с границей, с конечностью, с определением, закрывающим беспредельность. Личность есть различение, она не допускает смешения и растворения в безличном, но она также есть движение в беспредельность и бесконечность. Потому только личность и есть парадоксальное сочетание конечного и бесконечного. Личность есть выход из себя, за свои пределы, но при недопущении смешения и растворения. Она открыта, она впускает в себя целые миры и выходит в них, оставаясь собой. Личность не есть монада с закрытыми дверями и окнами, как у Лейбница. Но открытые двери и окна никогда не означают смешения личности с окружающим миром, разрушения онтологического ядра личности. Поэтому в личности есть бессознательная основа, есть сознание и есть выход к сверхсознательному.
Огромное значение для антропологии имеет вопрос об отношении в человеке духа к душе и телу. Можно говорить о тройственном составе человека. Представлять себе человека состоящим из души и тела и лишенным духа есть натурализация человека. Такая натурализация, несомненно, была в теологической мысли, она, например, свойственна томизму. Духовный элемент был, как бы отчужден от человеческой природы и перенесен исключительно в трансцендентную сферу. Человек, состоящий исключительно из души и тела, есть существо природное. Основанием для такой натурализации христианской антропологии является то, что духовный элемент в человеке совсем нельзя сопоставлять и сравнивать с элементом душевным и телесным. Дух совсем нельзя противополагать душе и телу, он есть реальность другого порядка, он в другом смысле реальность. Душа и тело человека принадлежат к природе, они являются реальностями природного мира. Но дух не есть природа. Противоположение духа и природы – основное противоположение именно духа и природы, а не духа и материи, или духа и тела. Духовный элемент в человеке означает, что человек не только природное существо, что в нем есть сверхприродный элемент. Человек соединяется с Богом через духовный элемент, через духовную жизнь. Дух не противополагается душе и телу, и торжество духа совсем не означает уничтожения и умаления души и тела. Душа и тело человека, то есть его природное существо, могут быть в духе, введены в духовный порядок, спиритуализованы. Достижение целостности человеческого существования и означает, что дух овладевает душой и телом. Именно через победу духовного элемента, через спиритуализацию реализуется личность в человеке, осуществляется его целостный образ.
По первоначальному древнему своему смыслу дух (pneuma, rouakh) означал дыхание, дуновение, то есть имел почти физический смысл, и лишь позже дух спиритуализовался.[24] Но понимание духа как дуновения и означает, что он есть энергия, как бы сходящая в человека из более высокого плана, а не естество человека.
Совершенно ложен отвлеченный спиритуализм, который отрицает подлинную реальность человеческого тела и принадлежность его к целостному образу человека. Невозможно защищать тот дуализм души и тела, или духа и тела, как иногда выражаются, который идет от Декарта. Эта точка зрения оставлена современной психологией и противоречит тенденции современной философии. Человек представляет собой целостный организм, в который входит душа и тело. Самое тело человека не есть механизм и не может быть понято материалистически. Сейчас происходит частичный возврат к аристотелевскому учению об энтелехии. Тело неотъемлемо принадлежит личности, образу Божьему в человеке. Духовное начало одухотворяет и душу, и тело человека. Тело человека может спиритуализоваться, может стать духовным телом, не переставая быть телом. Вечным началом в теле является не его материальный физико‑химический состав, а его форма. Без этой формы нет целостного образа личности. Плоть и кровь не наследуют вечной жизни, то есть не наследует материальность нашего падшего мира, но наследует одухотворенная телесная форма. Тело человека в этом смысле не есть только один из объектов природного мира, оно имеет и экзистенциальный смысл, оно принадлежит внутреннему, не объективированному существованию, принадлежит целостному субъекту. Реализация формы тела привходит в реализацию личности. Это как раз означает освобождение от власти тела, подчинение его духу. Мы живем в эпоху, когда человек и, прежде всего, его тело оказываются неприспособленными к новой технической среде, созданной самим человеком.[25] Человек раздроблен. Но личность есть целостное духовно‑душевно‑телесное существо, в котором душа и тело подчинены духу, одухотворены и этим соединены с высшим, сверхличным и сверхчеловеческим бытием. Такова внутренняя иерархичность человеческого существа. Нарушение или опрокидывание этой иерархичности есть нарушение целостной личности, в конце концов, разрушение ее. Дух есть не природа в человеке, отличная от природы душевной и телесной, а имманентно действующая в нем благодатная мощь (дуновение, дыхание), высшая качественность человека. Подлинно активным и творческим в человеке является дух.
Человек не может определить себя только перед жизнью, он должен определить себя и перед смертью, должен жить, зная, что умрет. Смерть есть самый важный факт человеческой жизни, и человек не может достойно жить, не определив свое отношение к смерти. Кто строит свою жизнь, закрыв глаза на смерть, тот проигрывает дело жизни, хотя бы жизнь его была удачной. Достижение полноты жизни связано с победой над смертью. Современные люди склонны видеть признак мужества и силы в забвении о смерти, им это кажется бесстрашием. В действительности забвение о смерти есть не мужество и бесстрашие, а низость и поверхностность. Человек должен преодолеть животный страх смерти, этого требует достоинство человека. Но глубокое отношение к жизни не может не быть связано с трансцендентным ужасом перед тайной смерти, ничего общего, не имеющего с животным страхом. Низким является забвение о смерти других людей, не только о смерти близких, но и смерти всякого живого существа. В этом забвении есть предательство, ибо все за всех ответственны и все имеют общую участь. «Участь сынов человеческих и участь животных – участь одна: как те умирают, так умирают и эти», – говорит Экклезиаст. Долг по отношению к умершим острее всех сознавал Н.Федоров, который видел в «общем деле» борьбы против смерти сущность христианства.[26] Без решения вопроса о смерти, без победы над смертью личность не может себя реализовать. И отношение к смерти не может не быть двойственным. Смерть есть величайшее и предельное зло, источник всех зол, результат грехопадения, ибо всякое существо сотворено для вечной жизни. Христос пришел, прежде всего, победить смерть, вырвать жало смерти. Но смерть в падшем мире имеет и положительный смысл, ибо свидетельствует отрицательным путем о существовании высшего смысла. Бесконечная жизнь в этом мире была бы лишена смысла. Положительный смысл смерти в том, что полнота жизни не может быть реализована во времени, не только в конечном времени, но и во времени бесконечном. Полнота жизни может быть реализована лишь в вечности, лишь за пределами времени, во времени жизнь остается бессмысленной, если она не получила смысла от вечности. Но выход из времени в вечность есть скачок через бездну. В мире падшем этот скачок через бездну именуется смертью. Есть другой выход из времени в вечность – через глубину мгновения, не составляющего дробной части времени и не подчиненного категории числа. Но этот выход не бывает окончательным и целостным, он постоянно опять выпадает во время. Реализация полноты жизни личности предполагает существование смерти. К смерти возможно лишь диалектическое отношение. Христос смертью смерть попрал, поэтому смерть имеет и положительный смысл. Смерть есть не только разложение и уничтожение человека, но и облагораживание его, вырывание из власти обыденности. Метафизическое учение о естественном бессмертии души, основанное на учении о субстанциональности души, не решает вопроса о смерти. Это учение проходит мимо трагизма смерти, раздробления и распадения целостного человеческого существа. Человек не есть бессмертное существо вследствие своего естественного состояния. Бессмертие достигается в силу духовного начала в человеке и его связи с Богом. Бессмертие есть задача, осуществление которой предполагает духовную борьбу. Это есть реализация полноты жизни личности. Бессмертна именно личность, а не душа как естественная субстанция. Христианство учит не о бессмертии души, а о воскресении целостного человеческого существа, личности, воскресении и тела человека, принадлежащего личности. Бессмертие частично, оно оставляет человека раздробленным, воскресение же интегрально. Отвлеченный спиритуализм утверждает лишь частичное бессмертие, бессмертие души. Отвлеченный идеализм утверждает лишь бессмертие идеальных начал в человеке, лишь идеальных ценностей, а не личности. Только христианское учение о воскресении утверждает бессмертие, вечность целостного человека, личности. В известном смысле можно сказать, что бессмертие есть завоевание духовного творчества, победа духовной личности, овладевшей душой и телом, над природным индивидуумом. Греки считали человека смертным, бога же бессмертным. Бессмертие сначала утверждалось для героя, полубога, сверхчеловека. Но бессмертие всегда означало, что божественное начало проникало в человека и овладевало им. Бессмертие – богочеловечно. Бессмертие нельзя объективировать и натурализировать, оно экзистенциально. Мы должны стать совершенно по ту сторону пессимизма и оптимизма и утверждать героические усилия человека реализовать свою личность для вечности, независимо от успехов и поражений жизни. Реализация личности для вечной жизни имеет еще связь с проблемой пола и любви. Пол есть половинчатость, раздробленность, неполнота человеческого существа, тоска по восполнению. Целостная личность бисексуальна, андрогинна. Метафизический смысл любви в достижении целостности личности для вечной жизни. В этом есть духовная победа над безликим и смертоносным родовым процессом.[27]
Человеческая личность может себя реализовать только в общении с другими личностями, в общине (Communaut, Gemeinschaft). Личность не может реализовать полноту своей жизни при замкнутости в себе. Человек не только социальное существо и не может целиком принадлежать обществу, но он все же и социальное существо. Личность должна отстаивать свое своеобразие, независимость, духовную свободу, осуществлять свое призвание именно в обществе. Необходимо делать различие между общением (сommunaut) и обществом. Общение (община) всегда персоналистично, всегда есть встреча личности с личностью, «я» с «ты» в «мы».[28] В подлинном общении нет объектов, личность для личности никогда не есть объект, всегда есть «ты». Общество абстрактно, оно есть объективация, в нем исчезает личность. Общение же конкретно и экзистенциально, оно вне объективации. В обществе, оформляющем себя в государстве, человек вступает в сферу объективации, он абстрагируется от самого себя, происходит как бы отчуждение от его собственной природы. Об этом были очень интересные мысли у юного Маркса.[29] Маркс открывает это отчуждение человеческой природы в экономике капиталистического строя. Но, в сущности, это отчуждение человеческой природы происходит во всяком обществе и государстве. Экзистенциально и человечно лишь общение «я» с «ты» в «мы». Общество, достигающее крайней формы объективации в государстве, есть отчуждение, отпадение от экзистенциальной сферы. Человек превращается в абстрактное существо, в один из объектов, поставленных перед другими объектами. Это ставит вопрос о природе церкви в экзистенциальном смысле слова, то есть как подлинного общения, соборности между «я» и «ты» в «мы», в богочеловеческом Теле, в Теле Христовом. Церковь есть также социальный институт, действующий в истории, в этом смысле она объективирована и есть общество. Церковь была превращена в идола, как и все на свете. Но Церковь в экзистенциальном, не объективированном смысле есть общение (сommunaut), соборность. Соборность есть экзистенциальное «мы». Соборность рационально невыразима в понятии, не поддается объективации. Объективация соборности превращает ее в общество, уподобляет ее государству. Тогда личность превращается в объект, обнаруживаются отношения господства и подчинения, то есть обратное евангельским словам: «… вы знаете, что князья народов господствуют над ними и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так». Экзистенциальное общение есть коммунион, истинный коммунизм, отличный от коммунизма материалистического, который основан на смешении экзистенциального общения с объективированным обществом, принудительно организованным в государство. Общество, в основу которого будет положен персонализм, признание верховной ценности всякой личности и экзистенциального отношения личности к личности, превратится в общину, в сommunaut, в истинный коммунизм. Но общение недостижимо путем принудительной организации общества, этим путем может быть создан более справедливый строй, но не братство людей. Общение, соборность есть общество духовное, которое скрыто за внешним, объективированным обществом. В общении «я» с «ты» в «мы» неприметно приходит Царство Божье. Оно не тождественно с церковью в историческом, социальном смысле слова. В сфере, к которой принадлежит общество, наиболее соответствует христианскому антропологическому сознанию система, которую я называю персоналистическим социализмом. Эта система предполагает справедливую социализацию хозяйства, преодоление хозяйственного атомизма и индивидуализма, при признании верховной ценности человеческой личности и ее права на реализацию полноты жизни. Но персоналистический социализм сам по себе не создает еще общения, братства людей, это остается задачей духовной. Христианская антропология упирается в проблему христианской социологии. Но проблеме человека принадлежит примат над проблемой общества. Человек не есть создание общества и его образ и подобие, человек есть создание Бога и Его образ и подобие. Человек имеет в себе элемент независимый от общества, он реализует себя в обществе, но не зависит целиком от него. Социология должна быть основана на антропологии, а не наоборот.
Последняя, предельная проблема, в которую упирается философская и религиозная антропология, есть проблема отношения человека, человеческой личности и истории. Это есть проблема эсхатологическая. История есть судьба человека. Трагическая судьба. Человек есть не только существо социальное, но существо историческое. Судьбы истории суть вместе с тем и мои человеческие судьбы. И я не могу сбросить с себя бремя истории. История есть создание человека, он согласился идти путем истории. И вместе с тем история равнодушна к человеку, она преследует как бы не человеческие цели, она интересуется не человеческим, а государством, нацией, цивилизацией, она вдохновляется силой и экспансией, она имеет дело, прежде всего, со средним человеком, с массой. И человеческая личность раздавлена историей. Существует глубочайший конфликт между историей и человеческой личностью, между путями истории и путями человеческими. Человек втягивается в историю, подчиняется ее року и, вместе с тем, находится с ней в конфликте, противопоставляет истории ценность личности, ее внутренней жизни и индивидуальной судьбы. В пределах истории этот конфликт неразрешим. История по религиозному своему смыслу есть движение к Царству Божьему. И этот религиозный смысл осуществляется лишь потому, что в историю прорывается метаистория. Но нельзя находить в истории сплошной богочеловеческий процесс, как находил, например, Вл. Соловьев в своих «Чтениях о Богочеловечестве». История не сакральна, сакрализация истории есть ложная символизация, сакральное в истории имеет условно‑символический, а не реальный смысл. История, в известном смысле, есть неудача Царства Божьего, она длится потому, что Царство Божье не осуществляется, не приходит. Царство Божье приходит неприметно, вне шума и блеска истории. Преступность истории, истязающая конкретного человека, и означает, что Царство Божье не реализуется и изживается имманентная кара за эту нереализованность. Христианская история была лишь потому, что эсхатологическое ожидание первохристианства не осуществилось. Первое и второе пришествие Христа раздвинулось, между ними образовалось историческое время, которое может быть неопределенно длительным. Задача истории имманентно, внутренне неразрешима. История не имеет смысла в себе, она имеет смысл лишь за своими пределами, в сверхисторическом. И потому неизбежен конец истории и суд над историей. Но этот конец и этот суд происходят внутри самой истории. Конец всегда близок. Есть внутренний апокалипсис истории. Апокалипсис не есть только откровение конца истории, но также откровение конца и суда внутри истории. Революции являются таким концом и судом. Христианская история никогда не осуществляла истинного христианского персонализма, она осуществляла противоположное. Христиане вдохновлялись не Нагорной проповедью, а силой и славой государств и наций, воинствующей волей к экспансии. Христиане оправдывали гнет и несправедливость, были невнимательны к участи земного конкретного человека, не считали личность высшей целью. И потому христианская история должна была кончиться и начаться не христианская, а антихристианская история. И в этом была большая правда с христианской точки зрения. Было много революций в истории, которые были судом над прошлым, но все революции заражались злом прошлого. Никогда не было революции персоналистической, революции во имя человеческой личности, всякой человеческой личности, во имя реализации для нее полноты жизни. И потому неизбежен конец истории, последняя революция. Антропология есть также философия истории. Философия же истории есть неизбежно эсхатология. Философия истории есть не столько учение о смысле истории через прогресс, сколько учение о смысле истории через конец. Философия истории Гегеля для нас совершенно неприемлема, она имперсоналистична, она игнорирует человека. И потому неизбежно восстание против Гегеля таких людей, как Кирхегард, неизбежно восстание против мирового духа, превращающего конкретного человека в свое средство. Христианская антропология должна быть построена не только в перспективе прошлого, то есть в обращении к Христу Распятому, как было до сих пор, но и в перспективе будущего, то есть обращении к Христу Грядущему, Воскресшему в силе и славе. Но явление Христа Грядущего зависит от творческого дела человека, оно уготовляется человеком.
Недостаточность и дефективность гуманистической антропологии была совсем не в том, что она слишком утверждала человека, а в том, что она недостаточно и не до конца его утверждала. Гуманизм имел христианские истоки, и в начале нового времени существовал христианский гуманизм. Но в дальнейшем своем развитии гуманизм принял формы утверждения самодостаточности человека. Как только провозглашают, что нет ничего выше человека, что ему некуда подыматься и что он довлеет себе, человек начинает понижаться и подчиняться низшей природе. В дальнейшем своем развитии, в ХVIII и ХIХ вв., гуманизм принужден был признать человека продуктом природной и социальной среды. Как существо исключительно природное и социальное, как создание общества человек лишен внутренней свободы и независимости, он определяется исключительно извне, в нем нет духовного начала, которое было бы источником творчества. Признание самодовления и самодостаточности человека есть источник унижения человека и ведет неотвратимо к внутренней пассивности человека. Возвышает человека лишь сознание, что человек есть образ и подобие Божие, то есть духовное существо, возвышающееся над природным и социальным миром и призванное его преображать и над ним господствовать. Самоутверждение человека приводит к самоистреблению человека. Такова роковая диалектика гуманизма. Но мы должны не отрицать всякую правду гуманизма, как делают многие реакционные теологические направления, а утверждать творческий христианский гуманизм, гуманизм теоандрический, связанный с откровением о Богочеловечестве.
В чем религиозный смысл человеческого творчества? Смысл этот гораздо глубже обыкновенного оправдания культурного и социального творчества. Творческий акт человека, в сущности, не требует оправдания, это внешняя постановка вопроса; он оправдывает, а не оправдывается.[30] Творческий акт человека, предполагающий внебытийственную свободу, есть ответ на Божий призыв к человеку, и он нужен для самой божественной жизни, он имеет не только антропогоническое, но и теогоническое значение. Последняя тайна о человеке, которую он с трудом способен понять, связана с тем, что человек и его творческое дело имеют значение для самой божественной жизни, являются восполнением божественной жизни. Тайна человеческого творчества остается сокровенной, не откровенной в Священном Писании.
Во имя человеческой свободы Бог предоставляет самому человеку раскрыть смысл его творчества. Идея самодостаточности, самодовольства (Aseitas) божественной жизни есть экзотерическая и, в конце концов, ложная идея, и она существенно противоположна идее Богочеловека и Богочеловечества. Через Богочеловека Христа человеческая природа причастна Св. Троице и глубине божественной жизни. Существует извечная человечность в Божестве и, значит, и божественность в человеке. Поэтому творческий акт человека есть самообнаружение в полноте божественной жизни. Не всякий творческий акт человека таков, может быть и злое, дьявольское творчество, но оно всегда есть лжетворчество, всегда обращено к небытию. Подлинное творчество человека христологично, хотя бы в сознании этого совершенно не было видно. Гуманизм не понимает этой глубины проблемы творчества, он остается во вторичном. Христианское же сознание, связанное с социальной обыденностью, оставалось закрытым для творческой тайны о человеке, оно было исключительно обращено к борьбе с грехом. Так было до времени. Но возможно возникновение нового человеческого самосознания в христианстве. Антропологические исследования должны подготовлять его с разных сторон. Традиционные христианские антропологии, как и традиционные философские антропологии, идеалистические и натуралистические, должны быть преодолены. Учение о человеке как творце есть творческая задача современной мысли.
Журнал «Путь», 1936, № 50.
ДЕМОКРАТИЯ, СОЦИАЛИЗМ И ТЕОКРАТИЯ
Меня интересуют духовные первоосновы демократии и социализма, и поэтому я сделаю предметом своего исследования не многообразные формы полудемократии и полусоциализма, а предельные выражения этих типов, их «идеи». Существуют разнообразные переходные формы между демократией и социализмом, их сближения и сочетания. Существуют многочисленные партии, которые именуют себя социал‑демократическими. Но правы были большевики, когда они отменили наименование социал‑демократов и дали себе имя коммунистов, т. е. вернулись к «Коммунистическому манифесту». Маркс был коммунистом. Он не был социал‑демократом. И никогда Маркс не был демократом. Пафос его существенно антидемократический. «Научный» социализм возник и вошел в мысль и жизнь народов Европы не как демократическое учение. Также не демократичен и антидемократичен был и утопический социализм Сен‑Симона, который был реакцией против французской революции и во многом родственен был духу Ж. де Местра. Демократия и социализм принципиально противоположны. Русские коммунисты правы в этом своем утверждении. Демократический социализм жоресовского типа, обосновываемый в рамках декларации прав человека и гражданина, не есть настоящий социализм. Это – полусоциализм, не чисто выражающий социалистическую идею. Наши социалисты‑революционеры и правые меньшевики тоже, скорее, левые демократы, чем социалисты. Демократия носит формальный характер, она сама не знает своего содержания и в пределах утверждаемого ею принципа не имеет никакого содержания. Демократия не хочет знать, во имя чего изъявляется воля народа, и не хочет подчинить волю народа никакой высшей цели. В тот момент как демократия познает цель, к которой должна стремиться воля народа, обретет достойный предмет для своей воли, наполнится положительным содержанием, она должна будет эту цель, этот предмет, это содержание поставить выше самого формального принципа волеизъявления, положить в основу общества. Но демократия знает только формальный принцип волеизъявления, которым дорожит превыше всего и который ничему не хочет подчинять. Демократия безразлична к направлению и содержанию народной воли и не имеет в себе никаких критериев для определения истинности или ложности направления, в котором изъявляется народная воля, для определения качеств народной воли. Народовластие – беспредметно, оно не направлено ни на какой объект. Демократия остается равнодушной к добру и злу. Она – терпима, потому что индифферентна, потому что потеряла веру в истину, бессильна избрать истину. Демократия – скептична, она возникает в скептический век, век безверия, кргда народы утеряли твердые критерии истины и бессильны исповедовать какую‑либо абсолютную истину. Демократия есть крайний релятивизм, отрицание всего абсолютного. Демократия не знает истины, и потому она предоставляет раскрытие истины решению большинства голосов. Признание власти количества, поклонение всеобщему голосованию возможны лишь при неверии в истину и незнании истины. Верующий в истину и знающий истину не отдает ее на растерзание количественного большинства. Демократия носит секулярный характер, и она противоположна всему сакральному обществу, потому что она формально бессодержательна и скептична. Истина сакральна, и общество, обоснованное на истине, не может быть исключительно секуларным обществом. Секулярная демократия означает отпадение от онтологических основ общества, отпадение общества человеческого от Истины. Она хочет политически устроить человеческое общество так, как будто Истины не существовало бы, это основное предположение чистой демократии. И в этом коренная ложь демократии. В основе демократической идеи лежит гуманистическое самоутверждение человека. Человеческая воля должна направлять человеческие общества, и нужно устранить все, что мешает изъявлению этой человеческой воли и окончательному ее господству. Этим отрицаются духовные основы общества, лежащие глубже формального человеческого волеизъявления, и опрокидывается весь иерархический строй общества. Демократия есть психологизм, противоположный всякому онтологизму. Предпосылкой демократии является крайний оптимизм. Скептицизм демократического общества – оптимистический, а не пессимистический скептицизм. Демократия не приходит в отчаяние от утери Истины. Она верит, что изъявление воли большинства, механический подсчет голосов всегда должны вести к добрым результатам. Формальное изъявление воли народа ведет к какой‑то правде, порождает какое‑то благо. В основе демократии лежит оптимистическая предпосылка о естественной доброте и благостности человеческой природы. Духовным отцом демократии был Ж.‑Ж. Руссо, и оптимистические представления его о человеческой природе передались демократическим идеологиям. Демократия не хочет знать радикального зла человеческой природы. Она как будто бы не предусматривает того, что воля народа может направиться ко злу, что большинство может стоять за неправду и ложь, а истина и правда могут остаться достоянием небольшого меньшинства. В демократии нет никаких гарантий того, что воля народа будет направлена к добру, что воля народа пожелает свободы и не пожелает истребить всякую свободу без остатка. Во французской революции революционная демократия, начавшая с провозглашения прав и свободы человека, в 1793 году не оставила никаких свобод, истребила свободу без остатка. Воля человеческая, воля народная во зле лежит, и, когда воля эта, самоутверждающаяся, ничему не подчиненная и не просветленная, притязает самодержавно определять судьбы человеческих обществ, она легко сбивается на путь гонения против истины, отрицания всякой правды и угашения всякой свободы духа. Демократия возникла из пафоса свободы, из признания неотъемлемых прав каждого человека, – и правдой демократии как будто бы является утверждение свободы совести, свободы выбора. Указывают защитники демократии на то, что демократия духовно родилась в провозглашении свободы совести религиозными обществами эпохи Реформации в Англии. Но формально бессодержательное и негативное понимание свободы таило в себе яд, который разъедал исторические демократии и уготовлял в них гибель свободы духа. Руссо отрицал свободу совести в принципе. Робеспьер истреблял ее на деле. Самодержавный народ может насиловать совесть людей, может лишать какой угодно свободы. Токвиль и Милль, которых нельзя назвать врагами демократии, с большим беспокойством говорят об опасностях, которые несет с собой демократия, об опасностях для свободы человека, для индивидуальности человека. Демократия индивидуалистична по своей основе, но по роковой своей диалектике она ведет к антииндивидуализму, к нивелированию человеческих индивидуальностей. Демократия – свободолюбива, но это свободолюбие возникает не из уважения к человеческому духу и человеческой индивидуальности, это – свободолюбие равнодушных к истине. Демократия бывает фанатической лишь в стихии революции. В мирном, нормальном бытии своем она чужда всякого фанатизма, и она находит тысячу мирных и неприметных способов нивелировать человеческие индивидуальности и угасить свободу духа. Истинной свободы духа, быть может, было больше в те времена, когда пылали костры инквизиции, чем в современных буржуазно‑демократических республиках, отрицающих дух и религиозную совесть. Формальное, скептическое свободолюбие много сделало для истребления своеобразия человеческой индивидуальности. Демократии не означают непременно свободы духа, свободы выбора, этой свободы может быть больше в обществах не демократических. Демократия возникает, когда распадается органическое единство народной воли, когда атомизируется общество, когда гибнут народные верования, соединявшие народ в единое целое. Идеология, признающая верховенство и самодержавие народной воли, возникает тогда, когда народной воли уже нет. Демократия есть идеология критической, а не органической эпохи в жизни человеческих обществ. Демократия и ставит своей целью собрать распавшуюся народную волю. Но человеческая личность есть для нее отвлеченный атом, равный всякому другому, и задача воссоединения людей есть механическая задача. Демократия в силах только механически суммировать волю всех, но общей воли, органической воли народа от этого не получается. Органическая воля народа не может быть арифметически выражена, она необна‑ружима никаким подсчетом голосов. Воля эта обнаруживается во всей исторической жизни народа, во всем складе его культуры, и прежде всего и более всего она находит себе выражение в религиозной жизни народа. Вне органической религиозной почвы, вне единства религиозных верований не существует единой, общей воли народа. Когда падает народная воля, народ распадается на атомы. И из атомов нельзя воссоздать никакого единства, никакой общности. Остается только механическая сумма большинства и меньшинства. Происходит борьба партий, борьба социальных классов и групп и образуется равнодействующая в этой борьбе. Демократия и есть арена борьбы, столкновение интересов и направлений. В ней все непрочно, все нетвердо, нет единства и устойчивости. Это – вечное переходное состояние. Демократия создает парламент, самое неорганическое из образований, орган диктатуры политических партий. Все кратковременно в демократическом обществе, все устремлено к чему‑то, выходящему за пределы самой демократии. Подлинная онтологическая жизнь находится за пределами демократии. Демократия слишком задерживается на формально бессодержательном моменте свободы выбора. Монархисты и социалисты с разных сторон подтачивают жизнь демократических обществ и требуют, чтобы выбор наконец совершился, чтобы содержание было найдено. Демократия признает суверенным и самодержавным народ, но народа она не знает, в демократиях нет народа. То оторванное человеческое поколение очень краткого отрывка исторического времени, исключительно современное поколение, даже не все оно, а какая‑то часть его, возомнившая себя вершительницей исторических судеб, не может быть названо народом. Народ есть великое историческое целое, в него входят все исторические поколения, не только живущие, но и умершие, и отцы, и деды наши. Воля русского народа есть воля тысячелетнего народа, который через Владимира Св. принял христианство, который собирал Россию при великих князьях московских, который нашел выход из Смутной эпохи, прорубил окно в Европу при Петре Великом, который выдвинул великих святых и подвижников и чтил их, создал великое государство и культуру, великую русскую литературу. Это не есть воля нашего поколения, оторвавшегося от поколений предыдущих. Самомнение и самоутверждение современного поколения, превозношение его над умершими отцами и есть коренная ложь демократии. Это есть разрыв прошлого, настоящего и будущего, отрицание вечности, поклонение истребляющему потоку времени. В определении судьбы России – должен быть услышан голос всего русского народа, всех его поколений, а не только поколения живущего. И потому в волю народа, в общую волю, органическую волю входят историческое предание и традиция, историческая память о поколениях, отошедших в вечность. Демократия не хочет этого знать, и потому она не знает воли народа, а знает лишь механическое суммирование воль ничтожной кучки современников. Кризис демократии давно уже начался. Первое разочарование принесла с собой французская революция, которая не осуществила своих обетовании. Новейшие демократии стоят на перепутье в мучительном бессилии и недовольстве. Они растерзаны внутренним раздором. В демократических обществах нет ничего органического, ничего прочного, ничего от духа вечности. Они свободолюбивы лишь в смысле равнодушия к добру и злу, к истине и лжи. Рождаются сомнения во всеобщем избирательном праве, совершенно механическом, рассматривающем человека как бескачественный атом. Ищут выхода в корпоративном представительстве, в возвращении к средневековому цеховому началу. Так думают обрести органические единства, в которых человек не будет уже оторванным атомом. Разочарование в демократии и кризис ее связаны с ее бессодержательно‑формальным характером. Начинаются мучительные искания содержания народной воли, искания праведной, истинной, святой народной воли. Важно не то, чтобы народная воля, воля всех была формально изъявлена и количественное большинство определило судьбы общества согласно любому направлению этой воли. Важно, на что направлена воля народа, важно качество этой воли. Социализм подвергает пессимистической критике демократию, скрывает ее бессодержательность и переходит к определенному качественному содержанию. Он знает тот избранный народ, который хочет осуществления социальной правды, который имеет предметную направленность. Социализм выдвигает начало, диаметрально противоположное демократии. II Социализм, в противоположность демократии, носит характер материально‑содержательный, он знает, чего хочет, имеет предмет устремления. Он не безразличен к тому, на что направлена народная воля, и не претендует на знание истины, и потому он не отдает решение вопроса об истине механическому большинству голосов. По психологическому типу своему социализм не скептичен. Социализм есть вера, он претендует быть новой верой для человечества. Утопический социализм Сен‑Симона и научный социализм Карла Маркса одинаково выступают с религиозными притязаниями, хотят дать целостное отношение к жизни, решить все вопросы жизни. Установка воли в социализме иная, чем в демократии, более напряженная, более цельная и централизованная, направленная к единому всеохватывающему предмету. Социализм по природе своей не может допустить парламента мнений, свободной арены борьбы партий и интересов, которую так любит скептическая демократия. Социализм ищет и находит народную волю, обладающую истинным содержанием, праведную волю, святую волю. Социализм утверждает не формальный суверенитет народа, нации, а материальный суверенитет избранного класса, воля которого обладает особенными качествами. Социализм имеет мессианский характер. Существует избранный класс – пролетариат, класс‑мессия, он чист от первородного греха, в котором зачиналось все в истории, который лежит в основании всей культуры, «буржуазной» культуры, – греха эксплуатации человека человеком, класса классом. Этот мессианский класс и есть зачаток истинного человечества, грядущего человечества, в котором не будет уже эксплуатации. Пролетариат– новый Израиль. 'Все атрибуты избранного народа Божьего переносятся на этот мессианский класс. Он должен быть избавителем и освободителем человечества, он должен осуществить Царство Божье на земле. Древний еврейский хилиазм в секуляризованной форме вновь повторяется в поздний час истории. Избранный класс осуществляет наконец то обетованное земное царство, блаженство во Израиле, которое не осуществил Мессия‑Распятый. Это и есть тот новый мессия, устроитель земного царства, во имя которого был отвергнут старый Мессия, возвестивший царство не от мира сего. Суверенитет пролетариата противополагается суверенитету народа. Пролетариат и есть истинный народ, справедливый народ, обладающий всеми качествами, гарантирующими направленность воли к высшему типу жизни. Только пролетариату в нашу эпоху присуща подлинная жизнь, максимум жизни. Это – побеждающий, а не только угнетенный класс, он развернет высшую мощь человечества, овладеет окончательно стихиями природы, максимально разовьет производительные силы. Переход власти к этому классу будет означать прыжок в царство необходимости, в царство свободы, мировую катастрофу, после которой и начнется истинная история или сверхистория. Таковы упования классического, революционного социализма. Он интереснее и показательнее, чем переходные и половинчатые формы фактической социал‑демократии, которая оппортунистически приспособляется к буржуазной жизни. Но ошибочно было бы думать, что, согласно классическому социалистическому сознанию, суверенитет должен принадлежать фактическому, эмпирическому пролетариату как человеческому количеству. Суверенитет принадлежит не пролетариату как факту, а пролетариату как «идее». «Идее» пролетариата должно принадлежать господство в мире. В этом отношении социализм есть не имперический реализм, а идеализм. Носителем «идеи» пролетариата, знающим истину, является избранное меньшинство, наиболее сознательная кучка. Полнота власти должна принадлежать этому избранному меньшинству. В этом отношении социализм по‑своему аристократичен, а не демократичен. Во имя этой «идеи», во имя истинной пролетарской воли, которая может быть достоянием лишь немногих, во имя сознанных немногими интересов пролетариата, которые суть также интересы человечества, над фактическим, эмпирическим пролетариатом можно производить какое угодно насилие. Пушками, штыками и батогами можно принуждать фактический пролетариат, несознательную человеческую массу, к осуществлению «идеи» пролетариата. Социализм в принципе отрицает суверенитет народа, свободное изъявление воли народа и право каждого гражданина участвовать в этом волеизъявлении. В этом он существенно противоположен демократии. Но антидемократизм его идет дальше. Социализм не только признает лишь за избранным классом – пролетариатом, обладающим истинным направлением воли, право на свободное волеизъявление. Это право принадлежит лишь избранной части пролетариата, лишь рабочим, обладающим социалистической волей, и не только социалистической, но истинно социалистической, т. е., например, «большевистской» социалистической волей, а не «меньшевистской» социалистической волей. Всех рабочих, которые не сознали «идеи» пролетариата, не обладают истинной социалистической волей, можно и должно лишить права на изъявление воли и направление общественной жизни. Отсюда принципиальное оправдание диктатуры, тираническое господство меньшинства, истинных носителей чистой социалистической «идеи», над большинством, пребывающем в тьме. Революционный, мессианский социализм не может не стоять за диктатуру, она вытекает из пафоса социализма, из его лжемессианского притязания. В резкой противоположности демократии социализм отдает полноту власти и наделяет атрибутами самодержавного могущества лишь волю определенного качества, волю социалистическую, т. е. истинную, праведную волю. Социализм принципиально нетерпим и эксклюзивен, он по идее своей не может предоставить никаких свобод своим противникам, инакомыслящим. Он принужден отрицать свободу совести. Он есть система Великого Инквизитора и Шигалева. Он хочет решить судьбу человеческих обществ, отрицая свободу духа. Социалистическое общество и государство по типу своему вероисповедальное, сакральное, а не секулярное, не светское. В социалистическом государстве есть господствующее вероисповедание, и принадлежащие к этому господствующему вероисповеданию должны иметь привилегированные права. Это государство не равнодушно к вере, не индифферентно, как государство либерально‑демократическое, оно декретирует свою истину и понуждает к ней. Те, которые не признают социалистической веры, должны быть поставлены в положение, аналогичное тому, в котором находились евреи в старых теократических христианских обществах. Вероисповедное социалистическое государство претендует быть сакральным, священным государством, осененным благодатью, не Божьей, а дьявольской, но непременно благодатью. В этом существенная противоположность социалистического государства правовому демократическому государству. Социализм так же отрицает свободу совести, как и средневековая католическая теократия. Он хочет принудить к правде добродетели, не оставляя свободы избрания, как либеральная демократия. В социализм перешло ложное притязание старой теократической и империалистической идеи, идеи внешнего, принудительного единства человечества, количественного универсализма. Социалистические утопии, которые слишком многим представлялись золотыми снами человечества, никогда не обещали никаких свобод. Они всегда рисовали картины совершенно деспотических обществ, в которых свобода была истреблена без остатка. В утопии Томаса Мора свободное передвижение из одного места в другое оказывалось не более легким, чем в самые тяжелые годы существования советской социалистической республики. В утопии Кабэ существует лишь одна правительственная газета и совершенно не допускается существование свободных органов печати. Утопии плохо знали или забыли и слишком воздыхали о невозможности их осуществления. Но утопии оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось раньше. И теперь стоит другой мучительный вопрос, как избежать окончательного их осуществления. Большевиков считали у нас утопистами, далекими от реальных жизненных процессов, реалистами же считали кадетов. Опыт жизни научает обратному. Утопистами и фантазерами были кадеты. Они мечтали о каком‑то правовом строе в России, о правах и свободах человека и гражданина в русских условиях. Бессмысленные мечтания, неправдоподобные утопии! Большевики оказались настоящими реалистами, они осуществляли наиболее возможное, действовали в направлении наименьшего сопротивления, они были минималистами, а не максималистами. Они наиболее приспособлялись к интересам масс, к инстинктам масс, к русским традициям властвования. Утопии осуществимы, они осуществимее того, что представлялось «реальной политикой» и что было лишь рационалистическим расчетом кабинетных людей. Жизнь движется к утопиям. И открывается, быть может, новое столетие мечтаний интеллигенции и культурного слоя о том, как избежать утопий, как вернуться к не утопическому обществу, к менее «совершенному» и более свободному обществу. Отныне не будут уже мечтать о социализме, о котором мечтали у нас почти все, не только социалисты. Ведь и русский либерал думал, что ничего выше социализма нет, но что социализм, к сожалению, не осуществим, и сам он не стоит на достаточной высоте героизма, чтобы такой высокий идеал осуществить. Теперь будут мечтать не о совершенном, а о несовершенном строе, т. е. более вольном строе. Свобода, по‑видимому, связана с несовершенством, с правом на несовершенство. Социализм есть тип авторитарного общества, в этом он во всем подобен теократическому обществу и государству. Гениально остро К. Леонтьев, предвидевший торжество в России именно социалистической революции и предсказавший ее, говорит, что для социализма понадобятся вековые предания покорности, инстинкты повиновения. Он знал, что социализм будет основан не на розовой воде, а на крови человеческой. В этом он стоит бесконечно выше большей части русских людей, столетия мечтавших об идиллии социализма и воображавших, что социализм есть свобода. Нет уж, нужно выбирать – или социализм или свобода духа, свобода совести человеческой. Это гениально понимал Достоевский. Социализм утверждает такого рода «сакральную власть» и «сакральное общество», что не остается места ни для чего «мирского», ни для чего вольного и переходного, для свободной игры человеческих сил. Социализм хочет владеть всем человеком, не только телом, но и душой его. Он претендует на самую интимную и сокровенную глубину человеческой души. В этом выступает он с притязаниями, подобными притязаниям Церкви. Только Церковь претендует на обладание душой человеческой и берет на себя задачу водительствовать человеческими душами. Никогда государство не претендует на власть над человеческой душой, оно знает свои границы. Для государства остается непроницаемой глубина человеческого духа. Самое деспотическое государство не требует, чтобы души человеческие отдались ему в самом священном для них. Государство сажало в тюрьмы и казнило, но не требовало духовного себе подчинения. Не требовало мирское, секулярное государство. Но требовало государство теократическое, выступавшее с универсалистическим притязанием, мнившее себя священным церковным государством. С этим же притязанием выступает социализм в небывалой по своей крайности форме. Он хочет выдрессировать механически человеческие души, вымуштровать их настолько, чтобы они чувствовали себя хорошо в социальном муравейнике, полюбили казарменную жизнь, отказались от свободы духа. Социализм хочет приготовить счастливых младенцев, не знающих греха. Христианство прежде всего дорожит свободой человеческого духа и потому не допускает возможности механической дрессировки человеческих душ для земного рая. Оно предоставляет это дело антихристу. Социализм прав, когда он ставит предмет и содержание народной воли выше самой народной воли, выше формального волеизъявления. Если есть какое‑либо качественное содержание народной воли и какая‑либо высшая цель в жизни народа, то это содержание и эта цель должны быть поставлены выше самой формальной воли народа. Тогда релятивизм преодолевается, обретается достойный предмет. Та достойная цель, к которой устремлена народная воля, должна быть выше самой народной воли. Этой цели должна быть подчинена общественная жизнь. Но целью жизни может быть лишь духовная жизнь и содержанием жизни может быть лишь общественное содержание. Поэтому в основу человеческих обществ должны быть положены религиозно‑духовные начала, которые должны быть поставлены выше всякого самоутверждения человеческой воли. И свобода человека, свобода духа может быть спасена лишь на почве узнавания и обретения таких религиозно‑духовных начал, лишь только обращенностью к божественной воле, так как человеческое своеволие и человеческий произвол истребляют свободу человека. Страшно человеку попасть в зависимость исключительно от человеческой воли, от человеческого произвола, от господства масс человеческих, не подчиненных никакой Истине, никакой Правде. Так ставится проблема неизбежного ограничения самодержавия демократии, как и всякого самодержавия человеческого, как и самодержавия монархического. Социализм обозначает собой кризис гуманизма, кризис человеческого самоутверждения, формулированного в демократии. Социализм переходит уже к какому‑то нечеловеческому содержанию, к нечеловеческой коллективности, во имя которой все человеческое приносится в жертву. Маркс – антигуманист, в нем человеческое самоутверждение переходит в отрицание человека. Демократия еще гуманистична. Социализм уже по ту сторону гуманизма. Социализм есть реакция против новой истории и возврат к средневековью, но во имя иного бога. Новое средневековье должно быть подобно старому, в нем будет своя обратная теократия. Но когда кончается царство гуманистическое, царство секулярной гуманности, тогда раскрываются противоположные бездны. Социалистическое государство походит на теократию и имеет теократические притязания, потому что оно есть сатанократия. В нем общество, общественный коллектив, становится неограниченным деспотом, более страшным, чем деспоты древней Ассирии и Персии. III Вл. Соловьев еще говорил, что для того, чтобы победить социализм, нужно признать его правду. С социализмом нельзя бороться «буржуазными» идеями и нельзя противополагать ему капиталистическое и буржуазно‑демократическое общество XIX и XX веков. Буржуазное общество и породило социализм, и довело до него. Социализм есть плоть от плоти и кровь от крови капитализма. Они стоят на одной и той же почве, один и тот же дух или, вернее, одно и то же отрицание духа движет ими. Свое безбожие социализм унаследовал от буржуазно‑капиталистического общества XIX века – поистине самого безбожного, какой только знает история. В нем уже нарушено было должное отношение человека к человеку и человека к материальной природе. Экономизм цивилизации XIX века, извративший иерархический строй общества, и породил экономический материализм, верно отразивший самую действительность XIX века. В этой действительности духовная жизнь была только надстройкой, отражением, приспособлением. Поклонение Мамоне вместо Бога одинаково свойственно и капитализму, и социализму. Социализм не есть утопия или мечта, социализм есть реальная угроза и предостережение для христианских народов, суровое напоминание им о том, что они не исполнили завет Христа, что они отступили от христианства. Иногда обосновывают капитализм тем, что человеческая природа зла, что насильственно этого Зла не победить, что социализм предполагает добрую природу. Но забывают, что может наступить исторический час, когда зло человеческой природы, именно зло ее примет новую форму. Злая природа создает социализм. Капитализм, как духовно‑этическая категория, появился потому, что природа человека во зле лежит. Но потому же возникает и социализм. Отступничество от христианства, измена духовным основам и духовным целям жизни должны вслед за стадией капитализма привести к стадии социализма. Или нужно начать реально осуществлять христианство и обратиться к духовной жизни, восстановить иерархически‑нормальный строй жизни, подчинить экономику духу, ввести политику в подобающие ей границы. Социализм притязает иметь содержание и цель, притом истинное содержание и истинную цель. Этим он отличается от демократии, которая раскрыта для всех содержаний и всех целей. Социалистическое содержание жизни и социалистическая цель жизни таковы, что они вызывают фанатическую настроенность у своих адептов. Но что это за содержание и что это за цель? Содержание социализма есть фикция, он так же бессодержателен и так же неонтологичен, как и демократия. Что в социализме должно быть отнесено к содержанию и цели жизни, что не есть лишь средства и орудия жизни, целей, вне самого социализма находящихся? Обобществление орудий производства не есть ведь цель и содержание жизни. В экономике вы не найдете ничего, чтобы относилось к целям, а не средствам жизни. Экономическое равенство не цель жизни и не содержание жизни. Организованный производительный материальный труд, который обоготворяется социализмом, тоже ведь не есть цель жизни и содержание жизни. Социалистическое обоготворение без качественного материального труда рождается от утери цели и смысла жизни. Цели человеческой жизни померкли в ту эпоху, – которая выдвигает социализм, и окончательно подменялись средствами жизни. Они померкли раньше, они закрылись еще в буржуазной цивилизации XIX века, в экономизме этого века, в поглощенности внешним устройством жизни. Духовного содержания нет ни в социализме, ни в демократии. А поистине содержание жизни и цели жизни можно искать лишь в духовной действительности, лишь в духовной культуре. Цели жизни и содержание жизни могут быть лишь духовными, они не могут быть социальными, их нельзя полагать в политических и экономических формах. Никакая социальная и политическая идеология не доходит до истинного содержания, если она не обретает его в духовной жизни, в подчинении всех социальных и политических форм духовной цели. Содержательность социализма кажущаяся. Социализм в роковой своей диалектике лишь раскрывает духовную бессодержательность современной цивилизации. «Идея» пролетариата, во имя которой льется столько крови, которая вызывает такую фанатическую себе преданность, оказывается совершенно бессодержательной идеей. Она говорит об орудиях жизни, но ничего не говорит о самой жизни. До целей жизни социализм так и не доходит. Жалкий лепет о новой пролетарской душе и новой пролетарской культуре вызывает некоторое чувство неловкости у самих социалистов. Никаких признаков нарождения новой души нет, душа остается старой душой ветхого Адама, полной корысти, зависти, злобы и мести. Ново лишь то, что в этой душе ослабело чувство греха и затруднилось для нее покаяние. Никаких признаков новой пролетарской культуры, нового пролетарского творчества нет. Существует лишь понижение качества культуры, принижение ее до требований технической цивилизации. Социализм живет за счет буржуазной культуры, умственно питается материализмом буржуазного просветительства. В социализме есть новое – возникновение нечеловеческого коллектива, нового Левиафана. Но в этом жутком коллективе, страшном чудовище погибают все цели и содержания жизни, угашается всякая духовная культура, в нем нет новой человеческой души, потому что нет уже никакой человеческой души. Внутренняя диалектика демократии и социализма научает нас, что нельзя искать содержательной и праведной народной воли по внешним, социальным и политическим признакам. Нет праведной воли вне самой праведности воли, вне самой святости воли. Необходимо реальное достижение праведности, победы над грехом, просветление и преображение, чтобы воля человеческая, воля народная осуществляла праведную жизнь, чтобы творилась жизнь в Истине. Никакими внешними знаками, никакими симуляциями нельзя заменить реального преображения. Переодевание, перемена одежд мало помогает. Под буржуазными или социалистическими одеждами может скрываться одно и то же содержание или одно и то же отсутствие содержания. Перед каждым обществом, перед каждым народом стоит, прежде всего, религиозная задача. Ибо просветление и преображение воли, наполнение ее божественными предметами есть задача религиозная, а не социально‑политическая. И все социально‑политические задачи должны быть подчинены этой религиозной задаче. Содержание жизни может быть лишь религиозным содержанием. Содержание жизни есть вхождение в Божью жизнь, т. е. подлинное бытие. Воля народа, воля пролетариата есть грешная воля, и потому она причастна небытию и может создать царство небытия. Эта воля должна склониться перед высшей волей, перед святой волей, перед Божьей волей. Тогда она осуществляет бытие. Суверенитет принадлежит не народу, не пролетариату, а Богу, т. е. самой Истине, самой Правде. И Божьей, а не своей воли нужно искать в жизни общества, в жизни государства. Это положение должно быть направлено не только против «левых», демократов и социалистов, но и против «правых», монархистов. Демократии нельзя противополагать насильственного выражения человеческой воли привилегированных групп обществ. Задача духовного просветления и преображения, обретения Божьей воли и Божьей правды не есть только личная задача, стоящая перед индивидуальной душой. Это также задача общественная, задача историческая, стоящая перед целыми народами. Духовные силы, Божьи энергии действуют не только в личной душе, но также в душе обществ, в душе народов, в истории. Не о личном совершенствовании тут идет речь, а о духовных изменениях и обретениях в жизни обществ и народов, в судьбах истории. Личность и общество не могут быть оторваны и изолированы друг от друга. На этих путях мысли мы приходим к постановке проблемы теократии. Разрешается ли в теократическом типе поставленная нами проблема? IV В жизнь европейских обществ победно вошли сначала демократия, а потом социализм, потому что старые теократические общества внутренне разложились. Это был неотвратимый процесс. Такова судьба. Одна судьба объединяет путь человеческий от теократии до социализма. Неудача и неосуществимость теократии роковым образом влекли копыту демократии и опыту социализма. Так изживалась одна историческая неудача за другой, и причина неудачи всегда одна – реальное преображение жизни заменяется внешними и формальными знаками того, что общество – теократически‑сакрально или социалистически‑сакрально. Теократия была сознательно символична, социализм же в сознании своем реалистичен. Но и там, и здесь достигаются лишь знаки того совершенного строя, к которому стремятся, лишь симулируют его. И старые теократии, западная, папистская, и восточная, императорская, потерпели неудачу и разложились, потому что в них реально не достигалось Царство Божье на земле, а лишь внешне символизировалось, формально ознаменовывалось. Теократическое государство выродилось в симуляцию священного царства, все более и более теряя свое священное содержание. Средневековый теократический замысел – один из величайших замыслов истории. Но свобода человеческого духа, соглашающаяся на осуществление Царства Христова на земле, не была в нем принята во внимание. Царство Божье не может быть осуществлено насильно. Искание свободы и толкнуло народы на путь демократии. Человек пошел путем автономного самоопределения, самоопределение перешло в самоутверждение, самоутверждение привело к самоистреблению человека. Такова трагедия новой истории. От гетерономии неизбежен был переход к автономии. Общество, основанное на гетерономии, не может вечно существовать, автономное сознание неизбежно пробудится. Но автономия должна быть лишь путем к теономии, к высшему состоянию, к свободному принятию воли Божьей, свободному подчинению ей. В новой истории автономия привела не к теономии, а к аномии. Но в аномии автономия сама себя пожирает, перерождается в злейшую гетерономию. Это мы и наблюдаем в социализме. В старом теократическом обществе теономия не была автономной, и потому подлинная, реальная теократия не достигалась. В новом автономном обществе теономии совсем нет, и потому общество это не имеет никакого онтологического содержания. Символизм старой теократии имел все‑таки до времени, до известного возраста человечества подлинно священное значение. Старые общества были полны священной символики. И это имело огромное значение в воспитании и водительстве христианских народов. Но должен был наступить момент в жизни народов, когда они пожелают перейти от символизма к реализму; к наиреальнейшей жизни. Но это не будет реализм онтологический и мистический, реализм просветления и преображения жизни, это будет реализм эмпирический и даже материалистический, иллюзорный, меонический реализм. Этот реализм не будет иметь никакого существенного содержания, он будет формалистичен, весь будет во внешних ознаменованиях, а не бытийственных достижениях. Есть один только путь к Царству Божьему, к истинной теократии, это реальное его осуществление, т. е. подлинное достижение высшей духовной жизни, просветление и преображение человека и мира. Вне реального достижения высшей духовной жизни, т. е. вне перерождения, вне нового духовного рождения никакое совершенное общество и совершенная культура недостижимы. Нельзя только символизировать высшую духовную жизнь и в конце концов симулировать ее, нужно реально ее достигать. Реальное же достижение высшей духовной жизни не имеет слишком приметных признаков. И потому сказано, что Царство Божье приходит неприметно. Слишком приметное осуществление Царства Божьего всегда подозрительно и всегда указывает на фальшь. К старым теократиям, западной и восточной, нет возврата, ибо нет возврата к внешнему ознаменованию Царства Божьего без реального его достижения. Симуляция «христианского государства» не поможет. Эта симуляция и привела к краху, к опыту демократии и социализма. А как создать подлинное христианское государство, христианское общество? Для этого необходимо духовное просветление и преображение. Быть может, катастрофы и великие испытания приведут к нему. Но подлинно христианское государство не будет уже государством. Необходимо не выбрасывать все во вне, не ознаменовывать и не симулировать внутреннюю жизнь, а погружать все в духовную жизнь, вернуться на родину духа. Это – революция более глубокая, чем те, которые делают внешние революционеры. Мы переживаем мировой кризис всех социально‑политических идеологий и форм. Все уже как будто изжито во внешней жизни, и ничто уже не может слишком вдохновлять цивилизованные народы. Наступает социально‑политическая старость. Только русский народ обнаружил еще огромную энергию разрушения и попытался осуществить самую безумную из утопий. Рушатся старые общества, в которых были еще остатки теократических санкций. Делаются судорожные попытки их реставрировать. Но это дело безнадежное. Старое теократическое государство восстановить нельзя, к нему нет возврата, потому что оно не осуществляло Божьей правды, лишь во внешних знаках делало вид, что осуществляет ее. Вл. Соловьев объяснял падение Византии тем, что она не делала даже попыток на деле осуществлять христианство. Это можно сказать с некоторыми вариациями и смягчениями про все старые теократические государства, несшие в себе семя гибели. Можно было бы сказать, что не христианство не удалось, а не удалось дело Константина Великого, хотя оно и имело провиденциальное значение. Христианство как бы возвращается к состоянию до Константина. Русская православная Церковь определенно к этому состоянию вернулась. Быть может, христианство предназначено к тому, чтобы вернуться еще дальше назад, к катакомбному состоянию и оттуда вновь победить мир. Мало есть шансов на то, что новое царство Кесаря пожелает быть христианским. И никакие новые симуляции христианского государства не приведут к подлинно реальным бытийственным достижениям. Мы вступаем в эпоху убийственных разоблачений, когда придется жить разоблаченными реальностями. В этом значение нашей трагической и безрадостной эпохи. Христианский исторический пессимизм вступает в свои права. Необходимо отказаться от розовых иллюзий, от слащавого пессимизма. Но этот относительный пессимизм не должен помешать нашей устремленности вглубь духовной жизни. Падение внешних иллюзий обращает к внутренней жизни. Безбожная и лицемерная цивилизация XIX и XX веков и торжествует свои победы, и переживает смертельный кризис о своих основах. Она породила мировую войну – детище безграничной похоти жизни в современной цивилизации. И мировая война оказалась началом ее разрушения. И напрасно мечтают о мирной буржуазной жизни, о возврате к основам буржуазной цивилизации XIX века, которая представляется утопией чуть ли не совершенного общественного состояния. Катастрофы неслыханных войн и революций были заложены в основах этой цивилизации, и о возвращении к состоянию общества до начала мировой войны мечтают лишь безумцы, хотя бы безумие их казалось очень рассудительным. Трагизм современного кризиса в – том, что в глубине души никто уже не верит ни в какие политические формы и ни в какие общественные идеологии. Только коммунизм пытается еще утверждать себя с демоническим напряжением воли и кровавым фанатизмом. Но он погибает от смертельных ударов, которые он сам наносит собственной идее. Не только монархии рушатся, но и демократии переживают кризис, напоминающий агонию. Рушатся старые системы государства и хозяйства, и европейские общества вступают в эпоху, схожую с ранним средневековьем. Проблема демократии перестала уже быть политической проблемой, она стала проблемой духовно‑культурной, проблемой духовного перерождения общества и перевоспитания масс. Демократии провозгласили свободу выбора, но нельзя долго задерживаться на этой свободе, нужно ею воспользоваться, нужно сделать выбор правды, подчиниться какой‑то истине. А это выводит за пределы демократии. Единственным оправданием демократии будет то, что она сама себя преодолевает. В этом будет ее правда. Современные демократии явно вырождаются и никого уже не вдохновляют. Веры в спасительность демократии уже нет. Демократы – это те, про которых сказано, что они не холодны и не горячи и потому будут извергнуты. Количеством нельзя добыть истинной жизни. Монархисты, несмотря на значительность самого монархического принципа, движутся негативными и бессильными чувствами, нередко полны злобы и мести, и сама монархия для слишком многих из них есть лишь орудие восстановления их нарушенных интересов. И по‑старому принудить народы к монархии будет нельзя. Народы должны свободно ее захотеть, чтобы она могла осуществиться, но в этом случае она будет совсем новой. В жизни хозяйственной, в строе социальном рушится капитализм, пораженный смертельными ядами, им самим выработанными. К тому индустриально‑капиталистическому строю, который существовал до мировой войны, возврата нет, ибо он и породил все несчастья человечества. Но поколеблена уже надежда и на то, что капиталистическая система «может быть заменена системой социалистической. В социализм уже нельзя верить. Он перестал быть невидимой вещью, которая обличается в вере, он стал видимой вещью. И как видимая вещь, которая может быть обличена в знании, он переживает кризис не меньший, чем капитализм, он ведет человеческое общество к окончательной безвыходности. Духовные основы труда, мотивация труда определяют хозяйственную жизнь народов. Эти духовные основы труда разрушены, и народам грозит голод. Мотивация труда капиталистических обществ не может быть восстановлена. Народы нельзя будет принудить к той дисциплине труда, которая господствовала в капиталистическом обществе, в этом отношении случилось что‑то бесповоротное. Социализм же сам по себе менее всего способен создать новую дисциплину труда, дать новое его духовное обоснование. Он обоготворяет труд, делает из него кумира и совершенно его разлагает, упраздняет тот рабочий класс, во имя которого готов совершить какие угодно кровавые насилия. Экономический вопрос, как и политический вопрос, в современном человечестве становится духовным вопросом, он сам по себе неразрешим. Восстановление труда предполагает духовное возрождение. Но социализм рушится вслед за капитализмом не только в силу своей хозяйственной негодности, но также в силу своей духовной порочности. Выявляется сатанократическая природа социализма. Социализм претерпевает такую же страшную неудачу, как и все формы общественности. И это будет самой роковой неудачей до перехода на новый путь. Существует христианский социализм. Но не следует придавать слишком большое значение словам. Я готовя себя признать христианским социалистом. Но это очень несовершенное словоупотребление. Христианский социализм не есть настоящий социализм, и настоящие социалисты его терпеть не могут. Социализмом в строгом смысле слова следует называть направление, которое внешним, материально‑насильственным путем хочет разрешить судьбы человеческого общества. Не таков христианский социализм. Он только признает неправду индивидуалистически‑капиталистического строя. Но главная беда в том, что старый христианский социализм есть очень палиативяое, нерадикальное по своему принципу направление. И потому влияние его не может быть сильным. Христианство глубже должно брать проблему общественности. Угасает вера в политическое и социальное спасение человечества. Подводятся итоги ряду столетий, в течение которых происходило движение от центра и внутреннего ядра‑жизни к периферии, на поверхность жизни, к внешней общественности. И чем более общественность делается пустой и бессодержательной, тем сильнее становится диктатура общественности над всей жизнью человеческой. Политика обвила человеческую жизнь, как паразитарное образование, высасывающее у нее кровь. Большая часть политической и общественной жизни современного человечества не есть реальная онтологическая жизнь, это фиктивная, иллюзорная жизнь. Борьба партий, парламенты, митинги, газеты, программы и платформы, агитации и демонстрации, борьба за власть– все это не настоящая жизнь, не имеет отношения к содержанию и цел» м жизни, во всем этом трудно добраться до онтологического ядра. В мире должна начаться великая реакция или революция против господства внешней общественности и внешней политики во имя поворота к внутренней духовной жизни, не только личной, но и сверхличной духовной жизни, во имя содержания и цели жизни. Людям, находящимся во власти внешнего, это должно казаться призывом к уходу из жизни. Но что‑нибудь из двух – или духовная жизнь есть величайшая реальность и в ней нужно искать большей жизни, чем во всем шуме политики, или она нереальна и тогда ее нужно отрицать, как ложь. Когда все ощущается изжитым и исчерпанным, когда почва так разрыхляется, как в нашу эпоху, когда нет уже надежд и иллюзий, когда все разоблачено и изобличено, тогда почва готова для религиозного движения в мире. Так всегда бывало. Так было и в эпоху античного мира. Мировое значение социализма я вижу в том, что он ставит человечество перед дилеммой: или единение и братство людей во Христе или единение и товарищество людей в антихристе. Все остальное, как переходное и поверхностное, разлагается и распадается. Дело уже так далеко зашло и важно сознать это. Это понимал Достоевский, понимал и Вл. Соловьев. Это должны и мы понять до глубины. Понимать такие вещи – в традициях русской мысли. Русская революция помогает этому пониманию. Революция произошла в России, когда либеральная демократия уже изжила себя и отцветает, когда гуманизм новой истории подходит к концу. И в русской революции осуществляется крайний антигуманистический социализм. Русский народ, согласно особенностям своего духа, отдал себя в жертву для небывалого исторического эксперимента. Он показал предельные результаты известных идей. Русский народ, как народ апокалиптический, не может осуществлять серединного гуманистического царства, он может осуществлять или братство во Христе, или товарищество в антихристе. Если нет братства во Христе, то пусть будет товарищество в антихристе. Эту дилемму с необычайной остротой поставил русский народ перед всем миром.
Впервые опубликовано: «Новое средневековье. Размышление о судьбе России и Европы». Берлин, 1924, гл.3
[1] “Сменовеховство”, политическое направление, получившее свое название от сборника “Смена вех”, изданного в Праге в 1921 г. группой идейно близких авторов (Н. В. Устрялов, Ю. В. Ключников, С. С. Чахотин, Ю. Н. Потехин). По аналогии и в противовес “Вехам” “сменовеховцы” выступили с призывом признать совершившуюся революцию и к сотрудничеству с Советской властью в расчете на ее перерождение. В то время как русская либеральная эмиграция увидела в “сменовеховстве” предательство духовных ценностей русской культуры и приспособленчество к большевистскому режиму, большевики, с удовлетворением отметив сам факт выхода сборника, оценили его как открытую вылазку “классового врага”, выражающую “настроения тысяч и десятков тысяч всяких буржуев или советских служащих, участников нашей новой экономической политики” (Ленин).
[2] Утопичность этатизма евразийцев Бердяев связывает с их отходом от эсха‑тологических идей христианства о наступлении царства Божьего после второго пришествия по ту сторону земной истории и попыткой утверждения Божьего царства в этом мире путем оцерковления государства, которое охватит все сферы жизни. По мнению Бердяева, политика, ориентированная на такой исход, или обречена оставаться утопией, или приведет к образованию царства антихриста в лице тоталитаризма.
[3] Слово «гностик» я употребляю здесь не в смысле еретического гнозиса Валентина или Василида, а в смысле религиозного познания, в смысле свободной теософии, как у св. Климента Александрийского и Оригена, Фр. Баадера и Вл. Соловьева.
[4] Ярким примером панической настроенности является Альфонс де Лигуари, который возвел мнительность в принцип, жил в вечном ужасе греха, просил у духовника разрешения, чтобы выпить стакан воды и не находил в себе сил дать отпущение грехов. См. прекрасную его характеристику в книге Гейлера: «Der Katolicizmus», стр. 153–157.
[5] В чарующей книге «Откровенные рассказы странника духовному своему Отцу» говорится: «Боязнь муки – есть путь раба, а желание награды в царствии есть путь наемника. А Бог хочет, чтобы мы шли к Нему путем сыновним». стр. 35.
[6] В известном смысле догмат папской непогрешимости и гносеология Канта покоятся на одном и том же принципе внешнего, юридически оправданного критерия Истины.
[7] Этим я, конечно, нимало не отрицаю вечного и основоположного чтения монашества в точном смысле слова.
[8] На этом особенно настаивал Макс Шелер.
[9] Cм. блестяще написанную, хотя и очень неполную историю антропологических учений: Bernhard Groethuysen: «Philosophische Antropologie».
[10] Cм. замечательный опыт христианской антропологии Несмелова «Наука о человеке».
[11] (Cм. Pico della Mirandola. Ausgewaehlte Schriften. 1905.
[12] Cм. мою книгу «Я и мир объектов».
[13] Эту истину предчувствовали И.Киреевский и А.Хомяков, когда основывали познание на целостности и совокупности духовных сил человека. К этому приближается экзистенциальная философия Гейдеггера и Ясперса, для которой бытие познается в человеческом существовании.
[14] Cм. L.Feuerbach. Philosophie der Zukunft.
[15] Cм. о. С. Булгаков. Агнец Божий.
[16] Вражду к пониманию человека как творца можно встретить в новейшей католической книжке: Theodor Haecker. Was ist der Mench?
[17] Cм. его книгу «Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik».
[18] Cм. мои книги «Философия свободного духа» и «О назначении человека».
[19] Многие мои мысли о личности и индивидууме были сказаны в статье «Персонализм и марксизм», а также в книгах «Я и мир объектов» и «О назначении человека».
[20] На этом особенно настаивает Ж.Маритен.
[21] Это есть основная мысль Штерна, создавшего философскую систему персонализма, не свободную, впрочем, от натурализма.
[22] Ле‑Сенн в замечательной книге «Obstacle et Valeur» противополагает существование детерминизму.
[23] (Так думает Л.Толстой, так думает индусская религиозная философия, Э.Гартман и многие другие.
[24] Cм. Hans Leisegang. Der Heilige Geist. 1919.
[25] Cм. мою статью «Человек и мистика» и книгу: Correl. L'Homme cet inconnu.
[26] Cм. книгу Н.Феодорова «Философия общего дела».
[27] Cм. мои книги «О назначении человека» и «Смысл творчества», а также статью Вл. Соловьева «Смысл Любви».
[28] Cм. мою книгу «Я и мир объектов», а также: Martin Buber. Ich und Du.
[29] Cм. К.Маrx. Der historische Materialismus. Die Fruehschriften. 2 тома. См. также: A.Carnu «Karl Marx» и Lukas «Geschichte und Klassen Bewustsein».
[30] Cм. мою книгу «Смысл творчества. Опыт оправдания человека».
Внимание! Сайт является помещением библиотеки. Копирование, сохранение (скачать и сохранить) на жестком диске или иной способ сохранения произведений осуществляются пользователями на свой риск. Все книги в электронном варианте, содержащиеся на сайте «Библиотека svitk.ru», принадлежат своим законным владельцам (авторам, переводчикам, издательствам). Все книги и статьи взяты из открытых источников и размещаются здесь только для ознакомительных целей.
Обязательно покупайте бумажные версии книг, этим вы поддерживаете авторов и издательства, тем самым, помогая выходу новых книг.
Публикация данного документа не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Но такие документы способствуют быстрейшему профессиональному и духовному росту читателей и являются рекламой бумажных изданий таких документов.
Все авторские права сохраняются за правообладателем. Если Вы являетесь автором данного документа и хотите дополнить его или изменить, уточнить реквизиты автора, опубликовать другие документы или возможно вы не желаете, чтобы какой-то из ваших материалов находился в библиотеке, пожалуйста, свяжитесь со мной по e-mail: ktivsvitk@yandex.ru