

|
|
|
Борисов Н. С.
Сергий Радонежский
МОСКВА
2003
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
Борисов Н. С.
Сергий Радонежский. — М.: Мол. Гвардия, 2003.-298[6] с: ил. - (Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; Вып. 836)
Впервые в серии «Жизнь замечательных людей» выходит жизнеописание одного из величайших русских святых — преподобного Сергия, Радонежского чудотворца. «Игуменом земли Русской» называли его еще при жизни. Но жизнь Сергия отнюдь не замыкалась в стенах созданного им Троицкого монастыря; его по праву считают крупным политическим деятелем эпохи Куликовской битвы. Так что же это был за человек? Какую роль сыграл он в истории России? Каковы были его нравственные идеалы и политические взгляды? Как складывались его отношения с «сильными мира сего»? Автор книги, известный историк Николай Сергеевич Борисов, на основании многолетнего и скрупулезного исследования всех сохранившихся источников восстанавливает подлинную, а не легендарную биографию нашего великого соотечественника.
Трудно найти более яркий по накалу страстей, по напряженности духовной жизни период русской истории, чем XIV столетие. Но удивительное дело: в нашей памяти этот век почти не оставил имен. Иван Калита да Дмитрий Донской — вот, кажется, и все, кого мы помним со школьной скамьи.
Слов нет, великие зодчие Московского государства по праву остались в истории. Мы вновь и вновь вглядываемся в их суровые, мужественные лица, пытаясь увидеть в них родовые черты российской государственности. Но только ли они достойны нашей памяти? И как одиноко стоят эти люди в пустыне нашего неведения! А между тем этот век имел десятки своих выдающихся деятелей, имена которых сохранили источники.
«Посмотри на русского человека; найдешь его задумчива», — говорил Радищев. Эта черта национального характера сложилась не вчера. Средневековая Русь имела длинную череду своих мыслителей и проповедников. Их имена должны стоять в одном ряду с именами полководцев и государственных деятелей, архитекторов и художников. Один из тех, кого необходимо вернуть на подобающее ему место в отечественной истории, — игумен подмосковного Троицкого монастыря Сергий Радонежский (1314—1392).
Жизненный путь «великого старца», как называли его современники, выглядит парадоксальным. Он бежал от общества людей — а в результате стал его духовным предводителем; он никогда не брал в руки меча — но одно его слово на весах победы стоило сотен мечей.
Удивительна и сама тайна, окружающая имя Сергия. Почти во всех великих событиях эпохи мы чувствуем его незримое присутствие. А между тем до нас не дошло ни его собственных писаний, ни точной записи его бесед и поучений.
Большую часть своей жизни Сергий провел в основанном им Троицком монастыре. Здесь он прославился как выдающийся подвижник в христианско-монашеском понимании этого слова. Помимо этого, Сергий был известен как один из главных приверженцев «общего жития» — новой для того времени формы монашеской жизни на Руси.
Однако Сергий не был исключительно церковным деятелем. Его горизонт не ограничивался чертой монастырских стен. В наиболее драматические моменты истории Северо-Восточной Руси он помогал князьям услышать друг друга, убеждал их прекратить кровопролитные усобицы. Слово Сергия призывно прозвучало и в грозном 1380 году, когда полчища Мамая двинулись на Русскую землю.
Заслуги Сергия перед Отечеством не сводятся лишь к его миротворческим походам и благословению воинов, идущих на Куликовскую битву. Для современников он стал подлинным «светильником» — человеком, сумевшим подчинить всю свою жизнь евангельским заповедям любви и единомыслия. Всегда избегая судить и назидать, он учил главным образом собою, своим образом жизни и отношением к окружающим. И народ услышал его безмолвную проповедь.
В те времена представление о духовном подвиге связывалось прежде всего с уходом из «мира», строгим соблюдением монашеских уставов. С этой точки зрения Сергий был безупречен. Своим «высоким житием» он внушал людям веру в их нравственные силы. В эпоху, когда Русь поднимала голову, расправляла плечи, готовясь к решающей схватке с Ордой, твердость духа, вера в себя были ей нужны не меньше, чем добрые мечи и прочные кольчуги.
Необычайная притягательность личности Сергия объяснялась просто: это был человек, который неуклонно, до конца выполнял свой христианский и монашеский долг. Но много ли найдется людей, которые никогда не изменяли бы своему долгу?
«При имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной, — говорил историк В. О. Ключевский. — Это возрождение и это правило — самые драгоценные вклады преподобного Сергия, не архивные или теоретические, а положенные в живую душу народа, в его нравственное содержание. Нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо, памятями деятелей, внесших наибольшее количество добра в свое общество. С этими памятниками и памятями срастается нравственное чувство народа; они — его питательная почва; в них его корни; оторвите его от них — оно завянет, как скошенная трава. Они питают не народное самомнение, а мысль об ответственности потомков перед великими предками, ибо нравственное чувство есть чувство долга. Творя память преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведенные в нем траты» (71, 209)*.
Основным источником для воссоздания жизненного пути и учения Сергия Радонежского служит его Житие, написанное в 1417—1418 годах учеником преподобного Епифанием Премудрым и переработанное во второй четверти XV века известным агиографом (от греч. «агиос» — святой и «графо» — пишу) Пахомием Логофетом.
Помимо труда Епифания, о Сергии написано, в сущности, очень немного. Уже в прошлом столетии наметилось три метода описания его деятельности. Первый, самый простой, заключался в прилежном пересказе Жития со скромным авторским комментарием нравственно-дидактического характера. Этим путем шли главным образом церковные авторы. Их труды во многом напоминают иконы XIX столетия: та же холодноватая сентиментальность, экзальтированные жесты и позы, слишком яркие краски.
Второй путь наметил крупнейший историк Русской Церкви Е. Е. Голубинский. Анализируя и сравнивая различные списки Жития, пользуясь данными летописей, он попытался с максимальной точностью воссоздать внешнюю сторону биографии Сергия. Как и следовало ожидать, суховатая, академичная манера письма Голубинского вызвала раздражение приверженцев «иконописного» метода изображения «великого старца».
Свой путь к Сергию проторил известный русский историк В. О. Ключевский. Одновременно с Голубинским, к торжественно отмечавшемуся в 1892 году 500-летию со дня кончины преподобного, он создал небольшой, но яркий по форме и глубокий по содержанию очерк, посвященный «великому старцу». Ключевский первым попытался показать историческое значение деятельности Сергия, понять основы его нравственного учения.
Расцвет русской религиозной философии в первой трети XX века способствовал дальнейшему проникновению в мир Сергиевой духовности. Г. П. Федотов, посвятивший Сергию одну из глав своей книги о русских святых, сумел показать органическую связь учения «великого старца» с традицией древнерусского монашества, вкратце проследить судьбу его заветов.
Целый ряд новых черт образа Сергия в Житии подметил тонкий и чуткий художник слова — писатель Б. К. Зайцев. Его книга о «великом старце» сопоставима с «Сергиевскими» картинами М. В. Нестерова.
И Зайцев, и Федотов работали в эмиграции. Внутри страны в 20-е и 30-е годы обращение к образу Сергия было связано, как правило, с нуждами воинствующего атеизма. Эта тема не пользовалась особой популярностью у историков и в последующие десятилетия. И потому итоги ее научного изучения выглядят весьма и весьма скромно. Были высказаны различные гипотезы об участии Сергия в церковно-политической борьбе конца 70-х и 80-х годов XIV века, о его роли в идейной подготовке Куликовской битвы, об отношении к монастырскому землевладению. Но, пожалуй, наиболее существенный прогресс был достигнут на источниковедческом направлении: в выявлении особенностей Жития как литературного жанра, а также в исследовании различных редакций и списков Жития Сергия.
Что касается изучения духовного наследия Сергия, то в этой области наблюдались лишь эпизодические «набеги» исследователей творчества Андрея Рублева. С помощью Жития Сергия искусствоведы пытаются проникнуть в тайны рублевского «умозрения в красках». В основе этого поиска — весьма убедительное предположение о том, что великий художник Древней Руси находился под влиянием сергиевского нравственного учения.
Фигура самого Сергия — великого деятеля национального возрождения — и по сей день едва различима в тумане минувшего. Мы угадываем отдельные черты, но не можем охватить взглядом целого.
Книга, которую читатель держит в руках, не даст ответа на все вопросы. Мы надеемся, что она лишь облегчит путь к Сергию. С этой целью автор стремился к тому, чтобы «возвратить» Сергия в ту систему христианских духовных ценностей, в которой он жил и вне которой он не может быть понят и оценен как личность.
Указав направление движения, мы не можем, как бы взяв за руку, подвести читателя к Сергию. Путь этот каждый должен пройти сам, ибо учение радонежского игумена, как и всякое религиозно-нравственное учение, может быть вполне осознано лишь через собственный духовный опыт. Признаемся честно: это препятствие не раз вставало и перед автором книги. Мы далеки от мысли, что до конца поняли мотивы поступков Сергия, проникли в глубину его помыслов. Непостижимы для нас его мистические откровения, восторженный трепет его молитвенных часов. Не пытаясь бесплодно умствовать о природе Сергиевых чудес, да и других подобных явлений, отмеченных источниками, мы рассматриваем их как исторические факты постольку, поскольку они были фактами для людей той эпохи. Для нас важно найти ответ на вопрос: что же несли они в себе помимо мистического содержания?
Пробиться к Сергию сквозь толщу веков, сквозь предрассудки его и нашего времени — задача не из легких. Решая ее, мы не раз вспоминали о том, какие сомнения испытывал средневековый книжник, принимаясь за жизнеописание святого, какую ношу ощущал он на своих плечах. Впрочем, это была не только тяжесть огромной ответственности перед современниками и потомками, но и вполне понятный страх, который испытал бы всякий человек, очутившись вдруг на ладони великана.
Познав тревоги своих далеких предшественников, мы познали и их утешения. И всякий раз, когда задача начинала казаться нам невыполнимой, мы ободряли себя словами, которые предпослал своему Житию Сергия Епифаний Премудрый. «Аше бо не писано будет старцево житие, но оставлено... без въспоминаниа, то се убо никако же повредит святого того старца... Но мы сами от сего не плъзуемся, оставляюще толикую и таковую плъзу. И того ради сиа вся собравше, начинаем писати»...
***
Со времени первого издания нашей книги о преподобном Сергии Радонежском («И свеча бы не угасла...». Исторический портрет Сергия Радонежского. М., 1990) прошло десять лет. По историческим меркам — не столь уж большой срок. Но так многое изменилось за это время! Нет нужды говорить о переменах в государственном устройстве и общественной жизни: они общеизвестны. Под воздействием этих перемен изменились и сами люди.
Общий итог происшедшему подводить еще рано. А подведение частных итогов — дело сугубо личное, где каждый составляет свою собственную «приходно-расходную книгу».
Но обратимся к тому, что меньше подлежит сомнению. Рассмотрим то, как изменилось отношение людей к религии и Церкви. Ведь главный герой нашей книги — монах, жизнь и учение которого являются прежде всего частью истории Русской Православной Церкви.
Священнослужители перестали быть изгоями. Сегодня без них не обходится почти ни одно значительное общественное событие. Иконами и церковными книжками торгуют теперь на каждом углу. И мы уже не считаем религию «мракобесием». Напротив. Мы охотно готовы признать, что «в этом что-то есть». Государство спешит отдать Церкви отнятые у нее в советское время храмы и монастыри. Оно явно ищет ее поддержки или хотя бы сочувствия. Кажется, все идет как нельзя лучше. Однако первое впечатление обманчиво...
Да, мы перестали бояться человека в рясе. Но значит ли это, что мы его узнали и полюбили? Значит ли это, что мы поняли тех, кто добровольно замкнул себя в кольцо монастырских стен, отрекся от многих мирских радостей и утех? Конечно, нет. Мир русского православного монастыря для огромного большинства людей по-прежнему остается «тайной за семью печатями». Интеллигенция, радостно устремившаяся к Церкви после долгих лет вынужденного воздержания, быстро отхлынула назад. Оно и понятно. Ведь истинная вера есть прежде всего постоянный труд ума и души. А мы по-прежнему «ленивы и нелюбопытны».
Итак, мы не намного приблизились к Сергию за счет устранения чисто формальных препятствий на этом пути. Скорее напротив. Всеобщее ожесточение, равнодушие к страданиям и смерти, царящие повсюду, явно свидетельствуют о том, что мы по сути нашей жизни все дальше и дальше уходим от заветов преподобного.
Как же остановиться? Как удержаться хотя бы на той точке, где мы сейчас находимся, и не скатиться в пропасть? По-видимому, сегодня — как это бывало и прежде в тяжелые моменты истории России — нам следует обратиться к тому огромному запасу мужества, запасу нравственной силы, который накоплен нашими великими предками. И среди людей, при одном имени которых просыпалась и поднималась Россия, — «великий старец», преподобный Сергий Радонежский...
Но если наш труд не утратил своего значения по своей сути, то, может быть, он устарел, так сказать, «технически»? Быть может, за эти годы беспокойная историческая наука установила нечто такое, что опрокидывает всю нашу реконструкцию жизненного пути «великого старца»? По совести, нет. Ведь в корне изменить картину может только открытие нового, доселе неизвестного древнего источника. Но таких находок не произошло. О Сергии Радонежском много говорили и писали в связи с 600-летием со дня его кончины, широко отмечавшемся в сентябре 1992 года. Повышенный интерес к его жизни и деятельности — как, впрочем, и вообще к историко-церковной тематике — сохраняется и в последующие годы. Однако дело сводится главным образом к конструированию различных хронологических схем, каждое звено которых представляет собой всего лишь предположение. Впрочем, на одном направлении исследователям удалось заметно продвинуться вперед. Предложена новая реконструкция истории текстов Жития Сергия Радонежского, позволяющая более обоснованно говорить о тех или иных событиях его жизни.
Мы не намерены уводить читателя в дебри профессиональных дискуссий. Однако было бы неверным и замалчивать наличие целого ряда «белых пятен» в биографии Преподобного. Исходя из этого, мы помещаем после текста книги необходимые комментарии. В тех случаях, когда аргументы новейших исследователей оказались непреодолимыми, мы внесли соответствующие поправки в нашу картину жизни «великого старца». Однако таких моментов немного. История Древней Руси не любит абсолютных истин. Здесь все изменчиво и зыбко. Не отрицая возможности иных, отличных от нашей, версий биографии Сергия Радонежского, мы остаемся, однако, при своем мнении и своем видении событий.
Некоторые изменения в тексте книги были вызваны не только достижениями других историков. Все эти годы автор и сам продолжал исследовательскую работу в области русской истории XIV—XV веков. Плодом этих занятий стали, среди прочего, книги «Иван Калита» (1995), «Политика московских князей (конец XIII — первая половина XIV века)» (1999) и «Иван III» (2000). Работая над ними, мы по-новому увидели многие события и явления той эпохи.
В основе нашего труда лежит стремление увидеть преподобного Сергия глазами людей его времени, понять его поступки в системе ценностей той далекой эпохи. И потому мы сочли полезным несколько расширить книгу за счет приложений. В их числе — древний монашеский устав Василия Великого, положенный в основу всего уклада жизни Древнерусских монастырей, его письма, содержащие рассуждения об иночестве, а также послания митрополита Киприана к Сергию Радонежскому и Федору Симоновскому и некоторые другие документальные материалы.
И последнее. Книга «И свеча бы не угасла...» была написана в период, когда научный атеизм только-только разжал свои железные объятия, когда мы по инерции все еще оправдывались перед кем-то за свой интерес к православию вообще и средневековому монашеству в частности. Признаки времени можно увидеть и в некотором «церковно-просветительном» уклоне нашего повествования. Мы открывали для читателя (а порой и для себя) много такого, что для людей Церкви было давно известным и само собой разумеющимся. Некоторые наши рассуждения, вероятно, вызывали у них снисходительную улыбку. Однако, положа руку на сердце, далеко ли ушло с тех пор религиозное образование обычных, не причастных к Церкви людей? А ведь их у нас, как известно, огромное большинство. Для них, возможно, и будут полезны именно такие, начальные пояснения. Ведь всякое познание есть путь от простого к сложному.
Не выходите в поле и не ходите по дороге,
ибо меч неприятелей, ужас со всех сторон.
Будущий подвижник родился в 1314 году в семье ростовского боярина Кирилла и его жены Марии[К.В.1].*
Согласно Житию младенец был окрещен на 40-й день после рождения и наречен Варфоломеем. Если предположить, что он по традиции получил имя того святого, память которого праздновалась Церковью в день крещения, то можно назвать не только день совершения обряда — 11 июня, день памяти апостола Варфоломея — но и день рождения. По данной системе подсчета этот день — 3 мая 1314 года. Эту дату можно встретить в некоторых жизнеописаниях Сергия Радонежского[К.В.2].
Приняв предложенную дату, мы обнаружим знаменательное совпадение: Сергий родился в день, когда праздновалась память одного из первых русских святых, преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского монастыря. Знаменитый подвижник умер 3 мая 1074 года, за 240 лет до рождения того, кому суждено было стать прямым продолжателем его дела.
Если такое совпадение действительно произошло, то, конечно, оно сыграло определенную роль в жизни Сергия. Символизм христианского мировоззрения заставлял видеть во всем таинственный смысл. Огромное значение придавалось и «календарным» совпадениям. Их рассматривали как знак, данный свыше. И кто знает, не был ли ранний интерес Варфоломея к иноческому житию, кроме всего прочего, еще и результатом его размышлений над датой своего рождения?
В Древней Руси особый, тайный смысл видели и в имени человека. Оно было верным признаком социального положения его носителя. Князья, бояре, духовенство, горожане и крестьяне — все они отличались друг от друга не только по образу жизни, манере поведения, одежде, но даже по именам. Каждому общественному слою был присущ свой круг имен. Представители знати очень внимательно относились к выбору имени для своих детей. Имя должно было напоминать о славных предках, обеспечивать покровительство одноименного святого. Именно поэтому среди знати далеко не всегда соблюдался обычай наречения младенца по имени святого, память которого приходилась на день крещения. Часто за день отсчета принимался день рождения. В поисках «подходящего» святого допускалось отклонение от исходной даты до двух недель вперед и назад по церковному календарю — «месяцеслову».
Имя «Варфоломей» было довольно редким среди боярства той эпохи и вообще не встречалось среди княжеских имен. Это имя носил один из двенадцати ближайших учеников Христа — апостолов. По преданию, Варфоломей был распят язычниками в Армении. В средневековой Руси с его именем связывали «отреченный», неканонический трактат — «Вопросы апостола Варфоломея». В нем, отвечая своему любознательному ученику, Иисус открывал тайны Божественного Промысла.
Как и другие сложные имена греческого происхождения, имя «Варфоломей» на Руси обычно произносили по-своему — «Валфромей». При таком произношении в нем звучало нечто необычное, чужеземное. «Ромеями», то есть «римлянами», называли себя византийцы.
Родиной Варфоломея было Ростовское княжество. Житие не указывает точного места рождения преподобного, ограничиваясь лишь кратким замечанием: «Жил Кирил не в коей веси (то есть в некоем селении. — Н. Б.) области оноя, иже бе в пределех Ростовьскаго княжениа, не зело близ града Ростова» (9, 288[К.В.3]).
Старинное ростовское предание утверждает, что усадьба отца Варфоломея находилась в селе Варницы, в трех верстах к северо-западу от Ростова Великого. Село расположено на ровном, открытом месте, на левом берегу речки Ишни, впадающей в ростовское озеро Неро. Весной Ишня широко разливалась, затопляя окрестные луга.
Название «Варницы» происходило от соляных варниц, издавна существовавших в этих местах. Подземные ключи обогащали воду в Ишне целебными солями. Купание в ней излечивало детей от золотухи, а стариков от ломоты в костях.
Здесь, среди неоглядных просторов земли и воды, прошли детские годы Варфоломея. И как знать, не эти ли немые, величавые равнины воспитали в нем склонность к молчаливой созерцательности, которую он сохранил до конца своих дней?
Как и любой человек, Варфоломей всю жизнь хранил в душе образы матери и отца. О родителях его известно очень мало. Судя по рассказу Жития Сергия, мать будущего подвижника была тихой, доброй и набожной женщиной. Ее образ выписан в Житии в соответствии с традиционными представлениями о матери святого. И все же, несмотря на условность образа Марии в Житии, можно думать, что именно мать заронила в душу Варфоломея искру горячего религиозного чувства, которая со временем воспламенила все его сознание.
Несколько больше, чем о матери, можно сказать об отце Варфоломея. Уже одно то, что Кирилл был ростовским боярином, позволяет увидеть некоторые истоки личности и мировоззрения его сына.
Ростов по праву называли «дедом» всех других городов Северо-Восточной Руси. В древнейшей русской летописи «Повести временных лет» он упоминается уже под 862 годом, в рассказе о призвании на Русь братьев-варягов. Для Залесья Ростов был тем же, чем для Северо-Западной Руси Новгород, а для Южной — Киев.
Через Ростов проходило несколько водных и сухопутных торговых путей. Из озера Неро брала свое начало река Которосль — правый приток Волги. Устье Которосли стерегла основанная в 1010 году крепость Ярославль. Великий волжский путь издавна связывал Русь с кочевыми и оседлыми народами Азии. По притоку Волги реке Тверце и далее по Мете шел торный путь из Верхневолжья в новгородские земли. Два Других притока — Шексна и Кострома — служили дорогами на север, в Белозерье и Подвинье. В освоении этих областей ростовцы постоянно соперничали с новгородцами.
Ростовское боярство некогда вершило судьбами всей Северо-Восточной Руси. Не раз по своей воле оно сменяло князей. Владельцы богатых вотчин и обширных промысловых угодий, ростовские бояре и «породой» не уступали киевским да новгородским. Благодаря своим древним корням они были связаны узами родства с аристократией многих других русских городов. Их поддержка решала судьбу того или иного наследника ростовского престола.

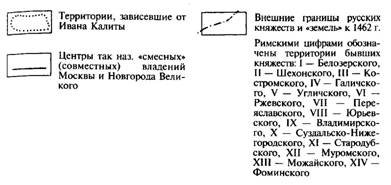
В те времена, когда положение человека в обществе прямо зависело от того, кем были его предки, история имела сугубо практическую ценность. Ростовские бояре, в том числе и отец Варфоломея, прекрасно знали не только прошлое своего собственного рода, но и всю сложную историю отношений между князьями в XI—XIII веках. Их предки вместе со своим князем праздновали победы и переживали тяжелые времена неудач, переезжали из города в город, а порой из одного конца Руси в другой. История Руси была частью их семейной истории.
Согласно Житию Варфоломей уже с детства был отмечен особой «благодатью». Многочисленные чудесные знамения убеждали Кирилла и Марию в «богоизбранности» их среднего сына. Незадолго до рождения Варфоломея его мать стояла в церкви на воскресном богослужении. В самые важные моменты литургии младенец трижды прокричал во чреве матери. В первый год жизни он отказывался от материнского молока в постные дни недели — среду и пятницу. Достигнув семи лет, Варфоломей чудесным образом — с помощью ангела, явившегося ему в поле под дубом в виде старца-монаха, — овладел грамотой.
Как отнестись к этим известиям Жития? Давно замечено, что все они имеют аналогии в житиях различных византийских святых. Вероятно, автор Жития Сергия, не имея достоверных сведений о детстве своего героя, воссоздал его по образцу жизнеописаний великих подвижников древности. Тем самым Епифаний Премудрый утверждал величие Сергия, сопоставимость его образа с образами святых отцов. Впрочем, нет ничего проще и вместе с тем бесплоднее, чем опровергать «чудесную» часть жития святого. Такое опровержение не нужно ни тому, кто верит в возможность чудес, ни тому, кто их отвергает. Да и много ли мы приобретаем, разрушая возвысившие нас мифы? Оставим же рассказы о знамениях, сопровождавших детство и отрочество Варфоломея, во всей их нездешней достоверности и попытаемся понять то, что подлежит осмыслению: какие впечатления ранних лет повлияли на формирование личности Сергия?
Отцу Варфоломея, боярину Кириллу, выпало жить в переломное, драматическое время. На глазах у двух-трех поколений целый мир погрузился в небытие. Рухнула вся политическая система домонгольской Руси. Изменились до неузнаваемости ее составные части.
Но, пожалуй, нигде на Руси крушение прежнего порядка вещей, тревога и страх перед будущим не ощущались в этот период так остро, как в Ростове. И на то были свои исторические причины.
Первые полстолетия ига оказались для Ростова не столь губительными, как для большинства других русских городов. Летописи не сообщают о его разгроме во время нашествия Батыя на Северо-Восточную Русь в 1237—1238 годах. После гибели от рук татар князя Василька Константиновича (март 1238 года) власть в Ростове перешла к его вдове, княгине Марье, которая воспитывала двух малолетних сыновей — Бориса и Глеба. Повзрослев, они разделили княжество. Борису достался Ростов с округой, Глеб получил обширный Белозерский край. Оба Васильковича отличались миролюбием и рассудительностью. Они поддерживали осторожную и гибкую ордынскую дипломатию Александра Невского, налаживали связи с ханскими вельможами.
При Васильковичах в Ростове поселяются откупщики дани «бесермены», ордынские купцы и даже принявший православие племянник хана Берке — «царевич Петр». Один из братьев, Глеб Василькович, женился в Орде.
Ростовчане возмущались пребыванием в городе «бесерменов» и дважды, в 1262 и 1289 годах, выступали против них с оружием в руках. Однако дружба ростовских князей с «погаными» приносила и добрые плоды. Историки подсчитали, что за вторую половину XIII века ордынские отряды 14 раз нападали на русские земли. От этих набегов сильно пострадали Владимир, Суздаль, Переяславль-Залесский и другие города. И лишь Ростов за всю вторую половину XIII века ни разу не был разорен татарами. Здесь сберегались культурные ценности Владимиро-Суздальской Руси, продолжалось летописание, велось даже небольшое каменное строительство. Последнего не позволял себе в эти тревожные времена и сам «Господин Великий Новгород».
Благополучию Ростовской земли пришел конец уже в 80-е годы XIII века. После кончины Бориса (1277) и Глеба (1278) их сыновья не смогли сохранить мудрого единодушия отцов. В Ростовской земле начинаются усобицы. Яблоком раздора стал выморочный угличский удел. Растратив силы на внутренние распри, ростовские князья не сумели удержать Ярославль, который в начале XIV века окончательно перешел под власть князей из смоленского дома.
Следующее поколение ростовских князей, правившее в первой четверти XIV века, оказалось не в состоянии обезопасить город и волости от татарских набегов. Постоянные просрочки и недоимки при сборе ордынской дани в ростовских землях вызывали гнев хана, влекли за собой карательные санкции.
Тяжесть положения усугублялась тем, что ростовские князья, а вслед за ними и бояре не могли остаться в стороне от ожесточенной борьбы за великое княжение Владимирское между московскими и тверскими князьями. Вплоть до 1327 года борьба эта шла с переменным успехом. И каждый раз победитель спешил свести счеты со своими недругами в Ростове. Город жил в постоянном тревожном ожидании очередного нападения княжеского войска или ордынского «лютого посла».
Бессилие правителей побуждало народ к возмущению. В 1320 году в городе появились очередные «злые татары». Возмущенные их бесчинствами ростовчане выгнали чужеземцев из города. Ответом на эту дерзость стала направленная в ростовские и ярославские земли карательная «Ахмылова рать». Лишь случайность спасла город от страшного погрома.
Невзгоды ростовской жизни не миновали и семейство боярина Кирилла. Сообщая о его разорении, автор Жития Сергия замечает: «Како же и что ради обнища, да скажем и се: яко частыми хоженми еже с князем в Орду, частыми ратми татарскыми еже на Русь, чястыми послы татарскыми, чястыми тяжкыми данми и выходы еже в Орду, частыми глады хлебными» (9, 288).
***
Одним из самых сильных впечатлений детства и отрочества Варфоломея, несомненно, был всеобщий страх перед «злыми татарами». Это чувство было знакомо в ту пору едва ли не каждому русскому человеку. Именно страх был основой всей системы чужеземного владычества над Русью. Неизвестный книжник конца XIII века, описывая зверства татарского баскака в Липецком и Воргольском княжествах, не удержался от восклицания: «И бяше видети дело стыдко велми страшно, и хлеб в уста не идет от страха» (20, 80). Те же чувства испытывали и ростовцы. Случалось, что, заслышав о приближении татарской «рати», горожане в панике разбегались кто куда, бросая на произвол судьбы дома, имущество, скот. Так было, например, в 1322 году, когда к Ростову направилась «рать» ордынского «посла» Ахмыла. «И прииде Ахмыл на Рускую землю, и пожже град Ярославль и поиде к Ростову с всею силою своею, и устрашися его вся земля, и бежаша князи ростовьстии, и владыка побеже Прохор», — рассказывает старинное ростовское сказание (11, 34).
Этот слепой, непреодолимый страх перед татарином еще долго оставался в сознании русских людей. Его внезапные приступы случались даже в начале XV века. Во время нашествия на Русь ордынского правителя Едигея в 1408 году, по свидетельству летописца, «да еще явится где един татарин, то мнози наши не смеяхуть противитися ему; аще ли два или три, то мнози руси жены и дети мечуще, на бег обращахуся» (9, 252).
Страх смерти был унизителен, ибо превращал человека в подобие бессловесного скота. Пытаясь превозмочь его, человек собирал в кулак не только всю свою волю, все мужество, но и всю веру. Тому, кто искренне верил в то, что Бог следит за всем происходящим, кто видел в собственных страданиях отсвет Страстей Господних, — тому легче было сохранить мужество и достоинство.
«Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геене» (Матфей, 10, 28). Скольким людям слова эти послужили последней опорой...
Страх отступал перед верой. Идущие на смерть ощущали себя страстотерпцами. И можно ли удивляться тому, что почти все погибшие от рук татар князья причислены к лику святых? Они и вправду умирали так, как положено святым: с молитвой на устах и крестом в руке. Свою смерть они стремились возвести до мученичества за веру. Это давало им надежду на вечное блаженство, загробную жизнь в райских кущах.
Помогая преодолеть слепой страх смерти, вера могла исцелить и другие нравственные болезни. Евангелие звало к единомыслию, учило бескорыстию и любви к ближнему. В эпоху «злой татарщины» эти призывы звучали особенно актуально. Безысходность, постоянное унижение порождали слепую злобу на того, кто находился рядом. «Ненависть на другы вселися в сердца наша», — сетовал знаменитый проповедник той эпохи епископ Серапион Владимирский (8, 448). И слова его отнюдь не были пустой риторикой.
Людьми овладела безграничная алчность. На то были свои причины. Если раньше власть денег умерялась силой традиции, правом рождения и престолонаследования, то теперь она оказалась неограниченной. Всем распоряжалась Орда, а там получить что-либо можно было только за деньги. «Серебром» добывали ярлык, дававший право на княжение. За деньги можно было получить в управление чужое княжество, а при их недостатке — потерять свое. С помощью «серебра» князья и бояре возвращали попавших «в полон» подданных, а порой даже родных и близких. Щедрые «дары» влиятельным вельможам могли спасти провинившегося князя от сабли ханского палача.
В стране, не имевшей в ту эпоху собственных серебряных и золотых приисков, единственным источником этих металлов была внешняя торговля. Однако в условиях иноземного ига она переживала тяжелые времена. Доходы, приносимые ею, были невелики по сравнению с расходами в Орде.
Постоянные поиски «серебра» и его ближайшего эквивалента — пушнины, «мягкого золота», превратились в своего рода навязчивую идею каждого правителя. Гордые Рюриковичи волею обстоятельств превратились в «скупых рыцарей», вынужденных беречь каждую гривну. Прозорливые наблюдатели предсказывали: победителем в конечном счете станет тот, кто лучше других умеет собирать деньги и умнее других — тратить.
Стремление выжать деньги из тех, кто находился ниже, кто не имел средств для защиты, подобно эпидемии, охватило все слои общества. Именно эту нравственную «болезнь века» яростно обличал Серапион Владимирский: «...Несытовьство имения поработи ны, не дасть миловати ны сирот, не дасть знати человечьскаго естьства — но, акы зверье жадают насытится плоть, тако и мы жадаем и не престанем, абы всех погубити, а горкое то именье и кровавое к собе пограбити; зверье едше насыщаються, мы же насытитися не можем: того добывше, другаго желаем!» (8, 448).
Но даже огненные глаголы Серапиона не в силах были изменить поведение людей, оказавшихся пленниками обстоятельств. И через три-четыре десятилетия после смерти знаменитого проповедника (1275) положение не изменилось, и слова об алчности звучали так, словно были сказаны вчера. «Несытовьство имения» порождало ненависть и вражду. Пользуясь рознью князей, татары безбоязненно хозяйничали на Руси.
Вера — это надежное прибежище пасынков судьбы — несомненно, была опорой и для ростовского боярина Кирилла. Она давала надежду, ибо сам Спаситель сказал: «Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам» (Марк, 11, 24).
Набожность отца, разумеется, действовала и на сыновей. Горячая вера Варфоломея, без которой он никогда не стал бы тем, кем стал, была своего рода инстинктивной защитой его тонкой, впечатлительной натуры от ужасов ростовской действительности.
Со временем детская вера Варфоломея под влиянием знакомства отрока с христианской книжностью, которой богат был древний Ростов, развилась в целостное и стройное «Сергиевское» мировоззрение.
Впрочем, религиозные чувства Варфоломея были взращены не только книгами. Благодатной почвой для них служил и весь уклад тогдашней русской жизни, проникнутый церковной обрядностью и христианской символикой.
В Древней Руси приобщение человека к христианству совершалось просто и естественно, в потоке самой жизни. С детства он посещал свой приходский храм. Здесь учение Иисуса входило в его душу прежде всего через само богослужение. В ходе литургии перед верующими как бы заново проходила земная жизнь Иисуса, разворачивалась мировая драма искупительной голгофской жертвы. В причастии они вкушали Тело и Кровь Христову, знаменуя этим свою верность заветам Спасителя, единение всех людей во Христе.
Важнейшим средством утверждения в сердцах людей нравственного закона было публичное чтение Евангелия. Это великое творение человеческого духа, привлекало своей неисчерпаемостью. В его противоречивых сентенциях, многозначительных притчах, молитвенных призывах каждый находил то, что искал. Через Евангелие Иисус возгласил Царство Небесное, где восторжествует справедливость, где последние станут первыми, а богатые и алчные будут осуждены на вечную муку. Но оно учило и тому, как жить на земле, как создать здесь новую жизнь — прообраз небесной. Вслед за требованием всей душой возлюбить Бога шла вторая главнейшая заповедь — «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Матфей, 22, 39). Идеалы самоотречения и подвижничества были воплощены в «девяти заповедях блаженства».
Именно Евангелие стало любимым предметом размышлений Варфоломея. В отличие от большинства людей он рассматривал нравственные заповеди Иисуса не столько как прекрасный, но недостижимый в земной жизни идеал, сколько как руководство к действию. Этот взгляд на Евангелие стал основной особенностью его христианского мировоззрения. Вся жизнь Варфоломея-Сергия может быть понята только через Евангелие. Оно было его компасом в плавании по «многомутному морю житейскому».
В Евангелии лежат истоки глубокого человеколюбия радонежского подвижника. Отсюда же — тот могучий дух обновления, который веет в его деятельности как реформатора всего уклада духовной жизни Руси.
Говоря об истоках религиозного энтузиазма Варфоломея, вспомним и то особое христианское настроение, которым была проникнута духовная жизнь Ростова. В древней столице Залесья христианство утвердилось очень рано. Не позднее середины XI века здесь была основана епископская кафедра. Это вызвало ожесточенное сопротивление населения, которым руководили языческие жрецы — волхвы. В 1071 году ростовский епископ Леонтий был убит восставшими горожанами. Сто лет спустя он был причислен к лику святых.
Резиденция ростовского епископа находилась в самом центре города, южнее Успенского собора. С ней связана была не только чисто религиозная, но и культурная традиция. Библиотека ростовской епископии была одной из лучших на Руси. При кафедре велось летописание, работали ученые клирики, переводившие с греческого на русский язык труды отцов церкви. В Успенском соборе во время богослужения на одном клиросе хор пел по-русски, а на другом — по-гречески.
Как и подобает религиозной столице края, Ростов имел несколько монастырей. При дворе «владыки», как именовали в Древней Руси епископов, находились Иоанновский и Григорьевский монастыри. На западной окраине города в середине XIII века возник женский Княгинин монастырь. В восточной части Ростова в XIV веке существовали два монастыря — Богоявленский и Петровский.
Незримыми нитями духовного родства ростовские обители были связаны с колыбелью русского монашества — Киево-Печерским монастырем. Его воспитанниками были первые ростовские епископы Леонтий и Исайя. Описания подвигов киевских «отцов» были любимым чтением их ростовских собратьев.
Каждый из ростовских монастырей имел и свои легенды и чудеса. Одно из таких чудес произошло неподалеку от усадьбы Кирилла, на берегу речки Ишни. Известный своим благочестием ростовский монах Авраамий тщетно пытался сокрушить идола языческого бога Белеса, стоявшего на Чудском конце города. Однажды монах повстречал старца-странника и рассказал ему о своей печали. Старец открыл Авраамию, что он сумеет сокрушить идола лишь в том случае, если посетит Царьград и помолится там в храме Иоанна Богослова. Не раздумывая, монах отправился в далекий путь.
Решимость Авраамия была вознаграждена немедленно. Отойдя от Ростова всего лишь на четыре версты, монах на берегу речки Ишни повстречал «человека страшна, благоговейна образом, плешива, възлыса», с «брадою круглою великою». То был сам Иоанн Богослов. Он вручил Авраамию чудесный жезл с изображением Христа и сказал, что этой «тростию» монах сможет наконец сокрушить идола. Так оно вскоре и случилось. Белее был повержен, а на месте языческого капища Авраамий основал монастырь с храмом во имя Богоявления.
Сердцем Ростова, средоточием его религиозной и общественной жизни был Успенский собор. Старинное предание гласило, что знаменитый киевский князь Владимир Мономах, исцелившись от болезни с помощью печерских святынь, решил по-своему отблагодарить обитель. Он выстроил в Ростове собор, «всем подобием» повторивший главную церковь монастыря. Даже росписи на стенах храма князь приказал разместить в таком же порядке, как и в «божественной церкви Печерской» (7, 428).
Если бы бронзовые львиные маски на железных дверях собора могли заговорить, они рассказали бы о всех важных событиях в истории города. В соборе крестили, венчали и отпевали князей. Собираясь в дальний путь или возвратившись домой, князья с боярами и дружиной первым делом шли в собор. Здесь, у гробницы святого Леонтия, искали спасения те, кому угрожала народная расправа.
Конечно, Варфоломей не был единственным искренне верующим человеком в тогдашнем Ростове. В XIV столетии этот город дал русской церкви Епифания Премудрого и Стефана Пермского, Афанасия Высоцкого и Андроника Спасского. А сколько знаменитых в свое время имен не попало в анналы!
Но в отличие от многих других энтузиастов веры Варфоломей не только горячо молился, но и размышлял. Он всматривался в окружавший его мир, хотел понять происходящее, найти свое место среди людей. А между тем мир вокруг него, казалось, катится в какую-то бездонную яму. Люди готовы были захлебнуться от переполнявшей их ненависти друг к другу. Летописи позволяют нам увидеть лишь один из ракурсов тогдашней жизни — междукняжеские отношения. Но то, что мы видим здесь, едва ли сильно отличалось от общей картины. Это грустное предположение подтверждается одним суждением летописца. Оно датировано 1367 годом. Но нравы, как известно, очень медленно изменяются в лучшую сторону...
Сообщая об очередной княжеской усобице, летописец с горечью замечает: «Вси бо сии един род и племя Адамово, цари, и князи, и бояре, и велможи, и гости, и купцы, и ремественицы, и работнии людие... И забывшеся, друг на друга враждуют и ненавидят и грызут и кусают, отстояще от заповедей божиих, еже любити искренняго (то есть «ближнего». — Н. Б.) своего яко сам себе» (17, 8—9).
Кажется, никогда прежде усобицы русских князей не достигали такого ожесточения, как в первой четверти XIV века. Получив великое княжение Владимирское в 1304 году, племянник Александра Невского тверской князь Михаил Ярославич начал проводить крайне жесткую, «силовую» политику по отношению к соседним княжествам и землям. Причиной тому был не только излишне самонадеянный характер князя, но и постоянная нехватка средств для исполнения всех взятых на себя обязательств. В итоге Михаил пролил реки крови, безнадежно испортил отношения с Новгородом, нажил много врагов среди сородичей-князей и даже восстановил против себя главу Русской Церкви митрополита Петра. Всем этим не преминул воспользоваться главный соперник Михаила — московский князь Юрий Данилович. В 1317 году он женился в Орде на сестре хана Узбека и вернулся на Русь с отрядом татар. Михаил не захотел добровольно уступить Юрию великое княжение Владимирское и внезапной атакой разгромил его отряд. После этого оба князя отправились доказывать свою правоту в Орде. Хан Узбек признал Михаила виновным. 22 ноября 1318 года опальный князь был казнен ханскими палачами.
Получив после казни Михаила заветный ярлык на великое княжение Владимирское — а вместе с ним обширные территории, титульное старшинство среди князей, право Учета и доставки в Орду ханского серебра, собранного со всей Руси, — Юрий Московский также не сумел исполнить все то, что ожидал от него Узбек. В 1322 году хан лишил его великого княжения и передал ярлык Дмитрию Тверскому, старшему сыну казненного в Орде Михаила. Новый глава Северо-Восточной Руси носил красноречивое прозвище: по одним источникам — «Грозные Очи», по другим — «Звериные Очи».
Торжество тверского князя было не долгим. Юрий Московский при помощи новгородцев собрал необходимые средства и осенью 1324 года явился в Орду. Несомненно, он надеялся оправдаться перед ханом и вновь получить заветный владимирский стол. Узнав об этом, в Орду примчался и Дмитрий Тверской. Надеясь на милость хана, он убил Юрия. Обстоятельства убийства остаются неясными. Однако из летописей можно понять, что Дмитрий сделал это собственноручно.
Совершенный Дмитрием самосуд был как бы покушением на верховную власть хана судить и казнить русских князей. Поэтому Узбек после долгих раздумий решил примерно наказать виновного. Через несколько месяцев Дмитрий был казнен ханскими палачами. И, словно в утешение его тени, хан принял решение передать великое княжение Владимирское другому представителю тверского княжеского дома — Александру Михайловичу, брату Дмитрия.
Однако правление Александра оборвала вспышка праведного гнева тверичей, вызванная произволом ордынских послов. 15 августа 1327 года восставшие горожане истребили всех находившихся в городе татар. А уже через три-четыре месяца на тверскую землю обрушилась посланная ханом 50-тысячная «рать», которую русские летописцы назвали по имени ее предводителя — «Федорчуковой». Вместе с татарами шли на Тверь московский князь Иван Данилович и суздальский князь Александр Тверской Васильевич. Перед лицом грозной опасности князь Александр Тверской бежал из города.
За лаконичным сообщением летописца скрывается трагедия тысяч и тысяч русских людей. «Toe же зимы... бысть тогда великая рать татарская, Федорчюк, Туралык, Сюга, 5 темников воевод, а с ними князь Иван Данилович Московский, по повелению цареву, и шед ратью, плениша Тверь и Кашин и прочия городы и волости, и села, и все княжение тверское взяша и пусто сътвориша, и бысть тогда земли великая тягость и много томлениа, множества ради грех наших, кровь хрестианская проливаема бываше от поганых татар, овых в полон поведоша, а другиа мечи изсекоша, а иныа стрелами истреляше и всяким оружием погубиша и смерти предаша, а князь Александр побежал с Твери во Псков» (20, 90).
Вновь зло торжествовало над добром, право людей на свободу попиралось насилием. Кто не повторял тогда в разоренной татарами тверской земле и иных пострадавших от «федорчуковой рати» землях: «Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви Себя! Восстань, Судия земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут?» (Псалтирь, 93, 1—3).
Многолетняя борьба Москвы с Тверью оставила глубокий след в истории Ростова. Обе враждующие стороны искали поддержки ростовской знати. Не случайно именно здесь, в Ростове, нашли себе жен оба тогдашних великих князя — Михаил Тверской и Юрий Московский. Первый в 1294 году взял себе в жены княжну Анну, дочь ростовского князя Дмитрия Борисовича. Второй был с 1297 года женат на неизвестной по имени дочери ростовского князя Константина Борисовича (114, 13). (Понятно, что оба брака устраивали не сами женихи, а их дальновидные родители — отец Юрия московский князь Даниил и рано овдовевшая мать Михаила тверская княгиня Ксения.) В условиях, когда и оба тестя, и оба зятя были лютыми врагами, среди ростовской аристократии неизбежно должна была возникнуть как «московская», так и «тверская» партия. И все же москвичам лучше удалось подружиться с ростовцами. Юрий Московский часто бывал в Ростове и имел здесь полученные в приданое вотчины (114, 15). Великий князь Михаил Тверской, по-видимому, умышленно наводил татар на ростовские владения Юрия. Тот, получив владимирский стол в 1318 году, не замедлил ответить тем же. В 1322 году брат и верный союзник Юрия князь Иван Данилович Калита с отрядом татарского «посла» Ахмыла приходил к Ростову. Однако до очередного погрома дело по каким-то причинам не дошло. Много лет спустя, когда подлинные обстоятельства события уже давно забылись, среди живших в Ростове татар возникла легенда о том, что меч Ахмыла отвели именно их предки (11, 34).
Сыновья Михаила Тверского Дмитрий и Александр, несомненно, потеснили москвичей в Ростове. Падение могущества Твери в результате событий 1327—1328 годов радикально изменило расклад сил. Иван Калита получил возможность «восстановить справедливость». Летом 1328 года хан дал ему в управление половину великого княжения Владимирского — Новгород и Кострому. В его «зоне ответственности» оказался и Ростов. Как великий князь, Иван должен был востребовать с ростовцев недоимки по ордынской дани; как старший представитель московского княжеского дома, он мог претендовать в Ростовской земле на некоторые села — приданое своей уже умершей к этому времени племянницы Софьи (дочери Юрия Даниловича) (114, 16); как душеприказчик митрополита Петра (ум. 21.X1I.1326), доброхот ростовского владыки Прохора (ум. 7.IX.1328) и ревностный христианин Калита должен был позаботиться о сохранности имущества ростовской кафедры в условиях временного отсутствия духовного начальства.
Не упуская из виду ростовских проблем, Калита, однако, не имел времени заняться ими лично. Летом и осенью 1328 года он был в Орде, а зимой 1328/29 года по приказу хана Узбека занимался подготовкой и проведением карательного похода на Псков. В этих условиях князь решил поручить ростовские дела своим боярам Василию Кочева и Мине. Во главе сильного отряда они явились в Ростов. Одну из своих задач — сбор денег — московские воеводы решали просто. Должников били и всячески мучили до тех пор, пока не получали платежей. Среди прочих и «епарха градскаго, старей-шаго болярина ростовьскаго, именем Аверкиа, стремглав обесиша (подвесили. — Н. Б.), и възложиша на ня руце свои, и оставиша поругана» (126, 304[К.В.4]).
Желая укрепить династические (а значит, и политические) связи с Ростовом, Иван Калита в 1328 году выдал дочь Марию замуж за одного из двух правивших тогда в Ростовской земле князей — Константина Васильевича. На случай измены Константина Иван несколькими годами позже вывез в Москву и держал при себе его племянника, малолетнего Андрея.
Не довольствуясь этим, московский князь добился того, что и так уже небольшое Ростовское княжество было разделено на Сретенскую и Борисоглебскую «половины». В каждой из «половин» был свой князь. Впрочем, уже в 1331 году Иван Данилович, воспользовавшись кончиной правителя Сретенской «половины» князя Федора Васильевича, включил его владения в состав великого княжения Владимирского.
После экзекуции, устроенной в Ростове московскими воеводами, некоторые ростовские жители, в том числе и боярин Кирилл, были переселены в глухие, необжитые уголки Московского княжества. По-видимому, это не был акт чистого произвола, результат военного разгрома Ростова. Иван Калита уплатил в Орде долги ростовчан и теперь мог поступать с ними по своему усмотрению. Ведь по законам того времени неисправный должник попадал в полную личную зависимость от своего кредитора.
В те времена основной ценностью было не золото, серебро и иная «движимость», а прежде всего земля и люди, способные заставить ее приносить плоды. Главная причина успехов московских князей, их конечного торжества над всеми соперниками заключалась в том, что они, как никто другой, умели «собирать людей», пользуясь для этого самыми различными методами.
Переселенцам поневоле поначалу приходилось очень тяжело. Но расчет московских князей был прост и безошибочен. Каждый должен заботиться о хлебе насущном для себя и детей. Жизнь всегда возьмет свое. На новом месте, начав с шалашей и землянок, переселенцы постепенно отстраивались, обзаводились хозяйством. Их потомки забывали о том, как попали сюда их отцы и деды. Они верой и правдой служили Москве, готовы были положить жизни за ее дело.
Отец Варфоломея боярин Кирилл вместе с несколькими другими именитыми земляками был отправлен в небольшое село Радонежское, затерянное среди лесов северо-восточной окраины Московского княжества[К.В.5]. Жизнь в Радонежском, или попросту — Радонеже, была не та, что в Ростове. Иной была уже сама природа. Вместо раздольных ростовских равнин перед глазами повсюду вставала стена темного леса.
В этой части Подмосковья ландшафт отличается каким-то тревожным, порывистым характером. Глубокие овраги чередуются здесь с крутыми, поросшими ельником холмами. По дну оврагов вьются торопливые речки с загадочными мерянскими именами — Воря, Пажа, Кончура, Молокша, Шерна.
Радонеж располагался на высоком обрывистом берегу Пажи, в ее крутой излучине. Через село проходила торная дорога из Москвы в Переяславль-Залесский. (До XVI столетия этот город называли Переяславлъ, а не Переславль, как сейчас.) Для размещения на ночлег проходивших по дороге обозов и войск на окраине села был устроен острог. За его приземистыми стенами виднелись стройные очертания деревянной церкви Рождества Христова.
Древний Радонеж существует и доныне. Большая дорога (Ярославское шоссе) давно изменила свой маршрут и теперь проходит в двух километрах южнее. В селе царят тишина и покой. В конце единственной улицы белеет каменная церковь — скромный образец провинциального классицизма. Кольцо валов старинной крепости хранит в себе лишь заросшее бузиной сельское кладбище...
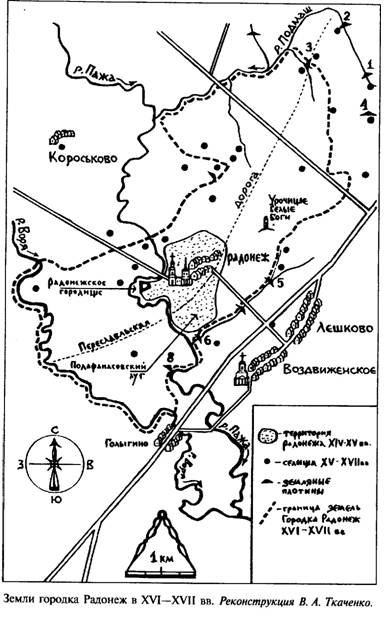
Повседневная жизнь ростовских переселенцев в Радонеже была полна труда и забот. С рук их не сходили мозоли от топора и лопаты. Сами распахивали пашню, сеяли и жали, выходили на сенокос. Каждый клочок земли приходилось отвоевывать у леса, обильно поливать потом.
Дополнительным источником существования для переселенцев было бортничество — сбор меда диких пчел. «Радонежские бортники» упоминаются в документах той эпохи. Занятие это требовало ловкости, смекалки и отваги. Бортник должен был свободно чувствовать себя в лесу, понимать жизнь его обитателей. Не в этом ли древнем промысле у Варфоломея выработалось умение жить в лесу — навык, без которого он никогда не смог бы стать пустынником?
По-разному складывались судьбы ростовских переселенцев в московской земле. Одни, недолго думая, ехали искать счастья в Москву, другие норовили уйти в иные края, третьи оставались там, куда забросила их судьба.
Перед мучительным вопросом, что делать дальше, оказался и Кирилл. О себе он беспокоился меньше всего. Жизнь клонилась к закату. Годы тревог, невзгод и унижений тяжким бременем лежали на ссутулившихся плечах. Кирилл уже присмотрел для себя и жены место вечного успокоения в стенах небольшого монастыря в соседнем селе Хотькове.
Но что ждет его сыновей? Как помочь им встать на ноги, занять достойное место под солнцем? Кирилл мог поехать в Москву, похлопотать за них у своих влиятельных земляков, еще несколько десятилетий назад добровольно перебравшихся на сытые московские хлеба. Что говорить, ведь даже сам московский тысяцкий Протасий Вельяминов, второй человек в городе после князя, был выходцем из Ростова. Тысяцкий не оставил бы без внимания попавших в беду земляков.
Однако едва ли Кирилл ходил в Москву, к Протасию. Мог ли старый ростовский боярин поступиться своими представлениями о добре и зле, о чести и бесчестии? Мог ли послать сыновей служить тому, кто принес им столько горя и унижений?
Должно быть, приходила Кириллу и иная мысль: а не сняться ли тайком из Радонежа и отъехать всей семьей в тверские или новгородские земли? Но кому они нужны там, обнищавшие, растерявшие в тяжелые годы всю свою дворню, все добро?
Так шли дни, месяцы, годы... Сыновья Кирилла из отроков превратились в статных юношей. Все трое были разными, непохожими один на другого. Старший, Стефан, рос вспыльчивым, горячим, готовым очертя голову броситься в любую крайность. Средний, Варфоломей, напротив, был всегда спокоен, сдержан, приветлив. В нем уже явно ощущалась какая-то особая внутренняя сила. Младший, Петр, был прост, деловит и домовит.

Каждый из братьев по-своему переживал разлуку с родным Ростовом, унижение радонежской ссылки. Но пока был жив отец, ни один из них ни словом, ни вздохом не упрекнул его за гордость, лишавшую их надежды на лучшую долю.
В Радонеже Стефан и Петр обзавелись семьями, зажили своим домом. Старость Кирилла и Марии скрашивала возня с внучатами.
Впрочем, семейное счастье Стефану было не суждено: после смерти жены он впал в отчаяние и затворился в стенах монастыря. Два малолетних сына, Климент и Иван, остались на попечении сородичей.
Событие это, конечно, произвело сильное впечатление на Варфоломея. И так же как бедствия и разорение отца убеждали его в призрачности земного благополучия, так и преждевременная смерть жены Стефана наглядно показала мимолетность земного счастья.
Давно пришла пора женитьбы и для Варфоломея. По обычаям того времени брачный возраст у юношей наступал после 16, а у девушек после 14 лет. Однако, несмотря на уговоры родителей, Варфоломей не думал о женитьбе. Однажды он объявил родителям, что собирается уйти в монастырь. Узнав об этом, отец наотрез отказался благословить его. После ухода в монастырь старшего сына, Стефана, Кирилл возлагал на Варфоломея свои надежды о продолжении их рода, возрождении его былой славы. Он видел среднего сына победоносным воином, главой и опорой всего племени Кирилловичей.
Церковные кановы запрещали родителям удерживать детей, пожелавших посвятить себя служению Богу. Жития святых были полны рассказами о том, как будущий подвижник бежал из дома вопреки воле родителей. Именно так поступил некогда и один из основателей русского монашества Феодосии Печерский, чей образ неизменно служил Варфоломею примером для подражания. Однако сам он слишком любил своих родителей, чтобы нанести им такой удар. Оставшись в отчем доме, он терпеливо сносил насмешки соседей и ждал, когда сам Всевышний укажет ему путь.
Согласно Житию Сергия Кирилл и Мария за несколько лет до кончины приняли монашеский постриг. Возможно, это известие Жития не более чем дань агиографическому канону. Родители святых обычно оканчивали жизнь в монастыре.
Как бы там ни было, ясно одно: до самой кончины Кирилл не благословил сына на пострижение. Но и тот не оставлял ни на минуту своей заветной мысли.
Родители Варфоломея скончались почти одновременно. Их похоронили рядом, у стен Покровской церкви Хотьковского монастыря. По обычаям того времени сыновья почтили память умерших панихидами, раздачей милостыни и обедами для нищих.
По окончании сорокадневного траура Варфоломей приступил к исполнению своего давнего желания. Доставшуюся ему долю отцовского наследства он отдал младшему брату, Петру, и «радуяся душею... яко некое сокровище многоценное приобрете», вступил на избранный им путь (9, 292).
Итак, 23-летний Варфоломей из Радонежа решил уйти из общества людей. Это не был жест отчаяния, безысходности. Перед ним открыты были и другие жизненные пути, привычные, проторенные и далеко не столь тернистые, как тот, на который вступил он. Но Варфоломей не захотел «жить как все» или, иначе говоря, плыть по течению. Он сделал свой выбор.
Насколько мы знаем Варфоломея, это был первый в его жизни самостоятельный поступок. И поступок этот был основан на свободном выборе — свободном от поисков личного благополучия, от корысти и страха, словом, от всех тех прозаических и довольно низменных мотивов, которые обычно и определяют выбор поступка.
Здесь, в этом решении, Варфоломей предстает перед нами как человек, сделавший первый шаг по пути самоотречения, а значит, и по пути к внутренней свободе.
Способность к свободному выбору стала как бы ключом, с помощью которого он отворил дверь в страну, куда давно стремилась его душа, — в царство духовной свободы.
Людям во все времена было свойственно стремление к свободе. Оно является одной из основ человеческого сознания. Лишившись «внешней» свободы и ощутив на своей гордой вые двойной — московский и ханский — произвол, ростовские аристократы должны были либо смириться с ним, внутренне «сломаться», либо отправиться на поиски утраченной свободы туда, где степень свободы не зависит от степени давления внешней силы, — в область духа. Именно этот, второй путь избрал Варфоломей.
И постепенно в его переполненном евангельскими образами сознании укрепилась мысль, ставшая со временем одной из основ «сергиевского» взгляда на жизнь. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», — говорил Иисус (Матфей, 5,3). Но «нищета духом» — это не только смирение, сознание своей греховности. «Нищие духом» — и те, кто обнищал, стал бедняком «не по какой другой причине, но по учению Господа, сказавшего: «Пойди, продай имение твое и раздай нищим» (Матфей, 19, 21) (38, 312). Только добровольная бедность может спасти человека от произвола и унижения. Именно богатство, имущество делают его рабом силы, ибо все это можно отнять силой. Расставшись с богатством, человек обретет свободу и покой. Источник слез — бедность — станет для него источником радости, ибо, избавившись от постоянной заботы о сохранении и приумножении имущества, человек сможет все время посвятить Богу.
Став слугою Всевышнего, «нищий духом» перестает быть слугой «человеков». Никакая земная сила уже не имеет власти над ним. Он становится истинно великим и свободным. Сам Спаситель в земной жизни превыше всего ценил «нищету духом». Она — труднейший из его заветов. Добровольной бедностью человек открывает себе дорогу ко Христу. «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лука, 14, 33).
Люди боятся впасть в бедность, так как она несет с собой тяготы и лишения. Но такова бедность лишь для того, кто имеет или жаждет иметь богатство. Если же взглянуть на нее иначе, через Евангелие, она явится совсем в ином свете. Иисус не только требовал «нищеты духом» от учеников, но и сам не имел никакого имущества. А что может принести христианину большую радость и наслаждение, чем следование Христу, духовное соединение с ним?
Так или примерно так рассуждал юный Варфоломей, не зная о том, что за сто лет перед тем такие же идеи положил в основу своей жизни и проповеди великий реформатор западноевропейского монашества Франциск Ассизский. Подлинный поэт бедности, он называл ее «евангельской жемчужиной», связывал с ней свои надежды на спасение человечества. Бедность, — говорил Франциск, — «это та добродетель небесная, которая все земное и преходящее повергает во прах и которая освобождает душу от всякого препятствия и дает ей свободно соединиться с Богом Вечным» (27, 43).
И может быть, подобно Франциску, однажды, в минуту озарения, он услышал слова Иисуса так, словно они были обращены лично к нему, Варфоломею из Радонежа: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Матфей, 19, 21).
С тех пор эти слова не давали ему покоя. Они звучали в его сознании словно колокол. Слышать этот призыв и не иметь возможности тотчас отозваться на него было поистине мучительно для Варфоломея.
В тот день, когда мысль о «незримом сокровище святейшей бедности» впервые посетила Варфоломея, он незаметно для себя сделал шаг по пути, который со временем привел его на Маковец.
Нестяжание как норма поведения, даже не став еще монашеским обетом, неизбежно влечет за собой отказ от семейной жизни. Только в одиночестве можно быть бедным и не унижать своей нищетой ближних. А главное, только в одиночестве возможно подлинное служение Богу. «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене», — говорит апостол Павел (1Кор, 7, 32—33). И потому Варфоломей решительно отказывался вступить в брак.
В своих размышлениях о свободе, равно как и в выводах, Варфоломей был далеко не одинок. О том же и так же думали тогда многие, ибо именно этот вопрос ставила во главу угла эпоха. Еще не имея сил для возвращения «внешней свободы» — независимости, народ не смирился, не окаменел в равнодушной покорности. Люди наиболее чуткие устремились на поиски иной, «внутренней свободы» туда, где ее можно было обрести, — к Иисусу, к полному самоотречению аскезы. Именно поэтому период монголо-татарского ига стал «золотым веком» русской святости, эпохой, когда зажглось столько ярких имен на небосклоне Русской Церкви.
«Чем больше человек удовлетворен здешним, тем меньше он ощущает влечение к запредельному. Вот почему для пробуждения бывают нужны те страдания и бедствия, которые разрушают иллюзию достигнутого смысла. Благополучие всего чаще приводит к грубому житейскому материализму. Наоборот, духовный и в особенности религиозный подъем обыкновенно зарождается среди тяжких испытаний», — писал русский религиозный мыслитель Е. Н. Трубецкой (103, 80).
В этом рассуждении содержится мысль, очень важная для правильного понимания всей жизни радонежского подвижника. Действительно, расцвет монашества в XIV веке был одной из форм проявления того духовного подъема, который наметился уже в эпоху Калиты и в полной мере проявился в последней четверти столетия. Об этом же говорил и В. О. Ключевский в своей речи, посвященной памяти Сергия Радонежского: «...Древнерусское монашество было точным показателем нравственного состояния своего мирского общества: стремление покидать мир усиливалось не оттого, что в миру скоплялись бедствия, а по мере того, как в нем возвышались нравственные силы. Это значит, что русское монашество было отречением от мира во имя идеалов, ему непосильных, а не отрицанием мира во имя начал, ему враждебных» (71, 205).
Отшельники, бежавшие от «мира» в глухие леса, были, сами того не сознавая, хранителями духовного огня, искры которого со временем воспламенили всю Северо-Восточную Русь.
Решение Варфоломея уйти в лесную пустыню не было бегством от мира. Это был шаг к утраченной свободе. Направление этого шага определилось как складом характера Варфоломея, так и целой чередой внешних обстоятельств его детства и отрочества. В вере он обрел свободу от унизительного страха смерти, в отшельнической бедности виделась ему свобода от произвола ордынской и московской власти.
Я научился быть довольным тем, что у меня есть.
Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем,
насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке.
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
Послание к филиппинцам апостола Павла, 4, И—13.
Покинув отчий дом, отрекшись от наследства, Варфоломей отправился навстречу своей мечте о внутренней свободе, о сокровище духа, которое «ни моль, ни ржа не истребляют» (Матфей, 6, 20).
Сын своего времени, он нашел осуществление этой мечты на поприще монашества. Однако путь, которым Варфоломей пришел к «ангельскому чину», был весьма необычен. Сильная и цельная натура Варфоломея во всем стремилась к идеалу. Возможно, и здесь сыграла свою роль «порода», боярское происхождение. В этом общественном слое обеспеченность жизни позволяла подняться над повседневной отупляющей борьбой за существование, за «хлеб насущный» и устремиться на поиски высших духовных ценностей. Случайно ли, что почти все знаменитые русские монахи-подвижники были выходцами из аристократии?
Для человека Средневековья громадную роль в любом деле играла преемственность. Он не мыслил себя вне той или иной традиции, или, как тогда говорили, «старины», «пошлины». И здесь Варфоломей не был, да и не мог быть исключением из правила. Но при этом он неизменно выбирал самое живое, самое главное в той традиции, которую он принимал. И если христианство он стремился черпать из первоисточника — Евангелия, то в своих размышлениях об иночестве он обратился к образам основателей русского монашества Антония и Феодосия Печерских. Их жизнь и подвиги были известны ему из Киево-Печерского патерика и житий обоих преподобных. С этими популярными произведениями древнерусской литературы Варфоломей познакомился, вероятно, еще в Ростове — городе, где киевская культурная и религиозная традиция ощущалась сильнее, чем в каком-либо другом центре Северо-Восточной Руси.
Вчитываясь в эти произведения, Варфоломей все лучше узнавал своих любимых героев, начинал подражать их манере поведения. Разумеется, он не стремился копировать биографию Антония или Феодосия. Но, всматриваясь в их образы, он понемногу усваивал и их отношение к миру, их принципы общения с Богом и людьми.
Антоний и Феодосии были мало похожи друг на друга по складу характера. Первый был преимущественно мистик, аскет. Проникшись энтузиазмом древних отцов-пустынников, он возлюбил одиночество, полную отрешенность от «мира» во имя приближения к Богу. Феодосии, при всем его религиозном горении, был практичен и деловит, умел жить среди людей и подчинять их своему влиянию. В разные периоды жизни Варфоломея-Сергия на первый план выступало то «антониевское», то «феодосиевское» начало. Он словно соединил в себе особенности этих двух характеров.
Отличительной чертой личности Антония, как она представлена в Киево-Печерском патерике, была постоянная обеспокоенность недостижимостью идеала. Он то уходил на Афон — горную «столицу» византийского монашества, то возвращался на Русь, то вновь покидал отечество, потрясенный очередным злодеянием князей. В основанном им киевском пещерном («печерском») монастыре он возглавил небольшую общину подвижников. Но едва лишь жизнь их наладилась, как Антоний вновь, отказавшись от всего, уединился в отдаленной пещере.
Этот дух постоянной неудовлетворенности, стремление найти свой собственный путь к Богу были присущи и Варфоломею. Его путь к монашеству и в монашестве отмечен многими оригинальными чертами. Необычным было и самое начало этого пути.
Покинув Радонеж, Варфоломей направился в соседний Покровский Хотьковский монастырь. Там были погребены его отец и мать, там жил старший брат Стефан. Житие кратко сообщает, что, придя в Хотьково, Варфоломей «моляше Стефана, дабы шел с ним на взыскание места пустыннаго» (9, 294). Вскоре оба они покинули Хотьково.
Почему Варфоломей не захотел последовать примеру брата и принять монашеский постриг в Покровском монастыре? Вероятно, прежде всего потому, что мечта о свободе от всех форм зависимости, жажда прямого общения с Богом требовали полного устранения от «мира». Кроме того, Хотьковский монастырь, по-видимому, был не из тех, где стремились к «высокому житию».
Здесь уместно будет привести одно рассуждение В. О. Ключевского. Оно позволит лучше понять отношение Варфоломея к тогдашнему русскому монашеству. «В Древней Руси различали три вида иноческой жизни: общежитие, житие особное и отходное. Общежительный монастырь — это монашеская община с нераздельным имуществом и общим хозяйством, с одинаковой для всех пищей и одеждой, с распределением монастырских работ между всей братией; ничего не считать своим, но все иметь общее — главное начало общежития. Отходному житию посвящали себя люди, стремившиеся жить в полном пустынном уединении, пощении и молчании; оно считалось высшей ступенью иночества, доступной лишь тем, кто достигал иноческого совершенства в школе общего жития. Особное житие вообще предшествовало монастырскому общежитию и было подготовительной к нему ступенью. Оно было очень распространено в Древней Руси как простейший вид иночества и принимало различные формы. Иногда люди, отрекавшиеся или помышлявшие отречься от мира, строили себе кельи у приходского храма, заводили даже игумена как духовного руководителя, но жили отдельными хозяйствами и без определенного устава. Такой монастырь-«особняк» составлял не братство, а товарищество, объединявшееся соседством, общим храмом, иногда и общим духовником» (72, 245).
Именно таким «особняком», по-видимому, и был Хотьковский монастырь. Возникший в 1308 году для удовлетворения духовных нужд местного населения, он относился к числу «мирских монастырей». Приведем еще одно необходимое в данном случае разъяснение Ключевского. «Братия, которую строители набирали в такие мирские монастыри для церковной службы, имела значение наемных богомольцев и получала «служеное» жалованье из монастырской казны, а для вкладчиков монастырь служил богадельней, в которой они своими вкладами покупали право на пожизненное «прекормление и покой». Люди, искавшие под старость в мирском монастыре покоя от мирских забот, не могли исполнять строгих, деятельных правил иноческого устава. Когда в одном таком монастыре попытались ввести подобные правила, иноки с плачем заявили строителю, что новые требования им не под силу; эта братия, как объяснил дело сам строитель, — поселяне и старики, непривычные к порядку жизни настоящих иноков, состарившиеся в простых обычаях» (72, 243).
Все это, конечно, было неприемлемо для Варфоломея с его высокими представлениями об иночестве.
В поисках подходящего места для поселения братья исходили десятки верст по лесным дебрям. Наконец они нашли то, что искали: большой, поросший лесом холм, у подножия которого тек ручей. Ни на самом холме, ни в окрестностях не было никакого жилья.
Кто из братьев облюбовал этот плавно возносящийся к вершине холм, словно самой природой приготовленный к тому, чтобы стать основанием для красивейшего из архитектурных созданий России? Кто из них, первым выйдя из леса на береговой склон, увидел даль, простор, замер на миг, потом вздохнул облегченно, перекрестился и сказал: «здесь!»? Хочется думать, что это был Варфоломей. Однако Стефану, как старшему и наставнику, принадлежало решающее слово...
И вот уже Кирилловичи, засучив рукава, рубят лес, очищают бревна, складывают сруб приземистой избушки.
Рядом с избушкой, или по-монашески «кельей», вскоре выросла небольшая часовня. В отличие от церкви часовня не имела престола, и потому в ней нельзя было служить литургию. Она предназначалась для чтения «часов» — псалмов и молитв, приуроченных к определенным часам дня. Часовню мог строить всякий желающий: для этого не требовалось разрешение епископа, как при постройке церкви.
Часовня вполне годилась для удовлетворения духовных нужд маковецких отшельников. Она служила им своего рода «молитвенной кельей».
Внешний вид и убранство маковецкой часовни можно представить по аналогии. В Кирилло-Белозерском монастыре до наших дней сохранилась деревянная часовня, построенная на месте будущей обители ее основателем Кириллом Белозерским в 1397 году. Часовня эта, даже если признать ее поздней копией с несохранившегося оригинала, своим обликом хорошо передает самый дух отшельничества. Приземистая бревенчатая клеть без окон, с маленькой дверью над высоким порогом покрыта плоской четырехскатной крышей. Внутри часовни царит полумрак. Все ее убранство состоит из большого рубленого креста прямо перед входом.
Неизвестно, сколько времени братья прожили вместе на Маковце. Вероятно, не более чем год-полтора. Однако ясно другое: все это время Варфоломей был «под началом» у брата. Именно это обстоятельство имел в виду Стефан, когда через несколько лет, вернувшись на Маковец, стал требовать от монахов Троицкого монастыря повиновения себе, восклицая: «Кто есть игумен на месте сем: не аз ли прежде седох на месте сем?» (9, 370).
Уход Стефана в Москву Житие Сергия рисует как бегство перед трудностями пустынной жизни. Вероятно, в этом только малая часть правды. Главное же заключалось в том, что Стефан искал возможности учить, находясь среди людей. Отшельническое житие на Маковце было для него не конечной целью, а лишь ступенью на пути укрепления духа. После Маковца он пришел в Москву не как безвестный монах из мирского Хотьковского монастыря, а как отшельник, закаливший дух в борьбе с демонами пустыни. Таков был путь самого Иисуса: после сорокадневного искушения дьяволом в пустыне он вернулся к людям «в силе духа» (Лука, 4, 14).
Если признать, что братья пришли на Маковец в 1337 году, то уход Стефана следует отнести к 1338—1339 годам. С этого времени началось одинокое подвижничество Варфоломея.
«Молчание — стихия, в которой формируются великие вещи», — говорил Карлейль. После ухода Стефана Варфоломей с головой погрузился в эту невидимую стихию. Его окружило таинственное безмолвие природы. Оно очищало душу от шелухи повседневности, возносило ее к небесам. Перед мысленным взором юноши вставали образы Иисуса и «ангела пустыни» Иоанна Предтечи. Окутанный тишиной уснувшего леса, он учился ходить по стопам великих учителей человечества...
В первые годы на Маковце Варфоломей познал не только сладость, но и горечь одиночества. Автор Жития, знавший цену подлинного пустынножительства, говорит о его трудностях точно и выразительно — «житие скорбно, житие жестко, отовсюду теснота, отовсюду недостатки... Что помяни — того несть» (9, 296, 306). Но и в этой неустроенности обихода Варфоломей находил радость сопричастности великому: ведь и Сын Человеческий не имел «где приклонить голову» (Лука, 9, 58).
Изведал ли он страх одинокой кончины среди молчаливого леса? Хотелось ли ему услышать человеческий голос, увидеть лица людей? Можно с уверенностью сказать лишь одно: как и всякий человек, он нуждался в понимании и поддержке, дружеском участии и сострадании. «Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его» (Екклесиаст, 4, 9—10).
Одиночество таило в себе и духовную опасность, о которой предупреждали еще отцы церкви. Удалившись от всякого общения, пустынник, исполняя заповедь любви к Богу, был лишен возможности исполнить вторую — любви к ближнему. «В чем покажет смиренномудрие (отшельник. — Н. Б.), не имея человека, пред которым бы мог доказать, что смиреннее его? В чем покажет сердоболие, будучи отделен от общения со многими? Как будет упражнять себя в долготерпении, когда нет противящегося его мнениям? Если кто скажет, что в усовершении нравов довольствуется он изучением Божественных Писаний, то поступит он подобно тому, кто учится строить и никогда не строит, обучился искусству ковать, но не хочет приложить уроков к делу» (38, 118).
Знал ли Варфоломей это суждение Василия Кесарийского? Вполне возможно, что знал. Во всяком случае, он не мог избежать высказанных Василием мыслей. Будучи последователен в своем стремлении к новому миру, открытому в Евангелии, Варфоломей, подобно брату, рано или поздно должен был ощутить потребность в общении с людьми...
Первая зима в лесу, вероятно, была для Варфоломея самой трудной. Туго было с припасами. Где-то неподалеку, в овраге, по ночам выли голодные волки. Тускло краснели подернутые пеплом уголья остывающего очага. В мерцающем свете лучины по стенам качались и вздрагивали черные тени.
Варфоломей осенял крестом темные углы избушки, подбрасывал в очаг веток, затягивал любимый отшельниками 30-й псалом: «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей избавь меня; приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня, ибо Ты каменная гора моя и ограда моя»...
В рассказе об «искушениях» и «страхованиях» Варфоломея можно заметить примечательные особенности не столько литературного, сколько, по-видимому, исторического происхождения. Они отразили реальные черты личности отшельника. Прежде всего это сдержанность воображения по части описания «нечистой силы». Бесы являлись ему «в одежах и в шапках литовьскых островръхых» (9, 308), то есть в обличии людей, а не кошмарных страшилищ или хвостатых «муринов» — чертей. Агиограф умалчивает и о том, как выглядел сам дьявол. Можно думать, что Варфоломей не столько «видел» его, сколько ощущал незримое присутствие.
В этом «сдержанном» характере видений проявились коренные черты личности Варфоломея: его «природное спокойствие, не-надломленность, не-экстатичность». Действительно, «в нем решительно ничего нет болезненного» (59, 23). Это человек, твердо и спокойно идущий по избранному им пути к свободе.
Другая особенность «искушений» Варфоломея — полное отсутствие в них того, что так тревожило древних египетских отшельников, — «женского соблазна». Примечательно, что в Житии Сергия — за исключением бледного образа матери и ослепительно-нездешнего лика Богородицы — вообще нет женских образов. И в этом — тот же «север духа», столь тонко подмеченный Б. Зайцевым (59, 46)...
Зима многому научила его не только в духовном, но и в земном «делании». К новой зиме он готовился куда более основательно. Близ кельи, на солнечной стороне, Варфоломей устроил небольшой огород, набрал в лесу и насушил пучки целебных трав, заготовил в избытке дров.
Единственными друзьями отшельника были звери и птицы. Больше года к нему каждый день приходил медведь, требовавший привычной «дани» — краюхи хлеба, которую Варфоломей оставлял ему на пне. Когда же ему нечего было дать зверю, тот не уходил и долго стоял, «възираа семо и овамо, ожидаа, акы некый злый длъжник, хотя въсприати длъг свой» (9, 312).
Маковецкий отшельник встречался с людьми главным образом для того, чтобы, как всякий христианин, исповедаться и приобщиться Святых Тайн. Обычно эти обряды приурочивали к Страстной неделе — последней неделе перед Пасхой.
Вероятно, духовником (исповедником) Варфоломея был тот самый иеромонах (то есть монах, имеющий сан священника) по имени Митрофан, который позднее постриг его в «ангельский чин». Он жил где-то неподалеку от Маковца и имел возможность время от времени посещать своего духовного сына.
Судьба Варфоломея постоянно переплеталась с судьбой его брата Стефана. Каждый из них без участия другого едва ли стал бы тем, кем он стал. Столь разные по характеру, они дополняли друг друга, как Петр и Павел. Оба они ощущали в себе нечто апостольское. Но если Стефан верил в то, что спасение людей есть дело Церкви и Власти, то брат его, не слишком доверяясь коварной мудрости организаций, привык все взвешивать на весах Евангелия.
Стефан любил Варфоломея и доверял настолько, что позднее отдал ему на воспитание своего сына Ивана, пожелавшего вступить на путь монашества. И все же разница во взглядах на мир многие годы спустя привела Стефана к острому конфликту с братом из-за первенства в Троицком монастыре. Тот, кто верит в организации, неизбежно и себя видит не иначе как внутри их, на той или иной ступени иерархии — этой поистине «души» всякой организации. Такое иерархическое видение мира с неизбежностью порождает низменное честолюбие: стремление утвердить себя в рамках организации, занять ступень повыше. Жертвой этой нравственной болезни и суждено было стать Стефану.
Варфоломей всем своим поведением и образом жизни отрицал иерархию. Он видел всех людей равными перед Иисусом. В бесконечном ряду стоящих перед лицом Спасителя каждый был одновременно и первым и последним. Этот взгляд на мир стал корнем его глубокого смирения и в то же время — его неизменного спокойного достоинства. Он был абсолютно чужд честолюбия и властолюбия, равно как и преклонения перед власть имущими.
Однако тогда, в начале пути, единомыслие братьев ничем не нарушалось. Уход Стефана с Маковца Варфоломей отнюдь не воспринял как предательство или же просто малодушие. Вероятно, он успокоил себя простым объяснением: Стефан последовал своему призванию, о котором доподлинно знает один лишь Господь.
Придя в Москву, Стефан, вероятно, обратился за помощью к боярину Протасию Вельяминову, выходцу из Ростова. Старый тысяцкий не отказал в покровительстве земляку. Стефан получил разрешение поселиться в московском Богоявленском монастыре, ктиторами которого были Вельяминовы.
В монастыре Стефан познакомился с Алексеем. Это был рослый, молчаливый «старец». На вид ему можно было дать лет около 40. Среди других монахов он выделялся обширными знаниями. Алексей мог цитировать на память целые страницы из творений отцов церкви, писал и читал по-гречески.
Все знали, что крестным отцом Алексея был сам Иван Калита, тогда еще совсем юный княжич, четвертый сын князя Даниила Московского. Такая честь была не случайной. Отец Алексея, Федор Бяконт, был одним из знатнейших московских бояр. В отсутствие князя он не раз отправлял должность наместника. Предки Федора жили в черниговской земле, откуда сам он выехал в Москву «со своим двором» во второй половине XIII века.
Вскоре Алексей заинтересовался новичком. Постепенно между ними установилась особая близость. Известно, что они вместе пели на клиросе, подолгу беседовали. Будущее обоих иноков позволяет догадываться о содержании их бесед. Помимо «небесных» тем, они обсуждали и дела земные, пытались приоткрыть завесу, отделяющую настоящее от будущего.
Оба они видели путь к возрождению страны в оцерковлении Власти, в соединении могущества митрополичьей кафедры и монастырей с могуществом московских великих князей.
Несомненно, Алексей, как более опытный и осведомленный, посвящал Стефана в замыслы московского двора. Сам он был близок потомкам Даниила не только по своему происхождению, но и по взглядам на будущее страны.
Иван Калита много думал о Церкви не только как христианин, но и как правитель. Не жалея сил и средств, он стремился превратить Москву в крупнейший религиозный центр Северо-Восточной Руси. В этом он видел залог прочности своих военно-политических успехов. Наметившееся возвышение Москвы нужно было закрепить союзом с митрополичьей кафедрой. И если выходец из Византии митрополит Феогност (1328—1353) не шел дальше обычной благосклонности к Ивану как к благочестивому князю, то его преемник мог бы стать духовным отцом московского дела. Вопрос заключался лишь в том, чтобы выдвинуть такого человека, который устраивал бы и Москву, и Феогноста.
Можно думать, что Алексей какое-то время находился под влиянием Ивана Калиты. Князь увлек монаха своими мечтами о благоустроении Руси путем союза между митрополичьей и великокняжеской властью. Как бы там ни было, эти двое поняли друг друга.
Князь Иван стремился возвести Алексея на высоты иерархической власти. Однако осторожный и многоопытный Феогност медлил с возвышением Алексея, опасаясь обвинений в доброхотстве московскому правителю. Традиционная политика византийских иерархов на Руси заключалась в том, чтобы не оказывать предпочтения кому-либо из князей. И лишь через несколько месяцев после кончины Ивана Даниловича, 6 сентября 1340 года, он назначил Алексея своим наместником, поручив ему широкий круг вопросов, связанных с управлением собственно митрополичьей епархией. Эта епархия включала в себя обе столицы русского православия: прежнюю, Киев, и новую — Владимир. В ее состав входила и Москва с московским княжеством.
Феогност периодически совершал объезды своей огромной митрополии, простиравшейся более чем на полторы тысячи верст с севера на юг и с запада на восток. Ему не раз приходилось отправляться в длительные путешествия в Орду и Константинополь. Во время этих отлучек наместник оставался фактическим хозяином епархии.
Что заставило старого грека сделать посмертный подарок Ивану Калите и приблизить к себе его «крестника»? Быть может, новый московский князь Семен склонил его к этому решению с помощью щедрой «милостыни»? Этого нам знать не дано. Однако несомненно, что на выбор Феогноста повлияли не только личные качества Алексея — его религиозный энтузиазм, образованность, деловитость, но и его обширные родственные связи как в Северо-Восточной, так и в Юго-Западной Руси. Последнее было весьма важно для митрополита: единая русская митрополия готова была расколоться на две — владимирско-московскую и литовско-польскую, включающую православные епархии Юго-Западной Руси. Борьба с этой тенденцией стала одной из главных забот митрополита Феогноста. И в этом вопросе Алексей мог оказаться для него весьма полезным.
Покинув Богоявленский монастырь и став «правой рукой» митрополита, Алексей не забыл своего приятеля — инока Стефана. Он видел в нем единомышленника и последователя. И потому Алексей счел необходимым возвысить Стефана, дать ему возможность учить, опираясь на авторитет сана и должности.
По просьбе Алексея митрополит рукоположил Стефана в сан священника. Вскоре он становится игуменом московского Богоявленского монастыря.
Следующей ступенью возвышения Стефана стало назначение великокняжеским духовником. По свидетельству Жития Сергия, великий князь Семен Иванович «приа его в отечьство себе в духовничьство; тако же и Василий тысущник, и Феодор, брат его, и прочий боляре старейши купно вси по ряду» (9, 298). Можно думать, что своим новым назначением Стефан был обязан не только собственным достоинствам, но и покровительству Алексея.
Для правильного понимания той роли, которую взял на себя Стефан, необходим небольшой историко-церковный комментарий. В средневековой Руси каждый человек должен был иметь «духовного отца» — священника, которому он исповедовался, который назначал «епитимию» — ту или иную форму покаяния за открытые на исповеди грехи. Только после исповеди и «отпущения грехов» верующий допускался к причастию.
Далеко не каждый священник мог исполнять обязанности духовника. Для этого требовалось особое разрешение епископа. Считалось, что лучшие духовники — иеромонахи. Они «ближе к Богу», их молитва о духовном сыне более «доходчива». Монахи лучше, чем «бельцы», умели хранить тайну исповеди.
Чин покаяния складывался из трех частей: молитвенного вступления, вопросов священника кающемуся и разрешения. Четкой регламентации всей процедуры исповеди не существовало. И характер вопросов, и строгость наказания зависели от духовника. Он мог вообще не ставить вопросов, а лишь выслушать то, что рассказывал его духовный сын. При таком положении духовник должен был обладать большим тактом и осмотрительностью. Он мог утратить свой авторитет как слишком суровым, так и слишком мягким наказанием, налагаемым на кающегося. Церковное наказание обычно сводилось к дополнительным постам, молитвам и поклонам. Однако духовный отец мог быть и более строгим: лишать причастия, даже отлучать от Церкви.
В то время как Стефан стремительно восходил по ступеням иерархической лестницы, его смиренный брат продолжал свою одинокую жизнь на Маковце. В начале 40-х годов Варфоломей испытал два сильных духовных потрясения: в его пустыни была освящена церковь, а сам он принял в ней монашеский постриг.
Согласно Житию Сергия братья построили «церквицу малу» еще в самом начале своего пребывания на Маковце. Сам факт не вызывает сомнений: небольшой, клетского типа храм, мало чем отличавшийся от обыкновенной избушки, вполне можно было построить «в два топора». Однако можно думать, что поначалу храм не был освящен и использовался как часовня.
Освящение храма мог разрешить только архиерей. В данном случае им был митрополит Феогност. Но владыка давал разрешение на освящение храма лишь в том случае, если имелся соответствующий «приход» — община верующих, готовая взять на себя обеспечение храма и его причта всем необходимым. Эта осторожность вполне понятна: забота о заброшенной церкви ложилась на плечи самого архиерея. Едва ли Феогност имел основания делать исключение из правила во имя двух безвестных пустынников, только что пришедших на Маковец.
Освящение церкви на Маковце стало возможным только в начале 40-х годов в связи с возвышением Алексея и Стефана. Было ли это результатом «братолюбия» Стефана и его личных хлопот? Или же прозорливый Алексей угадал в маковецком подвижнике незаурядную духовную силу и поспешил ввести его «в церковную ограду»? Второе предположение кажется более основательным. Нельзя забывать, что это был век ересей и смут. Всеобщее падение нравов коснулось и Церкви. В этих условиях она, как никогда ранее, нуждалась в людях, способных личным примером утверждать жизненность христианских идеалов. С другой стороны, Варфоломей своим примером доказывал возможность «высокого жития» вне общепринятой иерархической системы. Его жизнь на Маковце была для церковной организации одновременно и укором и вызовом.
Ощущал ли сам Варфоломей двусмысленность своего положения? Было ли его подвижничество без пострижения следствием бесконечного смирения или же немым протестом против тогдашних церковных и монастырских порядков? Источники не дают ответа на эти вопросы. Однако уже сам факт того, что он несколько лет жил жизнью отшельника, не принимая пострига, не посещая приходского храма, заставляет усомниться в ортодоксальности его взглядов. И все же путь раздумий привел его к принятию тогдашней Церкви при всем духовном несовершенстве ее служителей. И Церковь поспешила протянуть ему руку...
Главной сакральной ценностью, присланной из Москвы для освящения храма на Маковце, был антиминс. Этим греческим словом, в переводе означающим «вместопрестолие», называли прямоугольный плат с изображением креста, в уголках которого были зашиты крупицы святых мощей. Возложение антиминса на престол заменяло освящение храма самим епископом.
В каком году была освящена маковецкая церковь? Автор Жития Сергия сообщает лишь, что это произошло «при великом князи Симеоне Ивановиче; мню убо, еще реши в начало княжениа его» (9, 296).
Вскоре после освящения храма во имя Святой Троицы иеромонах Митрофан совершил в нем обряд пострижения. Заметим, что для этого, по-видимому, также потребовалось разрешение митрополита или его наместника: вопреки традиции Варфоломей становился монахом, не пройдя установленный срок послушания в монастыре, под началом у «старца».
Житие Сергия сообщает, что постриг состоялся 7 октября, в день памяти древних христианских мучеников Сергия и Вакха. Имя одного из них и дал Митрофан своему духовному сыну[К.В.6].
«Таинство иноческого свершения» — постриг — в христианской традиции рассматривалось как своего рода перерождение. На смену исчезнувшему бесследно боярскому сыну Варфоломею в мир явился монах Сергий.
По представлениям той эпохи, монашеский постриг был как бы «вторым крещением». Он происходил в храме и сопровождался торжественным обрядом, во время которого постригаемый произносил основные монашеские обеты: нестяжания, целомудрия и послушания. Игумен или совершавший обряд священник, указывая на Евангелие, напоминал иноку о том, что сам Иисус, незримо присутствуя в храме, стал свидетелем принесенных обетов. Ангелы, стоя у престола, «написающе исповедание твое се» (28, 1—15).
Обряд сопровождался облачением в монашеские одежды — мантию, клобук, пояс, параманд, каждая из которых имела символическое значение. Отныне новопостриженный становился «воином Христовым», готовым всю жизнь сражаться с дьяволом.
Весь этот обряд, несомненно, произвел сильное впечатление на Варфоломея и остался памятным на всю жизнь.
Освящение храма и монашеский постриг — единственные известные нам события «внешней» жизни Сергия в отшельнический период. Чем же занят был в эти годы его дух? Какие мысли и образы волновали пустынника?
Рассказывая о первых годах одиночества Сергия, автор Жития перечисляет традиционные формы монашеского «подвига» — «уединение, и дръзновение, и стенание, и всегдашнее моление, еже присно к Богу приношаще, сльзы тъплыя, плаканиа душевнъная, въздыханиа сердечная, бдениа повсенощная, пения трезвенная, молитвы непрестанныя, стояниа неседалная, чтениа прилежная, коленопреклонениа частая, алканиа, жаданиа, на земли леганиа» (9, 306).
Впрочем, необходимо заметить, что, используя традиционные монашеские приемы борьбы с «грешной плотью», Сергий никогда не впадал в мрачные крайности аскетизма: ношение железных вериг, восхождение «на столп». Его аскеза — пост и труд. Можно думать, что в этом проявилась коренная черта характера преподобного: умение всегда и во всем сохранять достоинство, не терять человеческого облика. Эта черта не позволяла ему вступить на стезю попрошайничества «Христа ради», отдаться во власть темной стихии юродства. Он уважал Человека — «образ и подобие Божие» — не только в других, но и в самом себе.
Конечно, главным занятием Сергия была молитва — разговор с Богом. В эти часы он забывал обо всем, чувствовал себя свободным и всемогущим, ибо сам Господь был его безмолвным собеседником.
Его «богомыслие», его молитвенные откровения сокрыты от нас, как, впрочем, сокрыты они были и от современников всегдашней молчаливой сосредоточенностью Сергия. И все же у нас есть как бы малое оконце в духовный мир радонежского отшельника — его келейные иконы. Эти два древних образа — «Богоматерь Одигитрия» и «Никола» — хранятся ныне в собрании Сергиево-Посадского музея. Согласно устной монастырской традиции они считались молельными иконами самого Сергия. „Исследователи древнерусской живописи относят время их создания к XIII — первой половине XIV века. Вполне достоверным кажется и предположение о том, что эти иконы родители Сергия привезли в Радонеж из Ростова и вручили сыну в качестве благословения незадолго до кончины.
Обе иконы — не поделки рыночного богомаза, а штучная работа выдающегося мастера. Как и подобает настоящей иконе, они являют собой «умозрение в красках». «Душу» каждой иконы тонко почувствовал и сумел выразить словами известный русский богослов и философ П. А. Флоренский. От иконы Богоматери «веет глубоким неотмирным покоем, бесконечным миром, совершенным спокойствием присно обладаемой мудрости»... Лик Николы «глазами своими бросает сноп умного света, но свет в нем — не свой, не тот пренебесный свет, который струится от Одигитрии, а стяженное духовным усилием и воспринятое оттуда же, от той же Одигитрии духовное лучение. Если мы говорим, что Одигитрия глубоко антична, то эта икона, при поразительном совпадении с той по фактуре, глубоко чужда античности. В ней не прекрасное, но возвышенное: относительно нее напрашивается сравнение с музыкой Бетховена, как выражением чистой человечности. К этой иконе более всего подходит слово «Епископос», то есть надзиратель, блюститель, надсмотрщик. Одигитрия дает небесные дары, а Епископос блюдет их сохранность. Одигитрия — мудрость небесная, а святитель Николай Чудотворец — ум земной, хотя и просветленный небесным светом».
«Эти две иконы относятся друг к другу, как тезис и антитезис. Трудно было бы... отрешиться от мысли, что... это иконы парные, и парными вышли именно из мастерской. В одной представлено божественное, легкой стопой спускающееся долу; в другой — человеческое, усилием подвига вырубающее себе в граните ступени восхождения»...
«Божия благодать, даром даваемая, и человеческий подвиг духа, усилием завоевываемый, — таковы два духовных первообраза, две идеи, питающие созерцание, которые направляли внутреннюю жизнь древнего молебника перед этими иконами, преподобного Сергия» (106, 87—89).
Знаменательна «встреча» именно этих двух икон в келье радонежского отшельника. «Богоматерь Одигитрия» — любимая икона Византии, ее палладиум, сакральный знак империи. Для русских Одигитрия (Путеводительница) была символом византийских истоков православия. Ее почитание как бы приобщало Русь к духовной традиции, идущей от отцов церкви и глубже — от самих евангелистов. По преданию, «Одигитрия» была своего рода «портретом» девы Марии: евангелист Лука написал ее еще при жизни Пречистой.
Образ «Богоматери Одигитрии» для русских людей XIV столетия имел и отчетливое героико-патриотическое содержание. Его греческое название переводили иногда и как «Крепкая Помощница». Древнее сказание об этой иконе сообщало, что она не раз спасала столицу христианского мира, Константинополь, от нашествия иноплеменников. В случае военной тревоги ее носили по городским стенам (24, 9).
Особенно известным было чудо, совершенное Одигитрией в 626 году при императоре Ираклии и патриархе Сергии. Икона спасла город от обступивших его полчищ «огнепоклонников» персов и «язычников» авар и «скифов». Море у города внезапно вскипело и поглотило корабли «скифов». Персы бежали, охваченные ужасом.
По случаю чудесного избавления города клирик храма Святой Софии Георгий Писида написал вдохновенный «Акафист Богоматери». Это песнопение очень любили на Руси. Богоматерь именовалась в нем «Военачальницей, защищающей нас в бранях», «Покровом мира», «Нерушимой стеной царства». Ее заступничеством «ниспровергаются враги» (30, 27-36).
Церковный устав предписывал исполнять «Акафист Богоматери» на заутрене в пятую субботу Великого поста. Случилось так, что именно в этот день, 5 апреля 1242 года, Александр Невский разгромил рыцарей на льду Чудского озера. Гимн Богородице звучал в храмах в то самое время, когда совершалось одно из самых великих событий в истории Руси.
Как справедливо заметил голландский историк культуры Й. Хейзинга, «символизм был как бы живым дыханием средневековой мысли» (108, 235). И сам Акафист, и тесно связанная с ним икона «Богоматерь Одигитрия» после Ледового побоища приобрели значение сакральных атрибутов русской воинской славы. XIV столетие дало новые предпосылки для развития этой темы. Икона Одигитрии, спасшая Константинополь от язычников и огнепоклонников, могла совершить то же чудо и на Руси: истребить «поганых» ордынцев и остановить натиск «огнепоклонников»-литовцев.
О том, что все эти размышления были не чужды Сергию, свидетельствует не только его келейная икона, но и текст Жития. Преподобный «по вся дни пояше канон Пречистой, иже есть Акафисто» (16, 122). В молитвенных обращениях к Божьей Матери, напряженность которых была так велика, что со временем стала приводить к видениям, Сергий просил Царицу Небесную защитить многострадальную Русскую землю, исцелить ее раны.
«Икона дает чувство осязательного присутствия Божия», — говорил С. Булгаков (49, 298). С этим нельзя не согласиться, всматриваясь в моленные иконы Сергия. При всей их многозначности, глубине они позволяют ощутить себя собеседником небожителя. О чем же мог разговаривать Сергий со своим вторым небесным гостем — Николаем, епископом Мирликийским? Широко чтившийся и в Византии, Никола получил совершенно особую популярность на Руси. Иностранцы называли его «русским богом». В религиозном сознании народа он встал сразу вслед за Богородицей, возвышаясь не только над рядовыми святыми, но даже над апостолами.
Образ Николы, как и Богоматери Одигитрии, в XIV столетии имел для Руси не только отвлеченно-религиозное («Епископос», по выражению П. Флоренского), но и живое историческое значение. Никола являлся народу главным образом в двух ипостасях: милосердный покровитель всех обездоленных, их небесный заступник — и грозный воитель, одинаково страшный и для иноплеменников, и для еретиков, с которыми, по преданию, яростно боролся святитель.
Вглядываясь в суровый лик святителя, Варфоломей вспоминал о двух знаменитых русских иконах Николы. Одна из них, «Никола Зарайский», не раз упоминалась в сказаниях о нашествии на Русь полчища Батыя; другая, «Никола Можайский», известная и как икона и как плоская деревянная скульптура, была палладиумом Можайска — западных ворот Московского княжества. Подняв меч, Никола безмолвно грозил им всем недругам Руси.
Незаметно мысли Варфоломея от небесного переходили к земному. В своем уединении он не переставал размышлять о настоящем и будущем Руси. Изредка встречаясь с людьми, отшельник узнавал о том, что происходило «в миру». В конце ЗО-х годов в воздухе запахло большой войной с Тверью, где правил ненавидевший Москву князь Александр Михайлович. Однако Иван Калита в очередной раз «взял грех на душу». Он добился того, что тверской князь вместе с сыном Федором был казнен в Орде по ханскому приказу 28 октября 1339 года. Так ценой братоубийства была предотвращена назревавшая кровопролитная война. После этого московский князь, желая окончательно сломить «высокоумие» Твери, вывез оттуда в Москву соборный колокол — символ независимости.
Казалось, Иван Калита руками хана собирается истребить всех тверских князей. Однако и ему оставалось жить уже недолго. 31 марта 1340 года он скончался, незадолго до кончины приняв монашеский постриг под именем Анания.
Какие чувства испытал Сергий, узнав о смерти Ивана Калиты? Вероятно, он вспомнил тогда первую из притчей Соломоновых: «Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у завладевшего им» (Притчи, 1, 19).
Однако было и свое, глубоко личное отношение к умершему. Проснулись отроческие воспоминания: бедствия Ростова, расправа московских воевод с ростовскими боярами, переезд в Радонеж, убожество сельской жизни — за всем этим стоял Иван Калита.
Непреклонная жестокая воля Ивана гнула слабых, ломала непокорных. Его хитрость и коварство не знали пределов. В Ростове, а затем и в Радонеже многие ненавидели московского князя, но при этом даже враги отзывались о нем с уважением. Кончины Ивана с нетерпением ждали едва ли не все русские князья. Но когда он умер, все ощутили тревожную неопределенность.
Московский князь был хранителем Руси. За 12 лет его пребывания на великом княжении Владимирском не было ни одного ордынского набега. Такая долгая «тишина» была лишь при Александре Невском. Иван месяцами не слезал с седла, выжимал из Руси последнюю копейку — и Орда, усыпленная его покорностью, «была тиха».
Отзвуки этого двойственного отношения современников к Ивану Калите можно явственно услышать в сообщении летописца о его кончине. В традиционном по форме княжеском некрологе звучат нотки не ритуальной, а вполне искренней скорби. «В лето 6848 (от «сотворения мира». — Н. Б.) преставися князь великий Московский Иван Данилович, внук великаго Александра, правнук великаго Ярослава, в чернцех и в скиме, месяца марта в 31... и плакашася над ним князи, бояре, велможи, и вси мужие москвичи, игумени, Попове, дьякони, черньци и черници, и вси народи, и весь мир христианьскыи, и вся земля Русская, оставши своего государя... Проводиша христиане своего господина, поюще над ним надгробныя песни, и разидошася плачюще, наполнишася великиа печали и плачя, и бысть господину нашему князю великому Ивану Даниловичу всеа Руси вечная память» (20, 93).
Мог ли Сергий подумать тогда, что в истории своей страны он станет не менее знаменит, чем князь Иван Данилович?
В этих двух личностях открываются коренные черты русской истории и культуры. Оба они остро ощущали несовершенство окружавшего их мира и стремились к созданию нового, более разумного. Однако от общей исходной точки они шли в противоположные стороны.
Иван стремился вывести Русь из бедственного положения путем изменения политических форм. Он видел, что традиционный княжеский «союз равных» во главе с великим князем Владимирским как политическая система исчерпал себя. Он не позволяет собрать воедино боевые силы страны, порождает новые и новые усобицы. Князь мечтал о новом государственном устройстве, при котором вся полнота власти будет принадлежать московскому княжескому дому. Во имя этой цели Иван готов был пойти на любое преступление. В лице этого князя Русь обрела едва ли не первого в своей истории «государственного деятеля».
Радонежский отшельник считал, что нет смысла менять внешние формы человеческого общежития, прежде чем изменится сам человек. Но когда каждый будет жить по Евангелию, то и вопрос о политических формах потеряет всякое значение. Любая форма будет хороша. А лучше всех — та, которая уже есть, ибо она определена свыше. Все социальные и политические язвы Руси исцелятся, если люди научатся жить по Евангелию. Свое призвание, весь смысл своей жизни Сергий увидел в том, чтобы помочь им в этом.
Оба они, Сергий и Иван, были из тех, кого в старину называли «взыскующими града», то есть стремящимися к тому, чего нет на земле. Но если «град», который искал Иван, два века спустя стал реальностью московского самодержавия и, как все материальное, со временем изжил себя, то «град» пустынника стал реальностью духовной, которую «ни моль, ни ржа не истребляют».
Новый московский князь Семен Иванович вместе с престолом унаследовал и ненависть врагов своего отца. Он едва-едва сумел вымолить в Орде ярлык на великое княжение Владимирское. Но недруги Москвы не думали складывать оружие. Будущее сулило Руси лишь новые тревоги, войны, кровь и «томление духа».
Юный отшельник размышлял: в чем причина нескончаемых бедствий Руси? В год, когда он ушел из мира, исполнилось ровно сто лет с тех пор, как «поганые» полонили Владимирскую Русь. Сколько крови пролилось за эти долгие сто лет! Когда же настанет конец лихим временам? И чем он, Сергий, может помочь своему народу?
Как и многие современники, ключ к пониманию событий он находил в гневных обличениях и страшных предсказаниях ветхозаветных пророков, и прежде всего — Исайи, которого на Руси в ту пору чтили и читали более других.
Нашествие «поганых» — кара за грехи, за приверженность языческим обрядам и постоянное нарушение заповедей. «За то возгорится гнев Господа на народ Его, и прострет Он руку Свою на него, и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут как помет на улицах... И поднимет знамя народам дальним, и даст знак живущему на краю земли, — и вот, он легко и скоро придет; не будет у него ни усталого, ни изнемогающего; ни один не задремлет и не заснет, и не снимет пояс с чресл его, и не разорвется ремень у обуви его; стрелы его заострены, и все луки его натянуты; копыта коней его подобны кремню, и колеса его как вихрь» (Исайя, 5, 25-28).
Но в книгах Ветхого Завета Варфоломей находил и проблески надежды. Мир спасут праведники. Ведь даже ради десяти праведников Господь обещал Аврааму пощадить Содом и Гоморру! (Бытие, 18, 32).
Едва ли Варфоломей сознательно стремился к тому, чтобы стать тем самым праведником, ради которого Всевышний может помиловать Русь. Такая мысль была бы с его стороны непростительной «гордыней» — и он не мог мириться с ней. Однако уверенность в том, что каждый новый праведник, то есть живущий по закону Божьей Правды, своим появлением приближает час, когда Господь сменит гнев на милость и избавит Русь от чужеземцев, была одной из основ мировоззрения радонежского отшельника. Национальные задачи были для него в основном задачами нравственно-религиозными. Вопросы политики он понимал прежде всего как вопросы духовного совершенства — или несовершенства — той или иной личности.
Явление праведника будет неприметным для мира. Жилищем ему послужит пустыня. Но милость Божья к нему беспредельна. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину; кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла; тот будет обитать на высотах; убежище его — неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят Царя в красоте Его, узрят землю отдаленную; сердце твое будет только вспоминать об ужасах: «где делавший перепись? где весивший дань? где осматривающий башни?» Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою, невнятною речью, с языком странным, непонятным» (Исайя, 33, 15-19).
От размышлений о гневе Божьем и о пришествии в мир праведника мысли Варфоломея все чаще возносились к теме божественной любви. И здесь перед ним вставал во всем его непостижимом совершенстве образ Троицы. Мощный толчок «богомыслию» о Троице дала постройка на Маковце одноименной церкви. Это событие требует осмысления не только в плане фактической истории. Важно понять и его место в духовной жизни нашего героя.
Автор Жития Сергия объясняет посвящение маковецкой церкви Троице единодушным желанием обоих братьев. При этом Стефан якобы напомнил Варфоломею, что он уже с детства призван стать «учеником Святой Троицы». Агиограф «не мудрствует лукаво» и во всей этой истории видит проявление Божьего промысла.
Однако если осмыслить посвящение храма не мистически, а исторически, то можно заметить, что в культе Троицы воплощался в тот период целый ряд актуальных религиозно-политических идей. Именно они и обусловили посвящение храма.
Догматическое понятие Троицы — нераздельного единства божества в трех лицах — Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святого — носило отвлеченный характер и было трудно для уразумения. Не случайно именно учение о Троице породило в истории христианства огромное количество всякого рода ересей. На Руси в XI—XIII веках предпочитали посвящать храмы более реальным образам: грозному Спасу, милосердной Богородице, «скорому помощнику» Николе, святым воинам и отцам церкви. И лишь одна религиозная традиция уделяла Троице большое внимание. То была традиция Киево-Печерского монастыря. Там, над главными воротами, в начале XII века была поставлена Троицкая церковь. Тем самым монастырь как бы отдавался под покровительство Святой Троицы.
Можно думать, что посвящение маковецкой церкви зависело прежде всего от воли самого Варфоломея. В образе Троицы он различал не только отвлеченно-догматическую идею, не только киево-печерскую монашескую традицию, но и жизненно важную для того времени мысль о единстве. «Форма отношений, которая заложена в концепции Троицы... служит также идеальным прообразом того, как должно строиться братство людей... Единство без ущерба для индивидуальности — вот что символизирует Троица», — отмечает историк религии Б. Данэм (56, 131). Таким образом Троица догматическая могла быть понятна и как религиозная перифраза вполне земной идеи единения «без ущерба для индивидуальности», иначе говоря — того порядка «единства равных», который был признан наилучшим и естественным в политических отношениях эпохи феодальной раздробленности. Строгое соблюдение этого порядка могло избавить Русь от княжеских усобиц, собрать ее силы для борьбы с иноплеменниками.
Загадочная, непостижимая Троица дарила Варфоломея все новыми и новыми откровениями. К концу жизни он по праву мог называть себя «учеником Святой Троицы».
Смирение любовное — страшная сила,
изо всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего.
Ф. М.Достоевский
Кто-то из древнерусских писателей заметил, что молва монастырская ничем не отличается от мирской молвы; она так же скороходна и многоголосна. Однообразная жизнь в обителях до крайности обостряла интерес ко всякого рода новостям и слухам. Думать и говорить о мирском не полагалось. Но события бывали и в своей монашеской среде. Даже самые мелкие, незначительные происшествия долго и всесторонне обсуждались братьями. Главными поставщиками новостей извне были весьма многочисленные в ту эпоху бродячие монахи, переходившие из одной обители в другую.
Слух о молодом подвижнике, живущем в радонежских лесах, быстро распространился по монастырям Северо-Восточной Руси. Одни осуждали его за нарушение порядка восхождения по монастырской «лестнице к небу», другие, напротив, сочувствовали, восхищались его твердостью. Не укрылось от молвы и то, что отшельник происходил из обедневшей боярской семьи, что у него есть доброхоты среди московской знати, а брат его — духовник самого великого князя Семена Ивановича. Все эти противоречивые слухи волновали монашескую братию. На Маковце стали появляться первые посетители.
Иные изъявляли желание поселиться рядом с ним. Сергий никого не гнал, предупреждал только о тяготах жизни в пустыни. Почти все, кто оставался, выдерживали не более двух-трех летних месяцев. Зиму могли провести лишь немногие. Холодные осенние ветры выдували с Маковца случайных людей, точно солому на току.
Когда количество братьев, постоянно живущих на Маковце рядом с Сергием, достигло наконец «апостольского» числа — двенадцати, в обстановке их жизни произошли перемены. Всю территорию слободки вместе с огородами окружили высоким тыном — защитой от диких зверей и лихих людей. У ворот поместили привратника.
Одновременно братья приняли решение не принимать новых поселенцев. Вероятно, это решение объяснялось не только пристрастием к священному числу, но и желанием сохранить сложившуюся планировку обители, избежать тесноты. Но при этом число «двенадцать» не должно было и уменьшаться. «И аще ли когда един от них или умрет, или изыдет от обители, то пакы другый на его место брат прибудет, да не число истощимо обрящется» (9, 334).
Когда возникла «община двенадцати»? За этим вопросом неизбежно встает и другой связанный с ним вопрос: когда Сергий стал игуменом основанной им обители?
Во Вкладной книге Троице-Сергиева монастыря сообщается о том, что Сергий был игуменом 48 лет. Вычтя эту цифру от года его кончины (1392), получим нужную нам дату — 1344 год. Казалось бы, задача решается крайне просто. Однако в тексте Жития прямо говорится о том, что Сергий стал игуменом одновременно с принятием священнического сана. А это, как явствует из того же текста, произошло лишь в 1353—1354 годах, когда обязанности митрополита исполнял епископ Афанасий Волынский.
Проще всего, как это обычно и делают историки, объявить первую или вторую дату результатом грубой ошибки автора Жития. Однако, как ни парадоксально, обе эти даты нужно признать правильными. Их вполне можно примирить, воссоздав реальную обстановку жизни Сергия и памятуя об особенностях его личности. Следует вспомнить также интересное наблюдение историка Русской Церкви Е. Е. Голубинского о многозначности слова «игумен» в древнерусском языке. По убедительному предположению Голубинского, игумен Митрофан — духовник самого Сергия, а потом и всей маковецкой общины — был иеромонахом, живущим в миру, у приходской церкви. Он приходил на Маковец для богослужений наряду с другими священниками из соседних приходов. Но при всем том он не был игуменом в обычном смысле — настоятелем. Именно так и следует понимать соответствующие фрагменты Жития. Сергий «на обедню призываше некоего чюжаго, попа суща саном или игумена старца» (9, 320). Из последующего текста явствует, что «игумен старец» не кто иной, как Митрофан, тот самый, «иже постриже блаженнаго Сергиа».
Сергий стал игуменом в 1344 году. Но Житие сообщает, что год перед тем игуменом-исповедником был Митрофан. Это известие — о годе игуменства Митрофана — не случайно. Оно косвенно указывает на дату возникновения «общины двенадцати» — 1343 год.
Роль, которую взял на себя Сергий в 1344 году, после кончины Митрофана, можно лишь с большой натяжкой отождествить с традиционным пониманием игуменства. Маковецкий особножительный монастырь в своей повседневной жизни вообще не нуждался в игумене в том смысле, какой вкладывает в это понятие общежительная традиция. Церковный писатель и путешественник о. Порфирий (Успенский), посетив Афон во второй половине прошлого века, оставил подробное описание порядков тамошних особножительных монастырей. В основу всего положены независимость и самообеспечение каждого инока. Игумен в таком монастыре — чисто номинальная должность. Своим знаком власти — посохом — он пользуется лишь в храме, да еще во время единственной в году общей братской трапезы. Важные вопросы внутренней жизни монастыря решаются общим собранием всех полноправных его обитателей (104, 554).
Не приходится сомневаться в том, что маковецкая община в 40-е годы жила по тем же самым уставам, что и описанные Порфирием афонские особножительные монастыри. Она имела и свою «аристократию». Кроме «приходящего» игумена Митрофана, к ней принадлежал и ряд других лиц. Можно думать, что в Житии Сергия отнюдь не случайно названы имена трех первых сподвижников преподобного — «старец Василий, рекомый Сухий, иже бе в пръвых от страны пришедый от връхъ Дубны; ин же от них, именем Иаков, рекомый Якута — сий бе в чину образом яко посолник, его же колиждо отсылаху на службу, яко зело на нужную потребу, без нея же не мощно обрестися; другому же Онисим имя, иже бе диакон» (9, 320).
Проще всего определить роль Иакова Якуты. Это «епитром», то есть «поверенный». Он занимался изысканием средств и приобретением вещей, необходимых для всей обители. По свидетельству о. Порфирия, «епитром» являлся одной из главных фигур в особножительном монастыре.
Достаточно ясна и роль дьякона Анисима. По церковным законам дьякон не имел права совершать таинства и был как бы слугой священника. Однако в условиях, когда «община двенадцати» не имела собственного иерея, дьякон как священнослужитель занимал, конечно, особое место и руководил будничным богослужением.
Можно думать, что выдающееся положение занимал в общине и Василий Сухой. Только к нему автор Жития применяет понятие «старец». Этим словом в монашеской среде определяли не возраст человека, а его зрелость как подвижника. «Старцем» мог быть и относительно молодой человек, имеющий богатый опыт духовной жизни.
Примечательно и еще одно обстоятельство. Епифаний Премудрый указывает, что Василий Сухой пришел с верховьев Дубны. Этот район с его глухими лесами и малочисленным населением был в ту пору для монахов-отшельников своего рода «русской Фиваидой». Там подвизался и Василий. Судя по термину «старец», опыт его подвижничества был весьма богатым. Вероятно, в «общине двенадцати» его чтили именно как наставника в духовной жизни, опытного борца с демонами.
Как ни странно, сложнее всего определить положение, которое занимал в «общине двенадцати» сам Сергий. Никогда не страдавший мелким честолюбием, он не мог желать сана игумена в его афонском понимании. Однако нельзя забывать, что условия, в которых существовал лесной монастырь на Маковце, были совсем не те, что на Афоне. Не было ни щедрой на плоды южной природы, ни богатых иноков, ни знатных покровителей. Жизнь была заполнена тяжелым повседневным трудом, борьбой за существование. Это требовало сплочения братьев в общину, а также избрания своего рода «старосты». У того, кто находился на этой должности, было очень много забот и обязанностей и очень мало прав и власти. Именно поэтому Сергий решился взять на себя роль «игумена-старосты».
Вполне возможно, что он принял игуменство лишь «de facto», без формального поставления архиереем, ибо рассматривал его не как сан, а как добровольно взятое на себя послушание по обеспечению повседневного существования общины.
Традиция, из которой, впрочем, бывали исключения, требовала, чтобы настоятель имел сан священника. В 1344 году Сергию исполнилось 30 лет. Он достиг возраста, когда согласно канонам мог быть рукоположен в иерея. Однако он еще 10 лет не хотел принимать священство, видя в нем такую ступень духовного совершенства, на которую он не вправе подняться. Несомненно, отсутствие «благодати священства» было еще одной причиной, по которой Сергий не хотел официально принимать сан игумена. Если верить рассказу Жития, он стал полноправным игуменом лишь в середине 50-х годов, когда получил священнический сан.
Взяв на себя роль игумена-старосты, Сергий, не погрешив против главной монашеской добродетели — смирения, обрел неограниченные возможности для самоотверженной и деятельной любви к ближнему. Он личным примером увлекал братьев на тяжелые, но необходимые для всей общины или неисполнимые в одиночку работы: расчистку земли под пашню и огород, заготовку дров, строительство новых келий. Житие обстоятельно повествует об этой стороне его деятельности. Сергий «без лености братиам яко купленый раб служаще: и дрова на всех... сечаше; и тлъкущи жито, в жърновех меляше, и хлебы печаше, и вариво варяше, и прочее брашно яже братиам на потребу устрааше; обувь же и порты крааше и шиаше; и от источника, сущаго ту, воду в двою водоносу почерпаа на своем си раме на гору возношаше и комуждо у келий поставляше» (9, 320—322).
Крепкий и ловкий от природы, «силен быв телом, могый за два человека» (9, 318), Сергий любил плотничать и строить. Для тех, кто от старости уже не в силах был работать топором, он своими руками построил несколько келий.
В тексте Жития две ступени превращения Сергия в настоятеля — игумен-староста и полноправный игумен-священнослужитель — слились в одну. Возможно, Епифаний Премудрый затруднялся выяснить все обстоятельства дела. Одни старожилы Троицкого монастыря могли утверждать, что Сергий стал игуменом одновременно с принятием священнического сана и введением общежития, другие припоминали, что он был игуменом и гораздо раньше, во времена «общины двенадцати». Впрочем, возможно и то, что Епифаний, зная о том, что Сергий был около десяти лет игуменом, не имея священнического сана, просто не хотел писать об этом. С точки зрения строгих общежительных порядков, которые существовали в Троицком монастыре в XV веке, такое положение должно было казаться странным, а то и просто незаконным. Наконец, Епифаний был агиограф, а не биограф. На первом месте для него были идеи, а не факты.
Как бы там ни было, у Епифания были основания показать своего героя игуменом уже во времена «общины двенадцати». Однако Епифаний знал и другое, о чем считал нужным поведать читателю Жития: Сергия поставил в священники и игумены волынский епископ Афанасий, живший в Переяславле-Залесском и управлявший делами митрополичьей епархии в период, когда сам нареченный митрополит Алексей находился в Константинополе. По этому факту, выдумывать который у Епифания не было никаких оснований, поставление Сергия можно датировать достаточно точно: вторая половина 1353 года (134, 78) или же 1354 год (126, 33).
И автор Жития Сергия, и его редактор не очень затруднялись хронологическими несоответствиями повествования. Они знали, что от агиографа менее всего требуется историческая точность. Однако, анализируя все данные с позиции исторической критики, неизбежно приходишь к выводу: епископ Афанасий, поставив Сергия в священники, тем самым как бы вознаградил его десятилетний труд в качестве «истиннаго строителя месту тому».
История древнерусского монашества знает немало примеров такого же «неофициального» игуменства. Антоний Печерский, не имея священнического сана, был, однако, самым авторитетным лицом в основанной им особножительной обители. По его распоряжению постриг новых братьев совершал иеромонах Никон — один из ближайших учеников Антония. Позднее Антоний, оставаясь духовным главой братства, назначил братьям игуменов — Варлаама, затем Феодосия, а сам жил неподалеку от монастыря, в уединенной пещере (7, 318, 330).
Сходную картину рисует и Житие основателя псковского Спасо-Елеазарова монастыря Евфросина. Подвижник не имел священнического сана, однако не только возглавлял общину, но и указывал, кого из братьев направить к епископу для поставления в иереи. Как и Антоний, он еще при жизни назначил игуменом обители своего духовника иеромонаха Игнатия (15, 72, 80).
Отличие Сергиева «неофициального игуменства» заключалось лишь в том, что в нем как в силу личных качеств Сергия, так и в результате его молодости как подвижника было гораздо меньше власти и гораздо больше служения.
Повседневная жизнь лесных апостолов Московской Руси внешне казалась весьма однообразной. Однако за этой монотонностью скрывалось постоянное напряжение всех душевных и физических сил. Каждый стремился достичь совершенства в избранном им образе жизни.
Кроме общих богослужений, братья совершали и «келейное правило». О его содержании рассказывает киево-печер-ский архимандрит Дионисий. Посетив Афон в 1220 году, он описал тамошнее «келейное правило», перешедшее и в русские монастыри. Оно состояло из многочисленных поклонов перед крестом или иконой, чтения установленного количества псалмов и произнесения так называемой «Иисусовой молитвы» — «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Этой краткой молитве отводилась в монашеском «келейном правиле» совершенно особая роль. Ее многократное и размеренное — в такт дыханию, с одновременным перебором узелков лествичных четок — произнесение позволяло постепенно отрешиться от внешнего мира. Цель этой медитации состояла в том, чтобы, сосредоточив все мысли и чувства на образе Спасителя, вступить с ним в мистическое общение.
В практике афонских, а вслед за ними и русских монахов этот путь к Богу получил название «умного делания». Современный исследователь древнего восточного монашества отмечает: «Медитация есть или монолог, разговор с самим собой, со своим духом и сердцем, или диалог, разговор с Богом или ангелом, или с одним из микрокосмических принципов в человеке» (88, 55).
В «общине двенадцати» духовная жизнь иноков в ее келейной и церковной форме сочеталась с постоянным физическим трудом. Еще не пришло то время, когда монастырь станет получать все необходимое от многочисленных доброхотов. Рассказывая о первых годах существования обители, автор Жития Сергия восклицает: «Дивно бо поистине бе тогда у них бываемо видети: не сушу от них далече лесу, яко же ныне нами зримо, но иде же келиам зиждемым стояти поставленым, ту же над ними и древеса яко осеняющи обретахуся, шумяще стояху» (9, 320).
Всегда первый в работе, Сергий любил повторять слова апостола Павла — «если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес, 3, 10). Но как ни старались иноки-земледельцы, скудная лесная нива не всегда могла принести даже тот скромный прибыток, который был необходим для поддержания существования. Раза два или три, обычно весной, когда запасы кончались и положение общины становилось совсем бедственным, Бог весть откуда приходило спасение: сани, груженные мешками с хлебом, овсом, сушеной рыбой и солью. Молчаливый, словно немой, возчик сгружал мешки возле кельи Сергия и не медля пускался в обратный путь. Братья видели в этом чудо и, насытившись, истово молились, благодаря Господа за заботу. Им начинало казаться, что за их трудами следит невидимое бдительное око.
В обители постоянно не хватало даже таких обязательных вещей, как вино для причастия, ладан для каждения в церкви. При совершении литургии использовали потир и дискос, вырезанные из дерева. За отсутствием пергамена богослужебные тексты писали на бересте. У иных братьев можно было увидеть целые берестяные книги. Когда кончались свечи, читать в церкви приходилось при свете березовой лучины.
Но самое страшное начиналось тогда, когда кончался хлеб. Согласно особножительному уставу, по которому жила «община двенадцати», каждый инок сам заботился о своем пропитании, имел собственный запас сухарей и всего прочего. Когда у одних хлеб иссякал, другие еще имели его. Положение осложнялось тем, что братья решили ни в коем случае не просить милостыню в близлежащих деревнях.
Щедро раздавая свои припасы всем просящим, Сергий обычно первым оставался без хлеба. Житие рассказывает, как однажды он ничего не ел три дня подряд. Наутро четвертого дня, когда голод стал невыносим, игумен предложил одному из братьев, старцу Даниилу, пристроить к его келье сени, о чем тот давно мечтал. За свою работу Сергий просил лишь несколько гнилых сухарей.
Даниил готов был без всяких условий поделиться с игуменом своими последними припасами. Однако Сергий не желал принимать хлеб как подаяние. Он мог взять только то, что заработал своими руками. Весь день игумен трудился, не разгибая спины. Вечером сени были готовы. Получив обещанные сухари, Сергий, помолившись и поблагодарив Бога, стал есть их, размачивая в воде.
Братья поняли, что игумен преподал им наглядный урок. Однако голод брал свое. Среди иноков началось брожение. Положение спасло лишь прибытие целого обоза со всевозможными съестными припасами, присланными неизвестным благодетелем.
Кроме забот о «хлебе насущном», братьев не раз донимали укоры совести. Многие русские иноки, искренне жаждавшие подвига, стремились попасть в «общину двенадцати». Однако войти в число избранников было нелегко. Лишь в том случае, если один из братьев умирал или навсегда уходил с Маковца, на его место принимали нового. Таким образом «апостольское» число оставалось неизменным.
Постепенно и Сергий стал тяготиться этим порядком. Он вспоминал о тех, кого они безжалостно отсылали прочь, кому отказали в приеме, и чувствовал вину перед ними. Кто дал им право нарушить завет самого Иисуса, сказавшего некогда — «приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоанн, 6, 37)?Сохранение «апостольского» числа иноков не было только лишь данью христианской символике. Сергий опасался, что с увеличением числа братьев исчезнет тот подвижнический дух, который царил среди двенадцати. Кроме того, он не знал, как обеспечить самым необходимым даже тех, кто был с ним. А что он сможет дать новым братьям?
Сомнения и колебания относительно наилучшего устройства монастыря помог разрешить знатный гость — смоленский архимандрит Симон. Прослышав о «высоком житии» радонежских подвижников, он пришел на Маковец.
О Симоне известно крайне мало. В литературе высказывалось предположение, что он был настоятелем Борисоглебского монастыря на Смядыни — крупнейшей обители Смоленска. Почему он покинул насиженное место и отправился в московские земли? Вероятно, потому, что Симон был одним из тех незаурядных людей, кого всю жизнь снедает тоска по идеалу. Личности такого рода часто встречаются среди выдающихся деятелей русского монашества. Духовный голод заставлял их отказываться от должностей и почестей, покидать обжитые места и пускаться в странствия по «святой Руси».
Познакомившись с жизнью «общины двенадцати», Симон понял: он нашел то, что искал. Бывший архимандрит стал просить лесных подвижников принять его в общину. Он готов был отдать на нужды братьев все имевшиеся у него средства — «многа имениа» (54, 33).
После долгих раздумий братья согласились. Они приняли весьма примечательное решение: не делать исключения из устава для одного только Симона ради его богатства и высокого сана, а изменить самый устав, отменить прежнее свое постановление о неизменности «апостольского» числа. Таким образом, архимандрит был принят не «в порядке исключения», а в соответствии с новым, общим для всех порядком. Человек высокой духовности, Симон вскоре стал одним из самых близких к Сергию людей.
Когда «дивный муж Симон» вступил в маковецкую общину? Это событие можно датировать лишь приблизительно. Житие Сергия сообщает, что «апостольское» количество иноков не изменялось «и по два лета, и по три». Если признать, что община возникла в 1344 году, то приход Симона следует отнести к концу 1340-х годов.
«Имение» Симона братья решили израсходовать на постройку новой, более вместительной церкви и перенос келий. Отныне они были расставлены в виде каре, в центре которого «яко зерцало» сверкала золотом бревен новая церковь Троицы.
Последующие несколько лет жизни маковецкой общины — до самого введения «общего жития» — протекли без особых потрясений. Впрочем, можно думать, что одно событие все же произошло. Это событие — возвращение на Маковец брата Сергия Стефана — можно предположительно отнести к 1347—1348 годам. Но об этом — в своем месте.
Существование маковецкой общины привлекало внимание не только окрестного населения и бродячей «святой Руси», но и московских иерархов. Пристально следил за ее жизнью и митрополичий наместник Алексей. Прозорливо угадав в этом малом ростке будущее плодоносное дерево, он, словно опытный садовник, в нужное время помогал его развитию. Вероятно, он не раз встречался с Сергием как «истинным строителем» маковецкой обители, беседовал с ним о будущем общины. Не без участия Алексея, хотя и в его отсутствие, произошло и важнейшее событие в биографии Сергия — поставление в священники.
Житие Сергия представляет всю эту историю как сугубо внутреннее дело обители. Цепь причин и следствий предельно проста. Кончина Митрофана заставила братьев приступить к Сергию с требованием принять сан священника, а вместе с ним — игуменство. После долгих уговоров, во время которых братья даже грозили Сергию в случае его отказа уйти с Маковца, он согласился на компромисс: пойти вместе с двумя братьями в Переяславль-Залесский к епископу Афанасию и просить его дать им нового игумена. Владыка, выслушав дело, поручил игуменство самому Сергию и поставил его в сан священника.
Простодушное повествование Жития требует некоторых исторических комментариев. Митрофан, как можно думать, умер в 1344 году, а поход Сергия в Переяславль-Залесский состоялся в 1353—1354 годах. Важно понять: что послужило внешней причиной — о внутренних пока умолчим, — заставившей Сергия пойти к Афанасию? На этот вопрос можно ответить лишь догадкой. Быть может, святитель Алексей на переломе своей жизни, перед отъездом в Константинополь, взял с него слово сохранить таким образом незримую «свечу», зажженную на Маковце? А может быть, Афанасий, исполняя волю Алексея, вызвал к себе Сергия и, пользуясь своей властью, подтолкнул его на шаг, совершить который он и сам был уже внутренне готов?
Как бы там ни было, ясно одно: став священником, Сергий взял на свои плечи куда более тяжкую ношу, чем та, которую он нес прежде. Отныне он был ответственным не только за тела, но и за души своих иноков. Но самое важное — он был теперь готов к следующему шагу: введению в обители общежительного устава.
О введении в Троицком монастыре «общего жития» известно несколько интересных подробностей. Житие Сергия рассказывает, что однажды на Маковец явились «грекы от Коньстянтиня града, от патриарха послани к святому (Сергию. — Н. Б.). Поклонишася ему, глаголюще: «Вселеньскый патриарх Коньстянтиня града кир Филофей благословляет тя». Тако же от патриарха и поминки (то есть подарки. — Н. Б.) вдаша ему: крест, и парамант, и схиму; по сем и писаниа посланаа вдаша ему» (9, 366).
Подарки патриарха были не простые, а с тайным, символическим смыслом. Согласно древнему церковному преданию, облачения «великой схимы» были принесены ангелом одному из отцов монашества — Пахомию Великому. Вместе с ней ангел вручил Пахомию первый общежительный устав. Он повелел монаху-отшельнику выйти из его уединения и послужить на благо ближних, направить их через «общее житие» на путь благочестия.
Столь же многозначителен был и небольшой нагрудный крест, сохранившийся до нашего времени. Он имеет надпись с указанием имен византийских святых, частицы мощей которых находятся внутри.
Разместив послов в обители, Сергий немедленно отправился в Москву к митрополиту Алексею. Он передал ему послание патриарха, которое сам, вероятно, даже не стал распечатывать, и попросил разъяснений. Алексей велел служке прочесть грамоту. Содержание ее было изложено в немногих словах. После приветствия и похвалы в адрес Сергия Филофей переходил к делу. Он высказывал пожелание, чтобы в Троицком монастыре было введено «общее житие».
Сергий спросил Алексея: что он думает относительно совета патриарха? Митрополит также выразил желание видеть на Маковце «общее житие». Вернувшись в обитель, Сергий немедля приступил к делу...
Рассказ Жития Сергия необходимо прочесть в свете исторической критики. Исследователи уже давно пришли к мнению, что появление на Маковце патриарших послов с грамотой было подготовлено самим митрополитом Алексеем. Во время своего пребывания в Константинополе в 1353—1354 годах он убедил патриарха Филофея написать послание маковецкому игумену — не отсюда ли и «скоропалительное» поставление Сергия в игумены после отъезда Алексея?! — и отправить его с кем-нибудь из своих людей на Русь. Воспитанник афонских монастырей, ценитель и знаток иноческого подвига, Филофей охотно откликнулся на такого рода просьбу. Он поручил своим клирикам, сопровождавшим нового митрополита на Русь, повидать игумена Сергия и лично вручить ему послание.
Грамота патриарха нужна была Алексею как оружие в борьбе с противниками задуманной им «монастырской реформы» — возрождения «общего жития» в русских обителях.
Относительно времени введения в Троицком монастыре общежительного устава среди историков существуют разногласия. Традиционно принято было увязывать это событие с официальным принятием преподобным игуменства в 1354 году (124, 167). Однако в последние годы здесь возобладали иные мнения. Общая тенденция заключается в том, что почти все события жизни Сергия, о которых сообщает Житие, либо объявляются вымыслом поздних редакторов произведения, либо «сдвигаются» по датировке к 70-м годам XIV столетия. Высказывается мнение, будто в 1354 году Сергий еще не был известен митрополиту Алексею (126, 38); будто великий князь Дмитрий Иванович познакомился с Сергием только осенью 1374 года (125, 35); будто своей широкой известностью Сергий был обязан исключительно князю Владимиру Андреевичу Серпуховскому, в удел которого Троицкий монастырь перешел около 1374 года после кончины прежней владелицы этих земель второй жены Ивана Калиты княгини Ульяны (126, 34; 134, 80).
Исходя из этого общего взгляда (не имеющего прямых подтверждений в источниках), исследователи предлагают датировать приход патриарших послов и введение «общего жития» в Троицком монастыре временем второго патриаршества Филофея (1364—1376) (126, 38). Называется и более точная дата — начало 1377 года (136, 18[К.В.7]).
Однако, приняв «позднюю» датировку названных событий, мы тут же наталкиваемся на целый ряд неразрешимых вопросов общего характера. Если Сергий установил в своем монастыре «общее житие» и вообще стал широко известен лишь во второй половине 70-х годов XIV столетия, то как объяснить его участие в ответственной и сложной миротворческой миссии в Нижний Новгород в 1365 году? Откуда, если не из Троицкого монастыря, митрополит Алексей брал Устроителей своих киновий, первые из которых возникли еще в начале 1360-х годов? Как мог митрополит Алексей всего лишь через год после предполагаемого введения на Маковце «общего жития» предлагать Сергию занять митрополичий престол и тем самым возглавить «монастырскую реформу» в масштабах всей Северо-Восточной Руси? Как мог «никому не ведомый» троицкий игумен Сергий осенью 1374 года получить приглашение на княжеский съезд в Переяславле-Залесском, где решается вопрос о начале вооруженной борьбы с Ордой?
Многие недоумения исчезнут, если представить дело следующим образом. Трудно говорить о каком-либо реальном суверенитете удела вдовы Ивана Калиты — мачехи Семена Гордого и Ивана Красного. Дань здесь собирали сообща порученцы Дмитрия Московского и Владимира Серпуховского (2, 20). Судя по абсолютному молчанию о ней источников той эпохи, Ульяна не играла сколько-нибудь заметной роли в жизни тогдашней Москвы. Троицкий монастырь, хотя и находился в уделе Ульяны, изначально был на особом счету у московских духовных и светских властей, которые имели полную возможность (с согласия Ульяны или же без оного) не только посещать его, но и вмешиваться во внутреннюю жизнь обители. То, что происходило в Троице, вызывало отклик и в Москве, и по всему Московскому княжеству. Переход Троицкого монастыря в удел Владимира Серпуховского около 1374 года был дальновидной инициативой митрополита Алексея. Святитель хотел видеть Сергия духовником обоих внуков Калиты. Гордый и своенравный Владимир Серпуховской в 1372 году женился на дочери великого князя Литовского Ольгерда. В результате резко возросла опасность его столкновения с Дмитрием Московским. Первому из князей в 1374 году был 21 год, второму — 24 года. В этих условиях очень важно было найти молодым князьям авторитетного и мудрого духовного отца, способного удерживать их от опрометчивых поступков. Эту сложную и ответственную миссию Алексей и поручил Сергию. Переход Троицы в серпуховской удел давал хороший повод для сближения Сергия с князем Владимиром. Однако радонежский игумен не мог постоянно находиться в Серпухове. Его «глазами» и «ушами» здесь стал Афанасий Высоцкий, возведенный в сан игумена основанного в том же 1374 году преподобным серпуховского Высоцкого монастыря. В конечном счете вся эта история свидетельствует о том, что в 1374 году Сергий уже был знаменит и почитаем по всему Московскому княжеству. И главной причиной его славы была, конечно, «общежительная реформа» (134, 80). Но начал эту тяжелейшую духовную работу преподобный Сергий совместно с митрополитом Алексеем еще с середины 50-х годов XIV века.
Преобразование монастырской жизни было одной из самых насущных потребностей Русской Церкви в середине XIV века. Обличения низкого нравственного уровня белого и особенно черного духовенства были постоянной темой не только русской, но и всей европейской средневековой общественной мысли. Однако на Руси в период монголо-татарского ига они звучали с особой силой.
Люди всегда склонны искать причину своих несчастий в чужих пороках. Многие видели первопричину Божьего гнева именно в греховности служителей церкви, и в первую очередь — монахов. На их особую ответственность за судьбы всех людей указывал еще Иоанн Лествичник в своем известном рассуждении: «Свет инокам — ангелы, а свет для всех человеков — иноческое житие... Если же свет сей бывает тьма, то сущие в мире кольми паче помрачаются» (34, 212).
Всеобщее недовольство обмирщением монашества и другими темными сторонами церковной жизни грозило вылиться в открытое еретическое движением. Именно это и произошло в Новгороде. Главным требованием новгородских еретиков-«стригольников» был отказ от всякого общения с «греховной» иерархией. Расправа над стригольниками в 1375 году стала итогом длительного развития этого движения, корни которого уходят в значительно более ранний период.
Антицерковные движения возникали и в других русских городах. На это указывает, в частности, известная запись в «Списком Евангелии» (1340 год). Среди заслуг Ивана Калиты как правителя авторы приписки сочли необходимым отметить, что «безбожным ересям преставшим при его державе». Впрочем, будущее показало, что полностью покончить с ересями князю не удалось: корни этого явления были слишком глубоки.
Распространение в русских монастырях «общего жития» позволяло призвать к порядку буйное сообщество бродячих монахов — этих вечных вольнодумцев и демагогов, обличителей «власть имущих». Вместе с тем именно киновия (греческое название общежительного монастыря) могла удовлетворить жажду духовного подвига, которая все шире распространялась в тогдашнем русском обществе, предвещая грядущее политическое возрождение страны. Дальновидный руководитель, митрополит Алексей понимал, сколь важно направить этот духовный поток в нужное русло, не дать ему выплеснуться за церковные берега. И потому он всячески поддерживал монастырское «общее житие».
Был ли Алексей достаточно прозорлив, чтобы угадать экономические последствия распространения монастырей «общего жития»: превращение многих киновий в центры крупных вотчинных хозяйств? Предвидел ли он возможность их участия в политической борьбе, в отстаивании суверенитета Церкви от посягательств со стороны великокняжеской власти? Как знать... Во всяком случае, для поддержки «общего жития» митрополиту вполне достало бы и одного лишь «антиеретического» значения киновий. К тому же было бы неверно изображать Алексея законченным политиканом. Конечно, его главным аргументом всегда была не Правда, а Власть. Вероятно, он и мыслил категориями не столько «ценностной», сколько «силовой» логики. Однако и Всевышний был для него реальной силой, высшей Властью. Очищением монастырской жизни Алексей надеялся умилостивить Бога, снискать его милосердие к многострадальной Руси, к многогрешным московским князьям.
Изменение уклада жизни в маковецкой обители должно было стать первым опытом создания монастырей нового типа — пустынных (то есть расположенных в пустыни, вдали от людей) киновий. Митрополит не случайно остановил свой выбор именно на Троицком монастыре. «Высокое житие» его иноков, авторитет самого Сергия должны были освятить идею «монастырской реформы». Именно этот монастырь благодаря подвижническому настроению его иноков, превратившись в киновию, мог дать многочисленные духовные «отростки».
Вероятно, перед отъездом в Константинополь на поставление Алексей встречался с Сергием. Игумен выразил сомнение в том, что его иноки примут строгие порядки киновий. И тогда Алексей решил прибегнуть к авторитету патриарха.
Послание Филофея было весьма сильным средством. В византийской Церкви господствовал взгляд, разделяемый и русским духовенством, согласно которому патриарх — «живой и одушевленный образ Христа, в словах и делах выражающий истину» (97, 280). Обращение самого патриарха произвело большое впечатление на Сергия и его монахов. Несомненно, о нем узнали и в десятках других обителей. Оно было воспринято как признание равночестия русского иночества с его корнем — византийской монашеской традицией.
Патриаршья грамота стала для Сергия своего рода сигналом к действию. Внутреннюю готовность к нему он ощутил еще раньше, тогда, когда отправился в Переяславль для поставления в сан.
Проследив основные факты биографии радонежского подвижника, обратимся к его помыслам. Вновь попытаемся ответить на вопрос: чем занят был в эти годы его дух?
Жизнь Сергия, как и всякого истинного подвижника, была полна не только внешним, но и внутренним, незримым трудом. В этом труде главным его руководством всегда оставалось Евангелие. Однако он пользовался и «дополнительной литературой» — рассказами о древних подвижниках («патериками») и их собственными сочинениями.
Монашеская традиция восточного христианства выработала своего рода теорию непрерывного нравственного совершенствования. Она была изложена в трудах «великого каппадокийца» Василия Кесарийского (около 329—379), его современника Ефрема Сирина, знаменитых подвижников VI— VII веков Иоанна Синайского («Лествичника») и Исаака Сирина. Несомненно, Сергий был знаком с их сочинениями, пользовался ими как своего рода «учебниками» аскетики. «Слова постнические» Василия Великого и «Лестница» (по-древнерусски — «Лествица») Иоанна Синайского — обычные книги для келейного чтения в русских монастырях XIV столетия. Известны были и «Слова постнические» Исаака Сирина, славянский перевод которых был выполнен в первой половине XIV века (90, 318).
Эти трактаты позволяют увидеть промежуточные и конечные цели «духовного делания» русских иноков XIV века. Ценные сведения о внутренней жизни своего героя может дать и Житие Сергия. При всей специфике жития как литературного жанра оно сохраняет и некоторые живые черты святого, показывает наиболее яркие особенности его личной религиозности. Вот что говорит автор Жития о настроении Сергия в первые годы существования монастыря. «Сам Сергий испрьва не хотяше поставлениа презвитерьска или игуменьства приати многаго ради и конечнаго смиренна. Имеяше бо в себе кротость многу и велико истинное смирение, о всем всегда подражаа своего владыку Господа нашего Иисуса Христа» (9, 320).
Основой возраставшего с годами духовного могущества Сергия было постоянное сосредоточение всех его мыслей, всей воли, всех сил души на образе Иисуса. Несокрушимая последовательность в исполнении заповедей Спасителя, внешне порой казавшаяся безволием и слабостью, к концу жизни принесла Сергию небывалую власть над душами людей. Современники ощущали словно бы оживший в нем героический дух первых времен христианства.
Именно завет Иисуса — «возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Матфей, U, 29) — заставил Сергия выйти из уединения, ибо смирению нельзя было научиться в одиночестве.
Посвятив годы незримого духовного труда достижению смирения — этой полузабытой ныне добродетели, Сергий вполне овладел ею. Один из самых тонких исследователей русской агиографии, основатель учения о святости как категории духовной культуры русского Средневековья, Г. П. Федотов, говоря о Сергии, справедливо заметил: «Смиренная кротость — основная духовная ткань его личности» (105, 134). Действительно, именно кротость — та самая, которую Иоанн Лествичник называл «матерью любви» (34, 187), — стала плодом его многолетнего самовоспитания.
Торный путь монаха к смирению — через послушание под началом опытного в подвижничестве «старца». Сергий, не окончив этой школы, искал случая взять на себя добровольное послушание не только у каждого из братьев в отдельности, но и у всей общины в целом. Таким необычным послушанием и стало его безвластное игуменство в «общине двенадцати».
Что мы, люди совсем другой эпохи, можем почерпнуть из духовного опыта Сергиева смирения? Прежде чем искать ответ на этот вопрос, следует восстановить в правах добродетели само слово «смирение». Ныне для многих оно ассоциируется с примитивно понимаемым евангельским тезисом — «ударившему тебя по щеке подставь и другую» (Лука, 6, 29). Эти слова Иисуса обычно воспринимают иронически, как призыв к «непротивленчеству», которое, в свою очередь, кажется нам чем-то унизительным и нелепым для нормального, физически здорового человека.
Но совсем иначе понимали их люди Средневековья. В отличие от нас они всегда видели за словами о пощечине того, кто их произнес: Сына Божьего, повелителя всего и вся. Все его слова и дела — «нашего ради спасения». Завет о правой и левой щеке — не признак слабости, но, напротив, высшей силы: способности стать над собственным «я», принести его в жертву общему спасению. Сокровенный смысл этих слов Иисуса точнее всего раскрыл апостол Петр в своем известном наставлении: «Не воздавайте злом за зло» (1 Пет. 3,9). Ему вторит Василий Великий: «Не исцеляйте зла злом» (37, 167). Отчаянная попытка разорвать бесконечную цепь зла, которой сковано человечество, с помощью самоотречения и самопожертвования — вот что кроется в словах Иисуса о пощечине. И если люди в большинстве своем до сих пор не последовали его совету, то это отнюдь не означает, что они нашли более действенное решение основной задачи бытия. И скольких бедствий избежало бы человечество, если бы хоть иногда не пренебрегало этим советом!
Отказ от зла, совершаемого во имя «социальной справедливости» или иной высокой цели, — не блажь «юродствующих во Христе». Это позиция, прямо противоположная печально знаменитому девизу иезуитов — «цель оправдывает средства». Преодоление зла — добром, силы — смирением, ненависти — любовью — один из ключевых вопросов истории человечества. Действительность продолжает оставаться жестокой. Она на каждом шагу опрокидывает мечты идеалистов, как только они пытаются воплотить их в жизнь. И все же здесь — и, может быть, только здесь! — открывается даль, свет, свобода. И не случайно именно этот вопрос притягивал к себе мыслителей и пророков России — Гоголя и Толстого, Достоевского и Соловьева, Бердяева и Булгакова. Их далеким предтечей был и Сергий с его смиренной кротостью и властью без силы.
Сергиево смирение было формой самоотречения — основы всякого истинного подвижничества. На деле оно выражалось в умении властвовать собой, не отвечать гневом на гнев, обидой на обиду, оскорблением на оскорбление. И не только не отвечать, но и не таить в сердце недоброго чувства, стирать из памяти причиненное кем-то зло. Это смирение — необходимая предпосылка всеобъемлющей любви к людям, которая есть высшая и последняя мудрость Евангелия.
Ярким и своеобразным проявлением напряженной духовной жизни Сергия были его видения. И если в период одиночества из мрака зимнего леса ему не раз являлись демоны, — то теперь они, посрамленные, отступили от праведника. На смену им пришли иные, светоносные образы. Об одном из этих ранних видений — видении о птицах — рассказывает Житие Сергия. Словно огненная точка в фокусе линзы, это видение было вспышкой накопившегося нервного напряжения. Главная и неизбывная тревога Сергия в ту пору — тревога за будущее общины — причудливо преломившись в образах Священного Писания, стала реальной основой этого видения...
Сбережения архимандрита Симона были быстро истрачены, а нужда не только не исчезла, но еще более обострилась с увеличением численности братьев. Многодневные голодовки следовали одна за другой. В этих условиях особножительный устав неизбежно раскалывал общину на сытых и алчущих. И те и другие питали взаимную неприязнь, грозившую перерасти в ненависть.
Сергий, по своему обыкновению, искал ответа на вопросы, которые ставила перед ним жизнь, в Евангелии. Он вновь и вновь вспоминал те строки, где говорилось о борьбе телесного и духовного начала в человеке. «Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» {Матфей, 6, 31—34).
Именно так он и поступал, когда жил один. Но теперь он нес ответ перед Богом за благополучие целого сообщества иноков. Став «игуменом-старостой», он уже не мог не думать о судьбе своего дела, о будущем лесного монастыря.
Часто мысль его останавливалась на известном рассуждении Спасителя о птицах небесных. «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Матфей, 6, 26). Образ иноков, живущих беззаботно, как птицы, которых Творец никогда не оставляет без пищи, преследовал Сергия. Именно этот образ и стал темой первого из видений.
Однажды поздно вечером, когда он, уединившись в келье, молился о благополучии монастыря, кто-то позвал его: «Сергие!» Игумен отворил оконце своей кельи и увидел в небе чудесное сияние. И вновь прозвучал голос: «Сергие! Молишься о своих чадех, и Господь моление твое прият». И тут он увидел множество «птиц зело красных, прилетевших не токмо в. монастырь, но и округ монастыря». Неведомый голос пояснил видение: множество птиц — это множество учеников и последователей, которые будут у Сергия на этом месте.
Потрясенный видением, Сергий стал звать жившего в соседней келье Симона. Прибежавший на крик игумена Симон увидел только лишь «часть некую света оного». Сергий рассказал ему все по порядку, и они еще долго, «душею трепещуще», обсуждали «неизреченное видение» (9, 364).
Собирая сведения о Сергии, Епифаний Премудрый тщательно записывал рассказы о совершенных им чудесах. Для первого, «дообщежительного» периода истории монастыря их было немного, и воспоминания о них были весьма туманны. Первое чудо заключалось в том, что по молитвам Сергия в овраге близ монастыря из земли ударил родник. Это вызвало всеобщую радость: прежде монахам приходилось носить воду издалека.
Второе чудо — исцеление Сергием некоего «бесноватого вельможи». С помощью креста и молитвы игумен изгнал бесов из одержимого, и он ушел из обители совершенно здоровым.
Оба рассказа весьма традиционны по сюжету. Они перекликаются с некоторыми известными эпизодами из Библии. Первый напоминает изведение воды Моисеем во время бегства евреев из Египта (Исход, 17, 3—6), второй — многочисленные исцеления «бесноватых», которые совершал Иисус (Марк, 5, 1-13; 9, 17-29).
Возможно, что в основе этих рассказов лежат реальные события. Рождение родника в одном из оврагов, окружающих монастырь, — вещь вполне естественная. Не столь уж фантастично и «исцеление бесноватого». Человек с таким высоким потенциалом внутреннего напряжения, как Сергий, вероятно, мог с помощью внушения исцелять психические расстройства, да и иные болезни, вызванные нарушениями в области высшей нервной деятельности. В ту религиозную эпоху такого рода медицина была гораздо более действенна, чем в более поздние времена.
Настоящую бурю вызвали в душе Сергия события, положившие конец его «неофициальному игуменству», — принятие священнического сана и введение в обители «общего жития». Они произошли одно за другим, в 1353—1354 годах, и, как уже отмечалось, были, по-видимому, тесно связаны друг с другом. Соглашаясь на принятие сана, Сергий предчувствовал, что за этим последует его превращение в настоятеля киновии. Нет никаких оснований сомневаться в свидетельстве Жития: Сергий действительно не хотел для себя ни священства, ни игуменства в киновии. Долгие годы, заглушая «голос крови», он воспитывал в себе смирение и избегал любой власти. И вот теперь, когда «священный грозд смирения» был наконец взращен в его душе, ему приходилось разрушать то, что он столь кропотливо созидал. Священство — это честь, это некое превосходство над окружающими; игуменство в киновии — это власть «с грозой», это обязанность быть духовным отцом братьев, наставником и «пастухом».
И вместе с мерой власти возрастает и мера ответственности перед Богом за ее употребление.
Переход к новому состоянию был для Сергия подлинной трагедией, ибо он влек за собой громадные утраты в том, что подвижник ценил более всего — в смирении и внутренней свободе. Объясняя братьям причину своего нежелания, он высказался со всей прямотой: «Аз убо сам желаю от инех обладаем быти паче, нежели иными обладати и начальствовати» (9, 326).
Что же все-таки заставило его принять власть? Разумеется, это не могла быть какая-то внешняя сила, чьи-то уговоры или принуждение. По образному выражению Жития, Сергий уже тогда «выше прещениа муж обретеся», то есть был выше любого приказания или принуждения. Это решение зрело в нем медленно и неуклонно, в долгих раздумьях и беседах с людьми, мнением которых он дорожил.
К введению «общего жития» склоняла внутренняя потребность маковецкой общины: разрастаясь, она в условиях «особного жития» испытывала все более острые внутренние противоречия, вызванные имущественным неравенством. Вероятно, Сергий глубоко страдал, становясь свидетелем и невольным участником конфликтов между братьями. Автор Жития Сергия не считает нужным говорить об этой неприглядной стороне жизни общины. Однако описанный им подлинный раскол, вызванный введением «общего жития», образовался, конечно, не на пустом месте, а именно как закономерный итог старых распрей.
Мысль о введении «общего жития», несомненно, посещала Сергия и при чтении Киево-Печерского патерика. Приверженцем этого уклада иноческой жизни был «отец русского монашества» Феодосии Печерский, пример которого всегда был путеводным для Сергия. Следуя его заветам, можно было на основе общежития по-настоящему поставить на Маковце дело благотворительности и «страннолюбия».
И все же главная, коренная причина, заставившая радонежского игумена решиться на перестройку всей жизни в общине, заключалась в том, что в этом он увидел высшую форму проявления любви к людям. Можно думать, что именно тогда, в начале 50-х годов XIV века, Сергий пришел к мысли об особом, исключительном предназначении маковецкого монастыря, о его грядущем великом служении миру. То был новый горизонт его духовного роста. Он мечтал о создании сообщества праведников — людей правды, — живущих по заветам Спасителя. Для «мира» Маковец должен явить достижимость и действенность христианских идеалов, и в первую очередь — любви и единомыслия; для Бога, которого Сергий всегда ощущал рядом, как бы невидимо наблюдавшим за всем происходящим, маковецкие иноки должны были стать теми немногими праведниками, во имя которых он некогда обещал Аврааму сменить гнев на милость и пощадить даже Содом и Гоморру.
Понимал ли Сергий причины, которые побуждали митрополита Алексея всеми силами способствовать возрождению на Руси киновий? Вероятно, понимал и во многом был единомыслен с владыкой. Однако едва ли он часто думал об этом. Им владели иные заботы. Собрав всю свою любовь и всю волю, он должен был совершить почти чудо: примирить извечных врагов — человека и общество, равенство и иерархию, вечность и повседневность.
Воистину, это было великое зрелище, и нам стоит задержать на нем свой взор. Смиренный инок Сергий Маковецкий, уподобившись самому Творцу, начинал строить новый мир. В этом мире люди будут жить по законам добра, а не по законам зла. Между ними будут царить любовь и единомыслие, небесным прообразом которых служит Святая Троица. Это будет светлый и свободный мир, о котором люди всегда мечтали, но которого никогда не могли создать на земле.
Киновия — как бы малый образ этого грядущего мира. Монастырь на Маковце должен уподобиться тому горчичному зерну, о котором говорил Иисус. Оно «хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его» (Матфей, 13, 32).
В то время как Сергий на Маковце совершал свое служение, его брат Стефан оказался в самом центре драматических событий 40-х годов XIV века. Будучи духовником великого князя Семена Ивановича, он видел скрытую для других постоянную борьбу между совестью и политическим расчетом, происходившую в сознании его духовного сына.
Как и его отец, Семен был очень противоречивым человеком. Жестокий и беспощадный как правитель, он смотрел на свою деятельность как на служение «высшим интересам» и потому надеялся на оправдание на Страшном суде. Князь верил в то, что московское домостроительство угодно самой Богородице. Он был ее паладином. И даже в своей духовной грамоте Семен умолял братьев хранить пламя зажженной в Москве «свечи» — в христианской символике традиционного уподобления Царицы Небесной.
Однако все возраставшее бремя грехов порой приводило Семена в отчаяние. Не переполнилась ли чаша милосердия и терпения Всевышнего? Не навлек ли он на себя и на свой род гнев Божий, которому никто не в силах противиться?
Исповедуя князя, Стефан часто ощущал себя слабым, беспомощным рядом с ним. Ему казалось, что Семен находится в каких-то особых, близких и вместе с тем сложных, трудных отношениях с Богом. Духовник умел хранить тайну исповеди. Однако то, что открывал ему великий князь, было слишком важным, чтобы он мог об этом не думать. Разрешая Семена от грехов и назначая покаяние, Стефан сам нуждался в мудром совете и сочувствии.
Лишь с двумя людьми духовник мог говорить обо всем. То были Алексей и Сергий. Первый из них был его покровителем и наставником. Стефан не только по своему положению, но и по старой привычке не мог смотреть на Алексея иначе как снизу вверх.
По-другому чувствовал себя Стефан во время редких встреч с братом. Здесь, на Маковце, он отдыхал душой после изнурительного плавания по волнам «многомутного моря житейского». Он слушал шум ветра в вершинах деревьев, следил за неторопливым ходом облаков. Но особую радость приносило общение с Сергием. Временами Стефану казалось, что он пьет живую воду из сокровенного родника.
Братья беседовали обо всем. Впрочем, говорил главным образом Стефан. Сергий слушал его, не прерывая, с глубоким вниманием и сочувствием.
Из рассказов брата перед Сергием вставала полная тревог жизнь Москвы. Со всех сторон ей грозили опасности, козни внешних и внутренних врагов. В тяжелой борьбе она отстаивала и преумножала свои завоевания.
Кругозор московских правителей не ограничивался Северо-Восточной Русью. Они внимательно следили за тем, что происходило в самых разных уголках христианского мира и в азиатских степях. Москва осознавала себя частью единого политического организма — Восточной Европы. Здесь в первой половине XIV века шли сложные, противоречивые процессы. Одни государства только нарождались, другие переживали период расцвета, третьи клонились к закату. То тут, то там происходили великие события, определявшие судьбы народов и династий. Но здесь, в лесной глуши Радонежья, все это становилось каким-то далеким, нереальным. В беседах братьев постоянно звучала мысль о Боге. Для Стефана, как и для Сергия, Бог был главным двигателем всего, что происходило между людьми. «Пути господни неисповедимы». Но воля его могла являться в знамениях и пророчествах. Разгадать их тайный смысл могли лишь те, кто угодил Всевышнему праведной жизнью.
Проникшийся московскими идеями, Стефан убеждал брата, что дело, начатое Иваном Калитой и продолженное его сыном Семеном, священно. Это дело — собирание Руси, возрождение ее былой славы и могущества. Но над Москвой, над домом Даниила, все еще тяготеет гнев Божий. О том, что Всевышний не простил московских князей, свидетельствовала череда грозных и знаменательных событий.
Второй сын Калиты, Иван, зимой 1341/42 года женился на дочери брянского князя. А через год молодая княгиня Феодосья умерла.
Спустя года полтора случилось новое, на этот раз куда более страшное событие. В субботу, 31 мая 1343 года, накануне Троицы, в Москве вспыхнул пожар. Огонь бушевал весь день. Одних только церквей сгорело около трех десятков. На следующий день вместо праздничного веселья Москва рыдала на пепелищах. Летописец записал то, что было тогда у всех на устах: с того памятного 1328 года, когда Иван Калита вместе с татарами разорил всю тверскую землю, пролил реки русской крови — это был уже четвертый «пожар великий на Москве» (20, 94). Все знали, что пожар — одна из «казней Божьих».
Как и его отец, Семен искал примирения с Богом на путях нищелюбия и храмоздательства. Уже в следующем, 1344 году он начал огромное по размаху богоугодное дело. Выстроив в московском Кремле четыре каменных храма, Иван Калита не нашел средств для того, чтобы достойно их украсить. Семен решил совершить то, что не успел сделать его отец. Собрав лучших живописцев, он заказал им роспись кремлевских церквей Михаила Архангела и Иоанна Лествичника. Они исполнили эту работу в 1344—1346 годах.
Митрополит Феогност также пожелал принять участие в богоугодном деле. Приглашенные им иконники-греки в 1344 году расписали «дом святой Богородицы» — московский Успенский собор.
Дошла очередь и до колокольни. В 1346 году по княжескому заказу мастер Борис Римлянин отлил для нее пять колоколов: «три колоколы великиа, а два малыя» (20, 95).
Семен позаботился и о богослужебных предметах, находившихся в соборе. В 1343 году золотых дел мастера изготовили великолепный оклад для так называемого «Евангелия Семена Гордого». По-видимому, это было напрестольное Евангелие московского Успенского собора.
Расцветали стенописями и наполнялись сиянием драгоценной утвари кремлевские церкви, возносила к небесам свои заливистые перезвоны колокольня. Но по-прежнему тяжело, неспокойно было на душе у великого князя. Господь не давал ему главной отрады и надежды правителя — сына, продолжателя рода и дела. Первая жена Семена, крещеная литовская княжна Айгуста-Анастасия, за 12 лет супружества родила князю двух сыновей, но оба они умерли в младенчестве. Надеясь умилостивить Бога, княгиня решила на свои личные средства расписать одну из кремлевских церквей — монастырский храм Спаса на Бору. Для нее, как и для Семена, украшение кремлевских храмов было своего рода покаянием, молитвой. Однако ей не суждено было увидеть этих росписей. 11 марта 1345 года Анастасия умерла, перед кончиной приняв монашеский постриг. Ее похоронили в стенах церкви, об украшении которой она так заботилась.
Вскоре после кончины Анастасии Семен женился вторично. Его избранницей стала дочь смоленского князя Федора Святославича Евпраксия.
Второй брак великого князя оказался еще менее удачным, чем первый. Один из источников сообщает: «Великую княгиню на свадьбе испортили: ляжет с великим князем, и она ему покажется мертвец» (113, 85). Не позднее чем через год после свадьбы Семен отправил Евпраксию обратно к отцу.
Князь знал, что этим решением он отступает от Евангелия. Сам Спаситель не одобрял развода. «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее; и если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует» (Марк, 10, 11—12).
Семен согрешил вдвойне. Разведясь с Евпраксией, он «велел ее дати замуж». Она была выдана за князя Федора Фоминского и имела от него детей.
Можно только догадываться о мотивах этого распоряжения. Вероятно, великий князь не желал окончательно испортить отношения со смоленским князем. Но, быть может, он просто пожалел несчастную и решил обеспечить ее будущее.
Развод великого князя вызвал осуждение в церковных кругах. Впрочем, иерархи и без того недолюбливали Семена. Их раздражал его властный и независимый характер. За глаза они называли его «Гордым». Это прозвище звучало как оскорбление: согласно христианским представлениям гордость была противоположностью кротости и смирению. Она стояла в одном ряду с тяжелейшими грехами. «Убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, — все это зло извнутри исходит и оскверняет человека» (Марк, 7, 21—23). «Бог гордым противится» (1, Пет., 5, 5).
Великого князя мало беспокоили косые взгляды иерархов. Эти люди не могли повредить его душе. Он хорошо знал истинную цену их благочестия, знал, какими темными путями каждый из них достиг своего положения.
Но «Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» (Плач. 3, 38). Гораздо важнее, нежели суждения «князей церкви», было для князя другое: как отнесется к его разводу и третьему браку высший, нелицеприятный Судья? Не навлечет ли он своими действиями на себя и на Москву новое, еще более страшное наказание?
И тогда Семен пришел к мысли о небывалом покаянии. Он решил жениться на дочери казненного в Орде в 1339 году князя Александра Тверского Марье. Казнь Александра и его сына Федора была подготовлена Иваном Калитой, а отчасти и самим Семеном. Как и его отец, казненный в Орде в 1318 году Михаил Тверской, Александр чтился в народе как невинная жертва злобы и коварства московских князей. Кровь мучеников, разрубленных на части ханскими палачами, пала на дом Даниила Московского. Быть может, в этом была главная причина гнева Божьего.
Браком с Марьей Тверской Семен надеялся заслужить прощение Всевышнего. Возможно, у князя была и тайная, заветная мысль: со временем потомки Семена и Марьи должны были объединить под своей властью оба княжества.
Увлеченный своей идеей, Семен готов был пойти на все ради ее осуществления. Он вконец испортил и без того весьма натянутые отношения с митрополитом Феогностом. Тот, ссылаясь на церковные каноны, категорически отказывался дать согласие на третий брак великого князя. С помощью придворных книжников Семен подобрал веские аргументы в свою пользу, напомнил митрополиту о том, что некогда в третий брак вступил даже знаменитый византийский император Константин Мономах. Однако Феогност был непреклонен.
И тогда, воспользовавшись отсутствием митрополита, Семен в 1347 году женился без его согласия. Все причастные к этой свадьбе — княжеские послы, ездившие за невестой в Тверь, придворные клирики, венчавшие Семена и Марью, наконец, сам он со своей молодой княгиней — рисковали быть отлученными от церкви. Лишь ценой щедрой «милостыни» Семен сумел получить признание своего брака константинопольским патриархом.
Митрополит некоторое время продолжать делать вид, что гневается на великого князя. Однако в глубине души он был доволен таким исходом дела. Года два спустя он уже выступал в роли крестного отца одного из княжеских сыновей.
Третий брак Семена поначалу был очень удачным. Супруги полюбили друг друга. В княжеской семье один за другим рождались сыновья — Даниил, Михаил, Иван, Семен. В их именах как бы переплеталась история Москвы и Твери. Злые языки говорили: недостает лишь Александра.
Однако радость великого князя была преждевременной. Уже давно то в восточные, то в западные ворота Руси стучалась незваная гостья — чума. Она считалась одной из самых страшных «казней Божьих». Весной 1353 года «моровая язва» — так называли на Руси чуму — пришла в Москву.
Обычные в таких случаях меры предосторожности — карантины на дорогах, сожжение домов умерших — оказались бесполезными. Против моровой язвы не устояли и могучие, сложенные из вековых дубовых стволов кремлевские стены. Вскоре чума пришла в митрополичьи и княжеские хоромы.
Никто не знал тогда, что заразу разносят не только больные люди, но и отвратительные серые крысы, обитавшие в сточных канавах, на чердаках и в подвалах деревянных домов. Их передвижение не могли остановить никакие стены и караулы.
11 марта 1353 года умер митрополит Феогност.
Беда не приходит одна: Феогност умер в понедельник, а вслед за ним, на той же неделе, умерли два сына великого князя — Иван и Семен. Остальных его сыновей к этому времени, по-видимому, уже не было в живых.
Безгранично было горе великого князя. Вместе с младенцами-сыновьями он утратил то, ради чего жил: мечту о будущем Московском царстве, на престоле которого будут сидеть его потомки. Перед Семеном открылась страшная правда: гнев Божий не прекратился, а лишь ненадолго затих. И вот он вновь разгорелся. Подул ветер — и выбросил птенцов из гнезда на холодную землю.
Умевший мужественно переносить удары судьбы, Семен на этот раз бессильно опустил руки: никто не в силах противиться Всевышнему.
Вместе с княгиней Марьей они подолгу молились перед древним образом Спаса, который, по преданию, принадлежал самому Александру Невскому — прадеду Семена. Князь без конца повторял с детства знакомую молитву древнего киевского митрополита Илариона: «Господи, устави гневный твой пламень, простирающийся на ны, рабы твоя... Не попущай на ны скорби, и глада, и напрасных смертий, огня, потопления, да не отпадут от веры нетвердии верою»...
Утешая великого князя, придворные клирики напоминали ему о судьбе библейского праведника Иова. Испытуя твердость его веры, Бог отнял у него все, но потом вернул сторицей. Однако многогрешного Семена ждал иной жребий. Едва справив сороковины митрополита Феогноста, он почувствовал признаки той же болезни.
В своем завещании князь Семен, позаботившись о будущем московского дела, не забыл и традиционных распоряжений, направленных на спасение души. Он велел отпустить всю челядь, простить ей долги. Желая предстать перед Всевышним в «ангельском чине», князь принял схиму и получил монашеское имя Созонта. Это имя князь выбрал сам. В день памяти мученика Созонта, 7 сентября 1317 года, Семен появился на свет. Теперь с именем Созонта он уходил обратно во мрак небытия.
26 апреля 1353 года великий князь Семен Иванович скончался. А 6 июня, через два дня после окончания сорокадневного траура по Семену, умер его младший брат Андрей. Вероятно, причиной его кончины была все та же моровая язва.
Вновь, как и после смерти Ивана Калиты, все видные русские князья устремились в Орду, где решалась судьба великого княжения Владимирского. Однако и на сей раз недругов Москвы ожидало разочарование. Хан Джанибек не возражал против того, чтобы Иван Иванович, наследуя брату, занял не только московский, но и владимирский стол. Получив ярлык, Иван взошел на великое княжение Владимирское 25 марта 1354 года. Как и Семен, он приурочил свое вокняжение к одному из главных богородичных праздников, на этот раз — Благовещению.
Вдова Семена, княгиня Марья, передала Ивану оба полученных ею по «духовной грамоте» Семена города — Можайск и Коломну. Оценив ее благоразумие, Иван сохранил за ней в пожизненном владении все остальные села и волости, перечисленные в завещании.
Встречаясь с Иваном, княгиня Марья постоянно испытывала чувство, похожее на досаду: новый князь московский казался таким слабым и неуверенным по сравнению с Семеном. Впрочем, это заметила не одна только Марья. У кормила московского корабля оказался человек, пригодный лишь для роли гребца.
Повсеместный разгул «черной смерти», трагический конец великого князя Семена были для Сергия свидетельством силы Божьего гнева, по-прежнему тяготевшего не только над Москвой, но и над всей Северо-Восточной Русью. Вновь и вновь он убеждался: спасти страну могли только «сильные перед Господом» — праведники.
Размышляя о внутренней жизни Сергия, нельзя пройти мимо такого события, как поставление его в священники. Оно было не только фактом его «внешней» биографии, но и одним из самых сильных в жизни радостных переживаний.
Впрочем, не только самый момент рукоположения («хиротонии»), но и весь «переяславский поход», несомненно, глубоко взволновал Сергия. Привыкнув к размеренной жизни в стенах обители, к одним и тем же лицам и картинам, он с особой остротой и свежестью воспринимал открывшийся перед ним огромный мир.
Пройдя около 70 верст по лесным дорогам, Сергий и два сопровождавших его инока вышли наконец к Переяславлю. Лес расступился. Перед ними открылась головокружительная даль. Внизу лежала огромная котловина, склоны которой поросли лесом. Лишь кое-где деревья были сведены, и на полянах зеленели молодые хлеба. На дне котловины раскинулось неоглядное Плещеево озеро. Ветер морщинил его синюю гладь, наполнял паруса рыбачьих лодок.
На южном берегу озера темнела плотная масса бревенчатых построек. Город был оправлен в широкое кольцо стен, тянувшихся по кромке вала. Отчетливо был виден белый кубик собора, островерхая звонница.
Спустившись с холма по тяжелой и для пешего, и для конного песчаной дороге, маковецкие иноки вошли в город. Владыка Афанасий жил на митрополичьем подворье, неподалеку от старого княжеского дворца. Некогда нарядный и обширный дворец, оставшись без хозяев со смертью последнего переяславского князя Ивана Дмитриевича в 1302 году, быстро пришел в упадок. Покосились высокие башни, потускнела позолота шпилей, подгнили столбы широкой галереи — «сеней», тянувшихся вдоль всего главного покоя. Лишь несколько хором, в которых останавливался, бывая в Переяславле, великий князь, поддерживались в относительном порядке. За ними присматривали княжьи наместники. Высокий крытый переход соединял дворец с собором. Через узкую дверь в стене собора князь и его свита попадали прямо на «хоры» — своего рода балкон, устроенный в западной части храма и предназначенный для знати.
Переяславский Спасо-Преображенский собор (сохранившийся и до наших дней) был первым из белокаменных храмов Владимирской Руси. Его построил князь Юрий Долгорукий, заложивший город близ устья реки Трубеж и давший ему имя в честь своей южной столицы. В отличие от Переяславля-Южного новый город стали именовать Переяславлем-Залесским.
Небольшой по размерам собор производил впечатление спокойной, уверенной в себе силы. Его стройный силуэт возвышался над теснившимися вокруг черными избами. Казалось, огромный лебедь опустился из заоблачной выси на древней вечевой площади Переяславля. Еще миг — и он снова взлетит туда, где кружит, ожидая его, белоснежная стая.
Местное предание утверждало, что строили храм иноземные мастера, присланные Юрию Долгорукому его зятем, галицким князем Ярославом Осмомыслом. Обученные всем хитростям «латинского» храмоздательства, они возвели переяславский собор из невиданного в здешних местах строительного материала — аккуратно отесанных квадров белого камня-известняка. По приказу Юрия камень возили на ладьях почти от самых верховий Волги и далее, по речке Нерль Волжская, — в Плещеево озеро.
По странной прихоти заказчика собор поставили не в центре города, а у самого крепостного вала. Впрочем, благодаря этой особенности местоположения его благородный силуэт еще более отчетливо читался на фоне темного, выложенного булыжником внутреннего откоса земляного вала. Снаружи, из-за Трубежа, из-за городских стен, собор был почти не виден. Лишь его золоченый крест едва-едва поднимался над линией заборолов.
Спасо-Преображенский собор был средоточием духовной жизни Переяславля, кафедральным храмом епископа Афанасия. Здесь владыка по праздникам совершал торжественное богослужение, здесь ставил священников и дьяконов.
Афанасий радушно принял гостей. Он много слышал о них, понимал, какую пользу могут принести православному делу на Руси эти молчаливые отшельники, собравшиеся на Маковце.
Выслушав просьбу «старцев» дать им игумена, Афанасий объявил им, что именно Сергий призван стать настоятелем. Когда Сергий и тут стал отказываться, Афанасий строго заметил: «Возлюбленне! Вся стяжал еси, а послушаниа не имаши» (9, 328). Сраженный этим упреком из уст епископа, Сергий сдался.
Не мешкая, епископ Афанасий принялся за дело. После краткого экзамена, который заключался главным образом в том, что поставляемому велено было прочесть на память православный символ веры, Афанасий объявил Сергию, что он готов к принятию сана.
На следующий день рано утром, до начала литургии, Афанасий совершил обряд поставления Сергия в степень иподьякона, то есть «помощника дьякона». Его облачили в стихарь — особого рода одежду, род хитона, усвоенную дьяконам и иподьяконам. Затем епископ, стоя перед дверьми, ведущими в северную часть алтаря («жертвенник»), возложил руку на голову поставляемому и прочел соответствующую молитву. После этого, согласно ритуалу, новый иподьякон, взяв в алтаре рукомойник, возливал воду на руки епископу. Обряд поставления в иподьякона при необходимости мог быть соединен с другим обрядом — рукоположением в дьякона. Именно так произошло с Сергием. Став иподьяконом, он принимал участие в совершении литургии вместе с другими иподьяконами до того момента, когда по уставу полагалось приступить к поставлению дьякона. Этот обряд был как бы «вставкой» в чинопоследование литургии. Два дьякона, взяв Сергия под руки, ввели его в алтарь, подвели к престолу. Здесь его ожидал Афанасий. Встав на правое колено и преклонив голову, Сергий замер. Наступил миг, когда благодать Святого Духа от епископа должна была перейти к нему. Владыка возложил правую руку на голову Сергия, прочел положенную молитву. Затем он опустил на плечо Сергия главный атрибут дьяконского сана — орарь. Этим греческим словом обозначалась вышитая крестами длинная лента из плотной ткани, которую дьякон носил на левом плече. Подобно тому как сам дьякон во время богослужения символизировал собою ангела, орарь означал ангельские крылья. В наиболее торжественные моменты дьякон приподнимал орарь тремя перстами.
Обряд поставления подходил к концу. Сергий поцеловал руку епископа, взял рипиду — своего рода опахало, которым дьякон должен был в ходе литургии взмахивать над святыми дарами, — и стал в ряды других дьяконов, окружавших владыку.
Сергий мог стать полноправным игуменом, лишь имея сан священника. Не откладывая, Афанасий уже на другое утро совершил и этот обряд. Вновь во время литургии Сергий был введен в алтарь и встал на колени перед престолом. На этот раз он преклонил не одно, а оба колена. Афанасий трижды перекрестил его, возложил руку на голову и прочел молитву. Потом он перекинул вперед свисавший на спину конец дьяконского ораря, превратив его таким образом в епитрахиль — главную часть облачения священника. Согласно церковным правилам без епитрахили — широкой, вышитой крестами полосы ткани — священник не имел права совершать богослужение и даже входить в «царские врата» — центральные двери иконостаса. Орарь иподьякона и дьякона, епитрахиль священника и омофор епископа символизировали полученную ими при поставлении Божественную благодать.
Вместе с епитрахилью Сергий получил и другую важнейшую часть облачения священника — фелонь. (Как одна из главных святынь Троицкого монастыря фелонь преподобного сохранилась до наших дней.) В заключение обряда он совершил братское целование со всеми присутствовавшими священниками и встал возле них. Во время причащения, которым завершалась литургия, новопоставленный по традиции первым получил из рук епископа Святые Дары и потом сам причастил остальных священников и дьяконов.
Желая убедиться в том, что Сергий, всего за два дня прошедший сразу три иерархические ступени, вполне овладел ремеслом священника, Афанасий поручил ему самому совершить всю литургию. Он успешно выдержал это испытание. Да и могло ли быть иначе: каждая подробность службы, каждое слово и жест священника еще с детства были прочно схвачены памятью.
Поставление в священники, несомненно, стало одним из самых сильных переживаний в жизни Сергия. Нам трудно даже представить то сложное сплетение мыслей и чувств, которое вызывала литургия у средневекового человека. Лучше понять Сергия, его состояние в те минуты, когда он совершал первую в своей жизни литургию, нам поможет небольшое извлечение из статьи Н. В. Гоголя «Размышления о Божественной литургии». Писатель работал над ней в 1845— 1852 годах в пору своих напряженных религиозно-нравственных исканий. Статья — впрочем, сам автор предпочитал называть ее «книгой» — так и не была окончена. Некоторые слова пропущены, мысли не везде завершены.
«Для всякого, кто только хочет идти вперед и становиться лучше, необходимо частое, сколь можно, посещение Божественной Литургии и внимательное слушанье: она нечувствительно строит и создает человека. И если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримой ненавистью между собой, то сокровенная причина тому есть Божественная Литургия, напоминающая человеку о святой небесной любви к брату. А потому, кто хочет укрепиться в любви, должен, сколько можно чаще, присутствовать, со страхом, верою и любовию, при священной трапезе любви. И если он чувствует, что недостоин принимать в уста свои Самого Бога, Который весь любовь, то хоть быть зрителем, как приобщаются другие, чтоб незаметно, нечувствительно становиться совершеннее с каждой неделей.
Велико и неисчислимо может быть влияние Божественной Литургии, если бы человек слушал ее с тем, чтобы вносить в жизнь слышанное.
Всех равно уча, равно действуя на все звенья, от царя до последнего нищего, всем говорит одно, не одним и тем же языком, всех научает любви, которая есть связь общества, сокровенная пружина всего стройно движущегося, пища, жизнь всякого.
Но если Божественная Литургия действует сильно на присутствующих при совершении ее, тем еще сильнее действует на самого совершителя или иерея. Если только он благоговейно совершает ее со страхом, верой и любовью, то уж весь он чист подобно сосудам, которые уже ни на что потом...; пребывает ли он весь тот день в отправленьи своей многообразной пастырской обязанности, в семье ли посреди своих домашних, или посреди своих прихожан, которые суть также семья его, — сам Спаситель в нем вообразится, и во всех действиях его будет действовать Христос; и в словах его будет говорить Христос. Будет ли склонять он на примиренье между собой враждующих, будет ли преклонять на милость сильного к бессильному, или ожесточенного, или утешать скорбящего, или к терпенью угнетенного, или... — слова его приобретут силу врачующего елея и будут на всяком месте словами мира и любви» (52, 1475).
Вслед за благодатью священства Сергий получил и сан игумена. По сравнению с предыдущим этот обряд отличался относительной простотой. В том же соборе в присутствии своих клириков Афанасий подозвал к себе Сергия и, прочтя положенные в таких случаях молитвы, трижды перекрестил его склоненную голову. Новопоставленный, облачившись в игуменскую мантию, обменялся «поцелуем любви» с присутствовавшими при сем клириками, после чего совершился «отпуст» — общее заключительное молебствие.
Поставив Сергия в священники и игумены, Афанасий еще несколько дней удерживал его у себя. Он делился с ним своим богатым знанием монашеской жизни в Южной Руси и Византии, советовал, как правильно построить богослужение и весь уклад жизни в маковецкой обители.
Как ни богат был Переяславль святынями и реликвиями, как ни полезны были для Сергия долгие беседы с владыкой, однако он с тайным нетерпением ждал того часа, когда сможет отправиться в обратный путь. И вот настал день, когда, простившись с Афанасием и поцеловав его руку, три инока вышли за городские ворота.
Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне,
и Я в нем, тот приносит много плода.
Перестройка монашеского обихода на началах «общего жития», как и ожидал Сергий, оказалась весьма сложным и многотрудным делом. Прежде всего необходимо было выработать новый устав — закон внутренней жизни обители. Вероятно, вместе с грамотой о введении «общего жития» патриарх прислал и список общежительного устава, который следовало взять за основу. В Византии в этот период сосуществовали два основных вида монастырских уставов («типиков») — константинопольского Студийского монастыря и обители Саввы Освященного близ Иерусалима. Существенно различаясь в разделе, посвященном порядку богослужения, они были очень близки в вопросах устройства монашеской общины.
Источники не сообщают, какой именно устав — Студийский или Иерусалимский — был принят во времена Сергия в Троицком монастыре. Однако несомненно, что основные его положения были достаточно традиционны для восточного монашества. Они хорошо известны по многочисленным русским спискам византийских общежительных уставов.
В основе «организационной» части нового устава лежали три принципа: равенство, послушание и четкое распределение обязанностей. Равенство обеспечивалось отсутствием у иноков какого-либо личного имущества и общей трапезой. Залогом послушания служили различные формы воздействия игумена на братьев: от отеческого внушения до изгнания из монастыря. Распределение обязанностей определялось продуманной системой «служб».
Житие Сергия сообщает о некоторых должностях, установленных в обители после введения «общего жития». Монастырская кладовая, где хранились съестные припасы, была поручена келарю. Другому брату было доверено попечение о старых и больных иноках; «повар» отвечал за порядок в монастырской кухне («поварне»), «хлебник» — за выпечку хлеба. За правильностью совершения богослужения наблюдал «уставщик». Ему помогали дьячки и пономари. Они зажигали свечи и лампады, наводили порядок в храме, читали на клиросе. Особый монах — «будильник» — отвечал за своевременный подъем иноков по утрам.
Вероятно, Сергий установил и другие принятые в киновиях «службы» — казначей, «трапезник» (старший в трапезной), «кутник» (разносящий блюда и напитки).
День в монастыре начинался с рассветом. Первым вставал «будильник». Он шел к келье игумена и, став под оконцем, громко произносил: «Благослови и помолися за мя, отче святый». Разбуженный этим возгласом игумен отвечал изнутри: «Бог спасет тя». После этого «будильник» ударял в малое било и совершал обход келий, восклицая под окном каждой: «Благословите, святые!» Дождавшись отклика и убедившись, что все иноки проснулись, «будильник» призывал пономаря. Тот ударял в большое било, призывая монахов в церковь на утреннюю молитву (66, 30).
Вступление в храм совершалось в строго определенном порядке. Все братья выстраивались в шеренгу на паперти. Священники и дьяконы становились впереди. Иерей, которому надлежало совершать в этот день службу, входил в храм первым. Перед ним шествовал чтец с горящей свечой. Священник кадил перед иконами, произносил несколько ритуальных возгласов. Лишь после этого остальные иноки чинно, по порядку входили в церковь с пением псалмов. Все монахи, в том числе и неграмотные, должны были знать Псалтирь наизусть.
Во время богослужения каждый монах стоял на своем месте. Игумену полагалось находиться в первом ряду справа, келарю — слева. Перед царскими вратами стояли монахи-священники, по сторонам — иеродьяконы.
Случалось, во время утреннего бдения иноки начинали перешептываться, переминаться с ноги на ногу, даже дремать. Благочиние немедленно восстанавливали два инока-надзирателя («эпитирита»), стоявшие справа и слева от толпы. Братья, которым надлежало отправиться куда-либо по монастырским делам, могли уходить из церкви до окончания службы. Все прочие стояли неподвижно до конца.
Наконец раздавались три удара в малое било, и монахи с пением псалма выходили из церкви. Путь их лежал в трапезную. Впереди всех шли игумен и совершавший литургию священник.
Распорядок монастырской трапезы был строг и неукоснителен. Обычно иноки имели две ежедневные трапезы — обед и ужин. Во время Великого поста допускалась лишь одна трапеза, а в некоторые его дни положено было только «сухоядение». Обед состоял из супа («варева») и каши («сочива»). Мясные блюда полностью исключались из меню иноков. На ужин подавали подогретое «сочиво», оставшееся от обеда. По праздникам монахи имели на трапезе «утешение» — кутью или пироги. Летом на монастырском столе появлялись овощи и фрукты, грибы и ягоды. В определенные дни на трапезе допускалась свежая, соленая, копченая и вяленая рыба.
Приготовление пищи начиналось весьма торжественно. От неугасимой лампады, горящей в алтаре храма, зажигали лучину. Затем, бережно укрыв от ветра, ее несли в поварню и там священным огнем поджигали дрова в печи.
В трапезной иноки занимали места за столом в соответствии со своим положением в обители. Постепенно в монастырях возникло своего рода «местничество». Нередко за право сидеть ближе к игумену возникали ожесточенные споры.
Сама трапеза была особого рода ритуалом. После краткой молитвы первым начинал есть игумен и только после этого — остальные иноки. Кутник, обходя всех, наполнял чаши. С первой чашей все подходили к игумену за благословением. Во время трапезы один из братьев читал вслух жития святых. Разговоры за столом категорически воспрещались.
Остатки трапезы — куски и крошки хлеба — тщательно собирали и выносили за ворота, где их уже ждали нищие. После обеда — но до захода солнца — совершалась вечерня. За ужином следовало новое богослужение — повечерие.
В качестве напитков в византийских монастырях употребляли вино, разведенное водой. В русских обителях «высокого жития» хмельные напитки были запрещены. Причину этого отличия откровенно высказал в своем монастырском уставе Иосиф Волоцкий: «О Рустей же земле ин обычей и ин закон: и аще убо имеем питие пианьственное не можем воздержатися, но пием до пианьства» (21, 318). Известно, что «сухой закон» ввел в своем монастыре ученик
Сергия Кирилл Белозерский. Относительно самого Сергия прямых сведений на сей счет не сохранилось. Впрочем, в одной богослужебной книге, написанной в Троицком монастыре в 1380 году, писец, начиная новый раздел текста, на полях отметил: «Почата, коли Епифана вином Лев поил» (126, 93).
Кроме трапезы, маленькой радостью в жизни иноков была баня. Поскольку она была «праздником тела», отцы монашества смотрели на нее очень косо. Византийские уставы разрешали инокам посещать баню не чаще чем один раз в месяц и только поодиночке. Последнее требование объяснялось традиционной нормой монашеского обихода — «ни перед кем не обнажай ни одного члена своего» (33, 55). Для посещения бани требовалось особое разрешение игумена. В Великий пост мыться в бане монахам вообще воспрещалось (53, 517).
Традиционную любовь русских к бане не могли одолеть даже строгие запреты византийских уставов. Ограничения на посещение бани аккуратно выскабливали из их текстов. Привычку к чистоте телесной оправдывали словами апостола Павла: «Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа» (1 Кор., 6, 19).
Важнейшим принципом отношений в киновии было почитание игумена и «старцев». Оно выражалось не только в беспрекословном послушании, но и чисто внешне, жестами. Придя к игумену и уходя от него, монах отдавал ему земной поклон, встретив случайно — поясной. Таким же образом — поясным поклоном — «новоначальные» приветствовали «старцев».
Значение института «старчества» в русском монашестве на протяжении веков существенно изменялось. Однако сохранялась и несомненная духовная преемственность. К «старцам» Сергиевского времени вполне можно отнести суждение Ф. М. Достоевского, в основе которого лежат его впечатления от встреч и бесед со славившимися своей мудростью и «учительностью» «старцами» Оптиной пустыни. «Старец — это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни обрекающий себя принимает добровольно в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог, наконец, достичь, через послушание всей жизни, уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли» (57, 50).
Принятие «общего жития» повлекло за собой и перемены в распорядке богослужений. Гораздо больше времени стало уделяться общей, церковной молитве. Вероятно, именно тогда в обители был установлен порядок, о котором сообщает Житие Сергия: совершать семь богослужений в сутки. Сергий вместе с братьями пел в церкви «и полуношницу, и заутренюю, и чясове, и третий, и шестый, и девятый, и вечерю, и нефимон» (9, 320). Кроме того, Сергий сам, став священником, «Божественную на всяк день служаше литургию», моля Бога «о смирении всего мира, и о благосостоянии святых церквий, и о православных царих, и князех, и о всех православных христианех». Последнее пояснение весьма существенно: церковная молитва иноков была по преимуществу прошением о спасении мира, тогда как в келейной молитве преобладала забота о спасении собственной души.
Дополнительные часы, уходившие теперь на храмовое богослужение, можно было изыскать только за счет сокращения времени, отводимого на келейную молитву и заботы о хлебе насущном. Первый способ, несомненно, вызывал резкое недовольство вчерашних келиотов, привыкших проводить долгие часы в молитвенном собеседовании с Богом, а то и просто — в столь любимой русским человеком созерцательной бездеятельности. Не желая обострять отношения в общине, Сергий должен был прибегать главным образом ко второму способу изыскания времени для общей молитвы. Впрочем, к этому располагали и внешние обстоятельства. К середине 50-х годов вокруг монастыря уже появилось крестьянское население. «И множество людий всхотевше, начаша с обаполы места того садитися, и начаша сещи лесы оны, яко никому же възбраняющу им. И сътвориша себе различныя многыя починьци, преждереченную исказиша пустыню и не пощадеша, и сътвориша пустыню яко поля чиста многа... И съставиша села и дворы многы, и насеяша села, и сътвориша плод житен, и умножишася зело, и начаша посещати и учящати в монастырь, приносяще многообразная и многоразличнаа потребнования, им же несть числа» (9, 340-342).
Получая от монастыря всевозможные услуги не только религиозного, но и хозяйственного характера, крестьяне делились с иноками плодами своего труда. Подчеркнем: это были добровольные подношения верующих, а не поборы и повинности в пользу монастыря-землевладельца. В источниках нет достоверных сведений о том, что при жизни Сергия обитель приобретала населенные крестьянами вотчины.
Регулярные, но скромные подношения окрестных крестьян дополнялись редкими, но щедрыми «милостынями» от московских доброхотов. С введением на Маковце «общего жития» их количество, несомненно, возросло. Запрещая инокам просить милостыню, Сергий никогда не отказывался принять то, что давалось от чистого сердца.
Оказавшись «на особом счету» у московских духовных и светских властей, Троицкий монастырь, вероятно, мог и совсем прекратить собственное, основанное на труде иноков земледелие. Однако Сергий, понимая «душеполезное» значение труда вообще и земледельческого труда в особенности, не допускал его исчезновения. Напротив, он сам, показывая пример остальным, каждый свободный час проводил с лопатой в руках на монастырском огороде.
Впрочем, не только в этом, но и во всем другом роль Сергия как наставника, учителя с принятием «общего жития» резко возросла.
Вводимые в монастыре иерархия должностей, дисциплина и единообразие могли погасить тот энтузиазм личного подвига, которым сильна была созданная Сергием монашеская община. Однако маковецкие иноки и после установления «общего жития» сумели сохранить дух подвижничества. Главная заслуга в этом принадлежала их игумену. Его светлая личность служила своего рода «мерилом праведным» для остальных иноков. «Сергий был великим устроителем монастырей: своим смирением, терпеливым вниманием к людским нуждам и слабостям и неослабным трудолюбием он умел не только установить в своей обители образцовый порядок иноческого общежития, но и воспитать в своей братии дух самоотвержения и энергии подвижничества», — справедливо отметил В. О. Ключевский (72, 234).
Как игумен, Сергий всячески избегал принуждения и наказания. Призвав к себе монаха, виновного в том или ином проступке, он беседовал с ним «не с яростию... но с тихостию и кротостию» (9, 340), желая вызвать добровольное раскаяние.
Требуя послушания от других, игумен киновии сам должен был показывать пример прилежного исполнения своих многочисленных и разнообразных обязанностей. Он обязан был строго соблюдать устав и заповеди святых отцов; блюсти равенство монахов, следя за тем, чтобы они не обзаводились какой-либо собственностью; трижды в неделю говорить братьям поучения; кормить нищих и давать приют странникам.
Игумену запрещалось: менять устав монастыря; иметь и копить деньги; уделять мирянам что-либо из монастырского имущества; ездить на коне; брататься и кумиться с мирянами; впускать женщину в монастырь, беседовать с ней наедине и даже есть за одним столом; брать себе в келью мальчика-прислужника; носить богатые одежды; тратить монастырские деньги на пышные приемы знатных гостей; брать на себя обязанности других должностных лиц монастыря; принимать важные решения единолично, без совета со «старцами».
Как и прочие монахи, игумен должен был иметь «духовного отца». Его исповедь обычно принимал самый авторитетный из «старцев».
Не менее важным, чем соблюдение формальных требований устава, была сама личность игумена: ее обаяние, ощущение внутренней силы и «богоизбранности» — словом, все то, что в научной литературе принято обозначать понятием «харизма».
Вероятно, Сергий далеко не сразу нашел верную линию поведения как настоятель киновии. Это потребовало долгих поисков, раздумий. Однако основное направление его работы над собой — смирение во имя братской любви — определено было изначально. В этом отношении весьма интересна речь, с которой Сергий обратился к братьям, став игуменом. Несомненно, он произнес речь, стоя у порога киновии, ибо в условиях «безвластного» игуменства периода «особного жития» ее положения теряют весь свой практический смысл.
Литературная форма этой речи, разумеется, результат работы агиографа. Но самый дух ее — сергиевский, ибо не только во времена Епифания Премудрого, но и в середине XV века, когда работал Пахомий Логофет, воспоминания о «великом старце» были еще свежи в обители.
Речь Сергия кратка и соткана главным образом из слов Иисуса. Но уже в самом их подборе можно видеть личное, Сергиевское начало. Оно же — в прямой речи игумена. Здесь каждое слово дышит смирением. «Молите, братие, о мне: грубости бо и неразумна исполнен есмь. Талант приах вышняго Царя, о нем же и слово отдати ми есть» (9, 330).
Сергий вспоминает слова апостола Павла о торжестве духовного начала над материальным, «плотью»: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал., 5, 22—23). Он признается в том, что испытывает страх перед возложенной на него громадной ответственностью за своих иноков. Сможет ли он, подобно Иисусу, сказать в конце пути: «Из тех, которых Ты мне дал, Я не погубил никого» (Иоанн, 18, 9)?
В поисках правильного пути Сергий, став руководителем киновии, постоянно обращался к опыту преподобного Феодосия Печерского, запечатленному в его Житии и Киево-Печерском патерике. Оба эти произведения были широко распространены в монашеской среде и, несомненно, знакомы Сергию. Сравнив жития обоих подвижников, можно заметить очень много общего в их поведении. Думается, это не столько литературное заимствование, сколько подлинная преемственность. Говоря о Сергии, Г. П. Федотов верно отмечает, что «образ Феодосия Печерского явно проступает в нем, лишь более утончившийся и одухотворенный» (105, 134).
Порядки строгого общежития исчезли в Киево-Печерском монастыре вскоре после кончины Феодосия. На протяжении XII—XIII веков нет сведений об их существовании в той или иной русской обители, за исключением новгородского Антониева монастыря. И вот теперь на Маковце они как бы возродились заново. В поведении Сергия как игумена отчетливо прослеживаются многие феодосиевские традиции. Это и постоянный физический труд иноков и самого игумена, и вечерние обходы игуменом монастыря для наблюдения за тем, что делают братья в своих кельях («когождо их како житие»), и решительное вмешательство в мирские дела во имя общего блага.
Следуя примеру Феодосия, Сергий не требовал от желающих вступить в общину никаких вкладов. Он принимал в обитель всех, не отвергая «ни стара, ни уна, ни богата, ни убога» (9, 338). Однако для отсева случайных людей и отбора наиболее достойных на Маковце была принята та же, что и в Киево-Печерской обители, система четырех ступеней духовного совершенства обитателей монастыря. Поначалу «соискатель» жил в обители в мирской одежде, выполнял любую работу и присматривался к порядкам. Затем он получал право стать «рясофором» («носителем рясы») — надеть «свиту долгу еже от сукна черна». Пройдя длительное послушание под началом «старца» и усвоив весь монашеский «чин», рясофор удостаивался наконец пострига и облачался в собственно монашеские одежды — мантию и клобук. Наиболее ревностные иноки могли заслужить право принять повторный постриг — в «святую схиму». Они получали и соответствующие отличия в одежде — кукуль и параманд (9, 338).
Впрочем, свидетельство Жития Сергия о том, что всякий, кто отличался «житием чистым», мог принять схиму, вызывает сомнение. Возможно, здесь имеет место перенесение на сергиевские времена более поздних монастырских обычаев. «Великая схима» вызывала осуждение многих отцов монашества, так как нарушала равенство иноков. Примечательно, что даже любимый ученик Сергия Афанасий Высоцкий не имел «великой схимы» и просил этого отличия у митрополита Киприана (23, 266).
При многих сходных чертах, в изначальном укладе жизни Киево-Печерского и Троицкого монастырей существовали и важные различия. Главное из них заключалось в том, что Феодосии охотно принимал подаренные вотчины, а Сергий «пребываше в великом безименстве и нищете, никоего же притяжаниа имея, ни сел, ни имениа» (26, 138).
Заметно различаются и характеры обоих преподобных, их представления о формах подвижничества. Феодосии, например, откровенно презирал и жестоко мучил собственное тело: носил ранящую кожу грубую власяницу, кормил собою комаров и мошек, спал только сидя, никогда не мылся, «разве токмо руце умывающа» (6, 344). Сергий избегал подобных вещей и, видимо, не только в переносном, но и в прямом смысле любил «чистоту телесную и душевную» (9, 318). Феодосии был педантичен и строг в поддержании норм «общего жития». Он постоянно устраивал обыски в кельях и, найдя какое-либо личное имущество, бросал его в огонь. В знак полного смирения игумен заставлял своих иноков ходить по монастырю со скрещенными на груди руками. Сергий гораздо спокойнее относился к вопросам дисциплины и обрядности.
И все же в самом основании личности Сергия есть черта, роднящая его с Феодосием более, чем все аналогии в поведении. Это стихийное, всепоглощающее стремление приблизиться к нравственному идеалу: уподобиться Иисусу Христу в смирении как высшей форме самообладания и самопожертвования. Но если у Феодосия при всем его последовательном самоуничижении проскальзывали все же замашки властного хозяина, то Сергий, судя по Житию, был свободен от этого. Его врожденный аристократизм — ибо трудно найти здесь более точное определение для того, что позднее стали называть «интеллигентностью», — уберег подвижника от темных крайностей аскезы, от соблазнов юродства и произвола. Впрочем, и в самой идее монашества — возвышение духа через уничижение плоти — Сергий делал упор на первой части, а Феодосии — на второй.
Смирение во Христе сближает Сергия и Феодосия не только внешне, выражаясь в привязанности к нищенскому облачению, «ветхим ризам», в предельной личной нестяжательности. Оно находит проявление и в том, что оба они взяли за правило учить не словом, а делом. Феодосии «всем служа, и собою образ всем дая» (6, 332). Радонежский игумен «мала же некаа словесы глаголаше, наказая братию, множайшаа же паче делесы сам образ бываше братии» (9, 332). Давно замечено, что в этом «бессловесном» наставничестве — особенность не только древнерусской, но и всей восточной монашеской традиции.
Двух великих подвижников объединяет и светлое, беззаботное милосердие: не думая о том, чем жить завтра, они готовы отдать голодным свои последние запасы. Все, что дается монастырю или самому игумену, тут же расточается просящим. О Сергии в этой связи автор Жития говорит в необычайно ярких, образных словах: «бе рука его простерта к требующим, яко река многоводна и тиха струями» (9, 368). Но чем больше оба они расточали, тем больше им давалось. В этой беззаботности современники видели неоспоримое свидетельство истинной святости обоих подвижников.
Помимо заветов Феодосия Печерского, огромное влияние на Сергия как руководителя киновии, несомненно, оказало и хорошо известное на Руси в ту эпоху учение о монашестве одного из отцов церкви — Василия Великого. Не случайно его имя встречается уже на первых страницах Сергиева Жития.
Именно Василий Великий первым определил задачу монашества как активную борьбу с царящим в мире злом. Его тезис: монах есть «воин Христов» — стал одной из основ восточной концепции монашества (38, 39).
Наилучшим устройством монашеской жизни Василий Великий считал «общее житие». И потому его особенно волновал вечный вопрос: как совместить иерархию с ее неизбежным неравенством власти и чина — с евангельской идеей всеобщего равенства? Этот вопрос стал главным и для Сергия, как только он оказался во главе киновии.
Единственным средством, способным разрешить это противоречие, Василий считал смирение. «Попечение о многих есть смирение многим» (38, 162). Кроме того, «надобно, чтобы настоятель... представлял в жизни своей ясный пример всякой заповеди Господней... Во-первых (что есть самое главное), ему надобно... так преуспеть в смиренномудрии, чтобы, когда и молчит, пример его дел служил уроком, поучающим сильнее всякого слова»... (38, 189, 190). Примеру настоятеля должны следовать и другие должностные лица обители. «Не к превозношению да ведет тебя степень церковного чина, но да смиряет наипаче» (38, 62).
Следуя примеру своих наставников, рядовые иноки также должны усвоить эту норму поведения. Однако властвовать собой способен не каждый. Поэтому для желающих вступить в братство, «общий способ испытания всех — изведывать, расположены ли, не стыдясь, оказывать всякое смиренномудрие, так, чтобы принимать на себя самые низкие работы, если разум признает делание их полезными» (38, 128).
Только так — через всеобщее смирение — можно достичь нравственных идеалов «общего жития» — единомыслия и любви к ближнему.
О каждой из этих добродетелей Василий говорит ярко и взволнованно. «Когда многие, имея в виду ту же цель спасения, вступают в общежитие друг с другом, надобно прежде всего в них утвердить, чтобы у всех были одно сердце, одна воля, одно вожделение... Любовь же друг к другу должна быть во всех так же равною и общею, как человек естественным образом имеет любовь к каждому из своих членов, в равной мере желая здравия всему телу» (38, 79—80).
Развивая сравнение монашеской общины с человеческим телом, Василий замечает, что настоятель служит как бы оком, затмение которого грозит гибелью всему телу. Для этого служения необходимо особое призвание, ибо «трудно, и редко возможно, найти душу, способную быть оком для многих» (38, 157-158, 170).
Василий требует от иноков добросовестного отношения к любым своим обязанностям, повторяя слова пророка Иеремии: «Проклят, кто дело Господне делает небрежно» (Иеремия, 38, 10). Не оттого ли, что слова эти знал и помнил каждый монах, все иноческие «пустынные» общины работали так, что самая дикая местность быстро начинала приносить плоды? Не в этих ли словах ключ к пониманию и по сей день поражающей нас добросовестности работы древнерусских церковных мастеров?
Святитель советует настоятелю следить за тем, чтобы иноки не предавались безделью, а в особенности — празднословию. «Неполезное же слово и безвременное рассеяние себя беседою с другими да будут запрещены» (38, 82). В этом его наставлении — объяснение странных на первый взгляд ночных обходов монастыря Феодосией и Сергием. Следы наставлений кесарийского архиепископа узнаем и в церковном чине Троицкого монастыря: Василий требует именно той системы семи суточных богослужений, которую ввел Сергий (38, 73—74).
В уставе Василия Великого находилось и требование непритязательности в одежде, которое столь неуклонно исполняли и Феодосии, и Сергий — «не надобно желать себе лучшей одежды или обуви, и должно выбирать такую, которая похуже, дабы и в этом показать смиренномудрие» (38, 460).
В Троицком монастыре исполнялся и еще один завет Василия: «Должно каждому из братьев все помыслы открывать настоятелю» (38, 162). Житие Сергия сообщает, что племянник преподобного Иван (в монашестве Федор) взял за правило «никогда же свой помысл от преподобнаго утаити... аще в нощи, аще в дни» (9, 382). Так же поступал и другой ученик Сергия — Никон (29, LXIX).
Однако при всей требовательности Василия монашеские правила его «чужды всякого формализма и отличаются здравомыслием и человеческой чуткостью» (84, 151). Весьма примечательно его отношение к «грешной плоти». В нем нет и следа столь часто встречавшейся среди иноков тяги к самоистязанию. «А самым лучшим пределом и правилом воздержания пусть будет следующее: не иметь целью — и нежить плоть, и поступать с нею жестоко, но избегать неумеренности и в том и в другом» (38, 73).
В целом же «общее житие» иноков, по мысли кесарийского архиепископа, решает не только религиозную задачу — спасение души, но также служит прообразом идеальных отношений между людьми. Киновия — «свет миру». Именно так — в духе Василия Великого — понимал смысл иночества и Сергий Радонежский. Своей маковецкой общиной-киновией он дал Руси живой пример любви и единомыслия. Высшим воплощением этих спасительных для человечества начал стал излюбленный Сергием образ единосущной Троицы.
Житие Сергия сохранило простодушный, но полный глубокого смысла рассказ «О бедности одежды Сергия и о некоем крестьянине». В литературном отношении он обнаруживает близость с одним из эпизодов Жития Василия Великого — сценой встречи святителя с пустынником Ефремом Сирином. Однако само настроение этого рассказа, его «мораль» — всецело Сергиевские.
Прослышав о «высоком житии» Сергия и его иноков, некий человек, «земледелец, живый на селе своем, орый (то есть «пашущий». — Н. Б.) плугом своим и от своего труда питаася», пришел издалека, желая увидеть все своими глазами и получить благословение «великого старца». Войдя в монастырь, он стал спрашивать Сергия. Игумен в это время копал землю на монастырском огороде. Занятие это было для него чем-то большим, нежели просто хозяйственная потребность. И потому он просил братьев не беспокоить его, пока он не окончит работу.
Монахи велели поселянину ждать. Однако любопытство взяло верх: тот не выдержал и через щель в заборе решил взглянуть на Сергия. Он увидел среднего роста, худощавого инока в ветхой рясе из грубого сукна — сермяги. Сноровисто орудуя лопатой, он при этом напевал какой-то псалом.
Поселянин решил, что монахи подшутили над ним и вместо Сергия указали на последнего из монастырских послушников. «Аз пророка видети приидох, вы же ми сироту (то есть «крестьянина», «мужика». — Н. Б.) указасте», — упрекал он иноков (9, 354).
Эта фраза стоит того, чтобы над ней призадуматься. «Я пришел видеть пророка», — говорил крестьянин. Можно думать, что слова эти и в самом деле были на устах у всех приходивших тогда на Маковец. Сергия начинали чтить как нового пророка, уподобляя его пророкам из Священного Писания. По христианским понятиям появление пророка среди народа — признак любви, заботы Бога. «И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой» (Лука, 7, 16). Устами пророков Бог обращается к людям. Презрение к пророку гибельно, почитание и послушание — путь спасения.
Обидевшись на братьев, крестьянин встал у входа в церковь, надеясь здесь повстречать наконец самого игумена. Между тем Сергий окончил работу и возвратился в монастырь. Братья сообщили ему о посетителе. Игумен подошел к нему, но тот с досадой отвернулся, даже не поклонившись, как должен был мирянин поклониться при встрече любому монаху. Тогда Сергий сам низко поклонился крестьянину, по-братски расцеловал его, усадил рядом с собой на скамью.
Беседуя с Сергием за скромной трапезой, крестьянин все еще не догадывался, с кем он говорит. Он жаловался на братьев, которые смеются над ним, не хотят допустить его к знаменитому игумену. Пряча улыбку в бороде, Сергий утешал его, обещая скоро показать того, к кому он пришел.
Разговор их прервало появление вестников: к монастырю подъезжал некий князь, желавший получить благословение у игумена. Сергий по обычаю вышел ему навстречу. Оттесненный в сторону княжеской свитой, потрясенный поселянин увидал, как его недавний собеседник, все в том же залатанном рубище, сидит рядом с князем и разговаривает с ним все с той же мягкой, доброжелательной улыбкой. А поодаль в почтительном ожидании застыли приближенные, выстроились полукругом дюжие княжеские телохранители.
Когда князь уехал, крестьянин вновь подошел к Сергию, прося прощения за свою оплошность. «Ныне познах поистине о тебе, отче; яко же слышахом, тако и видехом», — говорил он Сергию (9, 358). В этих словах — суть нравственного урока, который получал каждый, приходивший поглядеть на Сергия и его братьев: «Яко же слышахом, тако и видехом», то есть «что слышал, то и увидел». Слух о «высоком житии», об истинном монашестве Сергия и его братьев не был праздным, как многие другие такого рода слухи. Сергий не только слыл святым. Он действительно был святым — в том смысле, который вкладывала в это понятие средневековая Русь.
Стремление Сергия во всем следовать Иисусу рано или поздно должно было увлечь его за пределы монастыря, заставить пойти в мир с проповедью любви и единомыслия. Однако и условия русской жизни, и традиции православного монашества, и, наконец, ответственность за начатое им на Маковце великое дело не позволили Сергию покинуть монастырь и всецело предаться этому образу подвига. Проповедь Сергия находила себе дорогу прежде всего через его беседы с посетителями монастыря — от крестьянина до князя. Позднее он примет на себя обязанности духовного отца великого князя Дмитрия Ивановича и князя Владимира Андреевича Серпуховского, увидя в этом еще один путь служения миру.
Но бывали случаи, когда Сергий все же покидал монастырь и отправлялся в путь, чтобы погасить пожар ненависти, вспыхнувший то в одном, то в другом краю Руси. Его миротворческие походы — в Ростов, Нижний Новгород, Тверь, Рязань — следует понимать не как исполнение чьих-то повелений (великого князя, митрополита), но прежде всего как проявление овладевшего им духа самоотверженной и деятельной любви к людям — духа, который взрастило в нем Евангелие.
Разделял ли Сергий какую-то конкретную политическую программу? Поддерживал ли он всецело линию того или иного князя? Не имея об этом каких-либо определенных свидетельств, можно, однако, с большой долей уверенности утверждать: взгляды Сергия на политику, на междукняжеские отношения определялись его «евангельским» мировоззрением. Его представления о наилучшем устройстве общества были основаны на идее киновии как оптимальной форме человеческих отношений. И здесь он, несомненно, шел от Василия Великого — главного теоретика киновии. «Общее житие» — порядок, «в сравнении с которым... не найдется у людей другого рода жизни, столько светлого, приятного и высокого» (38, 468). Здесь «все между собою единомысленны» (38, 430). Таким образом, «общее житие» есть осуществление апостольских заветов — «имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны... почитайте один другого высшим себя» (Филиппийцам, 2, 2—3).
В политике и междукняжеских отношениях идеалы любви и единомыслия могут осуществиться лишь в том случае, если каждый будет довольствоваться тем, что у него есть, не пытаясь стяжать большего. Прообразом общественной гармонии может служить гармония человеческого тела, где «каждый член действует тою силою, какую получил от природы, поддерживая члены слабые. Когда такой порядок будет соблюдаться в обществе духовном, тогда окажется, что мы поистине «тело Христово, а порознь — члены» (7 Кор., 12, 27), всегда сохраняющие стройное согласие и безмятежное единение друг с другом» (38, 462).
Практический вывод из этой теории мог быть только один: должна сохраняться система соподчинения князей во главе с великим князем Владимирским. Но в этой системе нет места произволу. Младшие князья должны, не теряя суверенитета, помогать великому князю в решении общерусских вопросов, а он — заботиться об их интересах. В сущности, это был тот самый идеально-гармонический уклад, о котором мечтал еще неизвестный автор «Слова о полку Игореве».
Однако такая позиция не была чистой «философией воздушных замков». В основе ее лежат как бы очищенные от постоянной примеси эгоизма междукняжеские отношения XII—XIII веков, то есть традиция, «старина». Эта «старина» была признаваема как некая данность и московскими князьями, которые, впрочем, понемногу отходили от нее в сторону иной и для Сергия совершенно неприемлемой системы — монархии, «самодержавства».
Сергий выступал как проповедник христианского единомыслия, а отнюдь не как апологет московского «насильства». В этом — главное отличие его позиции от политических взглядов митрополита Алексея.
Можно ли на основании всего этого сказать, что Сергий был «прекраснодушным идеалистом» или даже консерватором, ретроградом? Едва ли. Стремясь ввести политику в рамки христианской нравственности, он создавал — а может быть, продолжал — традицию духовного противодействия лицемерию, коварству, безнравственности — словом, всему тому, что позднее получит название «макиавеллизма». Именно в противоборстве этих двух начал, двух типов мышления — мы назвали бы их ценностной и силовой логикой — на протяжении двух веков выстраивалась реальная линия московской политики.
О первом из миротворческих походов Сергия — в Ростов — известно очень мало. На основании старинной «Повести о Борисоглебском монастыре» можно заключить, что радонежский игумен приходил в Ростов около 1363 года (101, 104). На обратном пути по просьбе монахов Федора и Павла он основал в 18 верстах от города «пустынную» обитель, храм которой был посвящен страстотерпцам Борису и Глебу. Примечательно, что святым князьям была посвящена и дворцовая церковь ростовских князей.
Поход Сергия в Ростов, несомненно, был связан с попыткой местного князя Константина Васильевича выступить против великого князя Дмитрия Ивановича Московского. Трудно сказать, как воспринял ростовский князь увещания игумена. Известно лишь, что в следующем году он уступил Ростов своему племяннику князю Андрею Федоровичу, за спиной которого стояла московская боевая сила, а сам уехал жить в Устюг.
Более подробно можно рассказать о походе Сергия в Нижний Новгород. И начать здесь придется издалека.
Митрополит Алексей, арестованный в Киеве в 1358 году, в начале 1360 года бежал из литовского плена и возвратился в Северо-Восточную Русь. Обстановка, с которой он здесь столкнулся, резко отличалась от той, что существовала накануне его отъезда в злополучную поездку по юго-западным епархиям. 13 ноября 1359 года в возрасте 33 лет скончался великий князь Иван Иванович, прозванный Красным. После него остались два сына — девятилетний Дмитрий и пятилетний Иван. В том же году был свергнут с престола и убит кровавый хан Бердибек. В Орде вспыхнула новая усобица, обещавшая быть длительной и ожесточенной.
В этих условиях недруги Москвы — а к ним принадлежал едва ли не каждый второй князь Северо-Восточной Руси — воспряли духом. Первым решил воспользоваться сложившимся положением суздальский князь Дмитрий Константинович — второй из четырех сыновей умершего в 1355 году честолюбивого и могущественного суздальско-нижегородского великого князя Константина Васильевича. Еще в 1353 году Константин Васильевич пытался «обойти» Ивана Красного и получить великое княжение Владимирское. Однако тогда он потерпел неудачу. Теперь мечту отца решил осуществить сын — князь Дмитрий Константинович. Он «не по отчине, не по дедине», то есть не по праву наследования и преемственности, а лишь по произволу нового хана Навруса получил владимирский престол. 22 июня 1360 года Дмитрий торжественно въехал в древнюю столицу Северо-Восточной Руси. Митрополит вынужден был признать нового великого князя и присутствовать на его вокняжении.
Алексей понимал, что ход событий ставит под угрозу всю кропотливую созидательную работу московских Даниловичей, а главное — добытую ими животворную «тишину», безопасность Руси. Если при Иване Красном положение Москвы как ведущего политического центра Северо-Восточной Руси пошатнулось, то теперь ее стягу грозило окончательное падение. Вместе с падением дома Даниила неизбежно должна была начаться череда междукняжеских войн. В итоге Северо-Восточная Русь в своем политическом развитии могла быть отброшена к тому состоянию, в котором она находилась в начале XIV века. А это означало новую кровь и новые преступления...
Такой поворот дел казался особенно горьким в условиях, когда в стане «поганых» разгоралась «великая замятия», дававшая надежду всем, кто тяготился владычеством Орды. Пользуясь усобицами чингизидов, литовский князь Ольгерд деятельно разворачивал наступление на ее владения в Среднем Поднепровье, сталкивал между собой предводителей различных степных орд. А Москва, вместо того чтобы возглавить борьбу северорусских земель за освобождение от власти Орды, должна была — в который раз! — идти войной на своих же соотечественников.
Отыскивая свое место в происходивших событиях, Алексей учитывал и еще одно: программа «неделимой» киевской митрополии, которую он — понимая ее как общерусскую, патриотическую, — не щадя сил, отстаивал в 50-е годы, оказалась несостоятельной. Первый удар ей нанесли греки, утвердившие литовского митрополита Романа, а последний — князь Ольгерд, приказавший, в нарушение всех прежних норм отношений между светскими и духовными правителями, схватить и бросить в темницу «московского» митрополита. Алексей понимал, что он никогда уже не сможет возглавить всю Русскую Православную Церковь.
Путь во владения Ольгерда и других литовских князей отныне был ему заказан. А между тем там находилась не менее чем половина всех тогдашних православных русских епархий. Под властью Алексея оставались тверская, новгородская, ростовская, суздальская, брянско-черниговская, рязанская, смоленская, сарайская и собственно митрополичья епархии. Однако и в них он мог чувствовать себя уверенно лишь в том случае, если за ним стояла военно-политическая мощь великого князя Владимирского. А между тем новый владимирский князь Дмитрий Константинович, несомненно, имел уже своего кандидата на место «москвича» Алексея.
Все эти тревожные обстоятельства заставили Алексея перевоплотиться. Его богатая натура открылась новой гранью: в начале 60-х годов он стал во главе московского боярского правительства, сумел пресечь внутренние распри, собрать в кулак московскую боевую силу. Многие вспоминали тогда слова духовной грамоты Семена Гордого, обращенные к братьям: «А слушали бы есте отца нашего владыки Олексея» (2, 14). Братьев Семена уже не было в живых. Но их дети — Дмитрий Московский и Владимир Серпуховской — выполняли последнюю волю Семена Ивановича.
В 1362 году, получив ярлык от одного из соперничавших за власть ханов, 12-летний московский князь начал открытую борьбу с Дмитрием Константиновичем Суздальским. За спиной московского князя-отрока стоял митрополит Алексей и весь цвет московского боярства. «Послужим государю малу, а от великого честь приимем, а по нас и дети наши», — говорили бояре. И памятливый летописец записал их разумное суждение.
Москвичам пришлось иметь дело с целой коалицией князей: братьями Дмитрия Константиновича, его союзниками — ростовским, галицким и белозерским князьями. Однако хитроумные московские правители сумели расколоть враждебный стан, устранить противников по одному. Главную опасность представлял, конечно, сам Дмитрий Константинович. Дважды, в 1362 и 1363 годах, московское войско изгоняло его из Владимира. Неудачно окончилась попытка Дмитрия Константиновича овладеть Переяславлем. В 1364 году положение суздальского князя осложнилось тем, что ему нанес удар в спину родной брат — Борис, внезапно захвативший Нижний Новгород.
Не имея сил для борьбы на два фронта, Дмитрий Константинович спешно запросил мира. Он обещал москвичам навсегда отказаться от притязаний на великое княжение Владимирское, а взамен просил оказать ему помощь в борьбе с младшим братом. Митрополит отозвался на его просьбу. Для начала к Борису были посланы видные иерархи: архимандрит Павел и игумен Герасим. Их миссия не имела особого успеха. Борис отказался ехать в Москву на третейский суд с братом. Вероятно, он не очень верил в справедливость московских правителей и к тому же опасался попасть в ловушку. Последующие события показали, что Борис был вполне прав в своих опасениях.
После неудачного посольства Павла и Герасима московская рать стала готовиться к походу на Нижний Новгород. Однако, не желая доводить дело до новой войны, Алексей решил послать впереди войска еще одно посольство. На сей раз оно состояло всего из одного человека. Но этим человеком был не кто иной, как сам Сергий Радонежский...
Под 1365 годом в летописи сообщается: «Митрополит Алексей отня епископью Новгородцкую (то есть «нижегородскую». — Н. Б.) от владыки Алексея. А тогда прииде посол от князя Дмитрея Ивановича игумен Сергий, зовучи князя Бориса на Москву; он же не поеха; они же церкви затвориша, и князь Дмитрей Московьский дал свою рать князю Дмитрею Костянтиновичу». Помимо приведенной здесь Новгородской Четвертой летописи, то же известие содержат Софийская Первая и Никоновская, а также Московский свод конца XV века. Недавно одним из историков было высказано мнение о недостоверности этих сведений. Однако рассуждения, положенные в основу вывода, не отличаются убедительностью (79, 67). Более интересно другое: тот же историк обратил внимание на точное совпадение фразы «они же церкви затвориша» в раннем источнике — Рогожском летописце и более поздних летописных текстах, генетически связанных с ним. Однако в Рогожском летописце эта фраза относится к рассказу о миссии Герасима и Павла (о которой, кроме него, не сообщает ни одна летопись), а во всех прочих летописях, где есть известие о походе Сергия, закрытие церквей приписано ему. Это текстологическое наблюдение позволяет думать, что более поздний летописец ошибочно перенес на Сергия деяние, совершенное Герасимом и Павлом. Ошибку одного летописца, как это часто бывало, «тиражировали» последующие переписчики.
Да и по законам здравого смысла Сергию незачем было налагать запрещение («интердикт») на Нижний Новгород. Известно было, что эта акция, совершенная Герасимом и Павлом, не принесла желаемых результатов: князь Борис так и не поехал в Москву.
Зная характер Сергия, можно быть уверенным в том, что он был послан в Нижний Новгород — если не отправился туда по своей инициативе, хотя и с согласия московских правителей — именно как человек, имеющий не иерархическую только (как Герасим и Павел), а скорее мистическую, «нездешнюю» власть над душами людей. Да и трудно представить себе апостола любви в роли свирепого ключника, запирающего нижегородские храмы.
Такова внешняя история и предыстория «нижегородского похода» Сергия. Теперь попытаемся понять, чем была эта миссия для самого Сергия? Как воспринята она была среди близких к нему людей?
Радонежский игумен отправился в Нижний Новгород несмотря на то, что это было связано с большим риском. Именно в это время (1364—1365 годы) в нижегородских краях свирепствовала чума. Оттуда зараза распространилась по всей Северо-Восточной Руси. В Переяславле «мерли люди по многу на день, по 20, по 30 на день, иногда на день 60, 70 человек, а иногда 100, а таковы дни были же поболе ста на день человек умирало... Не токмо же в граде Переяславле было се, но и по всем волостем переяславским был мор, и по селом и по погостом; и по монастырем, а преже того был мор в Новегороде в Нижнем, а пришел с Низу от Бездежа в Новгород Нижний, а оттоле на Коломну, а с Коломны на другое лето в Переяславль, а от Переяславля на другое лето на Москву. Тако во всех градех и странах и в всех пределех их был мор великыи страшный» (20, 102).
Рассказав о событиях, летописец не удерживается от стенаний, которые были тогда у всех на устах. «Увы мне! како могу сказати беду ту грозную и тугу страшную, бывшую в великий мор, како везде туга и печаль горькая, плач и рыдание, и крик, и вопль, слезы неутешимы; плакахуся живыи мертвых, понеже умножишася множество мертвых, и в градех мертвыя, и в селах и в домех мрътвыя, и в храмех и у церквей мертвыя, много же мертвых, а мало живых» (20,103).
По дороге Сергий видел немало мертвых, опустошенных чумой деревень. Ветер доносил оттуда запах смрада: в избах разлагались трупы, хоронить которые было некому. Особые отряды, сжигавшие зачумленные деревни, не успевали справляться со своей страшной работой. Встречались на его пути и полчища крыс. Они первыми становились жертвами чумы и спасались бегством, разнося заразу.
Кто знает, не была ли страшная «кара Божья» той главной причиной, которая и заставила Сергия выйти из монастыря, отправиться «в мир» с проповедью братолюбия, смирения и покаяния?!
«Моровая язва» не миловала и духовных лиц. Сергий знал, что за несколько лет перед тем от чумы умер мужественный и мудрый новгородский архиепископ Василий Калика. Выполняя свой пастырский долг, он отправился в охваченный эпидемией Псков. Там болезнь настигла и его. На обратном пути в Новгород владыка скончался.
Несомненно, братья упрашивали Сергия не покидать обитель в это страшное время. Иные предлагали — как это делали многие монастыри — запереть наглухо ворота и непрерывной молитвой просить Господа о милосердии. И быть может, он напомнил им тогда — с задумчивой и тихой своей улыбкой — слова Василия Великого: «Что ждете такой смерти, которая приходит сама собою? Она бесплодна, бесполезна, общее достояние скотов и людей... Поэтому когда несомненно должно умереть, приобретем себе смертию жизнь» (37, 293).
Путешествие в Нижний Новгород было опасным не только из-за чумы. Следуя требованию того же Василия Великого — «конь исключается из употребления святых» (35, 282), — Сергий все свои «походы» совершал пешком. А между тем по лесам бродили шайки разбойников, грабивших одиноких путников. Конечно, странник в залатанной рясе, все богатство которого — черемуховый посох, миска, ложка да десяток сухарей в котомке за плечами, не представлял для них особого интереса. И все же Сергий не раз невольно ускорял шаг, проходя узкими и гиблыми местами.
Желая подбодрить себя, он повторял заученный на память совет Иоанна Лествичника, который так помогал ему в первые годы жизни в лесу. «Не ленись в самую полночь приходить в те места, где ты боишься быть. Если же ты хоть немного уступишь сей младенчественной и смеха достойной страсти, то она состареется с тобою. Но когда ты пойдешь в те места, вооружайся молитвою; пришедши же, распростри руки, и бей супостатов именем Иисусовым; ибо нет сильнейшего оружия ни на небе, ни на земле» (34, 170).
Нижний Новгород встретил Сергия неприветливо. Он чувствовал на себе косые взгляды местных клириков. Имя митрополита Алексея они произносили со злобой. Добрым словом поминали лишь своего, недавно умершего владыку Алексея. На его место митрополит не хотел ставить присланного из Нижнего Новгорода кандидата. Опыт показывал, что суздальско-нижегородские епископы деятельно помогают местным князьям в их борьбе с Москвой. В связи с этим Алексей намеревался вообще ликвидировать здесь кафедру и включить ее приходы в состав своей митрополичьей епархии, названным центром которой был Владимир, а подлинным — Москва.
Удрученного царившим повсюду духом вражды Сергия не радовал даже вид двух новых белокаменных церквей — Спасской и Михаила Архангела, — выстроенных в городе в 50-е годы XIV века.
Беседа с князем Борисом была трудной.
Разумеется, ее содержание скрыто от нас. И все же, зная особенности мировоззрения радонежского игумена, попытаемся воссоздать ход его рассуждений.
Князь посягнул на то, что в Древней Руси именовали «стариной», «пошлиной», «обычаем». Младший брат силой овладел тем, что по праву принадлежит старшему. Зло неизбежно порождает новое зло. Бедствия, начавшись с малого зла, станут расти, как снежный ком.
У каждого из князей есть своя цель, своя личная, малая правда. Но при этом существует и некое равновесие сил, основанное на признании того, что каждый имеет свое дарование от Бога (Римлянам, 12, 6). Младший должен оставаться младшим, даже если по силе своей он может притязать на большее. Старший должен уважать правду младшего, не притеснять его, а младший — чтить правду старшего и не искать над ним превосходства. Нарушение этих устоев грозит неисчислимыми бедами и самому князю, и его подданным...
Однако князь Борис имел что возразить на доводы Сергия. Не он первым нарушил «старину». Наоборот, он сам стоит за нарушенный москвичами «обычай». Род Даниила хочет всю Русь прибрать к рукам, всех князей привести в свою волю. Но не бывать тому. И ежели старший брат, князь Андрей, не желает заботиться ни о чем, кроме «спасения души», а второй брат, Дмитрий, словно заяц, бегает от воевод московского князя-отрока, то он, Борис, сумеет восстановить нарушенный порядок.
Разгорячившись, Борис, наверное, высказал Сергию свои сокровенные мысли и опасения. Если не соединятся ныне князья и не дадут отпор московскому «насильству», то завтра же потомки Калиты передавят их всех поодиночке, уморят в застенках, сгноят в ссылках. И что, кроме «единачества» князей, может остановить произвол москвичей? Ведь уже и митрополит взял их сторону, и с его помощью они три года назад, согнав 40-летнего Дмитрия Суздальского, возвели на великое княжение Владимирское своего 12-летнего княжича Дмитрия. Такого попрания прав старшинства не знала еще Владимирская земля!
Сергий знал, что услышит от князя Бориса именно эти доводы. Было время, когда и самому ему они казались неоспоримыми. Но теперь он смотрел на мир по-иному. Да, московские князья попирают старый «обычай», ломают его и хотят создать свой, новый порядок. И за это Господь наказывает их. Но нельзя человекам брать на себя дело того, кто сказал: «Мне отмщение, Я воздам» (Римлянам, 12, 19). На зло нельзя отвечать злом, иначе цепь зла никогда не прервется. Нет высшей мудрости, чем та, которую дал нам Спаситель в притче о правой и левой щеке. Смирение спасет мир, а гордость — только погубит. Борис должен примириться с братом, отдать ему как старшему Нижний Новгород и признать верховную власть великого князя Московского. Он возмущается московским произволом? Но многим ли его посягательство на Нижний Новгород отличается от московского посягательства на Владимир? И тут и там — упование на силу, нежелание видеть чужую правду.
Только смирившись, Борис сумеет победить москвичей, ибо победить их можно только добром, как учит апостол, — «побеждай зло добром» (Римлянам, 12, 21).
Когда Сергий закончил свою речь, воцарилось долгое молчание. Нелегко было князю отказать тому, за чьей спиной невидимой, но грозной тенью стоял сам Иисус. Но была и у него на дне души последняя, крайняя мудрость, та самая, которую некогда повелел отчеканить на своем мече псковский князь Всеволод-Гавриил. Ее-то и высказал, почти выкрикнул он в лицо Сергию: «Честь свою никому не отдам!»
Игумен ушел, не благословив князя. Им владела глубокая скорбь. Он потерпел поражение, но жалел своего победителя, ибо предчувствовал, что победа не принесет ему ничего, кроме зла.
И в этом Сергий не ошибся. Проведя жизнь, полную горестей и тревог, гордый Борис Константинович в конце ее до дна выпьет чашу унижения. В сентябре 1392 года московский князь Василий Дмитриевич «златом и сребром, а не правдою» получит в Орде ярлык на Нижегородское княжение. А спустя еще месяца три князь Борис, преданный своими боярами, будет схвачен московскими воеводами, разлучен с семьей и сослан в заточение в самый отдаленный угол своих бывших владений. Вскоре он умрет там в темнице, и лишь мертвое тело его удостоится княжеских почестей, будет положено рядом с могилами предков в суздальском соборе. Сыновья Бориса, как и сыновья его старшего брата Дмитрия — того, что ныне навел на Нижний Новгород московскую рать, — словно дикие звери, будут скитаться по лесам и пустыням, лишенные вотчин и чести, преследуемые по пятам московскими загонщиками...
В дни, когда Сергий находился в Нижнем Новгороде, он, несомненно, имел встречи с игуменом Дионисием. Еще в первой половине XIV века Дионисий прославился как основатель пещерного («Печерского») монастыря в Нижнем Новгороде — своего рода «двойника» киевской обители. Его любимой, келейной иконой была Богоматерь Печерская с предстоящими Антонием и Феодосием. Подражая Антонию, Дионисий начал свой монашеский путь с отшельничества. Со временем он возглавил небольшую общину иноков. В своей киновии он воспитал 12 учеников — основателей новых монастырей, проповедников и подвижников. Среди них были такие известные в монашеском мире «старцы», как Евфимий Суздальский и Макарий Унженский.
Для суздальско-нижегородских земель Дионисий был тем же, кем Сергий стал для московских — «светильником», мужественным реформатором монашеской жизни.
Возвращаясь из Нижнего Новгорода, Сергий, пользуясь правами, данными ему митрополитом, основал новый «пустынный» монастырь. Вероятно, ему помог в этом деле игумен Дионисий. Выбрав безлюдное место вблизи устья Клязьмы, Сергий поселил здесь несколько монахов. Должно быть, он и сам прожил с ними какое-то время. Жизнь в новой обители была тяжелой. Спасаясь от голода, иноки держали кое-какую живность, для которой «косили сено по болоту», ловили рыбу в Клязьме и лесных озерах. Построенная в обители церковь была посвящана Святой Троице (72, 235[К.В.8]).
Как ни важны были миротворческие «походы» Сергия, его поучения и увещания, но главным свидетельством любви и единомыслия оставалась все же сама Троицкая обитель — ее нравственная атмосфера, уклад жизни, «страннолюбие». Понимая это, Сергий более всего заботился о насаждении и поддержании на Маковце истинного «общего жития».
Со временем, когда жизнь иноков вошла в новое русло, он все чаще стал задумываться о распространении киновии по всей Руси. Точно ветви лозы, о которых говорил Иисус, новые киновии должны были прижиться не только в лесных «пустынях», но и вблизи городов, где людям так нужен был их духовный свет. Среди иноков Сергий присматривал людей, способных продолжить его дело. Однако судьба распорядилась так, что первую «ветку лозы» взрастил он сам. И сделал он это не по своей воле, но под давлением весьма прискорбных для него обстоятельств.
Как и ожидал Сергий, по мере утверждения «общего жития» усиливалось и недовольство среди монахов. Против нового устава выступали отнюдь не бездельники и разгильдяи — такого рода иноки на Маковце долго не задерживались, — а, напротив, те, кто выше всего ценил телесный «подвиг» и духовную свободу. Их возмущало последовательно проводимое игуменом единообразие, раздражала предписанная новым уставом дисциплина.
Некоторые иноки, возмущаясь новыми порядками, покинули Маковец. Сергий не осуждал их. Изведав некогда божественную «сладость безмолвия», он уже никогда не мог забыть ее вкус. И лишь осознание собственного назначения заставляло его нести свое бремя.
Оставшиеся на Маковце противники киновии сплотились вокруг брата Сергия Стефана. Бывший великокняжеский духовник и богоявленский игумен, по-видимому, лишился своих постов в 1347 году, после совершенного втайне от митрополита третьего брака Семена Гордого. Как духовный отец князя он нес ответственность за его поступок. Возможно, Стефан был виноват и в том, что не сообщил митрополиту о намерении великого князя. Опальный игумен решил покинуть Москву и вновь вернуться в радонежские леса.
Сергий тепло принял брата. Однако после введения «общего жития» Стефан вопреки его ожиданиям не получил какой-либо видной должности в монастыре. Привыкший к почестям и вниманию, он хмурился, бросал на брата укоризненные взоры, а тот, словно ничего не замечая, был с ним ровен и приветлив, как и со всеми. Как-то раз Стефан не выдержал и вспылил из-за мелочи. Во время субботней вечерней службы регент церковного хора (канонарх) по указанию Сергия взял богослужебную книгу, которую, по мнению Стефана, брать не следовало. «Кто ти дасть книгу сию?» — гневно вопросил бывший богоявленский игумен. «Игумен дасть ми ю», — ответил канонарх. «Кто есть игумен на месте сем: не аз ли прежде сед ох на месте сем?!» — воскликнул Стефан (9, 370). Потеряв власть над собой, он еще долго выкрикивал все то, что не давало ему покоя, о чем давно шептались недовольные новым уставом «старцы».
Сергий, находившийся в алтаре, ни словом не ответил на упреки Стефана. Дождавшись, когда брат утихнет, он довел до конца службу. Отпустив монахов по кельям, сам он в задумчивости остался стоять на крыльце храма. Глубокая печаль овладела игуменом. Вражда брата с братом: что может быть хуже этого зла? И вот оно проникло в маковецкую обитель...
Сергий не мог жить в ссоре с братом. Вероятно, сам он и не питал вражды к Стефану, но лишь жалел его как человека, которым овладела тяжкая болезнь. Но он был бессилен исцелить брата. У него оставалось единственное, последнее средство, способное прекратить вражду, — самому уйти из обители. Именно так он и поступил.
Легкой тенью скользнув мимо дремавшего на лавке привратника, Сергий исчез в сгущавшихся сумерках.
У него не было никакого плана, никакого замысла. Игумен желал лишь одного: уйти из обители.
Выйдя из монастыря, он отправился по узкой тропе на юго-восток, в глухие леса по берегам Шерны. К вечеру следующего дня Сергий пришел к иноку Стефану, своему давнему знакомцу, жившему верстах в 30 к востоку от Троицкого монастыря, близ устья Махры — притока другой лесной речки, Молокчи.
Историки Церкви склонны всех монахов-подвижников, живших одновременно с Сергием, считать его учениками. Однако это далеко не так. Сергий не был одиноким первопроходцем в деле обновления монашеской жизни. Одновременно с ним, а порой и раньше его тем же делом занимались десятки других подвижников: Пахомий Нерехотский — в Костромском уезде, Федор и Павел — в Ростовской земле, Дионисий и Евфимий — в Суздальско-Нижегородском княжестве, Дионисий Глушицкий и Дмитрий Прилуцкий, Григорий и Кассиан Авнежские — в Вологодском крае, Кирилл Челмужский — в Каргополье, Лазарь Мурманский — на Онежском озере, Сергий и Герман — на Ладоге.
Стефан Махрищский был одним из этих несгибаемых подвижников, которыми так богато XIV столетие — эпоха огромного напряжения всех духовных сил Руси. Отыскивая «путь спасения», эти люди обрекали себя на жизнь, полную добровольных лишений и скитаний. Часто косноязычные, безграмотные, они проповедовали слово Божие всей своей жизнью, своим презрением к корысти и благополучию. Немногие из них попали в церковные анналы, и лишь один, Сергий Радонежский, стал знаменит на всю страну. В истории он стал «полномочным представителем» всей этой бродячей святой Руси.
Стефан встретил Сергия радушно, усадил за братскую трапезу, не докучал расспросами. Сергий давно не был здесь и потому сразу заметил отрадные перемены. Вокруг кельи старца уже вырос маленький монастырь. Посреди поляны высилась стройная, недавно срубленная церковь во имя Троицы. По благословению митрополита Алексея Стефан был поставлен игуменом новой обители. Этот молодой, но уже известный в монашеском мире подвижник вызывал невольное уважение. Уроженец Киева, воспитанник Киево-Печерского монастыря, он ушел на север, не стерпев произвола хозяйничавших в городе татар и литовцев. Твердый, независимый нрав Стефана приносил ему множество врагов. Сергий знал, что у него идет острая вражда с местными землевладельцами братьями Юрковскими. Они всеми средствами пытались выжить Стефана, заставить его уйти из этих мест.
Отстояв службу, «старцы» удалились в келью для беседы.
Сергий, не таясь, поведал Стефану о причинах своего ухода из обители, рассказал и о том, что привело его в Махру. Стефан предложил ему в качестве проводника одного из своих иноков, хорошо знающего окрестные леса. С его помощью Сергий сможет выбрать подходящее место для поселения.
После нескольких дней скитаний по лесам Сергий и его проводник нашли «место красно зело». Здесь, на высоком, крутом берегу реки Киржач, Сергий срубил себе келью.
Место было найдено и впрямь необыкновенно красивое. До самого окоема тянулись бескрайние синие леса. Ветер приносил здоровый, бодрый дух сосны. Над головой проплывали низкие облака. Внизу под горой шумел по камням торопливый Киржач, унося свои воды навстречу владимирской красавице Клязьме. И все же Сергию казалось, что нет в облике этого места того величавого достоинства, той неторопливой, плавной стати, которыми отмечен был Маковец. И в шуме полноводного Киржача слышалось игумену негромкое лепетание родника, что журчал в овраге у подножия Маковца.
Пустыннику не долго довелось «покой приимати от великаго труда». Вскоре на Киржач потянулись первые иноки — и те, кто не захотел без Сергия оставаться на Маковце, и те, кто, прослышав о создании монастыря, пожелал жить рядом со знаменитым подвижником.
Обретя утраченную бодрость, Сергий вместе с ней обрел и деловитость. Вскоре новая иноческая община задумалась о постройке церкви. К митрополиту были посланы два «ходока» за благословением. Получив разрешение, иноки дружно взялись за работу. Будущий храм решено было посвятить Благовещению Пресвятой Богородицы. Этот любимый в народе весенний праздник отмечался 25 марта. В русской православной традиции ему придавали особое значение, называли «начатком спасению нашему».
Выстроив Благовещенскую церковь, Сергий вновь послал к митрополиту — на этот раз за антиминсом. Но Алексей не спешил с его присылкой. Он давно уже внимательно следил за событиями в Троицком монастыре. Его очень обеспокоил уход Сергия. Однако, хорошо изучив характер «старца», митрополит боялся преждевременным вмешательством подтолкнуть его к новому бегству. Кроме того, Алексей был уверен, что со временем тоска Сергия по своему «родному» монастырю будет расти. Она заставит его быть более сговорчивым.
Узнав о том, что Сергий поселился на Киржаче, митрополит дал ему время устроиться здесь, собрать иноков, основать обитель. Когда же посаженный Сергием росток пустил прочные корни, митрополит решил возвратить «старца» на Маковец. С этой целью он направил к нему своих посланцев — архимандрита Павла и игумена Герасима. Они принесли Сергию митрополичье послание. Похвалив подвижника за устройство новой обители, Алексей потребовал, чтобы он вернулся на прежнее место. Митрополит писал Сергию, что удалит из Троицкого монастыря всех, «досаду тебе творящих».
Вероятно, игумен и сам был внутренне готов к возвращению. Не мешкая, он стал собираться в обратный путь. Он долго думал над тем, кого оставить настоятелем здесь, на Киржаче. Любимый ученик и сподвижник Сергия «старец» Исаакий упросил не назначать его игуменом. Вместо этого он принял на себя обет молчальничества, который и хранил до самой смерти.
Наконец Сергий избрал другого ученика — Романа. Вместе с ним «старец» решил оставить на Киржаче несколько троицких иноков. Они должны были помочь Роману наладить жизнь монашеской общины на основах «общего жития». Отправившись в Москву, Роман вскоре вернулся в новом звании. Митрополит Алексей не медля поставил его игуменом Благовещенского монастыря, «рукоположил» в сан священника.
Уходя с Киржача, Сергий оглянулся. На горе, точно на воздухе, красовалась золотистая, облитая солнечным светом церковь. Вокруг нее раскинулись постройки нового монастыря — отрасли Троицкой обители. И может быть, Сергий вспомнил тогда слова Спасителя о виноградной лозе. «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плодов; ибо без Меня не может делать ничего» (Иоанн, 15, 4-5).
Основанный в 1355—1357 годах Благовещенский монастырь на Киржаче стал первым из целого ряда общежительных монастырей, устроенных Сергием и его учениками[К.В.9]. Его создание было в общем случайным, вызванным уходом Сергия из его собственного монастыря. Бурный рост новых монастырей начался лишь в 60-е годы XIV века. В центре это движения можно видеть Сергия и Алексея. Но если митрополит, судя по всему, действовал целенаправленно и последовательно, то радонежский игумен едва ли осознавал себя исполнителем некой «программы». Он, как и прежде, заботился главным образом о том, чтобы укреплять стремление своих иноков к духовному совершенству. И по-прежнему он достигал этого прежде всего своим личным «высоким житием», смирением, терпением, любовью к своим духовным детям.
Существует мнение, будто распространением в русских монастырях «общего жития» занимался главным образом митрополит Алексей, а роль Сергия Радонежского в этом деле была достаточно скромной (126, 46; 127, 12). Однако мог ли Алексей начать реформу, не имея твердой и энергичной поддержки со стороны преподобного Сергия? Конечно, нет. Ведь перестройка монашеской жизни на основах имущественного равенства и строгой иерархической дисциплины требовала прежде всего людей, способных своим авторитетом и личным примером наладить новый порядок. В этой связи уместно вспомнить суждение глубокого знатока русского монашества И. К. Смолича.
«Большую роль в древнерусской монастырской жизни играла личная духовная одаренность настоятеля. Именно в этом заключалось принципиальное различие между древнерусским иночеством и средневековым монашеством Запада. Там процветание монашества зависело от прочности организации, которая с самого начала в деталях определяла аскетическую жизнь братии ордена, ведя ее по определенному руслу. В Древней Руси, напротив, строй монастырской жизни определялся личностью основателя монастыря и игумена. Особое значение приобретали именно те обители, основателями которых были лучшие представители древнерусского подвижничества, чьи заветы соблюдались долго после кончины самих основателей...
Самое характерное для древнерусской религиозности — это то, что не сама система, а духовный пример носителей этой системы играет главную роль...
Возрождение общежития связано не с какими-либо распоряжениями и реформами церковных властей в XIV веке, но с влиянием отдельных выдающихся подвижников, которые явились творцами этого возрождения...» (155, 49).
Конечно, никакие распоряжения иерархов (включая и самого патриарха Константинопольского) не могли заставить русских иноков вдруг изменить своим привычкам, своим взглядам на духовный подвиг, и превратиться из независимых «особножителей» в дисциплинированных обитателей киновии. «Общее житие» родилось прежде всего как ступень внутреннего роста самого преподобного Сергия. Поднявшись на эту высоту, он позвал за собой тех, кто способен был услышать его призыв. Чем привлекла его давняя мечта Василия Великого? Должно быть, он прозрел в ней своими духовными очами торжество порядка над хаосом. В киновии он увидел тот образец единения и единомыслия, который должен был стать путеводным маяком для блуждавшего «во тьме разделения нашего» страждущего русского мира.
И только тогда, когда на Маковце (а может быть, и в других подобных ему лесных обителях) пустило глубокие корни «общее житие», когда созрели люди, способные стать как руководителями, так и рядовыми обитателями киновии, — тогда только митрополит Алексей и московские правители смогли предложить этому великому делу свою материальную поддержку.
Ученики, которые хорошо усваивали уроки Сергия, в ком оживал беспокойный дух Иисуса, сами становились «светильниками», обретали способность собирать вокруг себя людей. Иные из них, ощутив внутреннюю силу, уходили сами, получив благословение учителя; других просили отпустить для устройства новых обителей князья или митрополит; третьих посылал на игуменство в новый монастырь сам преподобный Сергий. С каждым из своих духовных детей он расставался с тайной болью, но и с гордостью: так расстается отец со своими повзрослевшими, уходящими в самостоятельную жизнь сыновьями.
Первым из монастырей, устроенных учениками Сергия, стал, по-видимому, московский Спасо-Андроников монастырь. Идея его основания принадлежала митрополиту Алексею. Около 1360 года он сам приехал к Сергию на Маковец, долго беседовал с ним[К.В.10]. Митрополит рассказал, как однажды, возвращаясь из Царьграда, он едва не погиб, когда корабль попал в бурю. В минуту крайней опасности Алексей дал обет: построить церковь во имя того святого, в день памяти которого корабль пристанет к берегу. Вскоре буря утихла. Путешественники вступили на землю 16 августа, в день чествования знаменитой константинопольской иконы Спаса Нерукотворного.
И вот, когда настало время исполнить обет, Алексей обратился к Сергию. Он хорошо знал многих маковецких иноков и давно приметил одного из них — Андроника. Как и сам Сергий, тот был по происхождению горожанином, уроженцем Ростова. Приняв постриг в Троицком монастыре, Андроник вскоре стал всеобщим любимцем. В сильном, твердом характере этого инока было нечто близкое самому Алексею — умение привлекать к себе людей, быть «душою» общего дела. И потому Алексей, по свидетельству Жития Сергия, сказал игумену: «Прошу от твоеа любве, да даси ми възлюбленнаго ти ученика и мне желаема Андроника» (9, 378).
Вскоре близ Москвы, на высоком берегу Яузы, застучали топоры, стали расти постройки новой обители. Главный храм ее был освящен во имя образа Спаса Нерукотворного. Храмовой иконой стал убранный в золотой оклад образ Нерукотворного Спаса — копия знаменитой святыни, принесенная Алексеем из Константинополя. По преданию, эта икона передавала лик Спасителя, чудесным образом запечатленный на убрусе, который он приложил к лицу. Образ этот долгое время находился в городе Эдессе, во владениях багдадского халифа, и лишь в 944 году был торжественно перенесен в Константинополь. На Руси Спас Нерукотворный часто изображался не только на иконах, но и на войсковых стягах-хоругвях.
Даже ручей, протекавший в овраге близ монастыря, Алексей в память о своих путешествиях в Константинополь повелел назвать Золотым Рогом. Так называлась бухта, на берегу которой раскинулась столица Византии.
Митрополит обеспечил монастырь всем необходимым. В обители было установлено «общее житие». Андроник оказался не только опытным духовным наставником братии, но и сметливым, распорядительным хозяином.
Беспокойство за судьбу первой городской киновии, ответвившейся от Троицкого монастыря, вскоре заставило Сергия лично отправиться в Москву. Он осмотрел растущую обитель, долго беседовал с Андроником и наконец, благословив его, вернулся назад.
Ни в каком другом русском княжестве не наблюдалось в третьей четверти XIV века такого интенсивного строительства монастырей, как в Московском. И едва ли не за каждым вторым монастырем стоял митрополит Алексей. Особое рвение он проявлял в устройстве городских киновий. В Москве — Андроников, Чудов, Симонов, Алексеевский (Зачатьевский) и, может быть, Петровский, в Серпухове — Владычный, в Нижнем Новгороде — Благовещенский.
Деятельно принявшись за создание городских монастырей нового типа, митрополит Алексей в некоторых случаях действовал и без прямого участия Сергия. В 1362 году на правом берегу речки Нары, неподалеку от ее впадения в Оку, он основал серпуховской Владычный монастырь (126, 40). Новая обитель выросла на небольшой возвышенности, среди векового бора. В монастыре была построена церковь во имя Введения Богородицы во храм.
Посвящение храма объяснялось не только приверженностью москвичей к Богородичным праздникам. Оно имело и конкретный историко-мемориальный смысл. На Введение, 21 ноября, чтили память сразу нескольких умерших в этот день великих князей — Юрия Даниловича Московского (умер 21 ноября 1325 года), Константина Васильевича Суздальского (умер 21 ноября 1355 года), а также Михаила Ярославича Тверского (умер 22 ноября 1318 года, в «попразднество Введения»), общего предка всех тверских князей того времени. Праздник Введения был днем скорби, днем поминовения сразу в трех ведущих русских княжеских домах. Посвятив монастырский храм этому празднику, Алексей выказал свое почтение ко всем трем княжеским семействам.
По некоторым сведениям, уже через два года после основания во Владычном монастыре были выстроены каменные здания: храм и трапезная палата.
В 1360-е годы Алексей основал и еще один, женский монастырь. Он был устроен на юго-западной окраине Москвы, вблизи Москвы-реки. Собор новой обители был освящен во имя «святыя Богородица, честнаго ея Зачатиа». Согласно церковному преданию чудесное зачатие Богородицы ее престарелыми бездетными родителями Иоакимом и Анной произошло 9 декабря. Сам архангел Гавриил предсказал супругам рождение дочери.
Любимым детищем митрополита Алексея стал Чудов монастырь. Участок земли в московском Кремле, на котором были возведены здания новой обители, принадлежал ордынским баскакам и был подарен митрополиту в 1357 году ханшей Тайдулой за чудесное исцеление. Выстроенная в монастыре церковь получила необычное посвящение: во имя Чуда архангела Михаила, «иже в Хонех». По церковному преданию, некогда в Хонех Фригийских язычники решили уничтожить храм Михаила Архангела и жившего при нем монаха по имени Архип. Они перекрыли протекавшую поблизости реку, воды которой стали затоплять храм. Но тут явившийся с небес архангел Михаил ударил жезлом в скалу, и вся вода ушла в образовавшуюся расселину.
Символическое значение «чуда в Хонех» заключалось в идее единения светской, княжеской власти, традиционным покровителем которой был архистратиг Михаил, — и церкви, монашества.
В Чудовом монастыре установилось «общее житие». На средства митрополита в 1365 году были выстроены каменный храм с приделом во имя Благовещения, трапезная и каменные погреба. Для обеспечения обители митрополит передал ей около десятка подмосковных сел. Монастырский собор Алексей «украси подписию и иконами, и книгами, и сосуды священными и, спроста рещи, всякими церковными узорочьи» (91, 217).
Около 1370 года Сергий благословил на основание нового монастыря своего племянника Федора[К.В.11]. Сын Стефана родился где-то в середине 30-х годов XIV века. Мать его рано умерла, а отец ушел в монастырь. Вместе с другим братом, Климентом, Иван — так звали Федора до пострижения — вырос, по-видимому, в семье своего дяди Петра Кирилловича. Позднее отец привел его в Троицкий монастырь, где Иван принял постриг.
Грамотный и умный инок заметно выделялся среди других братьев. Он получил известность и как одаренный иконописец. Вскоре Федор был поставлен митрополитом в сан священника. Достигнув 33-летнего возраста — «возраста Христа», Федор начал думать о создании новой обители.
Поставив за правило исповедовать перед Сергием все свои помыслы, он не утаил от «старца» и этого желания. Сергий опасался, что в сыне могут со временем проявиться черты отца: честолюбие и гордость. И все же игумен по просьбе митрополита Алексея отпустил Федора в Москву. Там при поддержке власть имущих тот основал новый общежительный монастырь. Местность, где возникла новая обитель, называлась Симоново.
Расположение монастыря одобрил и сам Сергий, приходивший в Москву для встречи с племянником. На левом берегу Москвы-реки, у проезжей коломенской дороги, выросла стройная деревянная церковь во имя Рождества Богородицы. В 1379 году монастырь перебрался на новое место — на холм, где стояла молитвенная келья Федора. Оно отстояло от прежнего на расстоянии «яко дважды стрелить». Там была заложена каменная церковь во имя Успения Богородицы. Вскоре Симонов монастырь стал одной из самых крупных и богатых московских обителей.
В середине 70-х годов рост одного из южных форпостов Московского княжества — Серпухова — вызвал необходимость постройки в нем еще одного монастыря. В 1374 году по приглашению князя Владимира Андреевича Серпуховского радонежский игумен пришел в Серпухов. Здесь он выбрал подобающее место — живописное урочище Высокое на левом берегу Нары, близ торной дороги на юг, к Оке. Сергий своими руками заложил основание храма новой обители, посвященного Зачатию Богородицы.
Между Сергием и молодым князем Владимиром Андреевичем установились искренние, доверительные отношения. Причина их была не только в том, что Маковец, как и все Радонежье, входил тогда в состав удела серпуховского князя. Этих двух выдающихся русских людей связывала и духовная близость. Князь Владимир, по свидетельству летописи, «любяи манастыри и честь велику въздая мнишьскому чину» (20, 114).
Несомненно, во время пребывания «старца» в Серпухове он встречался с князем Владимиром, беседовал с ним не только о церковных, но и о политических делах. Можно думать, что радонежский игумен убеждал Владимира сохранять единомыслие с великим князем Дмитрием Ивановичем.
Игуменом нового монастыря Сергий поставил своего ученика Афанасия. Это был ревностный последователь «общего жития», неутомимый «списатель книг».
Влияние радонежского игумена и его ученика в Серпухове было очень велико. Афанасий стал духовником князя Владимира Андреевича, а сам князь, выстроив в 1380 году новый городской собор, посвятил его Троице — любимому образу Сергия, символу братской любви и единомыслия.
Городские общежительные монастыри возникали не только в Москве и Серпухове, но и в других центрах Московского княжества. Один из учеников Сергия, Григорий, около 1374 года основал Богоявленский Голутвин монастырь под Коломной, другой, Савва, в конце XIV века устроил Рождественский Сторожевский монастырь в Звенигороде.
В литературе часто можно встретить мнение о том, что в средневековой Руси монастыри широко использовались и как крепости на подступах к городу. В этом суждении есть большая доля преувеличения. Обычно монастыри окружали высоким тыном из вкопанных в землю заостренных бревен. Такая ограда прежде всего служила своего рода «занавесом», отделявшим жилище иноков от «мира». Она могла защитить их от ночных татей, от шайки «лихих людей», но никак не более того. А между тем в этот период московским городам могли угрожать лишь такие могущественные противники, как Орда и Литва. Для многотысячных полчищ татар и литовцев не представляло никакого труда смести со своего пути подобные «крепости». Трудно представить себе монахов и в роли дозорных, которые следят за тем, чтобы враг не подкрался к городу незамеченным. Для этого у князей существовала иная, гораздо более совершенная и «дальнозоркая» сторожевая служба.
Монастырь нужен был городу не столько как «щит» от врага, сколько как важный элемент всей системы тогдашней русской жизни. Город не мыслился без монастыря. Количество монастырей было прямо пропорционально размерам и значению города. Монастырь — это и приют для обездоленных, и «ссудная касса», и надежная кладовая всякого рода запасов, и школа для неграмотных, и благопристойное «богомолье», и привилегированное кладбище. Наконец, согласно представлениям этой эпохи монастыри, как и церкви, служили лучшим украшением города. Этот религиозно-эстетический взгляд на обители заметен уже в «Слове о погибели Русской земли». «Светло светлая» земля Русская украшена «винограды обительными, домы церковными» (8, 130). Еще отчетливее выразился автор летописца Псково-Печерского монастыря: «Сия же земля прежде пуста бяше таковыя благодати, ныне же красится сим святым местом». Монастырь «светло сияет, яко светило во вся концы» (94, 56).
Военное значение монастырей заключалось лишь в том, что они могли служить складами провианта для войск, местом расположения небольшого гарнизона или временной остановки идущего на бой полка.
Монастырское «общее житие» распространялось одновременно на двух направлениях. В то время как одни иноки устраивали киновии в городах, другие, в поисках безмолвия, шли все дальше в лесные дебри Северной Руси.
Глубоко заглядывая в души своих учеников, Сергий мысленно разделял их на три «полка». Одни могли без вреда возглавить городские киновии; другие созданы были для подвига и основания новых обителей; третьи же по своему духовному складу могли быть только рядовыми ратниками монашеского воинства и груз пастырских обязанностей почитали для себя непосильным.
Среди тех, кого Сергий благословил на странничество, на создание новых монашеских общин «в пустыни», наибольшую известность получили пять-шесть «старцев».
В костромском Заволжье действовал воспитанник Троицкого монастыря Авраамий Чухломский. Пользуясь покровительством галицких князей, он основал целый ряд небольших лесных монастырей, посвятив их храмы различным богородичным праздникам: Собору Богоматери, Покрову, Ризоположению, Успению. Авраамию явилась на дереве икона Богородицы, которая стала главной святыней одного из основанных им монастырей. Умер Авраамий в 1375 году.
В лесах северного Подмосковья, западнее Дмитрова, в 1361 году основал свой монастырь с церковью во имя Николы другой ученик Сергия — Мефодий Пешношский. Новая обитель возникла при впадении в Яхрому речки Пешношки.
В 1379 году Сергий основал по просьбе князя Дмитрия Ивановича монастырь в волости Стромынь, верстах в 50 к северо-востоку от Москвы. Главный храм был освящен во имя Успения Богоматери. Можно думать, что монастырь был устроен в память о победе над татарами в битве на реке Воже 11 августа 1378 года, за четыре дня до праздника Успения. Игуменом здесь Сергий поставил своего ученика Леонтия.
В 1381 году в память о Куликовской битве по просьбе того же князя Дмитрия Сергием был основан еще один лесной монастырь — на речке Дубенке, верстах в 40 к северу от Троицкого монастыря. Игуменом там стал духовник всей троицкой общины Савва (163, 149).
Есть основания думать, что Сергий был причастен и к устройству около 1381 года Николо-Угрешского монастыря, расположенного в 30 верстах к юго-востоку от Москвы.
В дремучих лесах между Ярославлем и Вологдой подвизался ученик Сергия инок Сильвестр. На реке Обноре им был основан Воскресенский монастырь. Несколько западнее, на Шексне, троицкие иноки Афанасий и Феодосии в эти же годы устроили Воскресенский Череповецкий монастырь.
В 90-е годы XIV века, уже после смерти Сергия, в вологодские леса отправился его знаменитый последователь Кирилл Белозерский со своим соратником Ферапонтом.
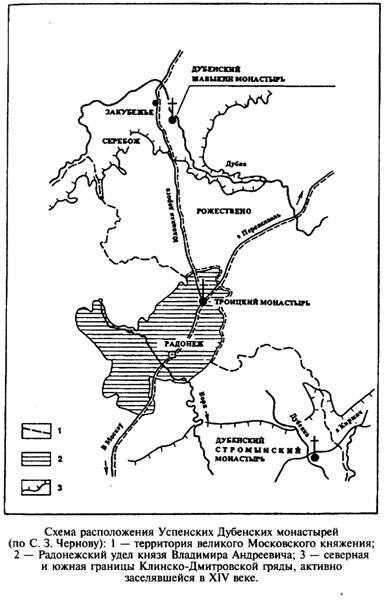
Эти подвижники первого, «сергиевского» поколения были людьми необычайно твердого закала. Они готовы были терпеть любые лишения, преодолевать громадные расстояния, месяцами, годами блуждать по лесам и болотам в поисках «богоугодного» места.
«Виноградная лоза», взращенная Сергием на Маковце, дала многочисленные отростки. По подсчетам В. О. Ключевского, «в продолжение XIV и XV веков из Сергиева монастыря или из его колоний образовалось 27 пустынных монастырей, не говоря о 8 городских» (72, 235).
Основание монастырей в малонаселенных или совсем безлюдных уголках Северо-Восточной Руси в XIV—XV веках иногда называют «монастырской колонизацией». Известно, что в этот период те же районы — Заволжье и Белозерский край — активно осваивались и крестьянами, уходившими в северные леса от ордынских набегов и поборов, от крепнущего произвола со стороны князей и бояр. Историки давно спорят: кто шел впереди — монахи или крестьяне? Вероятно, ближе всех к истине был тот же Ключевский, следующим образом отвечавший на этот вопрос: «Монах и крестьянин были попутчиками, шедшими рядом либо один впереди другого» (72, 244).
«Особое настроение, особый взгляд на задачи иночества» долго сохранялись в основанных учениками Сергия «пустынных» монастырях. И не случайно именно там, в Белозерском крае и лесном Заволжье, спустя сто лет после смерти Сергия зародилась идея новой реформы монастырской жизни, целью которой вновь стало возвращение к идеалу — «пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах» (Марк, 10, 21).
Что вы зовете Меня: «Господи! Господи!» —
и не делаете того, что Я говорю?
Евангелие от Луки, 6, 46
Во второй половине 60-х и в 70-е годы XIV века Сергий продолжает выступать как бы в трех ипостасях: настоятеля маковецкой обители, создателя новых киновий и проповедника, идущего в мир с призывом к любви и единомыслию. О первом и втором направлениях его деятельности мало что можно добавить к сказанному в предыдущей главе. Поэтому сразу обратимся к третьему.
Источники не сообщают каких-либо определенных сведений о внутренней жизни Сергия в этот период, о восприятии им тех или иных событий. Однако, зная особенности его «евангельского» мировоззрения, мы можем догадываться о том, как он видел происходящее и почему он предпринял запечатленные источниками действия. С этой точки зрения мы и взглянем на те полтора десятилетия, когда под покровом внешне неизменной повседневности таинственно накапливалась материальная и духовная энергия, вспышкой которой стала Куликовская битва.
Вместе со всей московской и суздальской землей Сергий радовался завершению спора о великом княжении Владимирском и вызванной им нижегородской усобицы. Наметившийся московско-нижегородский союз был скреплен браком 15-летнего московского князя Дмитрия Ивановича и дочери Дмитрия Константиновича Суздальского Евдокии. Свадьбу играли в Коломне в воскресенье '8 января 1366 года. В этом счастливом, почти сказочном исходе княжеского спора была и частица воли радонежского игумена.
Приходили на Маковец и другие светлые вести. Ширилось на Руси почитание Святой Троицы — небесного прообраза братской любви и единомыслия. В 1366 году новгородцы поставили Троицкую церковь «на Рядитине улице» (17, 6). Во Пскове на смену старому возвели новый величественный Троицкий собор.
Все дружнее становились русские князья в отпоре «поганым». Летом 1367 года три суздальских Константиновича — Дмитрий, Борис и младший Дмитрий, — объединив силы, разгромили вторгшуюся в их земли рать «князя ордынского» Булат Темира (20, 106).
Однако гнев Божий по-прежнему тяготел над Москвой. 23 октября 1364 года умер 10-летний брат Дмитрия князь Иван. А через два месяца скончалась и его мать, княгиня Александра. Вероятно, Иван стал жертвой морового поветрия в Переяславле.
Летом 1365 года «бысть пожар на Москве, загореся церковь Всех святых и оттого погоре весь город Москва и посад и кремль, и загородье и заречье. Бяше бо было варно в то время, и засуха велика и зной, еще же к тому въстала буря велика ветреная, за десять дворов метало головни, и бревна с огнем кидаше буря; един двор гасяху людие, а инуде черес десять дворов, и в десяти дворах огнь загарашеся, да тем людие не възмогоша угасити; не токмо не гасили дворов и хором отнимати, но имении своих никтоже не успели вымчати, и прииде пожар и погуби вся, и поясть я огнь и пламенем испелишася, и тако в един час или в два часа весь град без остатка погоре. Такова же пожара перед того не бывало» (20, 104).
В следующем году Москву вновь посетила чума. Это был «великий мор», унесший тех, кого пощадил огонь. И вместе с «черной смертью» явилось «пробуждавшееся с каждой эпидемией острое сознание гнева Божьего» (108, 188).
Тревожные знамения бывали и в других местах. Весть о них быстро разносилась по всей Руси. 23 июля 1367 года страшное событие случилось в Городце-на-Волге. В Лазаревском монастыре во время вечерни «побил гром чернецов и черниц». А осенью того же года «на показание», то есть для вразумления людей, «по многы нощи явися звезда копейным образом». Появление кометы вызвало у летописца тревогу: «Се же появление бывает не просто, ни в пробыток, ни даром» (18, 85, 87).
Вероятно, не менее, чем грозные явления природы, взволновала Сергия весть о клятвопреступлении московского князя Дмитрия и митрополита Алексея. Зазвав на третейский суд тверского князя Михаила Александровича, они целовали крест на том, что не причинят ему вреда. Однако в Москве Михаил был взят под стражу. Прибытие ордынских послов, а может быть, и иные обстоятельства, о которых умалчивают летописи, заставили москвичей вскоре освободить Михаила. Но было уже поздно: преступление совершилось, и следом за ним не замедлило явиться воздаяние.
Вырвавшись из московского плена, Михаил Тверской обратился за помощью к Ольгерду. Тот решил воспользоваться обстоятельствами и уже в ноябре 1368 года вторгся в московские земли. Московско-литовская война, то затихая, то разгораясь, продолжалась до лета 1372 года. Первый, самый опасный поход Ольгерда русские летописцы сравнивали с опустошительной «Федорчуковой ратью» 1327—1328 годов. Простояв три дня под стенами новой московской крепости, литовцы отступили, «волости повоева, и села и дворы огнем пожже, много христиан посече, а иных в полон поведе, а имение их пограбиша» (20, 109).
В следующем году князь Дмитрий Московский выстроил новую крепость в Переяславле и стал готовиться к походу на Тверь. Вновь знамения предвещали недоброе. «По многи нощи быша знамение на небеси, аки столпы по небу: небо червлено, акы кроваво, толико же бысть червлено по небу, яко и по земли по снегу червлено видяшеся, яко кровь» (20, 110).
В ноябре 1370 года литовский князь опять подошел к Москве и десять дней стоял у города. Однако и на сей раз он «кремля не взял, а волости повоева и пожже, а людей много посече; а иныя полони».
26 октября 1371 года Ольгерд подписал перемирие с московским правительством. Но в следующем году сначала брат Ольгерда Кейстут, а потом и он сам вновь пытались разгромить Московское княжество. Первому удалось внезапно напасть на Переяславль — «и посад около града пожгоша, а града не взяша, а людей много множество и бояр в полон поведоша»; второй был остановлен московским войском у самой границы и отступил без боя, заключив мир с Дмитрием Ивановичем (20, 112—113).
Три страшные «литовщины» были восприняты Сергием, Да, вероятно, и большинством его современников как прямой результат клятвопреступления, совершенного московскими правителями. Это был тяжелый, но наглядный урок, преподанный людям Всевышним. Политика неотделима от морали. Никакие «высшие» соображения не могут оправдать зла. В делах земных нельзя добиться прочного успеха, нарушая законы христианской морали, ибо Евангелие — такая же реальная сила, как и земная Власть. Попрание евангельских заповедей никогда не останется безнаказанным. И если кому-то и удастся уйти от суда людей, то куда скроется он от десницы того, кто говорит: «Мне отмщение, Я воз дам»? (Римлянам, 12, 19).
В годы московско-литовских войн митрополит Алексей все время находился в центре событий. Его можно сравнить с известным в ту эпоху образом Николы Можайского: святитель стоит с воздетыми к небу руками; в одной он держит храм, в другой — меч. В ноябре 1368 года вместе с князем Алексей сидел в осажденной Москве. Осенний набег Ольгерда 1370 года застал его в Нижнем Новгороде. Там митрополит лично крестил сына князя Бориса — Ивана. Своим пребыванием в Нижнем Новгороде Алексей обеспечивал тыл московской обороны: князь Борис, женатый на дочери Ольгерда, всегда оставался тайным врагом Москвы.
По некоторым сведениям, в 1370 году Алексей приехал в Нижний Новгород на обратном пути из Орды. Если это действительно было так, то его пребывание в Орде, конечно, имело целью получить помощь Мамая в борьбе с Литвой или по меньшей мере удержать его от нападения на московские земли одновременно с Ольгердом и Михаилом Тверским. Миссия Алексея имела частичный успех: Мамай дал Михаилу ярлык на великое княжение Владимирское, однако не стал открыто вмешиваться в московско-литовское и московско-тверское противоборство.
Происки Михаила Тверского в Мамаевой Орде сильно беспокоили московское правительство. Стремясь вернуть ярлык на великое княжение Владимирское и задобрить Мамая, князь Дмитрий Иванович летом 1371 года лично отправился к степному владыке. Это было смелое решение. Растущая самостоятельность и сила Московского княжества давно вызывали опасения у правителей Орды. Смерть князя Дмитрия от рук ханских палачей или же от медленно действующего яда — так был устранен татарами в 1246 году его пращур, великий князь Ярослав Всеволодович — поставила бы московский княжеский дом в крайне тяжелое положение. В этом случае власть мог взять лишь двоюродный брат Дмитрия 16-летний Владимир Серпуховской. Он не был еще женат, и, если бы и ему случилось умереть вслед за Дмитрием, род московских князей вообще пресекался.
Понимая всю опасность поездки Дмитрия в Орду, митрополит устроил князю торжественные проводы. Алексей сам сопровождал его до Оки — тогдашней границы московских владений. Там, на переправе, 15 июня 1371 года он благословил князя и его свиту, «и молитву сътворив, отпусти его с миром» (20, 110). Эта необычная церемония должна была показать всей Руси, а главное — Орде, что между Дмитрием и митрополитом существует полное единодушие.
В 1372 году Алексей вновь появляется на страницах летописей, на сей раз как организатор религиозного возбуждения, даже празднества, поводом для которого послужило чудо у гробницы митрополита Петра — «исцеление сухорукого». Необычайно удачным оказаюсь и то, что чудо произошло в день важнейшего «богородичного» праздника — Успения. Чествование святителя Петра соединилось с прославлением Богородицы. Для людей той эпохи это было не только богатой пищей для размышлений, но и радостным предзнаменованием.
Московское чудо имело вполне конкретное политическое звучание. Правильно понять его можно, лишь воссоздав обстановку, сложившуюся в Северо-Восточной Руси к середине августа 1372 года.
Этот момент был одним из важнейших в истории возвышения Москвы. Князя Дмитрия и митрополита Алексея можно уподобить путникам, поднявшимся на перевал, с которого открывались новые дали. Позади у них была череда трудных побед, о которых оба вспоминали с гордостью. Совсем недавно, летом 1372 года, московские полки остановили под Любутском, на самой границе, литовско-тверское войско. Узнав о разгроме своего передового полка, Ольгерд почел за лучшее заключить мир с Дмитрием Ивановичем. Он признач великое княжение Владимирское «вотчиной», то есть законным наследственным владением московского князя. За этим словом скрывалось важнейшее достижение московских князей, итог их полувекового «собирания Руси». Словом «вотчина» они отрицали право ханов распоряжаться великим княжением Владимирским. И литовский князь вынужден был признать это достижение Москвы.
Победа над Литвой во многом была предопределена успехом поездки князя Дмитрия к Мамаю в 1371 году. Всесильный темник, польщенный смирением московского князя, задобренный богатыми дарами, передал ему ярлык на Владимирское княжение. Прежний обладатель ярлыка, Михаил Тверской, так и не смог воспользоваться своим приобретением: владимирские бояре не пустили его в город. Вероятно, в этом проявилась не только их осмотрительность, трезвая оценка соотношения сил противников, но и нечто большее: признание московской «правды», нового взгляда на великое княжение Владимирское как на вотчину потомков Даниила.
Помимо ярлыка, Дмитрий осенью 1371 года вывез из Орды не менее ценное «приобретение» — выкупленного у кредиторов тверского княжича Ивана, сына Михаила. Он был помещен под стражей на митрополичьем дворе и содержался «в истоме», то есть в очень суровых условиях. За его жизнь и свободу москвичи надеялись добиться от тверского князя крупных политических уступок и большого денежного выкупа.
Отвоевывая у Михаила Тверского одну позицию за другой, митрополит не упустил из виду и еще одну, матримониальную возможность. Итогом переговоров, начатых осенью 1371 года, стала сыгранная весной 1372 года свадьба князя Владимира Серпуховского с дочерью Ольгерда Еленой. Этот брак послужил одной из предпосылок мирного исхода последнего (летом 1372 года) похода литовцев.
Зная, как часто даже у лучших из князей честолюбие брало верх над родственными узами и здравым смыслом, московские бояре, по-видимому, не вполне доверяли Владимиру Серпуховскому. Брак с «литвинкой» мог внушить ему излишнюю самонадеянность. Во избежание опасных последствий этого «обоюдоострого» брака митрополит и бояре посоветовали Дмитрию сделать Владимиру щедрый свадебный подарок: прибавить к его владениям Дмитров, Галич и некоторые другие волости. Тогда же в удел Владимиру передали и радонежские земли с Троицким монастырем. Игумен Сергий стал духовным наставником серпуховского князя. В итоге, единство братьев осталось нерушимым. Вместе, плечом к плечу, они шли навстречу новым испытаниям и подвигам.
Чудо в Успенском соборе в августе 1372 года было добрым признаком, сулило надежду, вдохновляло на смелые замыслы.
Московские правители понимали, что для быстрейшего продвижения вперед в деле «собирания Руси» им необходимо поднять знамя антиордынской борьбы. На этот путь уже вступил князь Ольгерд. Еще в 1362 году он нанес татарам тяжелое поражение в битве под Синими Водами, избавил от их владычества Среднее Поднепровье и Подолье. Этим он привлек на свою сторону многих русских князей и бояр из киевской, черниговской и брянской земель. Однако, увлекшись войнами на северных и восточных границах, Ольгерд не сумел закрепить свой успех. Постепенно ордынцы восстановили контроль над утраченными областями.
Естественными союзниками Москвы в борьбе с Ордой были суздальско-нижегородские и рязанские князья, владения которых чаще всего страдали от набегов степняков. Дмитрий Суздальский и его братья первыми встали на путь сопротивления. В 1365 году князь Борис у реки Пьяны — на юго-восточной окраине нижегородских земель — разбил вторгшийся в русские пределы отряд «царевича» Арапши. В 1367 году объединенное войско трех нижегородских князей — Дмитрия, Бориса и младшего Дмитрия по прозвищу Ноготь — разгромило на той же реке Пьяне отряд «князя ордынского» Булат Темира. В 1370 году Борис ходил походом в земли волжских болгар, которые на Руси рассматривали как территорию собственно Орды.
Ярким свидетельством усиления Суздальско-Нижегородского княжества стало строительство каменных храмов и укреплений. В 1371 году Дмитрий Константинович выстроил в Нижнем Новгороде каменную церковь Николы, а в следующем году заложил каменный кремль. В том же 1372 году Борис выстроил крепость Курмыш на Суре — тогдашней границе русских и болгарских земель. За три года перед тем тот же Борис выстроил в своей удельной столице, Городце-на-Волге, новый деревянный собор в честь Михаила Архангела.
Все эти работы велись с благословения местного духовенства и его признанного главы — печерского архимандрита Дионисия. Они рассматривались как богоугодные. Примечательно, что в том же 1372 году в Нижнем Новгороде произошло чудесное знамение, которое можно было истолковать только как доброе предвестие: «У святого Спаса (то есть на соборной звоннице. — Н. Б.) колокол болшеи прозвонил сам о себе трижды» (20, 112). По средневековым представлениям звон церковного колокола отгонял дьявола, разносил благую весть о начале богослужения. Троекратный звон колокола напоминал о Троице. Зазвонивший «сам о себе», по воле Божьей, колокол как бы приветствовал, благословлял князей Константиновичей, обнаживших меч против «поганой» Орды.
В этой обстановке митрополит Алексей почел за лучшее восстановить суздальско-нижегородскую епархию. 19 февраля 1374 года в Москве был совершен обряд поставления в сан епископа печерского архимандрита Дионисия. Это был жест дружелюбия и доверия по отношению к братьям Константиновичам, союз с которыми из года в год становился все более важной частью московской политики.
Несомненно, митрополит тщательно подбирал кандидатуру нового владыки. Дионисий мог стать епископом лишь как единомышленник самого Алексея, сторонник его позиции в политических и церковных делах. Будущее подтвердило правильность выбора, сделанного митрополитом.
Прежде чем начинать борьбу с Ордой, два Дмитрия, московский и нижегородский, должны были тщательно подготовиться: привлечь на свою сторону колеблющихся, обезвредить явных врагов. Этой работе благоприятствовала и отмеченная летописями под 1373 годом новая вспышка «замятни» в Орде. Влияние ордынской дипломатии на Руси временно ослабло.
Рязанские князья, как и нижегородские, очень рано начали борьбу с отдельными татарскими отрядами, вторгавшимися ради грабежа в русские земли. В 1365 году Олег Рязанский и Владимир Пронский разгромили отряд ордынского «князя» Тагая. Сам он едва ушел «в мале дружине». Вскоре между рязанскими князьями вспыхнула распря. Олег был явно сильнее Владимира. Однако москвичи, действуя по отношению к более мелким русским князьям точно так же, как действовала Орда относительно их самих, стремились повсюду сохранять баланс сил и не давать одному из князей чрезмерно усилиться за счет подчинения других. В декабре 1371 года московское войско во главе с князем Дмитрием Михайловичем Боброк-Волынским — будущим героем Куликова поля — разгромило отряды князя Олега в битве под Скорнищевом. В Рязани был водворен Владимир Пронский. Через год Олег сумел вернуться в Рязань. Однако баланс сил был все же восстановлен. Отныне Рязанское княжество в целом шло в русле московской политики.
Сложнее обстояло дело с Тверью. Утратив надежду на поддержку со стороны Мамая, видя бессилие Ольгерда сокрушить Москву, Михаил Тверской потерял голову от сжигавшей его ненависти ко всем «супротивным». 31 мая 1372 года он подошел к Торжку — южному форпосту новгородских земель — и потребовал признать его власть, незадолго перед тем свергнутую горожанами. Однако новоторжцы вместе с находившимися в городе новгородскими боярами выступили против Михаила с оружием в руках. Кровопролитное сражение принесло победу Михаилу.
Во время битвы тверичи подожгли городской-посад. Поднявшийся ветер перебросил огонь на город. За несколько часов многолюдный, богатый Торжок превратился в пепелище, на котором бесчинствовали захмелевшие от крови тверские ратники. Летопись рисует жуткую картину разгрома Торжка.
«Князь же Михайло, събрав воя многы, прииде ратью к городу к Торжку и взя город и огнем пожже город весь, и бысть пагуба велика христианом, овы огнем погореша в дворе над животы, а друзии выбежаша в церковь в святыи Спас, и ту издахошася, и огнем изгореша много множество, инии же бежачи от огня в реце во Тверци истопоша, и добрыя жены и девица видящи над собою лупление от тверич, а они одираху до последней наготы, егоже погании не творят, како те от срамоты и беды в воде утопоша чернци и черници, и все до наготы излуплыие... На Тверь полона, мужа и жен, без числа поведоша множество, а и товара много поимаша, что ся остало от огня, иконной круты и серебра много поимаша. И кто, братие, о сем не плачется, кто ся остал живых видевыи, како они нужную и горькую смерть подъяша, и святыи церкви пожжени и город весь отъинудь пуст, еже ни от поганых не бывало таковаго зла Торжьку. И наметаша избьеных людей мертвых и изженых и утоплых 5 скуделниц (братских могил. — Н. Б.); а инии згорели без останка, а инии истопли без вести, а инии поплыли вниз по Тверци» (20, 113).
Такова была эпоха, в которую жил Сергий. Жестокость, вероломство, алчность переполняют страницы летописей. Но значит ли это, что труд радонежского игумена не принес плодов, что современники не испытали на себе возвышающего влияния его проповеди? Конечно, нет.
«Великий старец» — с его учениками и последователями — своим самоотречением во имя любви и единомыслия как бы задавал самый высокий нравственный тон. Он «тянул» общество вверх, тогда как груз эгоизма увлекал его в пучину ненависти. И линия жизни вырисовывалась уже как равнодействующая этих двух сил.
Голландский историк И. Хейзинга справедливо заметил: «Вообще говоря, всякое время оставляет после себя гораздо больше следов своих страданий, чем своего счастья. Бедствия — вот из чего творится история» (108, 33). Именно поэтому в «истории состоявшегося» менее всего можно увидеть результаты проповеди Сергия. Но если бы возможна была «история несостоявшегося» — как рассказ о тех злодеяниях, которые были остановлены человеческой совестью, — то именно в этой истории мы обнаружили бы немало следов деятельности радонежского игумена.
Как пережил Сергий все три «литовщины»? Был ли он в своем монастыре летом 1372 года, когда литовские и тверские отряды бесчинствовали в окрестностях Маковца? Коснулся ли его обители «великий голод», постигший Северо-Восточную Русь осенью 1371 года? Источники не дают ответа на все эти вопросы.
Радонежский игумен вновь появляется на страницах летописей лишь в 1374 году. Этот год был для него полон радостных и тревожных событий. Летом Сергий по приглашению князя Владимира Андреевича ходил в Серпухов для основания там нового монастыря.
Придя на Высокое, Сергий был поражен тем, как прямо на глазах село Серпуховское превращалось в большой, многолюдный город. Князь даровал податные и иные льготы всем приходящим сюда людям. На мысу у впадения в Нару речки Серпейки рос мощный дубовый кремль. Было очевидно, что новый город призван стать оплотом обороны южной границы Московского княжества.
Здесь, в Серпухове, игумен, должно быть, вспомнил слышанное им в Москве от митрополита: у князя Дмитрия началось «розмирие с татары и с Мамаем». Глядя на то, как споро идет строительство новой крепости, Сергий со смешанным чувством радости и тревоги понял: дело идет к большой войне со Степью, войне, от исхода которой будет зависеть судьба всей Руси.
Лето 1374 года принесло с собой не только тревожное предчувствие скорого нашествия «поганых», но и иные, уже сбывшиеся беды и несчастья. Везде стояла невыносимая жара. Рожь желтела, высыхала, не успев созреть. По всем церквам служили молебны о дожде, с крестами и иконами ходили вокруг иссохших полей. Однако небо по-прежнему дышало жаром, как жерло печи.
Засуха выжгла траву по лугам. От бескормицы начался падеж скота. А вслед за ним вновь, как и в страшные 60-е годы, начался «на люди мор велик по всей земле Русской» (17, 21).
Одно только утешало московичей: моровое поветрие свирепствовало и в Орде, выкашивая целые тумены в войске Мамая. Ослаблением Орды поспешили воспользоваться литовские князья, совершившие удачный поход в Степь. Глядя на них, взялись за меч и Рюриковичи...
В самом конце 1374 года Сергий вновь покинул Маковец и отправился в путь. На этот раз его ждали в Переяславле-Залесском. Там по призыву московского князя Дмитрия собрались для обсуждения своих насущных дел многие князья Северо-Восточной Руси. Традиция княжеских съездов («снемов») уходила корнями еще в домонгольскую Русь. Порой на этих съездах удавалось развязывать самые запутанные узлы междукняжеских отношений.
Поводом для съезда в Переяславле послужило рождение в семье московского князя третьего сына — Юрия.
Первым сыном Дмитрия и Евдокии был Даниил, умерший в 1376 году; второй, Василий, родился 30 декабря 1371 года, и в декабре 1374 года над ним уже можно было совершать древний обряд начала возмужания — «постриг». Трехлетнему княжичу остригали прядь волос, сажали на коня, давали в руки оружие.
Имя третьего сына московского князя подсказал день его рождения. Он появился на свет 26 ноября — в день памяти святого Георгия. Византийское имя святого на Руси произносили по-своему: «Гюргий», «Егорий», «Юрий». Празднование святому Георгию 26 ноября имело чисто русское происхождение. В этот день Ярослав Мудрый в 1051—1053 годах освятил выстроенную им в Киеве большую каменную церковь во имя своего «небесного покровителя» — святого Георгия. День освящения храма вошел в русские месяцесловы, стал отмечаться как ежегодный праздник — «осенний Юрьев день».
Князь Дмитрий пригласил Сергия для того, чтобы он окрестил новорожденного. Согласно византийской церковной традиции иеромонах не должен был совершать таинства крещения и брака, так как это заставляло его близко общаться с «миром». Однако там, где речь шла об общем благе, Сергий умел быть выше буквы церковных узаконений. Он понимал, что его приглашают не просто на крестины, но на своего рода совещание князей, от исхода которого зависит будущее Северо-Восточной Руси. И потому Сергий счел своим долгом явиться туда и попытаться убедить князей в том, что он почитал за истину.
Участники княжеского съезда в Переяславле обсуждали, конечно, и вопрос об отношениях с Ордой. Какую позицию занимал здесь Сергий? Его деятельность по воодушевлению воинов, выступивших на битву с Мамаем в 1380 году, говорит сама за себя. И все же отношение радонежского игумена к войне с Ордой было далеко не однозначным. По-видимому, Сергий был противником того дерзкого, рискованного курса на обострение отношений с «погаными», который повели два Дмитрия — московский и нижегородский — после съезда в Переяславле. Не дразнить Орду, следовать заветам Ивана Калиты и любой ценой сохранить мир с нею — именно это игумен советовал московскому князю Дмитрию. «И ты, господине, пойди противу их и с истинною, и с правдою, и с покорением, якоже пошлина твоя держит; покорятися Ординскому царю должно... Аще убо таковии врази хотят от нас чти (чести. — Н. Б.) и славы, дадим им, аще имениа и злата и сребра хотят, даждь им»... И только в том случае, если все эти уступки не остановят «поганых» — «а чрез то аще имут ратовати нас», — князю следует взяться за меч (17, 144-145).
Можем ли мы на расстоянии в шесть столетий судить, кто из них был прав: Сергий с его благоразумной осторожностью или же князь Дмитрий с его героическим стремлением вызвать на бой и победить поработившего Русь дракона? Вероятно, каждый был прав по-своему. Куликовская битва оправдала и вознесла Дмитрия в глазах потомков. Но не забудем: расплатой за торжество над Мамаем стало нашествие Тохтамыша и разорение Москвы. Да и сама битва была выиграна таким неуловимым перевесом сил, что невольно задумываешься: а если бы одолел Мамай?
Но вернемся на княжеский съезд в Переяславль. Сюда прибыл весь «дом» суздальских Константиновичей. Князей сопровождали их домочадцы, ближние бояре, большая свита. Были приглашены и другие союзные с Москвой князья. На особое значение этого «снема» указывало и присутствие на нем митрополита Алексея.
Вероятно, князья съехались лишь к сороковому дню после рождения Юрия — обычному сроку крещения младенцев. Он приходился на 4 января 1375 года. Тогда же пришел в Переяславль и радонежский игумен.
Вновь, как и за двадцать лет перед тем, стоял Сергий под сводами древнего переяславского храма, молитвенно преклонял колени у гробниц похороненных в нем князей; вновь ходил по узким улочкам, пробираясь то к одному, то к другому храму или монастырю.
Одиноко и пусто показалось Сергию в Переяславле. Уже не было здесь, в Никольском монастыре, его друга и собеседника инока Дмитрия. В поисках безмолвия, он ушел на Север, в вологодские леса. Там он со временем прославился под именем Дмитрия Прилуцкого, основателя крепкой и многолюдной обители в пяти верстах к северу от Вологды.
Впрочем, Сергию немного доводилось быть наедине с самим собой, предаваться воспоминаниям. Если прежде, никем не знаемый, свободно бродил он по городу, то теперь его часто узнавали, за ним повсюду тянулись просители, больные, нищие. И Сергий лишь в эти дни в полной мере смог понять, какое бремя взял на себя тот, кто возгласил: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Матфей, 11, 28).
Теперь для всех Сергий был уже не просто монахом, коих так много скиталось по Руси, а «великим старцем», святым, наделенным даром чудотворений. Измученный нищетой и безысходностью, народ жаждал чуда, хотел обрести своего святого. И потому рассказы о чудесах Сергия стремительно распространялись по всей Московской Руси. Сюжеты этих бесхитростных повествований были понятны любому простолюдину: «о воскрешении отрока»; об обличении слуги, укравшего нечто из посланной в монастырь «милостыни»; о том, как по молитве Сергия «вскипела червями» замороженная свиная туша, отнятая богачом у бедняка соседа; об исцелении тяжелобольного молитвой «старца».
Сергий не хотел славы чудотворца, боялся ее как тяжелейшего из духовных испытаний. Он строго запрещал троицким инокам рассказывать посторонним о разного рода чудесных происшествиях в обители и о являвшихся им видениях. Игумен призывал их не искать чудес и знамений, а стремиться к добродетели и «высокому житию». И все же, как ни старался Сергий, ему не удалось уйти от суетной и многомятежной славы чудотворца. Люди шли к нему с надеждой. В Переяславле, как и в Серпухове, они с раннего утра толпой стояли у ворот, ожидая его появления. Мог ли он отказать им в помощи? Мог ли забыть огненные слова Исаака Сирина: «Кто пренебрегает больным, тот не узрит света. Кто отвращает лицо свое от скорбящего, для того омрачится день его. И кто пренебрегает гласом страждущего, у того сыны его в слепоте ощупью будут искать домов своих?» (33, 310)
Во время своих «походов» преподобный горячо молился обо всех, кто приходил к нему с верой. Он пытался исцелять, наставлять и исправлять людей силою той благодати, которую он в себе ощущал.
Но не только всеобщее поклонение изматывало и опустошало Сергия. Оказавшись среди пестрого сообщества приглашенной на торжества светской и духовной знати, он постоянно ощущал на себе пристальные и далеко не всегда почтительные взгляды. Любая оплошность могла вызвать злорадное ликование недоброжелателей.
И должно быть, не раз вспоминал он в эти дни исполненные горечи слова Василия Великого: «Если человек духовный хотя несколько уклоняется от совершенства, тотчас все, даже прежде со всем жаром хвалившие его и удивлявшиеся ему, делаются жестокими обвинителями... И если увидят подвижника, который не вовсе не щадит тела, но хотя в чем-нибудь удовлетворяет настоящей своей потребности, — всех злословят, на всех клевещут, всех называют какими-то многоядцами и прожорливыми» (38, 409—411).
Огромное нервное напряжение, которое испытал Сергий в Переяславле, не прошло даром. Вероятно, именно оно и было причиной того, что, вернувшись на Маковец, он тяжело занемог. «Того же лета болезнь бысть тяжка преподобному Сергию игумену, а разболеся и на постеле ляже в Великое говение на второй неделе (с 11 по 18 марта. — Н. Б.), и нача омогатися и со одра воста на Семень день (1 сентября. — Н. Б.), а всю весну и все лето в болезне велице лежал» (17, 21-22).
(Исследователи летописания полагают, что известие о болезни Сергия, как и другие сообщения о событиях на Маковце, попали в летопись из краткой хроники, которая велась при Сергии в самом Троицком монастыре (86, 363). Она сохранилась до наших дней лишь в виде фрагментов, рассеянных по различным летописным сводам (139, 9).)
За те шесть месяцев, которые Сергий пролежал «на одре», произошло немало важных событий, каждое из которых, словно звено в цепи, тянуло за собой последующие.
В марте 1375 года состоялся еще один княжеский съезд в Переяславле. Оба Дмитрия, московский и нижегородский, подтвердили свою решимость вместе бороться с Ордой.
Сын Дмитрия Константиновича князь Василий — разумеется, с ведома отца — 31 марта 1375 года велел своим дружинникам уничтожить большой отряд татар («посольство»), присланный Мамаем в Нижний Новгород. Эта жестокая акция прошла не совсем удачно: татары во главе со своим предводителем Сарайкой оказали ожесточенное сопротивление. Они захватили епископский двор, подожгли его и чуть не застрелили самого владыку Дионисия — «и пусти на нь стрелу; и пришед стрела коснуся перьем епископа токмо в край подола монатьи его» (20, 115).
Однако конец «поганых» был предрешен — «ту вси избиени быша и ни един от них не избысть». Отныне все мосты к соглашению с Мамаем для суздальских Константиновичей были сожжены. Татары никому не прощали убийства своих послов, считая это тяжелейшим оскорблением. Именно в этом, вероятно, и заключался главный смысл уничтожения Сарайки и его воинов: их кровью был скреплен союз двух Дмитриев.
Осторожный Мамай не спешил двинуть на Русь свою ослабленную моровым поветрием армию. Летом 1375 года, узнав о гибели Сарайки, он ограничился набегом на южные окраины нижегородских земель. Мамай надеялся, что московско-нижегородский союз окажется недолговечным. Весь опыт ордынской дипломатии учил тому, что русские ненавидят друг друга еще сильнее, чем «поганых». Кроме того, правитель Орды ожидал, что у князя Дмитрия Ивановича вспыхнет война либо с Литвой, либо с Тверью. Эта война свяжет московскую боевую силу. И тогда он легко разгромит нижегородских князей, а вслед за тем и самого Дмитрия Ивановича. Несомненно, в 1375 году Мамай использовал все возможности ордынской дипломатии и разведки для того, чтобы разжечь вражду среди русских князей, поднять Ольгерда на новый поход к Москве.
Ход событий во многом оправдал ожидания Мамая. Первым дало трещину единство московского боярства. 5 марта 1375 года перебежал в Тверь сын последнего московского тысяцкого Иван Вельяминов. Вместе с ним ушел к Михаилу и купец Некомат Сурожанин. Вероятно, именно этот богатый грек, торговые интересы которого были связаны с Крымом и Степью, был «резидентом» ордынской разведки в Москве.
Брат Сергия Стефан некогда был духовником всего семейства Вельяминовых. Да и сам игумен, несомненно, был хорошо знаком с перебежчиком. И потому весть о его измене поразила «старца». Вероятно, именно она стала той «последней каплей», которая переполнила чашу. Случайно ли, что болезнь подкосила Сергия как раз в те дни, когда он узнал о бегстве Ивана в Тверь?
Измена Вельяминова нанесла серьезный ущерб московскому делу. Несомненно, он рассказал Михаилу Тверскому о планах Дмитрия, об итогах двух переяславских съездов. Другой перебежчик, Некомат Сурожанин, посулил тверскому князю поддержку со стороны Мамая и ярлык на великое княжение Владимирское. Обсудив положение со своими ближними боярами, Михаил отправил Некомата и Вельяминова в Орду, к Мамаю, а сам не мешкая поехал на переговоры с Ольгердом. Неизвестно, что пообещали Михаилу в Литве. Однако, как только Некомат вернулся в Тверь с обещанным ярлыком, тверской князь немедленно начал войну с Москвой. Его наместники, изгнав москвичей, водворились в Торжке и Угличе. Прибывший в Тверь вместе с Некоматом ханский посол Ачихожа поощрял Михаила смелее наступать на владения Дмитрия Ивановича.
Можно представить себе, как взбешен был московский князь, узнав об измене Ивана Вельяминова. Однако он сумел взять себя в руки и не стал преследовать всех родичей Вельяминовых. В свою очередь, те отреклись от Ивана, обязались прекратить с ним всякое общение. Тем и кончилось дело на Боровицком холме. Раскол внутри московского боярства, которого так ждали недруги Дмитрия, не состоялся. Летом 1375 года вся его корпоративная мощь была поставлена на службу общей цели — покорению Твери.
Москвичи давно и основательно готовились к этой войне. На сей раз разгром Михаила должен был быть сокрушительным. Без этого трудно было надеяться на успех в борьбе с Мамаем.
В конце июня 1375 года князья Дмитрий Иванович и Владимир Серпуховской выступили на Тверь. В походе участвовали дружины суздальских, ростовских, ярославских, белозерских, моложских, стародубских князей. Поднялись также князья, владения которых находились в верхнем течении Оки и у самой литовской границы, — брянский, тарусский, новосильский, оболенский, смоленский. На Тверь двинул свою рать и стародавний враг Михаила — кашинский князь Василий Михайлович. Пришли по призыву Дмитрия и новгородские ратники, «зубы скрегчюще про свою обиду», то есть сгорая жаждой мести за разгром Торжка в 1372 году.
На общерусский характер похода указывает и то, что в бой шли не только княжеские дружины, но и «вся сила русских городов» — городское ополчение. Такое случалось лишь в чрезвычайных случаях. Собирая столь грандиозное войско, князь Дмитрий исходил из того, что поход на Тверь может перерасти в войну с Ольгердом и Мамаем, которые придут на помощь Михаилу Тверскому.
Все участники тверского похода считали Михаила «крамольником», прислужником «поганых». Это общее настроение отчетливо выразил летописец: «...вси бо вознегодоваша на великого князя Михаила Александровича Тверскаго, глаголюще: «Колико сей приводил ратью зятя своего, великого князя Литовскаго Олгерда Гедимановича, и много зла христианом сътвори, а ныне сложися с Мамаем, и со царем его, и со всею Ордою Мамаевою. А Мамай яростию дышит на всех нас, и аще сему попустим, сложився с ними, имать победити всех нас» (17, 23).
5 августа 1375 года московское войско подошло к Твери, а уже 8 августа была предпринята первая попытка взять город приступом. Однако штурм Твери был делом весьма
сложным. Князь Михаил еще в 1369 году выстроил у впадения Тьмаки в Волгу мощный деревянный Кремль. Стены его не боялись огня, так как были тщательно обмазаны глиной. В 1373 году Михаил организовал сооружение дополнительных укреплений — вала и рва от Волги до Тьмаки. Все эти меры позволили тверичам выдержать штурм, продолжавшийся весь день 8 августа.
Успех тверичей не в последнюю очередь объяснялся тем, что ими командовал князь Михаил Александрович, «последний яркий представитель буйного трагического рода» (59, 69). Как полководец он отличался мужеством и осмотрительностью. Вероятно, Михаил, не раз сражаясь бок о бок с Ольгердом, усвоил многое из опыта одного из лучших полководцев восточноевропейского средневековья.
Убедившись в том, что штурмом взять Тверь не удастся, великокняжеские войска стали готовиться к длительной осаде. Они окружили крепость «острогом» — частоколом, затруднявшим внезапные вылазки осажденных. Через Волгу были наведены два временных моста, по которым в случае нужды могли быстро подойти полки, стоявшие на левом берегу реки.
Осада Твери продолжалась около месяца. Все это время отряды Дмитрия и его союзников грабили и разоряли тверскую землю, жгли ее города, угоняли в плен жителей. Литва не смогла оказать тверскому князю никакой помощи.
В самой Твери начался голод и «озлобление людем». Все это заставило Михаила пойти на переговоры. Посредником выступил тверской владыка Евфимий.
Князь Дмитрий Иванович и митрополит Алексей, по-видимому, принимавший живое участие в организации тверского похода, охотно пошли на переговоры с Михаилом. Москвичам хотелось побыстрее закончить войну, так как содержание огромной и плохо организованной армии было делом крайне сложным. Полный разгром Твери, ее захват и сожжение в сложившейся обстановке были невозможны.
3 сентября 1375 года Дмитрий Московский и Михаил Тверской присягнули на верность мирному «докончанию», то есть договору, условия которого продиктовали москвичи.
«По любви, в правду, безо всякие хитрости» тверской князь целовал крест за себя «за свои дети, и за свои братаничи» на том, что отныне «и до живота» они все будут верными союзниками московского князя Дмитрия, будут участвовать во всех его походах, даже если это будут походы против Литвы и Орды (2, 28). Михаил Тверской навсегда отказывался от притязаний на великое княжение Владимирское, признавал полную независимость кашинского удела.
В договоре, текст которого сохранился до наших дней, есть и некоторые интересные подробности. Князь Дмитрий, от лица которого изложены условия мира, обязывает Михаила: «А имут нас сваживати татарове, и имут давати тобе нашу вотчину, великое княженье, и тобе ся не имати, ни до живота. А имут давати нам твою вотчину Тферь, и нам ся тако же не имати» (2, 26).
Из этого отрывка ясно, что князья прекрасно понимали, в чем заключается основной метод ордынской политики. «Сваживание», то есть стравливание, русских князей было главной опасностью и для московско-тверского договора.
Победное завершение московско-тверской войны совпало с выздоровлением Сергия. На Рождество Богородицы, 8 сентября, поддерживаемый под руки учениками, он впервые после болезни вошел в церковь, произнес краткое наставление. А еще две-три недели спустя игумен уже настолько окреп, что сам совершил литургию.
Осенью 1375 года до Москвы, а затем и до Маковца докатилась весть, которую одни встретили с ликованием, другие — с возмущением, а третьи — в их числе, вероятно, был и Сергий — с горечью и состраданием. Властный и жестокий новгородский архиепископ Алексей — в прошлом ключник Софийского собора — воздвиг гонение на новгородских еретиков — стригольников. Их предводители — дьяконы Никита и Карп — были преданы казни. Связав им руки и насыпав за пазуху песку, стригольников сбросили с Великого моста в Волхов. Так издавна расправлялись в Новгороде с теми, кто совершал тяжкое преступление.
Эта казнь вызвала настоящий мятеж. Вожди стригольников имели в городе много явных и тайных доброхотов. Казнь «ересиархов» не искоренила стригольничество, а, напротив, способствовала его развитию. Перепуганный владыка Алексей объявил о своем намерении покинуть кафедру.
Сергий много слышал об учении стригольников. Они обличали корыстолюбие духовенства, алчность иерархов, всеобщее падение нравов. Поставленные в сан за мзду, живущие в пьянстве, разврате и невежестве приходские священники не могли быть «добрыми пастырями» своих прихожан. Таинства, совершаемые этими «лихими пастухами», по мнению стригольников, не имели силы благодати. Столь же презрительно относились они и к высокопоставленным «корыстолюбцам» — архиепископу и митрополиту.
Избегая общения с пораженной пороками церковной организацией, они избирали собственных наставников, которые учили их слову Божьему. Попранные иерархией заветы Спасителя — любовь, равенство, братство — стригольники находили непосредственно в Евангелии. Оно было их любимой книгой.
Понимая великое очистительное значение исповеди в духовной жизни человека, стригольники разрабатывали свой ритуал этого таинства. Впрочем, сама форма совершения исповеди не имела особого значения и могла быть самой различной. Одни исповедовались, припав к матери-земле, другие — стоя на коленях перед крестом, третьи — «на ширинах градных». Единственным условием действенности исповеди была искренность покаяния. «Бог услышит всякого, кто молится и призывает его чистым сердцем», — говорили стригольники. Где, в каком месте совершается общение человека с Богом, не имеет значения.
В повседневной жизни стригольники были добродетельны; они чуждались пьянства и сквернословия, помогали друг другу всем необходимым.
Сергий понимал, что обличения стригольниками нравов приходского духовенства, отрицание ими «святости» иноков городских монастырей вполне справедливы. Он и сам не раз со вздохом перечитывал евангельский текст об изгнании торгующих из храма.
Он хорошо знал, каким путем обычно достигают архиерейского достоинства. Ученик Сергия Епифаний Премудрый в Житии пермского епископа Стефана особо отмечал, что его герой получил епископский сан не как многие другие: «не добивался владычьства, ни вертелся, ни тщался, ни наскакивал, ни накупался, ни насуливался посулы; не дал бо никому же ничто же, и не взял у него от поставлениа никто же ничто же, ни дара, ни посула, ни мзды; ничего бо бяше было и дати ему, не стяжанию стяжавшу ему, но и самому сдавша, елико потребнаа, елико милостиви и христолюбци и страннолюбци, видяще Бога ради бывающее творимо; и митрополит Бога ради поставль его и спасения ради обращающихся новокрещенных людей» (75, 148).
Рассказывая о поставлении самого Сергия на игуменство, автор Жития, не удержавшись, добавил сходное суждение — «не бо наскакывал на се, ниже превъсхыщал пред некым, ни посулов сулил от сего, ни мзды давал, яко же творят неции санолюбци суще, друг пред другом скачюще, верътящеся и прехватающе» (9, 330).
Крупно потратившись для достижения своего высокого положения, архиереи принимались беззастенчиво торговать благодатью. Главным и зачастую единственным требованием к тем, кто хотел стать священником или дьяконом, была «платежеспособность». Так было везде. И новгородские стригольники лишь открыто высказали то, о чем все знали, но молчали, опасаясь преследований и обвинения в ереси.
Вполне возможно, что в руках у Сергия побывал список известного в средневековой Руси сборника поучений святых отцов против еретиков — «Власфимии». Содержание этого сборника, подборка текстов были необычными. Неведомый составитель, а отчасти и автор «Власфимии» бичевал пороки тогдашнего духовенства. Особенно должно было поразить Сергия поучение, приписанное составителем Василию Великому. Оно никогда не встречается среди подлинных сочинений кесарийского епископа. Вероятно, оно было написано самим составителем «Власфимии», спрятавшимся за имя знаменитого святителя. «Ерей (то есть «иереи», священники. — Н. Б.), учители нарекостеся, а бываете блазнители, а от священицьскаго чину честни есте, кормлю и одежю приемлете, а сами беществуете сан свой. Упиваетеся яко иноплеменьницы, яко неведущии закона, ни книг и акы неразумнии скоти питаетеся без въздержание. И смрад есть уст ваших, якоже гроб отвьрст... Яко бо идолом чреву своему работаете. Сластем раби есте, а не Богу. Тело бо паче душа почтосте... Домы чюжая обходите и не позвани нигдеже. Яко скот на заколение питаетеся и пиете... О великое падение и злое неудьржание ваше! Мнози бо закона не ведуще, ни книг спасаются, а попове ведающе закон без милости осудяться» (68, 23).
Насколько известно, Сергий не выступал с требованием «чистки» рядов духовенства, не обличал всенародно «лихих пастухов». По натуре он не был судьей и резонером. Путеводными для него были слова Исаака Сирина: «Как мечущегося на всех льва, бегай охоты учить» (33, 59). Но при этом его собственная подвижническая жизнь служила горьким упреком тем, кто искал на церковной стезе не духовного подвига, а всего лишь «льготу телу своему».
Однако Сергий сумел остаться в церковной ограде. Его исповедание действительно можно определить как «церковный евангелизм» (105, 233). Лояльность Сергия по отношению к иерархии объяснялась целым рядом причин: и его глубоким смирением, и пристрастием к соборной молитве и обрядности (особенно литургической), и, наконец, осознанием того, что в реальности тогдашнего русского бытия только Церковь могла стать силой, собирающей людей.
Думая об участи вождей стригольников, Сергий не мог примириться с жестокостью расправы над ними. Даже если новгородский владыка Алексей искренне считал их еретиками, он не должен был допускать публичной казни. Любимые Сергием преподобные отцы в своих творениях говорили о современных им еретиках с горечью, но без ненависти и жажды крови. «Неверных или еретиков, которые охотно спорят с нами для того, чтобы защитить свое нечестие, после первого и второго увещания должны мы оставлять; напротив того, желающим научиться истине не поленимся благодетельствовать в этом до конца нашей жизни. Впрочем, будем поступать в обоих случаях к утверждению собственного нашего сердца», — учил Иоанн Лествичник (34, 230).
Вслед за известием о казни стригольников на Маковец пришла и еще одна новость, опечалившая Сергия. 2 декабря 1375 года патриарх Филофей поставил на Русь еще одного митрополита — иеромонаха Киприана, болгарина по происхождению, долго жившего в Византии и ставшего одним из самых доверенных лиц патриарха. При жизни митрополита Алексея Киприан должен был управлять православными епархиями Литвы и Польши. После его кончины Киприану надлежало взять под свою власть и великорусские епархии.
Как и предчувствовал Сергий, поставление Киприана стало началом ожесточенной внутрицерковной борьбы, продолжавшейся около полутора десятилетий. Современники назвали эти события «мятежом во святительстве».
Известие о поставлении литовского митрополита вызвало у московского князя вспышку гнева. Хотя Алексей со времени своего бегства из литовского плена ни разу не ездил на юго-запад дальше Брянска, однако после смерти в 1363 году своего соперника литовского митрополита Романа именно он считался главой всех православных, живших во владениях князя Ольгерда. Такое положение давало московскому правительству определенные политические выгоды. По церковным каналам москвичи могли воздействовать в нужном направлении на русских князей и бояр чернигово-северской земли. Вероятно, и подати с епархий Юго-Западной Руси поступали в эти годы в Москву, в казну митрополита. Поставление Киприана разрушало эту хрупкую систему.
Еще хуже было то, что появление литовского митрополита с полномочиями на всю Русь могло стать серьезным препятствием для избрания такого преемника Алексею, который нужен был московскому князю. Сам Киприан с его византийской программой единой Русской митрополии и стоящей выше княжеских споров митрополичьей кафедрой весной 1376 года был в Москве совершенно «не ко двору». И потому его попытки добиться признания у князя Дмитрия Ивановича потерпели неудачу.
Великий князь хотел видеть на месте Алексея человека столь же преданного московскому делу, столь же энергичного и решительного, но более скромного и «управляемого».
Поставление Киприана заставило всерьез задуматься о подыскании преемника престарелому Алексею. Весной 1376 года князь резко двинул вперед по церковной линии своего печатника Дмитрия, в просторечии — Митяя. Именно его великий князь позднее сочтет наиболее достойным наследником Алексея.
Подобно падающей звезде, этот человек лишь на миг блеснул на небосклоне русской истории. Его судьба могла бы стать темой одной из шекспировских трагедий. Простой коломенский священник, Митяй сумел сделать головокружительную карьеру благодаря своим личным качествам. Часто бывая в Коломне, князь Дмитрий заприметил этого рослого иерея с горделивой осанкой, благородной внешностью и зычным голосом. Умный от природы, а кроме того, хорошо образованный, Митяй в отличие от большинства тогдашнего духовенства любил и умел говорить проповеди.
Познакомившись с ним поближе, великий князь оценил и характер Митяя. Подобно самому князю, он был человеком легким и веселым. При этом в нем угадывались незаурядная энергия и сила духа.
Традиция предписывала князьям иметь своим духовником монаха. Однако Дмитрий нарушил ее. Митяй был взят ко двору и занял пост, который во времена Семена Гордого занимал брат Сергия Стефан — «бысть Митяй отец духовный князю великому и всем бояром старейшим». Вскоре ему были поручены и обязанности княжеского печатника — главы всей придворной канцелярии. В виде знака отличия Митяй «на собе ношаше печать князя великаго» (18, 125).
Возвышение Митяя, несомненно, происходило с ведома и одобрения митрополита Алексея. Только он мог поставить его княжеским духовником; только с его благословения Митяй весной 1376 года смог стать не только монахом (с именем Михаил), но и архимандритом придворного Спасского монастыря. Властную руку Алексея можно видеть и в том, как своевременно освободилась вакансия для княжеского духовника. Прежний спасский архимандрит Иван Непейца добровольно оставил свой пост и «сниде в келию млъчаниа ради» (18, 126).
Особый обряд «поставления в архимандрита» должен был совершать епископ, под властью которого находился данный монастырь. Однако в истории с Митяем церковные традиции нарушались одна за другой. На каждом шагу здесь виден или угадывается властный произвол. Митяя постриг в монахи и поставил архимандритом не архиерей (в Москве это должен был сделать сам митрополит), а лишь другой архимандрит, настоятель Чудова монастыря Елисей Чечетка. Вероятно, Алексей не захотел лишний раз ставить под удар свою репутацию: архимандрит должен был иметь большой опыт иноческой жизни, быть воспитанником именно этой обители, не состоять в браке до прихода в монастырь. Митяй не отвечал ни одному из этих требований.
Цель, во имя которой Митяй стремительно преобразился из «бельца» в чернеца, состояла в том, чтобы подготовить его к принятию епископского сана. Сам Алексей, прежде чем занять митрополичью кафедру, был возведен Феогностом в сан епископа владимирского. Так же, вероятно, предполагали поступить и с Митяем. Однако Алексей не торопился делать этот решительный и уже необратимый шаг. Он ждал, пока уляжется волна возмущения, вызванного в монашеской среде историей с Митяем. А главное, Алексей внимательно следил за тем, как меняется обстановка в Северо-Восточной Руси и во всей Восточной Европе. События 1376—1377 годов заставили митрополита усомниться в том, что Митяй — именно та фигура, которая нужна сейчас на престоле святого митрополита Петра.
В эти годы неизбежность военного конфликта между Русью и Мамаем становилась все отчетливее. Уже к концу 1375 года Мамай посылал отряды для опустошения владений тех князей, которые поддержали Дмитрия Московского в борьбе с Тверью, — нижегородских Константиновичей и Романа Новосильского.
Весной 1376 года опасность нашествия Мамая заставила москвичей выдвинуть войска к самой границе — на берег Оки. Одновременно с оборонительными мерами москвичи начали и наступательные действия. Гоняться за самим Мамаем и его Ордой по степям было безрассудно. И потому удар был нанесен по ближайшей цели — столице волжских болгар. По-видимому, именно оттуда отряды Мамая начинали свои набеги на нижегородские земли.
В марте 1377 года состоялся поход московско-нижегородской рати на «безбожныя болгары». Устрашенные болгары выплатили русским огромный выкуп и предоставили им право собирать в Булгаре таможенные пошлины. Этот поход окончательно испортил и без того натянутые отношения Москвы с Мамаем. Правитель Орды убедился в том, что русские от обороны переходят к наступлению.
К середине 1377 года Мамай сумел подчинить себе все кочевья, находившиеся западнее Волги. После этого он решил усилить натиск на русские земли. В ответ на болгарский поход Мамай летом 1377 года послал в нижегородские земли «царевича Арапшу» с большим отрядом. Навстречу татарам двинулось русское войско. Помимо московских и нижегородских полков, в нем были воины из ярославских и муромских земель. 2 августа 1377 года на реке Пьяне произошла битва, окончившаяся разгромом русских. После этого отряд Арапши стремительным набегом захватил Нижний Новгород. Князь Дмитрий Константинович, не имея сил для обороны, бежал в Суздаль, «а люди горожане новогородстии разбежашася в судех по Волзе к Городцу» (20, 119). Оставшиеся в городе были перебиты или уведены в плен татарами. В огромном пожаре, охватившем весь город, сгорело, по свидетельству летописи, 32 церкви. Это произошло 5 августа, накануне Преображения — престольного праздника нижегородского собора.
Осенью Арапша повторил набег, ограничившись на сей раз южными окраинами Нижегородского княжества.
Бедствиями нижегородцев решили воспользоваться их ближайшие соседи — зависимые от Мамая мордовские князья. Вскоре после ухода Арапши они совершили набег на русские земли, захватили много пленных и добычи. Однако на обратном пути, на реке Пьяне, их перехватил и разбил суздальский князь Борис Константинович с небольшой дружиной.
Мордовским князьям и их подданным суждено было жестоко поплатиться за свою алчность и неосмотрительность. Зимой 1377/78 года московско-нижегородское войско «всю их землю пусту сътвориша, и множество живых полониша и приведоша их в Новъгород, и казниша их казнью смертною, и травиша их псы на леду на Волзе» (20, 119).
В 1377 году московско-нижегородский союз выдержал испытание на прочность. Однако поражение на реке Пьяне и разгром татарами Нижнего Новгорода, несомненно, привели к обострению споров относительно своевременности войны с Мамаем как внутри московского боярства, так и между князьями.
«Дела человеческие не надолго остаются в одном положении», — справедливо заметил Василий Великий (40, 117). Неудачи в восточных делах отчасти возмещались благоприятным для Москвы развитием событий в Литве. Здесь в мае 1377 года умер «зловерный и безбожный и нечестивый» князь Ольгерд. По древнему языческому обычаю его тело было сожжено на огромном погребальном костре вместе с боевыми конями, оружием и утварью.
У князя Ольгерда было 12 сыновей: пять от первой жены, дочери витебского князя, и семь от второй — Ульяны Тверской. Наследником Ольгерда был объявлен его сын от второго брака князь Ягайло. Однако в Москве были уверены в том, что скоро в Литве начнется ожесточенная усобица. Среди претендентов на верховную власть, кроме сыновей Ольгерда, называли и его брата — осторожного и многоопытного Кейстута.
Завершение долгого, 32-летнего правления Ольгерда открыло перед московскими правителями уникальную возможность: пользуясь борьбой между его наследниками, «перетянуть» некоторых из них на свою сторону, восстановить свое влияние в чернигово-северской и киевской землях. Все это было особенно важным в связи с надвигавшимся противостоянием с Мамаем.
Искушенный политик, митрополит Алексей понимал, что в новых условиях изменялись и задачи, стоявшие перед митрополичьей кафедрой. Полузабытая идея о единстве Русской земли, русского православного народа, а также митрополии Киевской и всея Руси теперь оказывалась для Москвы весьма полезной и своевременной. Эта идея открывала перед московскими князьями далекие перспективы собирания юго-западных и западных русских земель под своей властью.
Однако любимец князя Дмитрия Ивановича Митяй, при всех его достоинствах, явно не годился для роли общерусского митрополита. Безродный фаворит московского князя, новичок в монашестве, он не имел авторитета ни в светских, ни в церковных кругах. А между тем, помимо чисто политических задач, новому митрополиту предстояло еще одно, сугубо церковное дело — борьба со стригольниками.
Летом 1376 года в Москву к митрополиту приезжал новгородский архиепископ Алексей. Из его рассказов митрополит получил полное — а может быть, и несколько преувеличенное — представление о размахе движения стригольников, о его опасности для всей церковной организации.
Все эти события и убедили Алексея в том, что его преемником на кафедре должен быть отнюдь не Митяй, а человек несравненно более уважаемый, независимый, стоящий как бы в стороне от политики. Только такой деятель мог быть признан в Литве, мог вытеснить оттуда Киприана и привлечь к себе православных князей Юго-Западной Руси. Только человек «высокого жития» мог с полным правом и успехом выступать против стригольников. Митрополит учитывал и то, что его преемник должен пользоваться доверием и уважением князя Дмитрия. Он должен «перевесить» в его глазах самого Митяя.
Среди подвластных ему иерархов Алексей не находил человека, отвечавшего всем этим требованиям. И тогда он впервые подумал о Сергии. Вероятно, поначалу эта мысль показалась митрополиту нелепой: так несовместимы были образы облаченного в златотканые одеяния величавого иерарха — и вечного труженика, непритязательного во всем радонежского игумена. Но чем больше размышлял Алексей над вопросом о преемнике, тем тверже становилось его намерение передать дело своей жизни Сергию.
И наконец настал день, когда митрополит отправил на Маковец гонца с грамотой, в которой он просил Сергия не мешкая явиться в Москву.
Зима 1377/78 года выдалась суровой. «Быша мрази велици и студень беспрестанна, и изомроша мнози человецы и скоты, и в малех местех вода обреташеся: изсякла бо вода от многих мразов и в болотех, и в езерах, и реках», — сообщает летописец (17, 29).
Путешествие в Москву по такой стуже было делом нелегким. Однако, получив грамоту от митрополита, Сергий не стал медлить. Уже на следующее утро, поплотнее запахнувшись в старый нагольный тулуп и натянув на самые глаза толстый, связанный из грубого сукна черный клобук, он отправился в путь.
Поднявшись на взгорье, Сергий оглянулся, как оглядывается всякий путник на перевале. Обитель лежала перед ним как на ладони. Из трубы над поварней уже поднимался высокий столб розового дыма; кое-где дымили трубы печей, топившихся в кельях. С десяток этих легких облачков неторопливо и торжественно, точно дым от тлеющего в кадиле ладана — древний образ молитвы, возносящейся к Богу, — поднимались вверх и таяли в холодной лазури...
Алексей знал, что уговорить Сергия будет нелегко. И потому, надеясь потрясти впечатлительную натуру игумена, он для начала подготовил небольшое действо. По знаку владыки служка внес в комнату ларец. Митрополит извлек из него украшенный драгоценными камнями золотой наперсный крест и расшитый золотыми нитями параманд, перекрестил Сергия и возложил на него эти регалии.
Почуяв неладное, Сергий насторожился и заметил, что он с юности не был «златоносцем», а под старость и вовсе не хотел бы им стать. Старец вопрошающе глядел на митрополита, и тот понял, что пора переходить к главному разговору.
Митрополит заговорил о том, как 22 года назад Бог вручил ему Киевскую митрополию, как шел он все эти годы тернистыми путями земными, «на жезл надежды опираясь и отгоняя им пса отчаяния» (34, 200). Но «кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней?» (Псалтирь, 88, 49). Ныне, предвидя скорую кончину, желает он еще при жизни избрать достойного мужа, который мог бы не как наемник, но как истинный пастырь беречь и умножать стадо Христово. Зная, что все — от великого князя и до последнего нищего — желают видеть на месте святом именно Сергия, он решил возвести его вначале в епископский сан, а затем и наречь своим наследником.
Когда Алексей закончил свою речь, Сергий встал, поклонился митрополиту и, согласно Житию, отвечал так: «Прости мя, владыко, яко выше моея меры еже глаголеши; и сия во мне не обращеши никогда же» (9, 392). Несомненно, агиограф точно передал если не форму, то самый дух ответа Сергия.
Вероятно, Алексей уговаривал игумена, напоминая ему об отцах церкви, несших бремя святительства, о том, сколь велика будет его заслуга перед Богом и людьми, о необходимости пожертвовать собой ради спасения душ «малых сил».
Но Сергий оставался непреклонен.
Чем вызван был его отказ? Должно быть, прежде всего тем, что игумен в отличие от большинства людей твердо знал, в чем состоит его предназначение. Он верил, что его место там, среди сосен и елей Маковца.
Сергий умел видеть себя среди людей и потому отлично понимал, что только в лесной «пустыне», среди своих иноков, среди повседневных трудов и забот он совершает дело своей жизни — безмолвную проповедь любви и единомыслия. Он возжег там свою неяркую, но чистую свечу. От ее огня, как в пасхальную ночь, возгорались новые и новые огоньки, светившие людям «во тьме разделения нашего». И сам Сергий ощущал себя хранителем этого духовного огня.
За четыре десятилетия жизни на Маковце в его душе возникло и окрепло совершенно особое, светлое и бодрое настроение. Он ощутил в себе дух Иисуса — дух любви и власти без насилия. В этом нравственном «обожении» таился секрет огромного обаяния личности Сергия. И сам он черпал в нем свои тайные радости и восторги.
Его власть или, лучше сказать, влияние в обители было основано именно на том, что он сумел стать «преподобным» — более других подобным Иисусу. Власть в обычном ее понимании подразумевает внешнее или внутреннее насилие над личностью. Это «власть с грозой», всегда прячущая за спиной кнут. Но есть и иная власть — власть слабости, кротости, беззлобия. Она походит на власть, которую имеют над родителями малые дети. Она основана на нравственной чистоте того, кто повелевает, и на уверенности в том, что своим повелением он не желает совершить насилие над чужой волей, но как бы дарит свою волю тому, кто радостно ее приемлет. Такова была власть Иисуса, который никогда никого не наказывал за ослушание. Вероятно, к такой же власти приближался и Сергий в своей обители.
Радонежский игумен строил новый мир, новую — точнее, утерянную со времен Христа и апостолов — систему человеческих отношений. И мог ли он оставить свою великую работу — зрителем который был сам Всевышний — во имя какой-то должности, пусть даже самой высокой и почетной?!
Понимал ли митрополит Алексей значение того, что совершалось на Маковце? Вероятно, только отчасти. Он работал для настоящего, Сергий — для будущего. Они жили в одной стране, в одно время, но как бы в разных измерениях.
Алексей вновь и вновь принимался уговаривать Сергия. Ему казалось, что игумен колеблется, что его отказ — лишь ритуальное проявление скромности и смирения. Однако Сергий уже давно принял решение и сейчас размышлял лишь о том, как высказать его. Опытный в беседах с людьми, игумен знал, что истинный отказ должен быть кратким и решительным. Тогда боль, причиненная им, будет острой, но мгновенной. И потому он встал, поклонился владыке еще ниже, чем в первый раз, и сказал: «Владыко святый! Аще не хощеши отгнать мою нищету и от слышаниа святыня твоеа, прочее не приложи о сем глаголати к моей худости и ни иному никому же попусти, понеже никто сиа в мне может обрести» {9, 392).
Митрополит долгим, тяжелым взором смотрел на Сергия. Тот поднял глаза. Взгляды их встретились. В синих, словно промытых родниковой водой глазах отшельника застыл покой. Они много лет знали друг друга, и Алексею потребовалось лишь мгновение, чтобы понять: старец уже давно принял решение. Если он станет настаивать, требовать послушания, грозить карами — Сергий вновь, как много лет назад, уйдет из монастыря, исчезнет в бескрайних лесах. И вернуть его назад будет уже несравненно труднее, чем прежде, ибо к старости — Алексей был осведомлен и об этом — Сергий все чаще стал думать и говорить с учениками о великой благодати пустынного безмолвия.
Тяжело вздохнув, Алексей отпустил игумена: «Иди с миром!»
В середине февраля 1378 года гонец принес на Маковец горестную весть: в пятницу, 12 февраля, когда московские колокола созывали народ к заутрене, митрополит Алексей скончался.
По завещанию святителя тело его было погребено не в Успенском соборе, а в его любимом Чудовом монастыре. Умирая, он завещал этой обители более десятка сел, приобретенных на его личные средства. Отныне монахи были навсегда избавлены от заботы о хлебе насущном. Митрополит оставил монастырю и свою любимую утеху — фруктовый сад на склоне Боровицкого холма.
Перед кончиной Алексей проявил смирение и велел похоронить себя вне монастырского собора, у его восточной стены. Там он выбрал себе место для могилы. Однако после кончины митрополита князь Дмитрий счел такую скромность неуместной и повелел устроить гробницу внутри храма, близ его алтаря.
На погребении присутствовала вся княжеская семья, несколько епископов, настоятели всех московских монастырей. В Кремль собралось множество простого народа. Одни искренне оплакивали святителя, другие с нетерпением ждали традиционного поминального угощения и раздачи «милостыни».
Едва отзвучал погребальный звон, как в опустевших хоромах Алексея начал осваиваться новый хозяин, архимандрит Михаил (Митяй).
Вопреки воле покойного и мнению многих других иерархов, князь Дмитрий решил именно его возвести на митрополию. В Константинополь, к новому патриарху Макарию, было отправлено посольство для переговоров об утверждении Митяя.
Между тем не сидел сложа руки и соперник Митяя — литовский митрополит Киприан. Его положение весной 1378 года было весьма шатким. Один из двух главных покровителей, князь Ольгерд, в мае 1377 года стал прахом в пламени погребального костра, а другой, патриарх Филофей, еще в сентябре 1376 года был низложен после очередного дворцового переворота и заточен в монастырь. Понимая, что вскоре он может потерять и свою собственную кафедру, литовский митрополит был готов на самые решительные действия.
Киприан знал, что многие церковные деятели Северо-Восточной Руси хотели бы воспользоваться благоприятной политической обстановкой и вернуться к единой общерусской митрополии. О том же думали и некоторые московские бояре, видевшие в таком решении политические выгоды. Единственным реальным кандидатом на роль общерусского митрополита был сам Каприан. В этом он видел свой главный козырь. С него он и решил начать игру...
Наблюдения над источниками позволяют предполагать, что уже весной 1378 года Киприан с надежным человеком отправил послание Сергию Радонежскому, с которым, вероятно, познакомился еще в первый свой приезд в Северо-Восточную Русь, в 1374 году. Митрополит просил игумена похлопотать перед князем Дмитрием Ивановичем о признании его в Москве. Вероятно, он убеждал Сергия в том, что только под его, Киприана, началом возможно «съединение церковное» — сохранение единой русской митрополии.
Однако весной 1378 года Сергий, судя по всему, не стал вмешиваться в спор между Киприаном и Митяем. Он не видел здесь явного противостояния добра и зла, права и произвола, словом, чего-то такого, что заставило бы его выпрямиться во весь рост. Оба претендента сами были нарушителями «старины», порядка. Киприан был поставлен киевским митрополитом, в сущности, незаконно: на кафедру, занятую Алексеем. «Новоук в монашестве», Митяй пришел к власти против воли Алексея. Еще не получив хиротонии от патриарха, он уже распоряжался в «доме Пречистой Богородицы» — на митрополичьем дворе.
Противостояние Киприана и Митяя Сергий воспринял преимущественно как борьбу за власть двух даровитых честолюбцев. Конечно, Киприан с его большим опытом монашества на Афоне, с его глубокой богословской образованностью, с его мечтами о «церковном съединении» и спасении православия от «неверных» был в глазах Сергия гораздо более достойным кандидатом на общерусскую кафедру, чем княжеский фаворит Митяй. И все же во всей этой истории явно не было места для подвига во имя блага людей. И потому радонежский игумен оставался неподвижен.
Не дождавшись помощи от Сергия, Киприан в июне 1378 года решил смелым набегом, «изгоном» взять Москву. Он выехал из Киева в сопровождении свиты из клириков и слуг общей численностью около 50 человек. С дороги он отправил Сергию и его племяннику Федору, игумену московского Симонова монастыря, краткое извещение о своем приближении к Москве. Между строк этого сдержанного и лаконичного послания можно было прочесть его суть: призыв о помощи. Митрополит понимал опасность своей затеи и не случайно сравнивал себя с библейским Иосифом: «Иду же, яко же иногда Иосиф от отца послан к своей братии» (91, 195). Судьба Иосифа, описанная в книге Бытия, была общеизвестна. Посланный отцом проведать пасших скот старших братьев, он был схвачен ими и продан в рабство чужеземцам.
Московский князь повсюду имел своих людей. Вовремя узнал он и о приближении Киприана. Получив эту весть, Дмитрий действовал быстро и решительно. На всех дорогах были выставлены отряды для задержания незваного гостя. Посланные Сергием и Федором для его встречи клирики были перехвачены.
Однако и у Киприана была своя служба тайного оповещения. Узнав о заставах на дорогах, он проехал окольными путями. Ему очень хотелось попасть в Москву. Но здесь его ожидало горькое разочарование. Никакого движения в его поддержку не было. Митрополит был ночью арестован и брошен в темницу. Спустя сутки вместе с его людьми, которых московские стражники дочиста ограбили, Киприан был выдворен из Москвы. Ему оставалось одно: с позором вернуться в Киев.
На обратном пути, 23 июня, Киприан написал новое послание к тем же лицам. Описывая свои злоключения и унижения, он упрекает Сергия и Федора в нерешительности, а главное — в том, что они не позаботились о «спасении души» князя Дмитрия. Прежде они допустили незаконное, противное правилам святых апостолов возвышение самозванца Митяя, а теперь из-за их бездействия князь совершил великий грех: надругался над святителем. Такого страшного преступления еще не знала Русская земля. Согласно постановлениям вселенских соборов и сам князь, и все, кто причастен к этому злодеянию, подлежат отлучению от Церкви. Он, митрополит, данной ему от Бога властью проклинает их.
Но это еще полбеды. Киприан высказывает «старцам» самый тяжкий упрек: «Не весте ли, яко грех людьский на князи, и княжьский грех, на люди нападает?» (9, 432). Зная, что для Сергия самое важное — духовное спасение народа, Киприан посылает словесную стрелу именно в эту цель. По существу, он обвиняет игумена в том, что тот причинил большой вред всему народу, позволив князю совершить тяжкий грех.
В заключение Киприан и самих «старцев» лишает своего благословения до тех пор, пока они не оправдаются или не покаются в своем грехе.
Послание Киприана должно было произвести сильное впечатление на Сергия. Вскоре он отправил митрополиту грамоту, после которой их добрые отношения возобновляются. Осенью 1378 года Киприан по-прежнему дружески извещает Сергия о том, что собирается ехать в Константинополь, где будет добиваться своей правды. Зная, с кем имеет дело, Киприан в письме не забыл подчеркнуть высокую цель своей борьбы: «Яз бо славы не ищу, ни богатьства, но митрополию свою... А смирения и съединения церковнаго желаю и христианьскаго» (91, 202).
Зимой 1378/79 года митрополит покинул Киев и, претерпев много трудностей в пути, весной 1379 года прибыл на Босфор.
Однако перемены в его судьбе зависели не столько от патриарха, сколько от князя Дмитрия Московского. Примерно год спустя он почтет за лучшее примириться с Киприаном и пригласить его в Москву. Но уже осенью 1382 года Дмитрий вновь выдворит Киприана из Северо-Восточной Руси, куда митрополит сможет вернуться лишь после кончины великого князя.
Во всех злоключениях Киприана есть своя логика и неизбежность. «...Чем кто согрешает, тем и наказывается» (Премудрость, 11, 17). Принимая деятельное участие в политических интригах Восточной Европы, он должен был подчиняться и основному закону тогдашней политики: право на стороне силы.
Несомненно, Киприан был незаурядным дипломатом. Кроме того, он имел за душой не только личные, но и «высшие» интересы. Но для Сергия, не очень верившего в то, что мир можно изменить хлопотами политиков, Киприан был более интересен как человек большой религиозной культуры. Митрополит был хорошо знаком с богатой традицией византийского монашества. Конечно, он рассказывал Сергию об «исихазме». Это явление в последнее время привлекает пристальное внимание историков культуры, и о нем стоит рассказать подробнее.
Отношение Сергия Радонежского к исихазму — этому оригинальному течению византийской богословской мысли середины XIV века — до сих пор не вполне ясно. В современных исследованиях духовной культуры Руси в эпоху Куликовской битвы читатель может встретить весьма противоречивые высказывания на сей счет. Одни считают Сергия убежденным последователем главных теоретиков исихазма — Григория Синаита и Григория Паламы. Другие, напротив, отрицают сколько-нибудь существенное влияние исихазма на русское монашество.
Для правильного понимания сути спора обозначим вкратце его исходные посылки. Само греческое слово «исихазм» можно перевести на русский язык как «безмолвничество». Суть его — покой страстей, отрешенность монаха от всего, что мешает приближению к Богу.
Этот путь был доступен лишь для тех, кто отмечен печатью избранничества, так как «мистицизм в восточном христианстве традиционно рассматривался как вершина и венец всякого богословия» (84, 325). Исихазм в широком понимании термина существовал уже со времен Макария Великого (IV век н. э.).
В середине XIV века традиционный монашеский исихазм пережил как бы второе рождение благодаря деятельности мистика и писателя Григория Синаита (умер около 1346 года) и его сподвижника митрополита Солунского Григория Паламы (1296—1359). Этот «неоисихазм» отличался учением о «божественной энергии». Его последователи утверждали, что в результате духовного восхождения инок может увидеть «луч божества»: тот самый свет, который согласно Евангелию вспыхнул перед глазами апостолов во время преображения Иисуса на горе Фавор. Для скорейшего достижения того состояния, когда перед мысленным взором открывается «духовный свет», неоисихасты использовали целый ряд психофизических приемов, выработанных за долгие века христианского монашества: «поза кучера», задержка дыхания, бесконечное повторение одной и той же краткой «Иисусовой молитвы».
По мнению филолога Г. М. Прохорова, византийский неоисихазм имел и определенную политическую окраску. Приверженцы «политического исихазма» — патриарх Филофей, митрополит Киприан — стремились объединить силы славянских народов для борьбы за независимость. Они действовали по всей Восточной Европе, и в частности на Руси. Здесь «политическими исихастами» были, по мнению Прохорова, все деятели общежительной реформы во главе с самим Сергием. Именно неоисихазм стал духовной основой национального подъема эпохи Куликовской битвы (91, 18-21).
Не вдаваясь в подробности научной дискуссии, вызванной теорией Прохорова, заметим, что нет, в сущности, никаких прямых свидетельств интереса Сергия к неоисихазму. Сохранившиеся до наших дней рукописи Троицкого монастыря, относящиеся к XIV веку, как показало исследование самого же Прохорова, не содержат произведений Григория Паламы и лишь в небольшом количестве — Григория Синаита (90). Библиотека Сергия была составлена главным образом из трудов древних — а отнюдь не «политических» — исихастов: Иоанна Лествичника, Исаака Сирина, аввы Дорофея и других.
Вопреки мнению Прохорова, общежительная реформа, проводившаяся Сергием и его учениками, вовсе не может служить признаком влияния неоисихазма. Напротив, она совершенно не согласуется с ним, ибо «безмолвие» как в традиционном, так и в неоисихастском вариантах основано на уединении инока, тогда как весь пафос деятельности и проповеди Сергия направлен на объединение, единомыслие. «Безмолвие» требует особножительного или скитского уклада жизни монахов (104, 211). Совместить его с киновией было крайне трудно даже для таких выдающихся подвижников, как сам Сергий или Исаакий-молчальник.
В Житии Сергия нет никаких указаний на неоисихастские взгляды «великого старца». Иногда думают, что о них свидетельствует «светоносная» тема произведения. Однако легко заметить, что «свет», окружавший Сергия, имел отнюдь не «фаворское», а скорее «литургическое», даже «евангельское» происхождение. «Я свет миру», — учил Иисус (Иоанн, 8, 12). Свет сопровождает его и во время таинственного явления миру при евхаристии. Общение Сергия со «светом» в алтаре есть лишь одно из проявлений его «преподобности» — точного следования Иисусу. В этом была основа всего поведения Сергия. Эту же тему неуклонно развивает и автор его Жития.
Косвенным свидетельством удаленности Сергия от неоисихазма, а тем более от гипотетического «политического исихазма» может служить один из рассказов Жития — «О епископе, пришедшем увидеть святого». Суть его проста: высокомерный греческий иерарх не хотел поверить в святость Сергия и за это был наказан внезапной слепотой. Лишь покаявшись, он получил прощение игумена и прозрел.
Едва ли эту историю можно отнести к числу поздних вставок в текст Жития: выходец с Афона Пахомий Серб и после установления автокефалии Русской Церкви, конечно, не стал бы «сталкивать» Сергия с византийским иерархом. В рассказе об ослепшем епископе можно ощущать совсем другую актуальность: пафос духовной самостоятельной Руси — вплоть до отказа от поминания на великой ектений византийского императора как главы всей Православной Церкви. Этим настроением отмечена была не середина XV века, а именно эпоха Куликовской битвы.
С детства приобщенный к величию русской истории, кровно ощутивший свою связь с отечественной духовной традицией, Сергий отнюдь не был грекофилом, последователем и учеником афонских неоисихастов. Его близость с Киприаном в конце 70-х — начале 80-х годов имела совсем иные, практические основы. Во всем стремившийся к подлинному, к истокам, Сергий в основу своего мировоззрения положил Евангелие, а в основу монашеской практики — творения древних отцов иночества. Из этого и следует исходить при ответе на вопрос об отношении радонежского игумена к учению византийских исихастов.
Между тем церковная смута в Северо-Восточной Руси принимала все более драматический характер. В то время как отверженный Дмитрием Киприан искал своей правды, взывая к патриарху, Митяй, еще не имея посвящения в сан, всецело вошел в роль митрополита: облачался в одеяния владыки, распоряжался делами митрополии. Его самоуверенность раздражала иерархов. Однако, боясь княжеского гнева, они молчали и повиновались.
Весной 1379 года в Москве состоялся поместный собор, целью которого было возведение Митяя в сан епископа. Следуя путем покойного Алексея, он должен был занять владимирскую кафедру и лишь с этой ступени взойти на митрополичий престол. На соборе вспыхнул давно назревавший конфликт между Митяем и высшим духовенством. Суздальский владыка Дионисий отказался признать небывалое возвышение вчерашнего «бельца». Он грозил разоблачить Митяя перед патриархом. Дионисий чувствовал за собой молчаливую поддержку большей части московского духовенства, которое Митяй обложил тяжкими поборами.
Князь Дмитрий Иванович, как и в истории с Киприаном, ответил быстрым и решительным ударом: Дионисий был взят под стражу. Как ни странно, воспитанник митрополита Алексея, казалось, совсем не имел уважения к духовному сану. Он распоряжался судьбами иерархов так, словно это были его холопы.
Задумаемся над этим психологическим парадоксом. По-видимому, именно в нем и кроется объяснение церковной политики князя Дмитрия. Митрополит Алексей вложил в сознание юного правителя веру в «богоизбранность» рода Даниила. Это идея была жизненно необходима московским князьям. Она успокаивала их христианскую совесть, отягченную многими злодеяниями, служила религиозной основой их единства.
Кроме всего прочего, эта идея нужна была митрополиту и для оправдания его собственной, откровенно промосковской политики.
Увлекающийся и впечатлительный Дмитрий вполне усвоил уроки Алексея. Военные и дипломатические успехи Москвы в 60-е и 70-е годы XIV века, упадок могущества Орды укрепили в нем веру в свое предназначение. Эта вера в избраннический, сакральный характер власти великого князя Московского ярко отразилась и в «Слове о житии великого князя Дмитрия Ивановича» — произведении, созданном, как полагают, в 90-е годы XIV века. Именуя Дмитрия «великим царем Рускыа земля», неизвестный автор «Слова», вероятно, только повторил то, что князь любил слышать при жизни. Своими подвигами Дмитрий превзошел библейских царей и патриархов. Сама его личность священна, ибо он «Богом дарованную приим власть и с Богом вся творя велие царство створи и настолие земли Руской яви». Князь, «от вышнего промысла власть получив», находится под особым покровительством Богородицы (9, 222, 224).
Здесь уже совсем недалеко до провозглашенного Иосифом Волоцким сто лет спустя тезиса: «Царь убо естеством подобен есть всем человеком, а властию же подобен есть вышняму Богу» (21, 184). Историки древнерусской литературы давно отметили, что «Слово» по содержанию и тону прямо предвосхищает «Степенную книгу» — памятник идеологии русского самодержавия середины XVI века.
Один из выводов, которые сделал князь Дмитрий из уроков своего воспитателя, заключался в том, что сам он, Дмитрий, является носителем некоего божественного начала. Подобно византийским императорам, он вправе притязать на роль главы Церкви и определять, кто должен занимать митрополичий престол. Мог ли Алексей предугадать столь неожиданный результат своих наставлений?!
В своих притязаниях на власть над Церковью Дмитрий, как и во многом другом, «забегал вперед». Жизнь показала неосуществимость его планов в условиях того времени. Но пройдет без малого два столетия — и ситуация повторится: воспитанник митрополита Макария Иван IV, уверовав в сакральный характер своей власти, потеряет всякое уважение к святительскому сану. Он будет ссылать и казнить иерархов с той же легкостью, как и остальных своих подданных. И уже ничто не в силах будет помешать его кровавому произволу, освященному «помазанием на царство».
При всей его прозорливости, Сергий едва ли мог осознать, какое зловещее развитие будет иметь церковная политика Дмитрия. В действиях князя по отношению к иерархам — сначала Киприану, потом Дионисию — он увидел покушение на освященное всей христианской традицией право неприкосновенности духовных лиц, их неподсудности «мирским» властям. Вероятно, игумен знал, что в деяниях одного из вселенских соборов прямо сказано: если кто из мирян дерзнет святителя бить или сажать под замок — да будет проклят.
Сергий понял, что в Москве совершается тягчайшее преступление, за которое Всевышний казнит не только князя, но и весь народ. Впрочем, он боялся не только небесной кары — новой вспышки гнева Божьего. Опыт подсказывал ему, что зло необходимо обличить, прежде чем люди привыкнут к его существованию, перестанут воспринимать его как зло. И тогда под угрозой окажется одна из основ христианского миропорядка: служение царю земному станет для духовенства делом более важным, чем следование заветам Царя Небесного.
Цепь размышлений замкнулась. Сергий стал собираться в дорогу. Через день он был уже в Москве. Явившись к князю, он потребовал освобождения Дионисия. Тогда князь со своей стороны потребовал от епископа обещания не вмешиваться более в дело Митяя. Владыка дал такое обещание. Однако Дмитрий не очень верил Дионисию. Поэтому он поставил условие: Сергий должен поручиться за нерушимость слова владыки.
Не знаем, дрогнул ли Сергий перед этим требованием. Однако отступать ему было уже поздно. Он поручился за суздальского владыку, и тот был выпущен из-под стражи. Вернувшись в свою епархию, он не медля сел на корабль и поплыл вниз по Волге, в Орду. Оттуда Дионисий добрался до Азова и далее — морем до Константинополя. Там он принялся настраивать греков против признания Митяя.
Втянувшись в церковно-политическую борьбу, Дионисий, как и Киприан, изведал все ее превратности. Несколько лет спустя он сумел примириться с князем Дмитрием и был возведен патриархом в сан митрополита. Однако суздальский владыка так и не сумел подняться на кафедру «архипастыря» Руси. По дороге из Константинополя в Москву он неосторожно заехал в Киев, где был схвачен местным князем и вскоре умер в темнице...
Сергий был потрясен бегством Дионисия. Всю жизнь он добивался того, чтобы «воззрением на святую Троицу побеждался ненавистный страх розни сего мира». И вот, зло не только не отступило. Оно торжествует. «Рознь мира сего» проникла в святая святых — «дом Пречистой Богоматери». Так именовали тогда митрополичий двор и кафедральный Успенский собор.
С ужасом смотрел Сергий на то, как один грех порождает другой. Игумен понимал, что Дионисий решился на клятвопреступление и предательство во имя «высокой цели» — спасения Русской Церкви от власти дерзкого временщика и его державного покровителя. Но как он мог забыть наставление Василия Великого — «не врачуйте зла злом... В недобрых борьбах злосчастнее тот, кто победил» (37, 167). Эту заповедь забывал порой митрополит Алексей. На этом споткнулся теперь и Дионисий. Сергий не мог понять, отчего власть делает слепыми даже самых достойных, самых мудрых.
МЕЧ И КОЛОКОЛ
Если Бог за нас, кто против нас?
В бурных событиях конца 70-х — начала 80-х годов XIV века Сергий принял самое живое участие. Объединивший всю Русь жертвенный подвиг Куликова поля был и его подвигом. И в этом есть историческая закономерность. Именно в событии такого масштаба явственно открылся национальный характер деятельности Сергия, глубокий патриотический смысл его подвижничества.
Как большие реки возникают из малых ручейков, так и великие события таинственно и неотвратимо зарождаются в тревогах повседневности. Сложившийся в 1374 году на съезде в Переяславле московско-нижегородский союз позволил усмирить Тверь, а затем развернуть активную вооруженную борьбу с Ордой. Однако ряд тяжелых ударов, нанесенных татарами по суздальско-нижегородским землям в 1376—1378 годах, заставил князя Дмитрия Константиновича одуматься и «выйти из игры». Вся тяжесть войны с Ордой отныне легла на плечи московского князя Дмитрия.
Летом 1378 года «поганые» из Мамаевой Орды вновь опустошили нижегородские земли, а затем двинулись на Москву. Их вел надменный «царевич» Бегич. Князь Дмитрий Иванович выступил навстречу врагу. В рязанской земле, на реке Воже, он нанес татарам сокрушительное поражение. Ордынцы бежали, «гонимы гневом Божиим». Битва произошла в среду, 11 августа, во время двухнедельного «богородицына поста», предшествовавшего празднику Успения (15 августа).
Торжество по случаю победы состоялось в Коломне в самый праздник Успения. Это совпадение было воспринято современниками как проявление милости Богородицы к Русской
земле.
Победа на Воже смыла с московских воевод позор поражения на Пьяне. Но, как и прежде, за храбрость и гордость князей приходилось расплачиваться горожанам. Когда московские полки ушли, сам Мамай внезапно нагрянул с войском на рязанскую землю. Князь Олег Иванович, не имея сил для сражения, бежал. Татары сожгли Переяславль-Рязанский (современная Рязань) и другие города, перебили и увели в плен их жителей.
Среди ордынских вельмож поражение на Воже вызвало сильные раздоры. Однако сторонники новой попытки покорения Руси взяли верх. Опустошив рязанскую землю, Мамай расчистил себе путь на Москву. Понимая, что этот поход решит его судьбу, Мамай не спешил. На протяжении всего 1379-го и первой половины 1380 года ордынский правитель копил силы, искал союзников, вербовал наемников. Он наладил связи с великим князем литовским Ягайло, нанял в Крыму отряд генуэзцев.
Одновременно Мамай пытался добиться успеха самым простым способом: уничтожив Дмитрия или же по меньшей мере рассорив его с главным союзником — князем Владимиром Серпуховским. Обосновавшийся в Мамаевой Орде изменник Иван Вельяминов послал в Москву своего человека, «некоего попа», у которого при аресте обнаружили «злых зелеи лютых мешок» (18, 135). Для кого берег он эти яды, нетрудно догадаться. Впрочем, летописец не сообщает подробностей дела, добавляя лишь, что поп был сослан в северное захолустье — на озеро Лаче. Примечательно, что князь не решился казнить священника.
Летом 1379 года и сам Иван Вельяминов тайно вернулся из Орды в русские земли. Выполняя волю Мамая, он должен был, пользуясь своими старыми связями в Москве, посеять раздор между Дмитрием Ивановичем и Владимиром Серпуховским. Возможно, он имел какие-то подлинные или ложные свидетельства «неблагонадежности» Владимира, которые и должен был через своих людей подбросить великому князю.
В те времена основой благополучия любого правителя была хорошо налаженная разведка. Не пренебрегал ею и князь Владимир. Своевременно узнав о замысле Ивана Вельяминова, князь с помощью своих людей выследил его и перехватил на пути в Москву. После этого Владимир помчался к великому князю и рассказал ему обо всем. Вслед за ним в Москву привезли пленного Вельяминова (99, 138).
Князь Дмитрий Иванович понимал, сколь много значит для него в этот момент «единачество» с братом. Желая доказать ему свою дружбу, а вместе с тем — припугнуть боярскую и посадскую оппозицию, великий князь приказал казнить изменника. Насколько известно, это была первая публичная казнь в Москве. Летописец сообщил о ней кратко, но с каким-то особым вниманием к деталям. «Того же лета месяца августа в 30 день, на память святого мученика Феликса, во вторник до обеда в час дни убиен бысть Иван Васильев сын тысяцкаго, мечем потят бысть на Кучкове поле у города у Москвы, повелением князя великаго Дмитрея Ивановичя» (20, 128).
Не прошло и двух недель, как горе пришло в дом самого князя Дмитрия. 11 сентября умер его сын Семен. Несомненно, молва связала эти два события воедино: князь согрешил, казнив своего родича, боярина — и за это его постигла Божья кара.
В то время как Мамай любыми средствами старался повредить Дмитрию, ослабить его могущество, великий князь также не терял времени даром. Стремясь помешать союзу Ягайло с Мамаем, он искал дружбы с теми литовскими князьями, которые недовольны были возвышением Ягайло.
В борьбе за предотвращение литовско-ордынского союза огромную роль призван был сыграть глава Православной Церкви. В июле 1379 года Митяй с большой свитой выехал из Москвы в Константинополь. В степях московское посольство имело встречу с Мамаем. Правитель Орды счел за лучшее не трогать духовных лиц и пропустил Митяя в Крым. Из Кафы (Феодосии) послы отплыли в Константинополь.
Когда на горизонте уже показались дворцы и храмы Царьграда, Митяй внезапно умер. В источниках есть сведения, что его задушили.
Со смертью Митяя среди московских послов началось смятение. Все соглашались в том, что возвращаться ни с чем от самых ворот патриархии нелепо. Необходимо выбрать из числа сопровождавших Митяя иерархов нового кандидата на митрополию и представить его на утверждение патриарху. Спор возник относительно того, кто именно должен стать наследником Митяя. Княжеские бояре выдвигали Пимена — архимандрита переяславского Успенского Горицкого монастыря. Духовенство же отстаивало кандидатуру Ивана — архимандрита Высоко-Петровского монастыря в Москве. Его монастырь первым среди московских городских обителей перешел на общежительный устав, поэтому Ивана почтительно называли «киновиархом», «начальником общему житию» в Москве. Несомненно, Иван был знаком и близок с Сергием.
Бояре, усвоившие княжеские методы обращения с иерархами, связали Ивана и бросили его в трюм. Испуганные клирики притихли.
Кончина Митяя в сентябре 1379 года во многом упростила ситуацию. Теперь ничто, кроме, может быть, личной неприязни, которую в интересах дела он умел скрывать, не мешало московскому князю признать Киприана. Литовский митрополит, используя все свое влияние, все связи, должен был убедить православную Литву поддержать православную Москву в ее противоборстве с «поганой» Ордой или же — по меньшей мере — удержать Ягайло от совместного с Мамаем нападения на Русь. Слово православного митрополита имело в Литве немалый вес: огромное большинство населения Великого княжества Литовского составляли русские, православные. Государственным языком в Литве в ту эпоху был русский язык.
Впрочем, дело было не в одной только Литве. Московские правители понимали: будущей войне с Мамаем необходимо придать религиозный характер. Это позволит теснее сплотить князей и бояр, воодушевить воинов. Кому, как не общерусскому митрополиту, надлежало заниматься идейной подготовкой великого противостояния с «безбожными» татарами.
Прикидывая выгоды от примирения с Киприаном, Дмитрий Иванович в то же время не был до конца уверен в том, что оскорбленный, отведавший московской темницы Киприан захочет ехать в Москву. На случай отказа Киприана или нового конфликта с ним Дмитрию нужен был свой, «запасной» митрополит. И потому он послал в Константинополь своим боярам распоряжение продолжать «осаду» патриарха, добиваясь поставления Пимена. Послы исполнили княжескую волю, и новый патриарх Нил после долгих торгов поставил Пимена великорусским митрополитом. За Киприаном Нил оставил Литву и Волынь.
Решив примириться с Киприаном, князь Дмитрий, однако, не спешил посылать к нему своих гонцов. Прежде чем получить приглашение в Москву, Киприан должен был на деле доказать искренность своей «любви» к князю Дмитрию, о которой он так много говорил в грамоте к Сергию, посланной им летом 1378 года, после изгнания из Москвы.
В самом конце 1379 года московский князь решил «вбить клин» между владениями Ягайло и кочевьями Мамая, утвердившись в Среднем Поднепровье. 9 декабря 1379 года, в самый праздник Зачатия Богородицы, из Москвы выступило большое войско, которым командовали Владимир Серпуховской, воевода Дмитрий Михайлович Боброк Волынский и перешедший на сторону Москвы литовский князь Андрей Ольгердович. Московская рать направилась в чернигово-северские земли, овладела Трубчевском и Стародубом. Правивший в Трубчевске литовский князь Дмитрий Ольгердович без боя сдал город и «отъехал» на службу к московскому князю.
Некоторые историки полагают, что в результате этого похода на сторону Дмитрия Ивановича перешел и киевский князь Владимир Ольгердович.
Занятый переговорами с Орденом и «выяснением отношений» со своим дядей Кейстутом, великий князь литовский Ягайло не смог оказать московским воеводам сопротивления или нанести ответный удар. Сильное движение против его власти поднялось в это время на Волыни и в Подолии, где в роли наместников сидели родные и двоюродные братья великого князя литовского, а также его дядя Любарт Гедиминович.
Несомненно, во время похода московской рати в северские земли сидевший в Киеве митрополит Киприан проявил себя как доброхот князя Дмитрия Ивановича, помог ему перетянуть на свою сторону православных Ольгердовичей. Убедившись в преданности Киприана, Дмитрий решился наконец пригласить его в Москву.
Лучшим кандидатом на роль посла к литовскому митрополиту был Федор Симоновский. Он был лично знаком с Киприаном, пользовался его дружбой и доверием. И по своему положению Федор мог выступать в роли доверенного лица московского князя: незадолго перед тем Дмитрий избрал его своим духовником.
Федор отправился в путь 5 февраля 1380 года. А уже 3 мая 1380 года Киприан торжественно въехал в Москву.
(Датировка этих событий в летописях весьма противоречива. Принято было думать, что посольство Федора и приезд Киприана в Москву относятся к первой половине 1381 года. Однако недавно украинский историк Ф. М. Шабульдо пришел к выводу, что в действительности эти события относятся к первой половине 1380 года. Логика его рассуждений и предложенные им датировки вполне убедительны (110, 122-127).)
Борьба вокруг митрополичьей кафедры, конечно, не могла оставить Сергия равнодушным. Он скорбел о том, что Русская земля оказалась лишена достойного архипастыря. Но гораздо больше беспокоило его неотвратимое приближение большой войны с Мамаем. Вероятно, он видел в ней историческое противоборство сил добра и зла, от исхода которого зависит будущее Руси.
Внешние тревоги не раз вызывали в сознании Сергия своеобразный отклик — видения. Можно думать, что именно в конце 1379-го — начале 1380 года, когда и в церковной, и в государственной жизни создалась особая, как бы «предгрозовая» напряженность, Сергий имел самое яркое, самое знаменитое из своих видений. В его келью на Маковце снизошла сама Богородица...
Однажды, рассказывает автор Жития, монастырь уже спал, и только сам Сергий совершал свою ночную келейную молитву. Внезапно он почувствовал, как его охватило необычайное волнение.
Он воодушевленно пел акафист, обращаясь к своей любимой иконе Богоматери Одигитрии и через нее — к самой Царице Небесной.
Закончив пение, Сергий присел на скамью, закрыл глаза—и вдруг воскликнул, обращаясь к своему келейнику Михею, дремавшему на лежанке в углу: «Чадо! Трезвися и бодрствуй, поне же посещение чюдно хощет нам быти и ужасно в сий час».
И тут в ушах Сергия зазвучал неведомый голос: «Се Пречиетая грядет!» Он вскочил с лавки и выбежал в сени. В глаза ему ударил свет, «паче солнца сиающа». Перед ним стояла сама Богородица, а рядом с ней — апостолы Петр и Иоанн. Увидев их, Сергий пал ниц, «не могый тръпети нестръпимую ону зарю».
Богородица прикоснулась руками к игумену, ободрила его: «Не ужасайся, избранниче мой! Приидох бо посетити тебе. Се услышана бысть молитва твоя»... Она пообещала Сергию заботиться о его обители, защищать ее от всех опасностей.
«И сиа рекши, невидима бысть».
Сергий пришел в себя, поднялся на ноги. От волнения он едва мог говорить. На вопрос перепуганного Михея — «что бысть чюдное се видение?» — он ответил лишь одно: «Потръпи, чядо, поне же и в мне дух мой трепещет от чюднаго видениа».
Наконец Сергий немного успокоился. Он велел Михею позвать двух других «духовидцев», Исаака и Симона, и рассказал им о своем видении. Они вместе радовались случившемуся, до глубокой ночи возносили благодарственные молитвы Богоматери. Сам игумен «пребысть всю нощь без сна, внимаа умом о неизъреченном видении».
Так состоялось знаменитое в русской церковной истории «явление Богоматери Сергию» (9, 394—396).
Примечательно, что Сергий вопреки обыкновению не стал скрывать своего видения. Он слишком хорошо понимал его великое — с точки зрения христианского мистика — значение. Русская церковная история еще не знала такого рода чудес. Богородица являлась не часто, и лишь в самые важные моменты политической и церковной истории Руси. Через свою икону она благословила Андрея Боголюбского на переезд из Киева в Северо-Восточную Русь; она явилась во сне митрополиту Максиму, «одобрив» перенос кафедры во Владимир-на-Клязьме.
В Киево-Печерском патерике Богородица появляется дважды: первый раз в облике некой «царицы» она приказала мастерам-строителям ехать из Константинополя в Киев и там выстроить собор Печерского монастыря; второй раз Богородицу увидел «мысленными очами» слепой инок Еразм.
Гораздо чаще случались на Руси явления икон Богоматери, творивших чудеса. Одна из них, Толгская, была явлена ростовскому епископу Прохору в самый год рождения Сергия — в 1314 году, на берегу Волги близ Ярославля.
Сергий увидел Богоматерь не «духовными», а «телесными» очами. Дева Мария явилась ему не в «тонком сне», не одним только «голосом свыше», а наяву, и так сказать, «лично». Это подчеркивал и автор Жития Сергия. В одной из редакций памятника (в Никоновской летописи) сказано, что явление Богоматери «не бе нечто гаданием или привидением, но ясно явленно виде, якоже древле Афонасей Афонский» (17, 146).
Упоминание о видении Афанасия Афонского не случайно. Согласно утверждениям византийцев Богоматерь покровительствовала монашеской жизни на Афоне. Знаменитый афонский подвижник первой половины XIV века Григорий Синаит в своих сочинениях называл Афон «храмом Богоматери, домом ее, палатою, селением». Эту же идею развивал его современник Григорий Палама (104, 599).
Явление Богоматери Сергию позволяло рассматривать Маковец как русскую Святую Гору, как своего рода новый Афон.
Весь о «явлении Богоматери Сергию» быстро разнеслась по Руси. В ту религиозную эпоху такого рода событие имело огромное общественное значение. Оно укрепляло веру в небесное покровительство московской земле. По наблюдению известного знатока старых религиозных представлений А. П. Щапова, «одно явление иконы Богородицы, по народному верованию, было причиной обильного урожая хлеба и всякого овоща, хорошего лета, ведряной погоды, плодовитости скота, здоровья народного» (112, 75). Здесь же явилась не икона, а сама Царица Небесная, да еще в сопровождении двух наиболее известных апостолов. Петр считался основателем христианской церкви и — через «тезоименитого» ему митрополита Петра — покровителем Московского княжества. Успенский собор Московского Кремля с 1329 года имел особый придел во имя апостола Петра (Поклонения веригам). Другой апостол, Иоанн, по преданию, был любимым учеником Христа. После казни Иисуса Богоматерь до самого своего Успения жила в доме Иоанна.
Для самого Сергия встреча с Богоматерью и апостолами была, конечно, вершиной его земной жизни, его мистических озарений. И не случайно «явление Богоматери» стало особой иконографической темой. Древнерусские изографы рассматривали его как главное событие биографии Сергия.
Думается, Житие Сергия значительно сужает содержание «монолога» Богоматери. Согласно агиографическому правилу _ изгонять из повествования все конкретно-историческое и оставлять только вневременное, абстрактно-типологическое — Епифаний Премудрый или его редактор Пахомий Серб оставили в тексте только обещание Пречистой заботиться о Троицком монастыре.
Однако уже вдумчивый исследователь биографии Сергия Е. Е. Голубинский справедливо заметил: «Позволительно думать, что Епифаний передает речь Божией Матери к Сергию не полно, — что она, не ограничиваясь одним уверением, что монастырь будет всем изобиловать, говорила и о более сего важном, духовном» (55, 68). Среди того «важного, духовного», что явственно услышал потрясенный видением Сергий, самым важным могло быть обещание Богородицы неотступно покровительствовать Русской земле, быть Нерушимой Стеной для Руси или же по меньшей мере для московской земли.
Именно таких — с небес произнесенных — слов ободрения и уверения ждала тогда Русь.
Сергию в высокой степени была свойственна та редкая способность избранных натур, которую, пользуясь выражением Б. Зайцева, можно определить как «духопроводность» (59, 20). Постоянно находясь среди народа, стекавшегося на Маковец, он остро ощущал всеобщее тревожное ожидание, какое-то необычное, как бы предгрозовое напряжение. Он знал, чего боятся и вместе с тем чего так жадно ждут воспрянувшие духом люди. Их страхи и надежды, их ожидание и напряжение отозвались в сознании Сергия, не раз уже слышавшего голоса и видевшего ангелов, небывалым по яркости и значимости видением.
Все это заставляет с особым интересом отнестись к вопросу: когда же произошла эта чудесная встреча Сергия с Девой Марией? К сожалению, в списках Жития нет точной даты события, а лишь косвенное указание — «бяше сороковница Христова Рожества, день же пяток» (16, 122). Замечание это можно понимать по-разному. Первое толкование сводится к тому, что «сороковница» — это Рождественский пост, начинающийся 15 ноября и продолжающийся сорок дней. Если считать, что видение произошло именно в сороковой день перед Рождеством, то его следует отнести к 14 ноября. Учитывая свидетельство Жития о том, что событие произошло «в пяток», то есть в пятницу, путем календарных подсчетов получим подходящие годы, когда 14 ноября было пятницей — 1354, 1371, 1382 годы. Одну из этих дат — 1354 год — принял писатель Д. Балашов в романе о Сергии (46, 33).
В старой литературе встречается и другая дата — 1387 год (74, 85). При таком подсчете следует, что «сороковница» Жития — не «Филиппово заговенье», 14 ноября, а первый день самого Рождественского поста. Едва ли эта дата достоверна: свидетель чуда келейник Сергия Михей умер 6 мая 1385 года (82, 142).
Не исключено и другое понимание «сороковницы»: как сорокового дня после Рождества Христова, в том же смысле, в каком «Пятидесятница» (она же — «Троица») — пятидесятый день после Пасхи. В этом случае «явление» совпадает с одним из 12 важнейших годовых праздников — Сретеньем. Оно, как известно, является «непереходящим» праздником и отмечается на сороковой день после Рождества Христова — 2 февраля. В таком случае тем же подсчетом «по пятницам» получим совершенно иной ряд дат — 1369, 1375, 1386 и 1392 годы.
Нельзя упускать из виду и самое простое понимание текста; небесное посещение произошло во время «сороковницы» (Рождественского поста), но неизвестно, какого именно числа.
Автор данной книги склоняется к мысли о том, что «явление» произошло в конце 1379-го или в начале 1380 года и связано с тем духовным напряжением, которое испытывал Сергий в этот период в связи с надвигавшейся большой войной с Ордой (48, 111). Не станем утомлять читателя новыми хронологическими выкладками, позволяющими допустить и эту дату. Заметим лишь, что точное определение даты «явления Богоматери Сергию» возможно только в случае открытия в источниках новых данных.
Впрочем, как бы ни решился вопрос о точной дате «явления Богоматери Сергию», ясно одно: год, предшествовавший Куликовской битве, был полон религиозного воодушевления, обращенного преимущественно к образу Девы Марии — небесной заступницы Руси.
Осенью 1379 года князь Дмитрий попросил «великого старца» основать новый лесной монастырь в хорошо знакомой Сергию малонаселенной местности к юго-востоку от Маковца. Центром всей той округи было расположенное верстах в сорока от Троицкого монастыря село Стромынь.
Главный храм нового монастыря князь желал посвятить Успению Пресвятой Богородицы. Этот праздник напоминал о победе над «погаными» в битве на реке Воже. Успенский монастырь должен был стать своего рода памятником героям, павшим в этом сражении.
После отъезда великого князя Сергий не мешкая отправился в путь и вскоре выбрал место для монастыря на реке Дубенке, притоке Шерны, «на Стромыне». Заказанный самим великим князем деревянный храм был выстроен очень быстро. Вокруг поднялись избы-кельи. Первые иноки, вероятно, были присланы сюда из Троицкого монастыря. Уже 1 декабря 1379 года Успенская церковь в новом монастыре была освящена. В этот день по церковному календарю праздновалась память пророка Наума. Поскольку с этого же дня обычно начинали учить детей грамоте, то в народе говорили — «пророк Наум, наведи на ум».
Игуменом нового монастыря Сергий поставил своего ученика Леонтия.
Особое почитание Богородицы в этот период проявилось не только в посвящении ей храма Стромынского монастыря и некоторых других церквей. О том же свидетельствует и один любопытный факт, сохранившийся в «Сказании о Мамаевом побоище». Вместе с грамотами, содержавшими слова благословения и ободрения, Сергий послал князю Дмитрию на Куликово поле «хлебец пречистыа Богородица» (9, 172), то есть просфору — вторую по порядку совершения проскомидии, — на которой поминается Дева Мария.
Вторая половина июля издавна была на Руси добрым, радостным временем. 20 июля церковь чествовала пророка Илью. В хорошее лето к этому дню начинал поспевать хлеб, и крестьяне говорили: «Новый хлеб на Ильин день». По этому случаю устраивали складчины. Вся община — «мир» — садилась за длинные столы, уставленные напитками и снедью. Работать на Ильин день запрещалось, чтобы не прогневать хозяина небесного огня. Гроза — а вместе с ней и столь желанный для земледельца теплый июльский ливень — считалась делом пророка Ильи, разъезжавшего по небу в огненной колеснице. Ему же молились и о хорошей погоде, о прекращении затяжных дождей.
Старики, потерявшие счет своим длинным годам, сидя на завалинке, вздыхали: «На Илью до обеда лето, а после обеда осень». Иные тайком вспоминали в этот день древнего бога грозы и молний Перуна, в укромных местах приносили ему требы.
Уже через четыре дня после Ильи следовал другой праздник — Бориса и Глеба. Святых братьев чтили по всей Руси, но особенно там, где они при жизни бывали — в Ростове, Муроме и, конечно, в Киеве. У простонародья праздник Бориса и Глеба также был связан с урожаем — «на Борис и Глеб поспевает хлеб». Для князей он служил напоминанием о пагубности усобиц.
Далее, в дни «Богородицына поста», шел целый ряд праздничных «Спасов». 1 августа — Всемилостивый Спас, праздник чисто русский, установленный еще Андреем Боголюбским. В народе первый Спас называли «Медовым». В этот день подрезали мед в ульях.
Духовенство 1 августа освящало воду в реках, совершало к ним крестные ходы, и потому первый Спас называли еще «Мокрым».
Второй Спас — память преображения Иисуса Христа на горе Фавор — в обиходе называли «Яблочным». Он отмечался 6 августа.
16 августа, на другой день после Успения, праздновали «перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Едеса в Царь-град», а по-народному — «Ореховый или Хлебный Спас».
В эти томные, радующие всяческим изобилием дни зрелого лета князья, как и простонародье, любили потешить себя пирами, иными утехами грешной плоти. Но не такой, как обычно, а тревожной, суетной была для московских земель вторая половина лета 1380 года.
Ходили слухи, что Мамай сумел собрать для похода на Русь громадное войско, в состав которого, кроме самих «татар» (под этим термином русских летописей скрываются главным образом потомки половцев и приведенных Батыем разноязыких кочевников Азии), входили отряды наемников из итальянских городов-колоний в Крыму (генуэзцы, армяне), а также полки, выставленные по требованию Мамая правителями народов Среднего Поволжья и Северного Кавказа. Это было поистине нашествие «двунадесяти языков».
На помощь Мамаю обещал прийти великий князь литовский Ягайло. Двуличную политику повел оказавшийся «между молотом и наковальней» князь Олег Рязанский. Устрашенный погромом его владений татарами в 1379 году, он обещал быть верным союзником Мамая. Одновременно он дал знать князю Дмитрию Ивановичу о подготовке ордынского нашествия.
23 июля в Москву примчался гонец с «поломянной» («огненной») вестью о том, что Мамай выступает в поход на Русь. Тотчас ко всем русским князьям, а также в Новгород и Псков поскакали «скоровестники» с призывом высылать отряды на помощь великому князю Дмитрию Ивановичу. Местом сбора была назначена Коломна. Сюда в период с 1 по 15 августа должны были прийти все полки, идущие навстречу Мамаю.
Полагая, что Киприан прибыл в Москву лишь в мае 1381 года, многие историки отвергали и «церковную» тему в рассказе Никоновской летописи о подготовке к сражению с Мамаем. Однако «вернув» Киприана летом 1380 года туда, где он в действительности и был — в Москву, мы получим гораздо более живую, полнокровную картину кануна Куликовской битвы. В эти последние, предгрозовые недели обстановка в Москве была во многом похожа на ту, которая предшествовала другому важнейшему событию русской истории — походу Ивана III на Новгород в 1471 году. Повсюду заметно было сильное религиозное воодушевление, вызванное не только близостью «Божьего суда», но также и всевозможными церковными действами.
В середине лета, когда Мамай уже нацеливался на Русь, в новой крепости на южной границе Московского княжества — Серпухове, был освящен Троицкий собор. Это был первый в Северо-Восточной Руси городской собор во имя Троицы — небесного образа любви и единомыслия. Его торжественное освящение состоялось в воскресенье, 15 июля, — в день памяти небесного покровителя серпуховского князя — святого Владимира, Крестителя Руси, общего предка всех русских князей. Имя Владимира часто вспоминали накануне Куликовской битвы. Оно напоминало о могущественной и независимой Киевской Руси, о подвигах былинных богатырей. Наконец, в образе Владимира воплощалась идея исторического единства Киева и Москвы — любимая идея не только митрополита Киприана, но и самого Сергия.
День 15 июля был связан и с другим великим деятелем русской истории — Александром Невским, еще в конце XIII века причисленным к лику святых. Свою знаменитую победу над шведами на Неве он одержал в воскресенье, 15 июля 1240 года, — ровно за 140 лет до освящения храма в Серпухове.
Усиленное молитвенное обращение к Александру Невскому летом 1380 года проявилось в особом чуде. О нем рассказывал очевидец — пономарь, спавший летом прямо на паперти собора владимирского Рождественского монастыря, где был погребен Александр. Среди ночи в храме сами собой зажглись свечи. Два таинственных старца вышли из алтаря, подошли к гробнице святого и воззвали: «О господине Александре! Востани и ускори на помощь правнуку своему, великому князю Дьмитрию, одолеваему сущу от иноплеменник». В тот же миг князь встал из гроба и вместе с двумя старцами стал невидим. Узнав о видении пономаря, владимирские клирики вскрыли гробницу Александра и обнаружили его нетленные мощи — верный признак святости.
Летом 1380 года строительство новых храмов велось не только в Серпухове, но и в другом южном форпосте московских земель — Коломне. Здесь спешно достраивали каменный Успенский собор. Однако торопливость повредила делу. В начале июля почти готовый храм рухнул. Не успели к осени 1380 года завершить и начатый в 1379 году каменный Успенский собор в московском Симоновом монастыре, у дороги, по которой войска шли из Москвы на Коломну. Оба храма являлись воплощенным в камне молитвенным призывом к Богородице — «Военачальнице, защищающей нас в бранях» (30, 27).
К середине августа, когда истек срок сбора полков в Коломне, когда разведка сообщила о предполагаемой численности войск Мамая, Дмитрий понял: под его знамя съехалось столько воинов, сколько едва ли удавалось собрать его отцу и деду; и все же войско «поганых» может оказаться куда более многочисленным, особенно если на помощь татарам явится Ягайло со своими русско-литовскими полками.
В этой ситуации единственной надеждой князя Дмитрия становились ополченцы, московский посадский люд и крестьяне, способные хоть кое-как вооружиться и, бросив свои очаги и нивы, отправиться в поход.
Ему нечего было пообещать им, кроме верной смерти. О принуждении не могло быть и речи. Даже если бы ему удалось силой собрать ополченцев и погнать их навстречу Мамаю, они бы попросту разбежались с дороги, растаяли в лесах, ушли в иные земли.
У москвичей были свои счеты с Дмитрием. Он не жалел их карманов, теснил их старинную вольность, отнял у них заступника и ходатая — тысяцкого. Потомок Рюрика, он смотрел на этих плотников и кузнецов, кожевников и гончаров с высоты своего боевого седла, из-за спин злобных, как цепные псы, телохранителей.
Городской люд жил совсем иной, непонятной и чуждой для него жизнью. Впрочем, и сам он был для посадских людей далекой, малоинтересной, хотя и необходимой для общего порядка жизни фигурой. Еще дальше он был от своих «сирот» — крестьян.
И вот теперь он должен был просить их помощи, их крови во имя затеянной им тяжбы с Мамаем. Но как докричаться до них? Как заставить поверить в благородство своих целей, в то, что в случае неудачи он не предаст их, не бросит на произвол судьбы, огрев нагайкой своего быстроногого коня?
И Дмитрий нашел единственно правильное решение. Кто-то, чье слово значит для простонародья больше, чем его собственное, должен как бы поручиться за него перед Русью, породнить его с могучей силой земли.
Поначалу, должно быть, эта мысль показалась князю почти оскорбительной. Однако чем дольше он размышлял, тем яснее понимал, что непременно должен взыскать себе «поручника свята». Им не мог быть ни чужеземец Киприан, ни кто другой из московских иерархов. Народ верил одному только Сергию. К нему и отправился Дмитрий с небольшой свитой. 17 августа он уже был на Маковце.
До поздней ночи просидел он в келье у Сергия, рассказывая о своих заботах и тревогах, исповедуясь как перед причастием. Дмитрий был до конца откровенен с игуменом и высказал заветное: ему нужно было не просто благословение, но и какие-то зримые всем воинам свидетельства того, что «великий старец» признал борьбу с Мамаем священной войной.
Проводив князя на ночлег, Сергий созвал к себе наиболее уважаемых «старцев». Глубокой ночью в его келье состоялся монашеский совет...
На следующее утро Дмитрий и его свита присутствовали на литургии, которую служил сам Сергий. День был воскресный, и потому служба отличалась особой торжественностью и продолжительностью. Князь нервничал, спешил назад, в Москву. Однако Сергий уговорил его отобедать в монастырской трапезной, «вкусить хлеба их». Это был не просто жест вежливости. Обед с иноками за их столом считался своего рода причастием, очищающим от грехов.
Сергий сам подал князю хлеб и соль. Этим двум вещам он придавал особое значение. Хлеб — не только в виде просфоры, но и как таковой — был для него символом самого Иисуса. Он не раз повторял слова Спасителя: «Я есмь хлеб жизни» {Иоанн, 6, 35). Соль еще с апостольских времен означала благодать. «Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому» (1-е Кол., 4, 6).
Подавая князю блюдо, игумен произнес: «Хлеб да соль!» Эти слова были его обычным благословением (22, 194). Князь встал и с поклоном принял блюдо.
После трапезы Сергий окропил Дмитрия и его спутников святой водой. Осенив князя крестным знамением, он громко, так, чтобы услышали все, воскликнул: «Пойди, господине, на поганыа половци, призывая Бога, и Господь Бог будеть ти помощник и заступник!» Потом, наклонившись к князю, Сергий добавил тихо, так, чтобы слышал он один: «Имаши, господине, победита супостаты своя» (9, 146).
Игумен подозвал к себе двух иноков. Князь узнал обоих: боярин Андрей Ослябя, ушедший «спасать душу» на Маковец, и недавно принявший монашеский постриг молодой богатырь Александр Пересвет.
Дмитрий с недоумением смотрел на одеяния иноков. Оба были облачены в «шлем спасения» — островерхий кукуль с вышитым на нем крестом. Это был «образ великой схимы». Князь знал, что Сергий не любил давать своим инокам схимы, избегая любого признака неравенства между братьями.
Обращаясь к Дмитрию, Сергий сказал: «Се ти мои оружници». И тут князь понял все. Эти два инока и есть то зримое свидетельство благословения, которое он вчера просил у «старца». Игумен постриг их в великую схиму, и теперь, верные иноческому послушанию, они готовы были следовать, за князем на битву. По понятиям иноков схима символизировала доспех, в котором монах выходил на бой с дьяволом.
Дмитрий понял, как много дал ему Сергий в лице этих двух иноков. Пересвет и Ослябя — люди не безвестные.
Увидев их, каждый сразу догадается, кто послал их с княжеским войском. А необычное одеяние без слов доскажет остальное.
Великий князь осознал и то, как трудно далось это решение «старцу», какой подвиг самопожертвования совершил он в эту ночь. Сергий не только посылал своих духовных детей на смерть, но также совершал прямое нарушение церковных законов. Четвертый Вселенский собор в Халкидоне постановил: монах не должен вступать в военную службу (31, 147). За нарушение этого запрета он подвергался отлучению от церкви. Принцип иноческого послушания перекладывал этот грех на плечи игумена, благословившего своих монахов на пролитие крови. Посылая иноков на битву, Сергий рисковал собственным спасением души.
Низко поклонившись, Дмитрий поцеловал руку игумена, потом выпрямился, глянул в синие, чуть поблекшие от времени глаза Сергия и, стремительно повернувшись, пошел к воротам. Там, за оградой, его уже ждала собравшаяся в дорогу свита. Стремянный держал наготове княжеского коня. Легко вскочив в седло, Дмитрий с места пустил своего застоявшегося жеребца широкой рысью.
Когда Сергий вышел за ворота, небольшой отряд уже скрылся в заросшей тальником ложбине. Но вот вдали, на взгорье, появилась фигура передового всадника. Статный, в развевающемся на ветру алом плаще, на снежно-белом коне — Дмитрий удивительно похож был в этот миг на святого Георгия-змееборца, каким его обычно изображали русские иконописцы.
Привстав на стременах, князь издали помахал на прощанье рукой и, хлестнув коня, окончательно скрылся из глаз.
Здесь мы вынуждены прервать на время наш рассказ и заглянуть «на кухню» истории — в источниковедение. Такая экскурсия, возможно, будет утомительна для непосвященного читателя. Однако она совершенно необходима, так как речь идет о правильном понимании важнейших событий в жизни нашего героя.
В последние годы в массовых изданиях появились обратившие на себя внимание статьи В. А. Кучкина и В. Л. Егорова (58; 78; 80; 134). Первый автор — специалист по русской истории XIV—XV веков, второй — главным образом по истории Золотой Орды. В данном случае их объединило недоверие к свидетельствам источников о деятельности Сергия накануне Куликовской битвы. Необходимо хотя бы вкратце рассмотреть аргументы и выводы данных исследователей. Иначе читатель, знакомый с их работами, окажется в растерянности: в нашей книге он прочтет одно, а в статьях этих историков — совсем другое.
В наиболее полном, пространном виде рассказ о поездке князя Дмитрия в Троицкий монастырь и об отправке Сергием двух иноков содержится в «Сказании о Мамаевом побоище». Более кратко об этом событии сообщает Житие Сергия. Естественно, Житие умалчивает о посылке двух иноков, так как это было явным нарушением церковных канонов со стороны игумена. Один из названных историков, В. А. Кучкин, считает это обстоятельство достаточным основанием, чтобы весьма категорично утверждать: князь Дмитрий перед Куликовской битвой не ездил к Сергию, никаких иноков Сергий с его войском не посылал, никаких грамот с призывом к стойкости и мужеству Дмитрий от Сергия не получал.
Но так ли безупречна цепь рассуждений исследователя?
Современные изыскания позволяют думать, что в сохранившихся до нашего времени источниках, повествующих о событиях 1380 года, существует определенная последовательность развития «сергиевской» темы. В несохранившейся Троицкой летописи, ближайшей по времени к событиям, не было сведений о деятельности Сергия в связи с Куликовской битвой (содержание Троицкой летописи, сгоревшей в пожаре Москвы в 1812 году, предположительно восстанавливается на основе других источников). Следующий по времени памятник — митрополичий свод первой четверти XV века содержит сообщение о посылке Сергием грамоты с благословением. Новые детали — приезд Дмитрия в Троицкой монастырь — дает Житие Сергия. И наконец, «Сказание о Мамаевом побоище» представляет как бы сумму всех этих данных, при этом обогащая повествование новыми деталями.
Эта генеалогия «сергиевской» темы в рассказах о событиях 1380 года выглядит весьма логично. Однако она ничуть не исключает возможности использования создателями «Сказания о Мамаевом побоище» ранних, не дошедших до нас источников, из которых и почерпнуты были сведения о деятельности Сергия. Классическим примером такого рода — сохранения сведений ранних, не дошедших до нас источников в гораздо более поздних трудах — может служить выявление значительной части первоначального, епифаниевского текста Жития Сергия в составе Пространной редакции памятника (126, 21).
Как яркий пример «ненадежности» сведений «Сказания» Кучкин приводит его рассказ о деятельности в Москве в 1380 году митрополита Киприана, тогда как ряд летописей относит приезд этого иерарха в Москву лишь к весне 1381 года. Однако и пример с Киприаном не бесспорен. Как уже отмечалось выше, митрополит вполне мог быть в Москве летом 1380 года (110, 122—127).
Историк отрицает посылку Сергием инока Александра Пересвета на том лишь основании, что в летописном перечне погибших он именно так и назван — Александр Пересвет, но без добавления слова «чернец». Все это легко объяснить: летописец — вероятно, человек церковный — счел неуместным поместить монаха (!) среди убитых воевод. Заметим, что здесь — один из концов всего клубка противоречий источников о Пересвете и Ослябе. Участие монахов в битве представляло собой некую аномалию. Оно было понятно и необходимо именно в те особые, необычные дни, предшествовавшие великой битве. Но как только забылась сама атмосфера священной войны, присутствие монахов в войсках князя Дмитрия стало казаться церковным книжникам нелепостью. Только произведения фольклорного, светского характера — «Сказание» и «Задонщина» — сохранили с разной степенью полноты сообщение о монахах-ратоборцах.
«Опровергнув» рассказ о Пересвете, Кучкин переходит к Андрею Ослябе. Он признает, что в конце XIV века монах Андрей Ослябя действительно существовал. Но поскольку в «Задонщине» Ослябя не назван по имени, то, стало быть, в 1380 году он не был еще монахом. Эта странная логика в конце концов позволяет историку сконструировать весьма произвольную текстологическую схему, «объясняющую», как «митрополичьи бояре» Пересвет и Ослябя превратились в троицких монахов, посланных Сергием на битву с Мамаем.
Между тем стоило бы обратить внимание хотя бы на такой факт. Постриг в схиму Пересвета и Осляби Сергий согласно «Сказанию» совершил 18 августа. Принятие схимы сопровождалось наречением нового имени. Обычно имя давалось по имени того святого, память которого праздновалась церковью в день совершения обряда или в один из соседних дней. «Вблизи» 18 августа можно найти и Андрея (19 августа — Андрей Стратилат, святой воин-мученик, высоко чтимый на Руси), и Александра (12 августа — Александр Команский, епископ-мученик). Да и сами имена инокам-воинам Сергий, вероятно, дал со смыслом. Александр по-гречески — «защитник людей», Андрей — «мужественный».
Историк отмечает в «Сказании» небольшую неточность: 18 августа в 1380 году было не «день въскресный», а суббота. В этом он видит еще одно свидетельство недостоверности самого события. Однако и тут все объясняется достаточно просто. Дмитрий едва ли ездил в Сергиев монастырь «одним днем». Более естественно предположить, что он прибыл к Троице именно в субботу, 18 августа, — переночевал и на другой день, отстояв обедню, отправился назад. Путь из Москвы к Троице по извилистой лесной дороге, через овраги и гати, занимал при самой торопливой скачке не менее 7—8 часов. Скакать по такой дороге ночью, в темноте, было бы безумием. Да к тому же Сергию просто невозможно было бы успеть за 2—3 часа, остающиеся при «однодневном» варианте, подготовить и постричь иноков, отслужить обедню, посидеть с князем за трапезой, приготовить воду с мощей Флора и Лавра и т. д.
Столь же надуманно противоречие, которое увидел Кучкин в сообщении «Сказания» о том, что Сергий дал инокам схиму, то есть одеяние великосхимника с нашитыми на нем крестами, а в «Задонщине» (Распространенная редакция) Пересвет, выходя на бой, «злаченым доспехом посвечивает». Схима Пересвета сыграла свою роль: в ней его видели рядом с князем на протяжении почти трех недель перед битвой. Инок-воин был живым символом небесной помощи и Сергиева благословения русским полкам. Но когда настал день битвы, опытный воин облачился в «золоченые» доспехи, которых князь, конечно, не пожалел для него. Впрочем, смутивший историка «золоченый доспех» Пересвета может быть и чисто фольклорным мотивом. В кипении многотысячного войска мало кто видел, в чем именно сражался воин-монах.
Не доверяя рассказу об иноках, Кучкин отрицает и сам факт поездки князя Дмитрия в Троицу. Он утверждает, что это известие автор «Сказания» заимствовал из Жития Сергия. Кроме мало что проясняющих в данном случае ссылок на материалы и построения Б. М. Клосса, историк приводит лишь один довод в обоснование своего взгляда: согласно Житию Сергия после битвы Дмитрий дал игумену средства для устройства обетного Успенского монастыря на реке Дубенке. Однако летопись сообщает, что Сергий основал по просьбе Дмитрия монастырь «на Дубенке, на Страмыне» в 1379 году. Из этого противоречия историк делает вывод: Житие Сергия дает ложную информацию; постройка монастыря была следствием победы Дмитрия в битве на реке Воже 11 августа 1378 года. Куликовская битва не повлекла за собой основание нового монастыря, так как Сергий не имел к ее подготовке никакого отношения.
Однако и этот аргумент нельзя признать убедительным. Никакого противоречия в источниках на самом деле нет, так как речь идет о двух совершенно различных монастырях — Дубенском Стромынском и Дубенском «на острову». Первый из них был основан до Куликовской битвы, второй — после, во исполнение обета, данного князем Дмитрием. Их объединяет лишь одинаковое, весьма распространенное название двух совершенно разных речушек — Дубенка.
Второй Дубенский монастырь — Шавыкин — был расположен в лесной глуши и потому со временем запустел. Однако его следы сохранялись еще в середине XIX века. Их разыскал и описал известный в свое время знаток русской старины М. В.Толстой (100, 45—50). Факт основания Сергием Дубенского Шавыкина монастыря подтверждают и новейшие исследования (163, 144).
«Опровергнув» два главных эпизода — поездку Дмитрия в Троицу перед битвой и миссию Пересвета и Осляби, — Кучкин отвергает и летописное сообщение о посылке Сергием грамоты к войскам. При этом он уже не особенно утруждает себя доказательствами. Все решается чисто умозрительно. Коль скоро это известие содержится только в митрополичьем своде 1423 года (заметим, гипотетическом!), то, значит, оно может рассматриваться как домысел, плод стремления митрополичьих книжников «приукрасить исторические заслуги Сергия Радонежского и русской церкви вообще» (78, 116). Что и говорить, сама по себе такая позиция очень «удобна» для исследователя: она позволяет, ссылаясь на тенденциозность и склонность к вымыслу церковных книжников, «списывать», объявлять недостоверным едва ли не каждое второе известие, связанное с историей Церкви, и без труда выстраивать любую нужную цепь доказательств.
Другая попытка опровергнуть сведения источников о причастности Сергия к подготовке Куликовской битвы содержится в статье В. Л. Егорова «Пересвет и Ослябя», опубликованной в журнале «Вопросы истории» в 1985 году. И выводы статьи, и их аргументация значительно скромнее, чем в работах Кучкина. Примечательно, что выводы эти во многом даже противоречат его взглядам...
По мнению Егорова, Пересвет и Ослябя не «митрополичьи бояре», а «брянские бояре», постригшиеся в Троицком монастыре в 70-е годы XFV века. Летом 1380 года они действительно покинули монастырь и отправились на битву с Мамаем, но не по благословению Сергия, а... «по зову великого князя и по велению сердца» (58, 180). Историк признает факт посылки Сергием грамот к полкам, идущим на битву, но делает из этого несколько неожиданный вывод: раз Сергий посылал грамоты, то, стало быть, Дмитрию и незачем было ездить на Маковец. Как и Кучкин, Егоров считает, что рассказ о поездке Дмитрия в Троицу и миссии Пересвета и Осляби — миф, созданный «церковниками» в XVI столетии.
Слабости этого построения очевидны: по уставу иноки не могли покинуть монастырь без благословения игумена. Да и князю Дмитрию совсем ни к чему было накануне битвы ссориться с Сергием, вопреки его воле «отзывая» двух монахов в свое войско. Посылка Сергием грамот вовсе не исключала необходимости поездки Дмитрия на Маковец хотя бы потому, что эта поездка предшествовала отправке грамот.
Отвлекаясь от частностей, можно заметить, что у обоих названных историков есть нечто общее в самом подходе к изучению вопроса. Они забывают о самом существенном: о реальной обстановке, об атмосфере, царившей в Москве после того, как стало известно о начале войны с Мамаем. Тревожная неопределенность сведений о численности войск Мамая, о планах его союзников, свежие воспоминания о нижегородских погромах 70-х годов, наконец, страх за будущее своей семьи, всего московского дела — все это угнетающе действовало на князя Дмитрия. Поездка к самому авторитетному тогда религиозному деятелю, «духовидцу» и «праведнику», нужна была Дмитрию по многим причинам. Она прямо вытекала из всей совокупности обстоятельств, сложившихся в канун битвы с Мамаем.
Идея священной войны — одна из самых распространенных идей Средневековья — была жизненно необходима московскому князю в этот решающий исторический момент. Ее не выдумали «церковники» полтора века спустя. Она — со всеми ее атрибутами — была реальностью в грозном 1380 году. Позднее к этой идее обращались и другие московские правители при подготовке самых ответственных своих походов. Именно здесь, в схожести реальных ситуаций, кроется причина возвращения книжников в тот или иной исторический момент к первой московской священной войне — «Мамаеву побоищу».
20 августа 1380 года московские полки выступили в поход. Этому предшествовал торжественный молебен в Успенском соборе, посещение князем могил предков в храме Михаила Архангела.
В воротах Кремля уходящее войско окропляли святой водой поставленные митрополитом священники. Празднично и вместе с тем как-то по-особому, тревожно гудели московские колокола.
Путь русского войска лежал на юг. Там, в верховьях Дона, неторопливо передвигался со своей армией Мамай, поджидавший идущего ему на помощь Ягайло.
Уже в пути были получены грамоты от Сергия. Глашатаи читали их перед полками. «Старец» благословлял все русское войско, сулил ему победу над «погаными». Тех, кто уцелеет в битве, ожидает слава, а тех, кому суждено погибнуть, — венцы мучеников.
В ночь с 7 на 8 сентября по приказу князя Дмитрия русское войско переправилось через Дон чуть ниже устья его правого притока реки Непрядвы. Этим решением князь отрезал себе путь к отступлению.
Перед русскими стояла готовая к сражению армия Мамая. Медлить было нельзя: полки Ягайло находились неподалеку.
8 сентября 1380 года, когда рассеялся утренний туман, две армии стали сближаться. Посланный Сергием витязь-инок Александр Пересвет вступил в схватку с татарским богатырем. Он поразил своего соперника, но и сам был смертельно ранен в этом поединке.
Перед сражением князь Дмитрий объехал полки, обращаясь к воинам с кратким словом, содержание которого «Сказание о Мамаевом побоище» передает так: «Отци и братиа моа, Господа ради подвизайтеся и святых ради церквей и веры ради христианскыа, сиа бо смерть нам ныне несть смерть, но живот вечный» (9, 170).
После этого князь подозвал своего любимца Михаила Бренка, велел ему облачиться в золоченые доспехи и стать к великокняжескому стягу. И лицом и ростом боярин был похож на князя. Издали их трудно было различить.
Сам Дмитрий, невзирая на протесты бояр, поскакал в Сторожевой полк. Этот полк должен был втянуть татар в рукопашную схватку, помешать им использовать свой любимый прием: издалека осыпать противника тысячами смертоносных стрел.
Вызывая на себя атаку лучших сил Мамаевой конницы, Сторожевой полк должен был ослабить ее удар по стоявшему в центре позиции Большому полку. Именно там были сосредоточены «небывальцы» — неопытные в ратном деле горожане-ополченцы.
Князь знал, на какое дело он шел. Однако он не думал о смерти. В душе своей Дмитрий ощутил стремительную силу жертвенного порыва. Она подхватила и понесла его, точно пловца на гребне волны. И когда бояре умоляли его не ездить «напереди битися», князь спокойно, почти весело возразил: «Да како аз възглаголю — братия моа, потягнем вси вкупе с одиного, а сам лице свое почну крыти и хоронитися назади? Не могу в том быти, но хощу яко же словом, такоже и делом напереди всех и пред всеми главу свою положите за свою братию и за вся христианы. Да и прочий то видевшие приимут с усръдием дръзновение» (9, 126).
Все ополченцы стали свидетелями подвига князя, ставшего в ряды обреченного на гибель Сторожевого полка. Князь выполнил скрепленную благословием Сергия клятву на верность своему «черному люду». И народ не обманул его, до дна испив горькую чашу в кровавом пире Куликова поля.
Отборные витязи Сторожевого полка исполнили свой воинский долг. Погибнув почти до единого, они сумели прикрыть своего князя от смертельного удара. Дважды под ним падал конь. Один раз он был ранен сам, однако продолжал сражаться уже в рядах подоспевшего Большого полка. Наконец силы покинули Дмитрия. Он едва успел укрыться в дубраве, за поваленным деревом, и там потерял сознание.
Между тем битва продолжалась. Покончив со Сторожевым полком, татары столкнулись с плотными рядами Большого полка. Стоявшие здесь московские ополченцы в начале битвы дрогнули, заволновались, увидав несметные полчища Мамая. Иные из них не выдержали и, гонимые страхом, «на беги обратишася». Однако мужество Сторожевого полка и самого великого князя Дмитрия воодушевило их. Теперь они стояли насмерть.
Убедившись, что опрокинуть Большой полк не удается, Мамай перенес основной натиск своих войск на полк левой руки, оттеснив его к Непрядве. Но тут во фланг татарам ударил Засадный полк под командованием Владимира Серпуховского и Дмитрия Боброка. Внезапный удар русских был так стремителен, что татары дрогнули. Ряды их смешались. И вот уже вся Мамаева рать неудержимо покатилась назад. Близость победы удвоила силы русских. Они дружно преследовали врага, яростно сминая любые попытки сопротивления.
После битвы посланные Владимиром воины едва отыскали Дмитрия. Его привели в чувство. Весть о победе придала князю силы. Он поднялся, сел на коня и вместе с братом поехал осматривать поле сражения. Вид его был ужасен. Повсюду лежали горы трупов, стонали и кричали раненые. А высоко в небе уже неторопливо кружили орлы...
Гонец, несший в Москву весть о победе над Мамаем, летел как на крыльях. Можно думать, что он примчался в столицу уже на четвертый день после сражения. Его задача облегчалась тем, что предусмотрительный князь на всем пути от Москвы до места встречи с Мамаем через каждые 30—40 верст оставлял заставы, где держали свежих, уже оседланных лошадей.
Князь знал: если татары победят, от скорости продвижения этого гонца будут зависеть тысячи жизней. Если же «скоровестник» помчит иное, радостное слово, то и в этом случае сколь дорог будет для Москвы, для всей Руси каждый сокращенный им час томительного ожидания. Предание Троицкого монастыря утверждает, что Сергий, «прозорливый имея дар», сообщил своим инокам о победе в самый день битвы. Игумен назвал имена погибших князей и бояр, совершил по ним панихиду.
Однако вкладывать меч в ножны было еще рано. Радость победы, скорбь о погибших перемешивалась с тревогой. Дмитрий сообщал, что всего лишь на расстоянии дневного перехода от места битвы стоит с большим войском другой враг Москвы — великий князь литовский Ягайло. Какие планы вынашивает сын Ольгерда? Не собирается ли он соединиться с остатками Мамаевой Орды? Не нападет ли на сильно поредевшие полки Дмитрия? А может быть, по примеру отца Ягайло попытается внезапно подступить к Москве? Во всяком случае, трудно было ожидать, что замешкавшийся союзник Мамая уйдет ни с чем...
В этой тревожной, неопределенной обстановке многое зависело от того, как поведет себя князь Олег Рязанский. Он предупредил москвичей о замыслах Мамая, однако сам уклонился от участия в битве и теперь имел сильное, свежее войско. Привыкнув постоянно лавировать между своими могущественными соседями — Москвой, Ордой и Литвой, Олег и на сей раз остался верен себе. Летом 1380 года он вел тайные переговоры с Ягайло, уверял его в своей дружбе. Литовцы прислушивались к советам Олега, видели в нем своего союзника.
Князь Дмитрий, отправляясь на войну с Мамаем, позаботился о том, чтобы не портить отношений с Олегом. Московскому войску был дан приказ, проходя через рязанскую землю, не грабить местное население. И все же позиция Олега оставалась неопределенной, выжидательной.
Между тем разнесся слух, что Ягайло готовится к нападению. По некоторым сведениям, его воеводы подстерегали разрозненные русские отряды, возвращавшиеся с Куликова поля, и отбивали у них взятые в битве трофеи. Со дня на день можно было ожидать движения главных сил Ягайло.
И тогда Дмитрий решил вновь обратиться за помощью к Сергию.
В одной старинной рукописной книге, происходящей из Троицкого монастыря (Стихирарь 1380 года), сохранилась интересная запись на полях — беглые заметки для памяти, сделанные писцом под впечатлением череды тревожных событий одного дня. Эта запись, неожиданно «вклинившаяся» в мерные ряды богослужебных песнопений — «стихир», проливает свет на деятельность Сергия осенью 1380 года. Вот ее содержание: «Месяца сентября в 21 день, в пяток (пятница. — Н. Б.), на память о агиос апостола Кондрата, по литургии почата бысть писати татрать (тетрадь. — Н. Б.) 6. В то ж день Симоновский приездил. В то ж день келарь поехал на Резань. В то ж день нача чернца увеща... В то ж день Исакий Андроников приехал к нам. В то ж день весть приде, яко Литва грядуть с агаряны (татары. — Н. Б.)... В то ж день придоша две телезе со мнозем скрипеньем в 1 час ночи» (126, 93).
Первый и, кажется, единственный исследователь этой записи Н. А. Шляков в конце прошлого столетия предложил интересное и, на наш взгляд, в целом верное истолкование ее исторического смысла (111, 1411—1414). Когда слухи о намерении Ягайло двинуться на Москву дошли до князя Дмитрия, он обратился к Федору Симоновскому, племяннику Сергия. Дмитрий просил Федора не медля поехать в Троицкий монастырь и уговорить дядю отправиться к Олегу Рязанскому с тем, чтобы убедить его воспрепятствовать намерениям Ягайло[К.В.12]. Исполняя волю князя, симоновский игумен явился на Маковец и наедине беседовал с Сергием.
Понимая, какие страшные последствия может иметь новая вспышка «ненавистной розни мира сего», игумен согласился вмешаться в ход событий. Сергий знал: дорога каждая минута. Однако если бы он сам отправился в Рязань, то на одну только дорогу туда ушло бы не менее недели: пешком по осенним дорогам он преодолевал бы за день не более 30—40 верст. Нарушить обет и сесть на коня Сергий не мог даже в такой обстановке. Несомненно, игумен подумал и еще об одном: может ли он покинуть своих иноков — своих «детей духовных» — на произвол судьбы в столь тревожную годину? И не лучше ли ему оставаться на месте и молить Богородицу вновь прийти на помощь Русской земле?
Взвесив все, Сергий решил отправить в Рязань своего келаря — второго человека в обители после самого игумена.
Вероятно, это был тот самый келарь Илья, о кончине которого летопись сообщает под 1384 годом. Выслушав распоряжение игумена, Илья наскоро собрался и в тот же день поехал в Рязань. Вероятно, он имел при себе грамоту Сергия к Олегу.
День 21 сентября 1380 года выдался в Троицком монастыре на редкость беспокойным. Вслед за Федором Симоновским из Москвы прибыл упомянутый в записи Исакий Андроников. По-видимому, это был инок московского Андроникова монастыря — духовной «отрасли» Троицкой обители. Не зная о миссии Федора, он счел своим долгом сообщить Сергию те же тревожные вести. От него-то и узнали троицкие монахи о предполагаемом нападении Ягайло: сам Сергий не стал раньше времени разглашать принесенные Федором новости. Встревоженные братья не спали; и когда среди ночи у ворот обители раздался шум и скрип телег, все переполошились.
Волнение их, к счастью, оказалось напрасным: «многое скрипение» не таило в себе никакой опасности для обители. Не знаем, что за срочный груз привезли ночью на Маковец в двух телегах. Возможно, это были какие-то религиозные ценности, вывезенные из подмосковных или московских монастырей на случай внезапного нападения «Литвы и агарян». Такие предосторожности были бы вполне естественны: у всех еще свежи были воспоминания о стремительных и внезапных нападениях литовцев на Москву во времена Ольгерда.
Кроме краткой записи в троицком Стихираре, никаких известий о путешествии троицкого келаря в Рязань не сохранилось. Трудно ответить на вопрос, в какой мере его миссия повлияла на позицию князя Олега. Достоверно известно лишь одно: Ягайло не стал нападать на московские земли и без боя отошел в свои владения. С 21 по 25 сентября Дмитрий стоял с войсками в Коломне, ожидая известий. Именно здесь, на бродах через Оку, он решил дать бой Ягайло, если тот попытается двинуться к Москве. Узнав, что литовцы уходят восвояси, Дмитрий приказал продолжить движение к Москве.
К тому моменту, когда Ягайло принял решение уйти без боя, келарь Илья, вероятно, еще не успел добраться до Олега. По некоторым сведениям, рязанский князь с дружиной в эти тревожные дни стоял где-то в верховьях Оки, на границе с Литвой.
И все же можно думать, что посланник Сергия исполнил поручение и встретился с «суровейшим» из русских князей. И встреча их была вполне дружелюбной. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что пять лет спустя сам Сергий по просьбе князя Дмитрия ходил в Рязань, был тепло принят Олегом и сумел убедить его прекратить разгоревшуюся войну с Москвой.
Московский князь стремился закрепить «единомыслие», позволившее русским одолеть Мамая. 1 ноября 1380 года состоялся новый княжеский съезд, участниками которого были «вси князи Русстии». В итоге князья «велию любовь учиниша межу собою» (17, 68—69).
Той же осенью Дмитрий нашел время для поездки на Маковец. Он хотел поблагодарить Сергия за все, что тот для него сделал. Князь дал щедрую «милостыню» обители. Возможно, именно на эти средства Сергий построил надвратную церковь во имя великомученика Дмитрия Солунского — небесного покровителя московского князя.
Исполняя данный им обет, Дмитрий просил Сергия основать еще один монастырь с храмом во имя Успения Богоматери. Князь предоставил игумену самому избрать для него подходящее место.
Маловероятно, что Сергий немедленно — по осеннему бездорожью или зимой, по сугробам — отправился выполнять это поручение. По-видимому, он занялся им уже летом 1381 года. В густых лесах, верстах в сорока к северу от Маковца, Сергий выбрал подходящее место и основал обитель. Приведя иноков и обеспечив их всем необходимым за счет княжеских пожалований, Сергий поставил здесь игуменом своего ученика Савву (163, 149).
Думая о победе над Мамаем, Сергий не переставал удивляться, сколь явственно проявилось в этих событиях особое попечение Богородицы о Русской земле. На Успеньев день, 15 августа, был сбор всех полков в Коломне; на Рождество Богородицы, 8 сентября, произошла сама битва; на Покров — торжество по случаю возвращения войск в Москву.
Игумен говорил об этом с князем Дмитрием, и тот соглашался с ним: воистину, Москва есть град Пречистой. Князь говорил о своем намерении выстроить в московском Кремле одну, а может быть, и несколько каменных церквей во имя Богородицы.
Вместе с Дмитрием приезжал на Маковец и его знаменитый воевбда Боброк Волынец. Он также просил Сергия основать для него монастырь. Боярин указал и место, где желал бы он видеть обитель: близ Коломны, на берегу Москвы-реки. Летом 1381 года Сергий исполнил прошение воеводы. Храм новой обители был освящен во имя Рождества Богородицы и стал памятником победы на Куликовом поле. По обиходному имени своего ктитора монастырь получил в народе название Бобренев.
Князья привезли Сергию полный список своих воевод и бояр, павших в битве, просили поминать их на литургии и служить по ним панихиды. Решено было установить ежегодное поминовение павших на Куликовом поле в субботу перед «Дмитриевым днем» (26 октября). Московский князь считал святого Дмитрия Солунского своим небесным покровителем. Он часто обращался к нему с молитвой.
Правитель города Солуни (современный греческий город Фессалоники) Дмитрий был казнен во времена гонений на христиан в первые века нашей эры. Его гробница со временем стала главной святыней города, а мощи творили чудеса. На Руси великомученик Дмитрий считался покровителем в борьбе с чужеземцами. Князья обращались к нему за помощью при защите своих городов. В 1198 году для великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо привезли из Византии доску от гроба Дмитрия Солунского, на которой был написан образ этого святого. Князь, носивший христианское имя Дмитрий, выстроил во Владимире в честь своего небесного покровителя белокаменный Дмитриевский собор, сохранившийся до наших дней. В 1380 году, накануне Куликовской битвы, «гробовую» икону Дмитрия торжественно перенесли из Владимира в Москву, где в Успенском соборе уже давно существовал особый придел во имя этого святого.
Два святых воина, Георгий и Дмитрий, в ту героическую эпоху стали светлыми маяками воинской доблести и христианского подвижничества. Это соединение в одном образе, казалось бы, очень далеких друг от друга понятий было вполне естественным с точки зрения тогдашних религиозных представлений. Сергий не раз говорил князьям о том, что подвиг монашества и подвиг мученичества — это лишь разные виды одного и того же подвига. Воин, погибающий за веру на поле брани, примет венец мученика, как примет его и монах, заживо умирающий во имя веры. Это была одна из любимых мыслей Сергия, его убеждение. Посылая своих монахов на битву с Мамаем, он лишь на деле последовал этому давно устоявшемуся в его сознании тождеству.
Помимо чисто духовных дел, князь в этот приезд к Сергию говорил с ним и о «мирском». Дмитрий был полон тревоги. Будущее сулило ему — а вместе с ним и всей Руси — новые тяжкие испытания. На Куликовом поле богатырский меч отсек лишь одну голову дракона.
Этот образ, известный всем по многочисленным иконам «Чудо Георгия о змие», стал символом «поганой» Орды. Он имел и свою историческую основу. Древний китайский символ счастья, дракон изображался на знаменах Чингисхана и его потомков.
Мамай ушел в глубину своих степей и там собрал «остаточную свою силу» — новое войско. Правитель Орды был готов на все во имя мести. Он, не торгуясь, отдавал генуэзцам татарские владения в Крыму, требуя за это военной помощи. Новая армия Мамая росла не по дням, а по часам.
Опасность грозила Москве не только с юга, но и с запада. Там ждал своего часа литовский князь Ягайло. Не без умысла опоздал он на соединение с Мамаем. Война против православной Руси на стороне «поганой» Орды могла обострить его конфликт с влиятельной литовской аристократией русского происхождения, а также восстановить против него Церковь. Можно думать, что митрополит Киприан недвусмысленно выразил Ягайло свою позицию в этом вопросе.
Уклонившись от участия в битве, Ягайло сохранил свою армию и оказался в выигрышном положении. В любой момент он мог пойти по пути Ольгерда и начать большую войну с Москвой. А между тем цвет московского воинства, его «узорочье» осталось лежать в братских могилах Куликова поля.
Сергий как мог успокаивал князя, сулил ему помощь небесных сил. Однако в душе он и сам страшился грядущего.
Тревоги князя Дмитрия Ивановича были не напрасны. И если Ягайло, занявшись борьбой со своим дядей Кейстутом, не мог в 1381—1382 годах причинить Москве особого вреда, то степная угроза продолжала дамокловым мечом нависать над головой московского князя. Зимой 1380/81 года Мамай изготовился к новому походу на Русь. Однако судьба — Сергий назвал бы ее Божьим Промыслом — послала Мамаю могущественного соперника. Из-за Волги пришел со своей Ордой воинственный «царь» Тохтамыш. Навстречу ему Мамай двинул собранное для похода на Русь войско. В битве «на Кадках» — вероятно, на той же реке Калке, где 31 мая 1223 года погибло от рук татар русское войско, — Тохтамыш разгромил Мамая. С небольшим отрядом поверженный властелин степей ушел в Крым. Посланная Тохтамышем погоня шла за ним по пятам. Мамай направился в Кафу (Феодосию), где надеялся найти убежище или же бежать отсюда морем. Однако местные власти не захотели портить отношения с новым ордынским «царем». Они впустили Мамая в город, но лишь затем, чтобы здесь расправиться с ним. И сам темник, и вся его свита были перебиты, а их имущество разграблено.
Довольный таким исходом дела, Тохтамыш сохранил за кафинцами все те земли и привилегии, которые им в свое время дал Мамай.
Задолго до окончательной победы над Мамаем, осенью 1380 года Тохтамыш отправил на Русь посла с извещением о своем возвышении в Волжской Орде. Русские князья «посла его чествоваше добре». Не откладывая, они отправили к новому хану своих «киличеев» (послов) с дарами. Однако вопреки давней традиции никто из князей не явился к новому «царю» лично.
29 октября 1380 года отправил своих «киличеев» и князь Дмитрий Иванович. А уже 1 ноября начался созванный им княжеский съезд. Необходимо было выработать общую позицию по отношению к Тохтамышу, добиться «единачества» перед лицом новой опасности. Об итогах этого «снема» летописи, как обычно, умалчивают.
Летом 1381 года московские послы вернулись от Тохтамыша «с пожалованием и со многою честью». Их возвращения ждали со страхом и надеждой. Летописец откровенно объясняет причины всеобщей тревоги — «оскуде бо вся земля Русская от Мамаева побоища» (17, 72).
Вслед за русскими «киличеями» из Орды явился большой — около 700 сабель — отряд, сопровождавший нового посла, «царевича» Акхозю. Однако после Куликовской битвы татары уже не могли свободно разъезжать по Руси. «Царевич», по свидетельству летописи, «дошед Новагорода Нижняго, и возвратися вспять, а на Москву не дерзну ити, но посла некоих от своих татар, не во мнозе дружине, но и тии не смеаху» (17, 70).
Несомненно, он живо описал хану свои впечатления о пребывании на Руси. Победив Мамая, Тохтамыш оказался перед необходимостью продолжить его дело. Заключив союз с Ягайло, он стал готовиться к большому походу на Москву...
Духа не угашайте.
1-е послание к фессалоникийцам апостола Павла, 5, 19
В этот тревожный, предгрозовой период между Куликовской битвой и нашествием Тохтамыша Сергий вновь берет в руки посох странника и покидает Маковец. Как и прежде, его «походы», помимо конкретных поводов, имели главной целью сплотить князей, воодушевить народ.
Вероятно, Сергий был на княжеском съезде в ноябре 1380 года. Весной 1381 года он отправился в Серпухов, где вместе с митрополитом Киприаном окрестил новорожденного сына князя Владимира — Ивана. Осенью Сергий вновь побывал в Серпухове. Вместе с тем же Киприаном и игуменом Афанасием он, по некоторым сведениям, участвовал в освящении каменного собора в Высоцком монастыре, а также церкви Покрова с трапезной палатой. Эти здания служили своего рода памятниками подвигу серпуховского князя и его воинов на Куликовом поле. Посвященные Божьей Матери, храмы Высоцкого монастыря напоминали о ее покровительстве русскому и особенно московскому воинству.
Летом 1382 года хан Тохтамыш выступил в поход на Русь. Стремясь нагрянуть внезапно, он начал с того, что приказал перебить всех русских купцов на Волге. Горький опыт Мамая многому научил нового ордынского «царя». Впрочем, он и сам был незаурядным полководцем и правителем восточного типа, способным учеником своего наставника и покровителя Тимура — знаменитого среднеазиатского завоевателя, «Чингисхана XIV столетия».
Тела зарезанных русских купцов поплыли вниз по Волге, а их корабли хан использовал для переправы своих войск.
Первыми узнали о приближении Тохтамыша нижегородский и рязанский князья. И вновь, как и в 1380 году, обманул надежды своего зятя Дмитрия Московского старый суздальский князь Дмитрий Константинович. Он не только не пришел на помощь Москве, но даже отправил к «царю» своих сыновей — Василия и Семена. Они привезли Тохтамышу дары, выразили покорность. Оба княжича вместе с ханским войском пошли на Москву.
На границе рязанских земель хана встретили бояре князя Олега Ивановича. Поклонившись ему и поднеся дары, они провели ордынское войско в обход рязанской земли, указали безопасные броды на Оке и прямую дорогу к Москве. Сам князь Олег в эти дни почел за лучшее уехать в Брянск, к сестре.
Когда разведка сообщила московскому князю о движении Тохтамыша, он попытался вновь, как и в 1380 году, собрать воедино всю боевую силу Северо-Восточной Руси. Срочно был созван княжеский съезд. Однако он выявил лишь всеобщее уныние, «неединачество и неимоверство» (17, 72). Как в худшие времена, князьями овладели растерянность, малодушие, эгоизм.
В чем причина этой нравственной катастрофы, которая повлекла за собой столь тяжкие для всей Руси последствия?
По-видимому, возвышение Тохтамыша вызвало у русских своего рода оторопь. Степной дракон оказался бессмертным. На смену отрубленной голове у него тотчас выросла другая. Словно насмехаясь над победителями Мамая, Орда показала им неисчерпаемость своих боевых сил. И тут князьями овладело отчаяние. Каждый думал уже не о «спасении души», а о том, как спасти себя и свою вотчину. И даже проповедь Сергия на сей раз была бессильна заставить князей опомниться, преодолеть рознь, завершить начатое на Куликовом поле.
Тяжелее всех было в эти дни князю Дмитрию Московскому. Он почувствовал, как его окружило всеобщее отчуждение. В нем вдруг увидели единственного виновника всех несчастий. Он разгневал Мамая, и за его «обиду» на Куликовом поле полегли многие князья, бояре, тысячи лучших русских воинов. Он не сумел поладить с Тохтамышем, а теперь вновь требует, чтобы вся Русь расплачивалась за его дерзость.
Никто уже не вспоминал о том упоительном ощущении свободы, которое все они испытали осенью 1380 года, о том, как Дмитрий своими войсками закрывал Мамаю дорогу на Нижний Новгород и Рязань. Все искали оправдания своему унижению и бессилию, обвиняя во всех грехах московского князя.
Дмитрий понял, что ему не на кого рассчитывать, кроме как на самого себя и своих бояр. Где-то в середине августа московским правительством был принят план действий. Москву решено было срочно готовить к осаде. Каменные стены спасли ее от Ольгерда. Теперь хорошо послужат они и от Тохтамыша. В городе останутся бояре и митрополит, за которым уже послан в Новгород срочный гонец. Князь Владимир со своим полком отойдет к Волоку Дамскому и оттуда будет грозить «царю» внезапной атакой, подобной той, что опрокинула за Доном полчища Мамая.
Если Тохтамыш, не сумев взять Москву, пойдет на Тверь — Владимир соединится с войсками Михаила Тверского и даст бой «поганым». Если же Михаил, спохватившись, все же пришлет подмогу московскому князю — Владимир пойдет с ней на выручку осажденной Москве. Прямая, торная дорога от Москвы на Тверь проходила в то время именно через Волок Дамский.
Сам великий князь не должен оставаться в Москве или быть где-нибудь поблизости. Тохтамыш пришел сводить счеты именно с ним. Его алый плащ для хана — как красная тряпка для быка. Увидев, что Дмитрия нет и в помине, хан скорее пойдет на мировую и оставит русские земли. А между тем Дмитрий поедет в Кострому. Там он соберет войско. Туда прибегут к нему ростовские и ярославские князья с дружинами, если хан двинется на их владения. Туда подтянутся и белозерцы, да и вся заволжская лесная вольница. Накопив силу, он двинется с ней к Москве.
Чтобы москвичи не заподозрили князя в измене, он оставил в городе на попечение бояр свою княгиню.
Решено было сжечь вокруг Кремля все деревянные строения, чтобы не оставить татарам бревен для «примета» к стенам крепости. По предложению духовенства велено было собрать в Кремль всю «святость» из окрестных церквей и монастырей, в том числе и книги.
Захватив Серпухов и опустошив южные уезды Московского княжества, войско Тохтамыша 23 августа 1382 года подошло к Москве.
В городе к этому моменту сложилась крайне напряженная обстановка. Переполненный беженцами, он задыхался от тесноты. В народе возникали и с быстротой молнии распространялись всевозможные панические слухи. Предрекая скорую погибель от татар, иные призывали хоть напоследок погулять, попить медов из княжеских и боярских погребов. Прибывший в Москву за два дня до подхода Тохтамыша митрополит попытался успокоить народ. Однако его уже мало кто слушал. Из темных глубин взбаламученного опасностью народного сознания поднималась, словно чудо-рыба со дна морского, страшная, слепая ненависть к тем, кто живет богаче, перед кем всегда ломили шапки и гнули спины. Бояре не могли появиться на улице: в них летели камни и палки. Да и среди самих бояр начались раздоры. Одни предлагали, пока не поздно, бежать из города, другие искали способа усмирить толпу. В эти тревожные августовские дни в Москве возродилось полузабытое вече. Москвичи постановили не выпускать никого из града, стоять насмерть против «поганых».
Волнение несколько улеглось, когда в городе появился присланный, по-видимому, князем Владимиром внук Ольгерда Остей. Литовский князь сумел навести в городе относительный порядок, расставить людей по стенам.
Еще до приезда Остея митрополит Киприан и княгиня Евдокия с трудом вырвались из охваченной мятежом Москвы. Митрополит, только что вернувшийся из Новгорода, пробыл в городе не более суток. Этого оказалось достаточно, чтобы у Киприана сложился свой собственный план действий. Покинув Москву, он поехал на Волок, к князю Владимиру, а от него — в Тверь.
Как оценить уход Киприана из Москвы накануне появления татар? На основе скудных и противоречивых летописных известий историки строят самые различные предположения. Одни считают Киприана трусом, спасавшим собственную жизнь; другие, объясняя предшествующее последующим, видят здесь тайный сговор между митрополитом и Михаилом Тверским; третьи склонны причислить к заговорщикам и князя Владимира (75, 97).
Не будем умножать число гипотез. Выяснить подлинные причины событий не позволяет крайная скудность летописных данных.
Придя к Москве, Тохтамыш первым делом осведомился: здесь ли князь Дмитрий? Узнав, что его нет, хан поначалу был настроен миролюбиво. Однако перебранка, а затем и перестрелка с осажденными разъярили татар. Они попытались взять крепость штурмом. «Поганые» засыпали город дождем стрел. Их лучшие лучники вели прицельную стрельбу по каждой бойнице крепостной стены. В ход пошли штурмовые лестницы. Ордынцы, как огромные черные муравьи, карабкались на стены белокаменного Кремля.
Горожане отстреливались, метали со стен камни, лили кипяток. У иных уже были на вооружении самострелы (арбалеты). На стенах стояли и пугали татар своим дымом и грохотом примитивные пушки — «тюфяки». Это было первое в истории Руси применение огнестрельного оружия.
Первый штурм не принес татарам успеха. И тогда Тохтамыш решил прибегнуть к хитрости. Поздним утром 26 августа к городским стенам подъехали «парламентеры» — ханские вельможи и оба суздальских княжича. Ордынцы объявили москвичам, столпившимся на стенах, волю хана: «Царь вас, своих людей, и своего улуса хочет жаловати, понеже неповинни есте и ни есте достойни смерти; не на вас бо прииде царь, воюя, но на великаго князя Дмитрия Ивановича пришел ополчился есть; вы же достойни есте милости; и ничтоже иного требует от вас царь, разве токмо изыдете противу его во сретение его с честию и с дары, купно же и со князем своим (то есть с князем Остеем. — Н. Б.), с легкими дары; хощет бо видети град сей и в он внити и в нем побывати, а вам дарует мир и любовь свою, а вы ему врата градныа отворите» (17, 76).
Слова ханских послов попали точно в цель: москвичи не желали погибать из-за княжеской ссоры с «царем». Однако они не сразу поверили в искренность ханского великодушия. Недоверие их было сломлено суздальскими княжичами Семеном и Василием — родными братьями московской княгини Евдокии. Тохтамыш пригрозил им расправой, если они откажутся обмануть горожан и присягнуть в нерушимости его слов. Перед лицом всех стоявших на стенах москвичей они поклялись в том, что хан не причинит им вреда.
Князь Остей не верил в благие намерения хана, как и в клятвы суздальцев. Однако москвичи заставили его пойти на переговоры. Городские ворота открылись, и Остей во главе целого посольства предстал перед Тохтамышем. Его отвели в шатер и там зарезали. Все посольство было мгновенно перебито татарами.
Воспользовавшись замешательством осажденных, их «безначалием», татары начали со всех сторон яростный штурм крепости. Вскоре они овладели городом. На улицах Москвы разыгрались страшные сцены кровавого пира победителей...
Захватив столицу, Тохтамыш распустил свои отряды по всей московской земле. Были взяты и разграблены Звенигород, Можайск, Дмитров, Боровск, Руза, Переяслаачь, Юрьев-Польской, Владимир, Коломна, Волоколамск. Уходя, татары сожгли Москву. Так отомстило степное чудовище за свое поражение на Куликовом поле.
Тохтамыш не пощадил и владения хитроумного Олега Рязанского. По пути обратно в степи он приказал разорить всю рязанскую землю. Виновники падения Москвы суздальские Дмитриевичи немного получили за свое вероломство. Один из них, Семен, был отпущен к отцу, а другой, Василий, взят заложником в Орду.
Куликовская битва наглядно показала, чего можно достичь, соединив силы хотя бы нескольких князей. Тохтамышево нашествие ярко высветило другую сторону этой истины: отношения между князьями, основанные на эгоизме и разномыслии, губительны не только с нравственно-христианской, но и реально-политической точки зрения. Спастись от ордынского погрома можно только сообща, не на словах, а на деле признав главенство великого князя Владимирского.
От этой очевидности открывались две дороги в будущее: добровольное соединение в братской любви и единомыслии — и стремление любой ценой подчинить себе других.
На первый путь звал людей Сергий. В конце этого пути сияла таинственная Святая Троица. О том, сколь значимым был этот образ для людей той эпохи, свидетельствует знаменитая икона Андрея Рублева.
Невозможно найти более точное и цельное выражение религиозно-нравственных основ проповеди Сергия — любви, единомыслия и почитания Троицы, — чем то, которое создал Рублев в своей иконе, написанной «в похвалу» Преподобному.
Эту идею одним из первых высказал русский философ Е. Н. Трубецкой (1863—1920). «В иконе выражена основная мысль всего иноческого служения Преподобного. О чем говорят эти грациозно склоненные книзу головы трех ангелов и руки, посылающие благословение на землю? И отчего их как бы снисходящие к чему-то низлежащему любвеобильные взоры полны глубокой, возвышенной печали? Глядя на них, становится очевидным, что они выражают слова первосвященнической молитвы Христовой, где мысль о Святой Троице сочетается с печалью о томящихся внизу людях. «Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы» (Иоанн, 17, 11). Это та самая мысль, которая руководила св. Сергием, когда он поставил собор св. Троицы в лесной пустыни, где выли волки. Он молился, чтобы этот зверообразный, разделенный ненавистью мир преисполнился той любовью, которая царствует в Предвечном Совете живоначальной Троицы. А Андрей Рублев явил в красках эту молитву, выразившую и печаль, и надежду св. Сергия о России» (102, 51—52).
Ту же мысль в более сжатой, афористичной форме высказал и П. А. Флоренский. «В иконе Троицы Андрей Рублев был не самостоятельным творцом, а лишь гениальным осуществителем творческого замысла и основной композиции, данных преподобным Сергием» (107, 21).
Икона Рублева была помещена в новом Троицком соборе, выстроенном из белого камня в 1422—1423 годах. Здесь ей суждено было простоять до 1929 года. Три задумчивых и грустных ангела в мерцающем свете лампад из века в век вели свою безмолвную таинственную беседу над могилой «великого старца»...
Но люди не хотели видеть духовный свет Троицы, предпочитали идти по второй дороге — дороге войны и ненависти. Они не раздумывая гнали коней по пути, в конце которого побежденных ожидала глухая смерть в темнице или безрадостная жизнь в изгнании, а победителей — вечный страх перед Судьей нелицеприятным...
Впрочем, все это было впереди. А пока Русь лежала в руинах, дымилась свежими пепелищами. Вернувшись в разоренную Москву, князь Дмитрий увидел картину еще более страшную, нежели на поле битвы с Мамаем. На небольшом пространстве, окруженном почерневшими стенами, лежало множество обгорелых трупов. Местами они были навалены целыми грудами. В воздухе стоял невыносимый смрад. При виде живого человека над трупами с недовольным карканьем поднимались тучи воронья.
У подножия холма Дмитрий приказал вырыть огромные братские могилы — «скудельницы». Он назначил щедрую плату тем, кто станет погребать трупы. При этом страшном занятии велся некоторый учет. Летописи называют две цифры погребенных: около 12 тысяч и около 24 тысяч. Но кто мог сосчитать те толпы пленных, которых угнали победители? Русскими рабами и рабынями переполнились тогда все невольничьи рынки Крыма, Кавказа и Средней Азии.
«Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили! Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты; когда прекратишь грабительства, разграбят и тебя» (Исайя, 33, Г). Пройдет всего 13 лет — и столица Орды — город Сарай на Волге — будет разорена Тимуром не менее жестоко, чем Москва, а сам Тохтамыш, изведав горечь многих поражений, будет изгнан из милых его сердцу степей и станет прислужником литовского князя Витовта. Бывший «царь» всей Волжской Орды найдет смерть в усобице со своими сородичами, а сыновья его станут подручниками московских и литовских князей.
Узнав о приближении войск Тохтамыша к Москве, Сергий понял: нужно уходить самому и уводить своих иноков в более безопасные места. Перед ним открыто было много дорог, но он выбрал самую на первый взгляд неожиданную — в Тверь.
Что заставило Сергия направиться именно туда, в столицу давнего недруга Москвы князя Михаила Александровича? Несомненно, что в Тверь он явился не как обычный беженец: в этом случае ему было бы гораздо проще обосноваться в Кашине, где правили дружившие с Москвой князья.
В эти тревожные дни Сергий вновь почувствовал себя призванным к миротворчеству. Он остро ощутил свою личную ответственность за происходящее. Ведь нашествие Тохтамыша стало ответом Орды на тот удар, который был нанесен ей Дмитрием Донским по благословению Сергия летом 1380 года.
Возможно, и сам князь Дмитрий, посетив Маковец по дороге в Кострому, просил Сергия пойти в Тверь и убедить Михаила сохранить верность их договору, заключенному в 1375 году. А может быть, князь Владимир Серпуховской с помощью Сергия надеялся склонить Михаила не нападать на его войско, отошедшее к Волоколамску, к самому тверскому рубежу. Во всяком случае, от Михаила требовалось совсем немногое: не поддаться соблазну, воспользовавшись тяжелыми для Москвы обстоятельствами, посягнуть на сложившийся порядок междукняжеских отношений. Такая проповедь вполне отвечала убеждениям самого Сергия.
Источники не сообщают о встрече радонежского игумена с тверским князем. Однако такая встреча должна была состояться: Михаилу интересно было знать, чего желают от него москвичи. Да и авторитет Сергия был в это время уже настолько высок, что отказать ему в свидании князь не мог. Результаты этой предполагаемой встречи были, судя по последствиям, неоднозначными. Михаил не ударил в тыл москвичам, но и не отказался от попытки получить великое княжение Владимирское.
Вскоре в Тверь пришла весть о взятии Москвы. Один из татарских воевод был послан с войском к Твери. Навстречу ему Михаил выслал своего посла Гурленя с дарами. Его препроводили к Тохтамышу. Правитель Орды решил сохранить Тверь как старую соперницу Москвы. Он остановил свои полки и выслал Михаилу ярлык, в котором признавал его тверским князем. Однако великое княжение Владимирское хан до времени не дал никому.
Понимая, что судьба великого княжения Владимирского будет решена в Орде в ближайшее время, Михаил вместе с сыном Александром 5 сентября 1382 года выехал из Твери. Опасаясь погони, обходя стороной московские земли, он устремился вслед за отходящим войском Тохтамыша.
В Орде Михаил с горечью убедился в том, что его расчеты не оправдались. Хан не имел намерения перестроить всю политическую систему Северо-Восточной Руси. Он лишь «проучил» Русь и в полной мере восстановил ее зависимость от Орды. Теперь ему необходима была такая местная власть, которая обеспечивала бы своевременную выплату дани, а также была бы достаточно сильна для тою, чтобы служить военно-политическим противовесом Литве.
Помимо всего прочего, хану хотелось устроить торг между русскими князьями. И потому Тохтамыш терпеливо дожидался, когда к нему явятся все претенденты на владимирский стол.
23 апреля 1383 года, на весенний Юрьев день, в Орду выехало московское посольство, в составе которого был и старший сын князя Дмитрия — 11-летний Василий. Посылая сына к Тохтамышу, князь тем самым выражал полную покорность «царю».
В Орду явился и давний враг Москвы Борис Константинович Нижегородский. 5 июля 1383 года умер его старший брат, 60-летний Дмитрий Константинович. Теперь Борис стал наконец хозяином в Нижнем Новгороде, но при этом явно претендовал и на большее.
Московские послы сумели обойти и тверского, и нижегородского князя. Они привезли Дмитрию ярлык на великое княжение Владимирское. Однако княжич Василий был оставлен ханом у себя в качестве заложника. Такая же участь постигла сына Михаила Тверского Александра и сына Бориса Нижегородского Ивана.
Великое княжение, а с ним и верховная власть в Северо-Восточной Руси достались Дмитрию дорогой ценой. Только он один — с его материальными возможностями и общерусским авторитетом — мог позволить себе такие расходы и такие жесткие меры по восполнению казны. Уже летом 1383 года, во время спора о великом княжении, от московских послов «прия царь в 8000 серебра». Даны были и векселя на будущее. В следующем году «бысть дань великая тяжкая по всему княжению великому, всякому без отдатка, с всякие деревни по полтине. Тогда же и златом даваше в Орду, а Новгород Великий дал черный бор» (20, 135).
За «неединачество и неимоверство» князей Русь платила не только кровью, но и золотом или, иначе говоря, своим соленым потом. И все же созданная трудом потомков Калиты система междукняжеских отношений благодаря своей прочной материальной основе выдержала даже такой мощный удар, как нашествие Тохтамыша. Князь Дмитрий сохранил за собой и за своим потомством руководящую роль в этой системе. В завещании он гордо называет великое княжение Владимирское своей «вотчиной», то есть наследственным, бесспорным владением.
Оставаясь верным себе, Сергий и в последние десять лет жизни совершал миротворческие «походы». Летопись сохранила рассказ об одном из них. Осенью 1385 года радонежский игумен по просьбе князя Дмитрия Ивановича ходил в Рязань.
У этого «похода» Сергия была своя драматическая предыстория. Отношения Москвы с Рязанью складывались в XIV столетии крайне противоречиво. Периоды сближения чередовались с острыми конфликтами.
Муромо-рязанская земля еще в середине XII века выделилась как самостоятельное политическое целое из владений князей черниговского дома. И разоренная Батыем Старая Рязань, и ее исторический преемник Переяславль-Рязанский (современная Рязань) были крупнейшими центрами на юго-восточной окраине Руси.
Главной дорогой рязанской земли была Ока. Она определяла основные направления политических и торговых связей княжества. Вниз по Оке, через Муром, шел путь на Нижний Новгород, к Волге; по правому притоку нижней Оки — Мокше — шла дорога во владения мордовских князей. Давние связи существовали между Рязанью и мелкими княжествами, располагавшимися в верховьях Оки, — «верховскими землями». Через водораздел Оки и Десны шла торная дорога из верховских княжеств в брянскую и черниговскую земли. Рязанские князья имели здесь прочные родственные и деловые связи. Еще одна наезженная дорога — по Угре, левому притоку Оки, — шла в смоленскую землю.
Весь этот «пояс» окраинных, пограничных с Литвой и Степью русских княжеств — от смоленского и далее, через брянское, верховские, рязанское и муромское, к нижегородскому — жил одной и той же тревожной жизнью. О всех князьях и воинах этих княжеств можно было сказать словами героя «Слова о полку Игореве» князя Всеволода: «А мои ти куряни сведоми къмети: под трубами повити, под шеломы възлелеяни, конец копия въскръмлени, пути им ведоми, яругы им знаеми, луци у них напряжени, тули отворени, сабли изъострени».
Оказавшись на границе между Русью и собственно ордынскими степными территориями, Рязанское княжество постоянно подвергалось ударам больших и малых татарских ратей. Угроза внезапного набега резко возросла со смертью в 1357 году хана Джанибека и началом «замятии» в Орде. Вырвавшись из узды ханской власти, многочисленные «царевичи» и «князья ордынские» обогащались и развлекались набегами на рязанские города и села.
За спиной у Рязани в XIV столетии встала Москва. Однако московские Даниловичи и их потомки не только не оказывали Рязани помощи в борьбе с Ордой, но и сами не прочь были отхватить что-нибудь из ее земель. Так потеряли рязанцы в самом начале XIV века Коломну, а позднее Лопасню — обширную волость, расположенную по берегам одноименной речки, левого притока Оки.
Между ордынским «молотом» и московской «наковальней» был выкован сильный характер князя Олега Рязанского. Его необычайная политическая увертливость происходила не от слабости или трусости. То была гибкость стального клинка.
Еще будучи «млад», он в 1354 году заявил о себе дерзким и удачным набегом на московские земли, целью которого был возврат Лопасни. Десять лет спустя возмужавший Олег отважно вступил в сражение со вторгшимся в его владения «князем ордынским» Тагаем. «И бысть им бой и брань зело люта и сеча зла», — сообщает летопись (17, 5). Грабитель был побежден «и едва в мале дружине убежа». Это была первая крупная победа русских над татарами. Эхо битвы «под Шишевским лесом» разнеслось по всей Руси.
Осенью 1370 года Олег послал рать на помощь осажденной Ольгердом Москве. За это ему было обещано возвращение Лопасни, которая вновь перешла к москвичам. Однако, когда Ольгерд ушел, Дмитрий Московский не дал Олегу желанной волости, ссылаясь на то, что рязанское войско не вступило в бой с литовцами, а только «стояло на меже». Олег воспринял это как обман и силой захватил Лопасню. В ответ Дмитрий послал на него большую рать. В декабре 1371 года Олег был разбит московскими воеводами в битве на Скорнищеве и изгнан из Рязани. Однако уже через год он вернул себе княжение.
В 1373 году на рязанскую землю обрушились татары из Мамаевой Орды. Московские князья Дмитрий и Владимир, оберегая от татар свои собственные владения, все лето простояли с полками на левом берегу Оки, глядя, как дымится пожарами и истекает кровью рязанская земля.
Но и после погрома 1373 года Олег продолжал быть одним из сильнейших русских князей. Подобно тверскому и нижегородскому князьям, он самочинно присвоил себе титул «великий». Ранее им мог пользоваться только тот, кто имел ярлык на Владимирское княжение.
Об авторитете Олега говорило и то, что московско-тверской договор 1375 года отводил ему роль третейского судьи в случае конфликта между договаривающимися сторонами.
В 1378 году именно в рязанской земле Дмитрий Московский разгромил Бегича. Можно думать, что Олег помогал ему в этом походе. Вскоре последовала месть Мамая: посланная им новая рать дотла разорила рязанскую землю.
Накануне Куликовской битвы Олег, наученный горьким опытом, решил прибегнуть к хитрости. Заверив в своей преданности всех участников конфликта — Дмитрия, Мамая и Ягайло, он уклонился от участия в войне. Эта дипломатия Олега имела определенный успех: Дмитрий, идя навстречу Мамаю и возвращаясь назад, запрещал своим воинам грабить рязанские села.
Тот же прием Олег решил применить и во время нашествия Тохтамыша. Уехав в Брянск, он ожидал там окончания войны. Однако на сей раз хитрость Олега принесла совсем иные, плачевные результаты. Рязанское княжество разорил вначале сам Тохтамыш, возвращаясь из похода на Москву, а затем и московское войско. От этого карательного похода «злее ему стало и татарскиа рати», — сообщает летописец (17, 81).
Олег был не из тех, кто забывает обиды. Накопив силы, он решил отомстить. 25 марта 1385 года, в день Благовещения, он скрытно подошел к Коломне и, воспользовавшись праздничным весельем воевод, неожиданной атакой захватил город. Не надеясь удержать Коломну, Олег вскоре вернулся в Рязань с богатой добычей и толпой пленных.
Набег рязанцев вызвал немедленный ответ. Князь Дмитрий послал на Рязань большое войско во главе с Владимиром Серпуховским. В походе принял участие и служивший Дмитрию литовский князь Михаил Андреевич, внук Ольгерда. Наступление шло не только на Рязань, но и на Муром. Туда была послана другая московская рать.
Предвидя тяжелую борьбу, Олег также позвал на помошь литовские отряды. Бой был ожесточенным. Московские летописи стыдливо умалчивают о его результатах. Из этого можно сделать вывод: Владимир Серпуховской потерпел от Олега одно из немногих в своей жизни поражений.
Война с Рязанью, а тем более столь неудачно начавшаяся, резко противоречила всем тогдашним планам Дмитрия Ивановича. Поскольку с обеих сторон в нее оказались втянутыми и литовские князья, она грозила расстроить наметившийся в 1384 году союз Дмитрия с Ягайло.
Была и еще одна, крайне опасная особенность создавшегося положения. Поражение, нанесенное москвичам Олегом Рязанским, ободрило новгородцев. В 1385 году они отказались выплачивать Дмитрию внеочередную ордынскую дань — «черный бор», а также подчиняться митрополиту как высшей инстанции в области церковного суда. Новгородские ушкуйники устремились на Волгу, разбойничали во владениях московского князя. Восстановить пошатнувшийся престиж Москвы можно было только большим походом на Новгород, подобным походу на Тверь в 1375 году.
Однако до тех пор, пока Москва находилась в состоянии войны с Рязанью, Дмитрий не мог заняться новгородскими делами. Олег связывал ему руки, постоянно угрожая Московскому княжеству с юга. А между тем хан Тохтамыш был нетерпелив. Задержка с выплатой «черного бора» могла стоить Дмитрию великого княжения.
В этой обстановке Дмитрий не захотел еще раз испытывать судьбу, посылая на Рязань новое войско. Он отправил к Олегу послов с предложением мира. Однако рязанский князь хорошо понимал, что Дмитрию мир куда более необходим, чем ему. И потому он «набивал цену», выдвигал унизительные для Дмитрия условия. Переговоры зашли в тупик. Казалось, не сегодня-завтра вновь засвистят стрелы, зазвенят мечи, польется кровь...
Вот тогда-то московский князь и решил прибегнуть к помощи Сергия Радонежского.
Среди несчастий, которые омрачают вечер жизни инока, едва ли не самое большое — потеря друзей и «сопостников». Конечно, смерть монаха надлежало рассматривать как его переход в «лучший мир», где душу его примут ангелы. И все же мог ли Сергий без горечи переносить расставание со своими духовными детьми?
В конце мая 1384 года умер троицкий келарь Илья, «добрый, послушливый, живыи святым житием в послушании у святого старца» (18, 149). А год спустя, 6 мая 1385 года, ушел туда, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание», келейник Сергия Михей.
Старики умирали, а на смену им с криком являлись в мир младенцы, требуя и себе достойного места под солнцем. 29 июня 1385 года, в самый Петров день, в семье князя Дмитрия родился сын, нареченный Петром. Сергий был приглашен в Москву крестить младенца. Время было выбрано удачно: митрополит Пимен, возведенный на кафедру по воле князя Дмитрия осенью 1382 года, после изгнания из Москвы запятнавшего себя бегством в Тверь Киприана, 9 мая 1385 года отбыл в Константинополь. Радонежский игумен, по-видимому, не желал встречи с Пименом. Этот незадачливый честолюбец не мог вызывать у него почтения, а лицемерить Сергий не умел.
Вероятно, уже тогда Сергий говорил с князем о рязанской войне. Вскоре им пришлось вернуться к этой теме. Вот как повествует об этом летопись: «Месяца сентября князь великий Дмитрий Иванович иде в монастырь к живоначальной Троице, к преподобному игумену Сергию, в Радонеж; и молебнаа совершив Господу Богу и Пречистой Богородице, и святую братью накорми и милостыню даде, и глаголаше с молением преподобному игумену Сергию, дабы шел от него сам преподобный игумен Сергий посольством на Рязань ко князю Олгу о вечном мире и о любви» (17, 86). Игумен согласился исполнить просьбу Дмитрия.
Что заставило Сергия, которому исполнился уже 71 год, отправиться почти за три сотни верст, в Рязань?
Очевидно, в московско-рязанском споре «старец» увидел нечто большее, чем рядовой военный эпизод. Это была затяжная и кровопролитная княжеская усобица. Она тянулась, то затухая, то разгораясь, еще с 70-х годов XIV века и грозила превратиться в своего рода «хроническую болезнь» Великороссии. Русские убивали и брали в плен своих же, русских. Повторялась история московско-тверской войны конца 60-х — первой половины 70-х годов XIV века. Судя по успехам Олега, конца кровопролитию не было видно. Подобно тому как прежде князья вовлекали в свои усобицы татар, теперь они звали на помощь литовцев.
Положение в 1385 году стало настолько угрожающим, что Сергий решил вмешаться и попытаться исцелить эту незаживающую рану. «Тоя же осени в Филипово говение (Рождественский пост, длившийся с 15 ноября по 24 декабря. — Н. Б.) преподобный игумен Сергий Радонежский сам ездил посольством на Рязань ко князю Олгу Ивановичю Рязаньскому, от великого князя Дмитриа Ивановичя Московьскаго о вечном мире и о любви, и с ним старейшиа бояре великого князя. Преже бо того мнози ездиша к нему, и ничтоже успеша и не возмогоша утолити его; преподобный же игумен Сергий, старец чюдный, тихими и кроткыми словесы и речми и благоуветливыми глаголы, благодатию данною ему от Святого Духа, много беседовав с ним о пользе души, и о мире, и о любви; князь велики же Олег преложи сверепьство свое на кротость, и утишися, и укротися, и умилися велми душею, устыдебося толь свята мужа, и взял с великим князем Дмитрием Ивановичем вечный мир и любовь в род и род. И возвратися преподобный игумен Сергий с честию и с славою многою на Москву, к великому князю Дмитрею Ивановичю, и достойно хвалим бысть и славен и честен от всех» (17, 86—87).
Миссия Сергия послужила началом длительному миру между Москвой и Рязанью, скрепленному браком дочери Дмитрия Софьи и сына Олега Федора в 1387 году.
Какими «тихими и кроткыми» словами Сергий достиг своей цели? Вероятно, это были все те же, известные в ту эпоху каждому евангельские наставления. «Старец» призывал к смирению и единомыслию, советовал Олегу подумать о спасении души, не стремиться на зло отвечать злом. Эти привычные слова в устах Сергия обретали новую силу, ибо он засвидетельствовал их осуществимость всей своей жизнью.
И быть может, князь Олег внезапно ощутил на себе эту таинственную власть без насилия, власть кротости и доброты. Он был захвачен величием смирения, которое открыл перед ним Сергий, и сам захотел хоть на миг уподобиться тому, кто требовал — «любите врагов ваших» (Лука, 6, 35). Не забудем, что Олег был человеком Средневековья — времени, когда расстояние от чувства до поступка было значительно короче, чем в наши дни.
Неспокойно было в Великой Руси во второй половине 80-х годов XIV века. В Твери князь Михаил перестраивал крепость — «около валу рубиша кожух и землею насыпаша. Того ж лета (в 1387 году. — Н. Б.) и ров копаша глубже человека». Готовясь к возможному нападению, он тайно закупил «в немецкой земле» пушки и привез их в город.
На рязанскую землю летом 1387 года внезапным набегом нагрянули татары и чуть было не захватили в плен самого князя Олега.
То тут, то там вновь появлялась грозная тень «черной смерти». В 1387 году в Смоленске после ее посещения «во граде осталося точию десять человек» (17, 93). На другой год чума посетила Новгород и Псков.
Вновь, как и в 60-е годы, началась усобица в Суздалъско-Нижегородском княжестве. Сыновья умершего в 1383 году Дмитрия Константиновича воевали со своим дядей — Борисом Константиновичем. Москва вмешалась в споры суздальских князей, поддержав Дмитриевичей.
Повсюду царила тревога. Порой люди, теряя разум, начинали уничтожать друг друга с нечеловеческой жестокостью. Смоленский князь Святослав Иванович в 1387 году отправился в поход на отнятый литовцами Мстиславль — древний город смоленской земли, расположенный в сотне верст к югу от самого Смоленска. Войдя в литовские владения — жители которых, конечно же, были русскими — смоляне принялись творить такое, что потрясло даже бесстрастного летописца. «И много зла, идуще, учиниша земле Литовской, воюя землю Литовьскую. Иных литовьских мужей смоляне, изымавше, мучаху различными муками и убиваху; а иных мужей и жен и младенцов, во избах запирающе, зажигаху. А других, стену развед храмины от высоты и до земли, меж бревен рукы въкладываху, ото угла до угла стисняху человеки; и пониже тех других повешев, межи бревен руки въкладаше, стисняху такоже от угла до угла; и тако висяху человеци; такоже тем образом и до верху по всем четырем стенам сотворяху; и тако по многым храминам сотвориша и зажигающе огнем во мнозе ярости. А младенци на копие возтыкаху, а другых, лысты (ноги. — Н. Б.) процепивше, вешаху на жердех, аки полти («полоть» — половина мясной туши, разрубленная по хребту. — Н. Б.), стремглав; нечеловечьне без милости мучаху»
(17, 91).
Смоленский князь был убит под стенами Мстиславля, а его войско рассеяно. Вскоре в Смоленск вошла чума, унесшая почти всех жителей.
В начале 1389 года вспыхнула усобица и внутри московского княжеского дома. Беда пришла в разгар беззаботного веселья. 18 января в Дмитрове князь Владимир Серпуховской праздновал рождение сына Ярослава. Это радостное событие пришлось на «рождественский мясоед» — традиционное время празднеств и пиров, когда православные, одолев предшествовавший Рождеству Христову сорокадневный Филиппов пост, разговлялись в ожидании еще более длительного Великого поста.
Гулял на славу и любивший всякое веселье князь Владимир. В пятницу, 26 февраля, на сороковой день после рождения сына, он отмечал «крестины», а в субботу и воскресенье — «великое заговенье», или попросту — Масленицу. Вот в эти-то хмельные, разгульные дни и пришла к Владимиру недобрая весть: князь Дмитрий Иванович задумал отнять у него Дмитров и Галич.
Неизвестно, чем вызвано было это решение великого князя. Но последствия его известны. Владимир, недаром носивший свое громкое прозвище «Храбрый», сгоряча схватился за меч. Дмитрий принял ответные меры — «поимани быша бояре старейший княжи Володимеровы и разведени быша вси по городом, и седеша в нятьи, и беаху у всякого у коегождо их приставлени приставници» (20, 138).
Весть о новой княжеской распре обеспокоила «великого старца». Она могла привести к тяжелым последствиям для всей Северо-Восточной Руси. Впрочем, примирение князей состоялось менее чем через месяц: 25 марта 1389 года, в самый праздник Благовещения, «князь великий Дмитреи Иванович взя мир и прощение и любовь с князем с Володимером Андреевичем» (20, 138). Можно думать, что в таком исходе дела была и заслуга Сергия: сам он был тогда духовником князя Дмитрия, а его любимый ученик Никон — Владимира Храброго (86, 367).
Несколько месяцев спустя, как памятник «единачеству», единомыслию московских князей, на Боровицком холме была заложена каменная придворная церковь во имя Благовещения — далекий предок нынешнего Благовещенского собора Московского Кремля.
Месяца через полтора после примирения Дмитрия с Владимиром явилось тревожное знамение — «месяца майа в 10 день в вечернюю зорю погибе месяц, и долго не бысть, и паки явись пред ранними зорями» (99, 172). А уже на другой день на Маковец примчался гонец из Москвы. Весть его была короткой и недоброй. Великий князь Дмитрий сильно занемог и зовет Сергия к себе. Игумен не мешкая собрался и в тот же день отправился в путь.
Поначалу Сергий не очень тревожился. «Бог милостив», — привычно повторял он. Еще недавно вся княжеская семья была в страхе из-за тяжелой болезни сына Юрия. Но вскоре 14-летний княжич уже как ни в чем не бывало сражался в потешных боях с боярскими отроками.
Однако, поднявшись на крыльцо великокняжеского дворца и увидев перепуганные лица слуг, он понял, что все обстоит куда хуже. Через горницу Сергия провели в княжескую спальню. Дмитрий лежал на широкой дубовой кровати. Его побледневшее лицо было искажено гримасой боли. «Старцу» уже успели рассказать: после первого, едва не кончившегося смертью приступа болезни наступило облегчение. Однако недавно князю вновь стало хуже. «Стенание прииде к сердцю его» (9, 216).
Сергий понимал, что ему надлежит не только облегчить страдания князя своим участием, но также присутствовать при составлении завещания — «духовной грамоты». Свидетелем завещания обычно выступал княжеский духовник. У Дмитрия Ивановича, как и у его предков, было сразу несколько исповедников. Один из них, Федор Симоновский, постоянно находился в отлучках по делам митрополии.
Князь Дмитрий исповедовался и причащался часто, по некоторым источникам — каждое воскресенье Великого поста. И потому, кроме Сергия и Федора, он имел и еще одного придворного духовника — игумена Севастьяна. Оба они — Сергий и Севастьян — и стали наряду с виднейшими московскими боярами свидетелями княжеской «духовной грамоты».
Сергий вместе со всеми, склонив голову, стоял у постели умирающего князя Дмитрия. 19 мая, «в два часа нощи», он отошел в вечность. Ему было тогда всего 38 лет. Как сложилась бы история Руси, проживи он еще 10 или 20 лет?
Глядя на застывшее белое лицо, обрамленное черной бородой, Сергий мысленно читал молитву. «Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего»... Незаметно он отвлекся и стал вспоминать о своих встречах с князем, о долгих беседах под глухой шум вековых сосен, о той памятной встрече перед битвой с Мамаем.
И вот теперь Дмитрий лежал на своем смертном одре. Вокруг горели свечи. Черными тенями скользили вдоль стен монахи, собиравшиеся нести князя в церковь на отпевание.
А за стекольчатым оконцем уже светлело. В Заяузье, над Гончарами, торжественно и неторопливо поднималось тяжелое красное солнце...
«Что есть человек и что польза его? что благо его и что зло его? Число дней человека — много, если сто лет: как капля воды из моря или крупинка песка, так малы лета его в дне вечности» (Сирах, 18, 7—8).
Как относились друг к другу Дмитрий и Сергий — эти два великих современника и соотечественника? Связывало ли их нечто большее, чем ритуальное почтение или политический расчет? Прежде чем ответить на эти вопросы, необходимо хотя бы в самых общих чертах определить: что за человек был князь Дмитрий?
«Личность великого князя Дмитрия Донского представляется по источникам неясно», — справедливо констатировал один из старых русских историков (73, 168). Зная по летописям его решения как правителя, мы можем лишь догадываться о мотивах. Кроме того, мы не знаем, в какой мере эти решения были его личными, а в какой — продиктованы его окружением.
И все же, как ни узок круг наших источников, они дают основания утверждать: князь Дмитрий был яркой героической личностью.
Впрочем, его героизм не имел оттенка молодечества, азартной игры с судьбой. Он мало походил на таких знаменитых в свое время князей — искателей приключений, как Мстислав Удалой или Роман Галицкий. Можно сказать, что Дмитрий был типичным представителем рода Даниила Московского, где принято было «семь раз отмерить», прежде чем «отрезать».
Но при этом никто из московских князей XIV столетия не был трусом. В исторических трудах нет-нет да всплывет старая хула на Дмитрия: он якобы недостойно вел себя во время нашествия Тохтамыша. Вместо того чтобы оборонять город, он бежал в Кострому и там пережидал опасность.
Что можно сказать по этому поводу? Прежде всего здесь уместно будет вспомнить суждение русского историка прошлого столетия С. М. Соловьева: «Мы считаем непозволительным для историка приписывать историческому лицу побуждения именно ненравственные, когда на это нет никаких доказательств».
Мы совершили бы ошибку, поверив хуле на Дмитрия, даже если к ней присоединят свой голос специалисты. Историки, как и представители любого другого ремесла, имеют свои «профессиональные болезни». Одна из них заключается в наклонности судить об исторических деятелях как бы несколько свысока, с возвышения профессорской кафедры. Крайняя форма этой болезни выражается в том, что историк начинает судить о героях минувшего так, будто ими двигала не таинственная в своем многообразии сила жизни, а кабинетная логика, будто они не имели иных мотивов к действиям, кроме тех, которые знакомы историку. Заметим, что приступам этой болезни бывают подвержены и самые достойные, самые искушенные из служителей Клио.
Итак, не стоит соглашаться с теми, кто станет уверять нас, что через два года после Куликовской битвы доблестный Дмитрий вдруг обратился в ничтожного труса, бросившего на произвол судьбы не только столицу княжества, но и собственную жену. Во всем этом разумнее видеть трагическое самопожертвование или, может быть, коварное стечение обстоятельств, поставившее Дмитрия в двусмысленное положение...
Равным образом не будем верить тем, кто думает, будто князь Дмитрий был совершенный невежда и плохо знал даже Священное Писание. Это мнение, широко распространенное в исторической литературе, основано на одной лишь фразе из «Слова о житии великого князя Дмитрия Ивановича». Писатель говорит, что князь «аще и книгам не учен беаше добре, но духовныа книгы в сердци своем имяше» (9, 214). Заметим: это оценка книжника, имевшего свое, далеко не «мирское» представление о том, что значит «доброе учение» книгам.
Существенно и то, что фраза эта прочно впаяна в контекст и только в нем может быть правильно понята. Автор «Слова» рисует Дмитрия очень религиозным человеком. Отсюда ему необходима мысль о том, что Священное Писание он имел не столько в голове, сколько в сердце. Он овладел премудростью не как обычные люди — кропотливым учением, но как святые — благодатью. Напомним: тем же путем — благодатью, воспринятой от ангела в облике старца-монаха, овладел грамотой и Сергий согласно его Житию.
Таким образом, нет ровно никаких оснований делать из Дмитрия труса или простоватого недоучку. Воспитанник митрополита Алексея, он не только прекрасно знал Писание, но и склонен был размышлять о смысле бытия. На одной из своих печатей князь приказал вырезать горький афоризм в духе Екклесиаста: «Все ся минет!» — «Все проходит!» Несомненно, митрополит Алексей позаботился о том, чтобы Дмитрий вырос религиозным человеком. Не о том ли говорят построенные князем храмы и монастыри? О том же косвенно свидетельствует и его крутое обращение с иерархами: князь ощущал себя носителем благодати, возвышавшей его до положения «царя», власть которого простирается и на церковные дела.
Примечательно, что грубость в обращении с властолюбцами в епископских мантиях сочеталась у Дмитрия с уважением к людям настоящего духовного подвига. Известно, что он был весьма расположен к мужественному миссионеру, «крестителю Перми» Стефану и добился возведения этого бессребреника в сан епископа.
«Без некоторого присутствия героического духа, заключающегося не в дерзкой отваге, но в спокойном бесстрашии, самоотрицании во всех его формах, ни одному человеку, в каком бы то ни было положении, в какой бы то ни было век, не удавалось достичь великой и благотворной цели», — говорил Карлейль (67, 388). Именно в способности к самоотрицанию сходились Сергий и Дмитрий — эти два деятеля, казалось бы, столь далекие друг от друга.
Близость Дмитрия и Сергия — не выдумка церковных летописцев. Воздействие «Сергиевского» мировоззрения на куликовского героя засвидетельствовано «Словом о житии великого князя Дмитрия Ивановича». По-видимому, это произведение создано для вдовы Дмитрия княгини Евдокии. Не случайно ее образ в «Слове» по своей значимости немногим уступает образу главного героя. Так или иначе, рисуя идеализированный, житийный образ Дмитрия, автор «Слова», несомненно, сопоставлял его с реальными чертами личности князя, явственно сохранявшимися в 90-е годы XIV века в памяти современников (92, 154).
Согласно «Слову» главные нравственные начала, которым служил Дмитрий, — братская любовь и единомыслие. Их он завещает своим сыновьям: «Мир и любовь межи собою имейте»... «бояре своя любите... приветливи будете ко всем». Обращаясь к своим боярам, князь напоминает им — «к вам честь и любовь имех... И чяда вашя любих, никому же зла не створих, ни силно что отъях, ни досадих, ни укорих, ни разграбих, ни безчинствовах, но всех любих»... Эта любовь ко всем и есть основа основ «Сергиевского» взгляда на жизнь.
Как правитель Дмитрий повсюду стремился установить «мир», «тишину». Как и его дед, «собиратель Русской земли» Иван Калита, Дмитрий своей деятельностью утверждал единение, единомыслие. Он «князя рускыа в области своей крепляше», стоя на страже исконного миропорядка, «Божиа смотрениа». Всю жизнь стремившийся к единению христиан, Дмитрий по кончине заслужил «съдружение велие с вышними силами» (9, 214, 228).
Взаимопонимание Дмитрия и Сергия — этих двух великих людей той эпохи — имело не только личностные, но и исторические основы. Оба они поднялись на волне духовного подъема, который переживала — несмотря на все ужасы действительности! — Русская земля во второй половине XIV века. Оба поняли, почувствовали, что настало «время собирать камни» (Екклесиаст, 3, 5). Разумеется, каждый имел свою конкретную цель и пользовался своими средствами. Сергий собирал духовные силы Руси, Дмитрий — материальные. Но оба они во имя своего дела готовы были жертвовать всем.
Они тянулись друг к другу, ибо каждый в душе понимал жизненность противоположного начала. Как личности, они были достойны друг друга. И каждый умел слышать и понимать другого. И потому летом 1380 года они шагнули навстречу друг другу. Ни один из них прежде не поднимался на такую высоту самоотвержения. Здесь они с разных сторон подошли к самой черте, отделяющей Власть от Евангелия. То был великий миг — «миг вечности», сказал бы Мишле, — когда, казалось, вот-вот родится новая, невиданная дотоле реальность...
Но все вернулось «на круги своя». И лишь церковь во имя святого Дмитрия, поставленная Сергием над воротами маковецкой обители, напоминала об этой встрече земного с небесным.
И все же пока был жив Дмитрий, Сергий не терял надежду вновь увидеть въяве этот на миг открывшийся им обоим мир всеобщей любви и единомыслия. Но вот Дмитрий ушел «в небесные селения». И вместе с ним исчезла надежда. Сергий остался один. Ему оставались лишь воспоминания — утехи старости. Проводив Дмитрия, он и сам начал понемногу собираться в дальнюю дорогу...
15 августа 1389 года старший сын Дмитрия Ивановича, Василий, взошел на великое княжение Владимирское. Для торжества по традиции был выбран один из богородичных праздников — Успение. А уже 9 января 1390 года была сыграна свадьба 18-летнего великого князя с дочерью Витовта Софьей. В княжеском дворце зазвучала чужая речь, стали распоряжаться новые, незнакомые Сергию люди.
6 марта 1390 года в Москву торжественно въехал митрополит Киприан, изгнанный князем Дмитрием в октябре 1382 года. Сергий был доволен воссоединением митрополии «всея Руси». Однако сам Киприан, должно быть, уже не вызывал у него прежней симпатии. Тень суздальского владыки Дионисия — соперника Киприана в борьбе за митрополичью кафедру — стояла у него перед глазами. Дионисий умер в 1386 году в киевской тюрьме, куда его бросил местный князь Владимир Ольгердович. Трудно было поверить, что Киприан, находившийся тогда в Киеве, не «приложил руку» к этой мрачной истории.
Впрочем, в начале 90-х годов и сам Киприан уже гораздо меньше нуждался в поддержке Сергия, чем прежде, в период борьбы за признание в Северо-Восточной Руси. Молодой московский князь рассчитывал на его помощь в решении сложных внешнеполитических вопросов. Киприан чувствовал себя уверенно. Вместе с приехавшими с ним греческими иерархами он деятельно занялся запущенными в «мятежное время» церковными делами Северо-Восточной Руси.
В последние три года своей жизни Сергий не появляется на страницах летописи. Никаких сведений о нем нет и в других источниках. Создается впечатление, что со смертью князя Дмитрия Ивановича «великий старец» сознательно уходит в тень, не желая иметь дело с новыми церковными и светскими руководителями.
Как бы там ни было, ясно одно: Сергий находился в эти годы на Маковце, «никако же старостию побеждаем» (9, 402). Впрочем, агиограф замечает, что «старец» сильно ослабел ногами. С каждым днем они повиновались ему все хуже и хуже.
На закате жизни Сергий много и напряженно размышлял о Боге, о путях приближения к нему. Он стал по целым дням предаваться келейной молитве, передав все заботы о монастыре деятельному и распорядительному келарю Никону.
Именно таким, отрешенно-сосредоточенным, изобразил Сергия кто-то из тогдашних художников. Полагают, что это был Федор Симоновский, увлекавшийся иконописанием. Заметим, кстати, что стремление запечатлеть живой образ Учителя с помощью кисти и красок — нередкое явление в русских монастырях. При жизни были написаны образы не только Сергия, но также Евфросина Псковского, Кирилла Белозерского (15, 103; 51, 9).
На основе прижизненного наброска, сделанного Федором, около 1424 года в связи с открытием мощей Сергия был создан знаменитый шитый «Покров» с его изображением. Ныне он хранится в собрании Сергиево-Посадского музея-заповедника. Запечатленный на «Покрове» образ Сергия поражает не только величавой красотой всего облика «великого старца», но и его странным, как бы устремленным «внутрь себя» взглядом. Игумен изображен здесь в тот момент, когда его внутреннему взору открылось нечто, скрытое от всех. Понять этот образ, этот взгляд можно лишь памятуя об особой, мистической жизни Сергия.
В лице Сергия «мы имеем первого русского святого, которого в православном смысле этого слова можем назвать мистиком, то есть носителем особой, таинственной духовной жизни, не исчерпываемой подвигом любви, аскезой и неотступностью молитвы. Тайны его духовной жизни остались скрытыми для нас. Видения суть лишь знаки, отмечающие неведомое», — писал Г. П. Федотов (105, 138). Однако и сами по себе эти видения весьма многозначительны. Почти все они связаны с образом престола и литургической жертвы. И это, конечно, не случайно. Литургия была для него не только мистическим соединением с Иисусом в причастии, но и волнующим переживанием Евангелия, наглядным уроком евангельской морали. И в этом смысле все его мировоззрение можно назвать не только «евангельским», но и «литургическим».
Именно исходя из этого следует смотреть на мистические темы Жития Сергия. В особых, фантастических формах они отражают подлинные черты нравственного учения «великого старца».
Согласно символике христианского храма алтарь — подобие рая, место, где действуют таинственные силы. В самом алтаре святая святых — престол. Здесь, как на ложе во время Тайной вечери, возлежит сам Спаситель в образе Евангелия; здесь происходит пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Христову. «Приближение к алтарю есть вхождение в сферу огня, который попаляет непосвященных... Священнодействующий, для того чтобы войти в святилище, должен облечься в священные одежды, чтобы быть чрез это как бы изъятым из мира» (49, 121).
В этой «сфере огня» во время причастия происходит нечто необычайное. По словам Иоанна Златоуста, «тогда и ангелы предстоят священнику, и целый сонм небесных сил взывает, и место вокруг жертвенника наполняется ангельскими лицами в честь Возлежащего» (84, 221).
Совершая литургию, Сергий постоянно ощущал присутствие этих «небесных сил».
Однажды известные своей «духовностью» иноки Исаакий-молчальник и Макарий увидели в алтаре во время литургии сослужащего Сергию «мужа чюдна зело... и образом сиающа, и ризами блистающася» (9, 384). После окончания обедни они наедине стали спрашивать Сергия: кто этот «дивный муж»? «Старец» поначалу отмалчивался, но затем признался: с ним служил ангел. «И не токмо ныне днесь, но и всегда посещением Божиим служащу ми недостойному с ним» (9, 386).
Еще одно видение окружавшего Сергия алтарного «небесного огня» было дано его ученику Симону. Он видел «огнь, ходящ по жрътовнику (жертвенник — северная часть алтарной части храма. — Н. Б.), осеняюще олтарь и окрест святыя трапезы окружаа. И егда святый хотя причаститися, тогда божественый огнь свится яко же некаа плащаница и вниде в святый потыр (потир — сосуд для совершения причастия. — Н. Б.); и тако преподобный причястися» (9, 402). И вновь Сергий, узнав о видении Симона, не стал отрицать его подлинность, а только лишь — следуя примеру Иисуса, запрещавшего апостолам разглашать явленные им чудеса, — не велел Симону рассказывать о виденном до его кончины.
Алтарный пламень, входя в Сергия, мог оставаться в нем и после литургии. Исаакий-молчальник видел, как из руки Сергия, благословлявшего его на молчание, «некый велик пламень изшедшь... иже всего... Исаакиа окруживши» (9, 374). Это произошло вне алтаря, у его северных дверей, когда Сергий закончил литургию и еще полон был только что совершенного таинства.
Думал ли Сергий о чем-либо земном в последние сроки своего бытия? Если и думал, то прежде всего о судьбе своего дела, о будущем Троицкого монастыря. Всю жизнь предпочитая более полагаться на Бога, нежели на человеков, он был уверен — и в этом уверила его сама Богородица, — что обитель не останется без средств к существованию, доколе не иссякнет в ней дух подвижничества и любви. Примечательно, что в прощальной речи Сергия, как ее передает автор Жития, нет и следа имущественных распоряжений.
И все же Сергий, несомненно, имел свои взгляды на хозяйственную деятельность монастыря-киновии. Их можно воссоздать лишь по косвенным свидетельствам источников в соответствии со всей традицией византийского и русского «общего жития».
Отсутствие достоверных свидетельств о вотчинах Троицкого монастыря при жизни Сергия позволяет думать, что он предпочитал воздерживаться от приобретения и получения в дар земельных угодий с живущими на них крестьянами.
Однако Сергий и в этом вопросе не был человеком крайностей, категорических запретов. Есть основания полагать, что в принципе он не отрицал «владения селами», но считал, что при его игуменстве без этого можно обойтись.
Едва ли Сергий вполне осознавал, какие, пользуясь современным термином, «социально-экономические» последствия будет иметь распространение «общего жития». Правильно понять его позицию в «поземельном» вопросе можно лишь отрешившись от распространенного, но крайне упрощенного представления, согласно которому богатство монастыря немедленно влечет за собой личное обогащение иноков и упадок «высокого жития». В реальности эти явления никогда не были связаны напрямую. Общежительный монастырь богател именно как монастырь, корпорация. Но при этом иноки — добровольно или под давлением суровых требований устава — могли по-прежнему вести самый суровый, аскетический образ жизни. Получаемые доходы от вотчин, за вычетом необходимого для общины минимума, могли расходоваться на «богоугодные дела»: попечение о нищих и голодных, украшение храмов, строительство.
Думая о будущем монастыря, Сергий исходил из того, что в конечном счете все определяется нравственным состоянием общины. Сохранив самый дух иноческого подвига, стремление уподобиться Иисусу, монахи могли без всякого вреда «для души» получать какие угодно вклады. Обитель могла заниматься перераспределением общественных благ в пользу обездоленных, исполняя свой долг служения миру, уврачевания его «телесных» ран.
Вероятно, вопрос о селах казался Сергию второстепенным по сравнению с главным — «духа не угашайте!» (1-е Фес, 5, 19). Именно поэтому он и не оставил определенных указаний на сей счет, доверившись своему преемнику и ученику Никону. Тот решал вопрос о вотчинах по-своему: широко принимая все, что давалось обители, а порой и прикупая новые земли. Однако, как справедливо отметил еще Е. Е. Голубинский, в этой позиции Никона нельзя усматривать какое-то «предательство» по отношению к заветам Сергия. В самом важном — в сохранении духа подвижничества — Никон за долгие годы своего игуменства (1392—1428) ни в чем не изменял заветам Сергия. Пища монахов оставалась такой же скудной и простой. Требования устава соблюдались неукоснительно. Жив был и дух служения миру, завещанный Сергием. И сам Никон, и его ближайшие преемники в критические моменты вмешивались в княжеские распри, призывая к единомыслию, уважению «старины», порядка.
Можно думать, что утрата сергиевских религиозно-нравственных традиций произошла в Троицком монастыре лишь во второй половине XV века под влиянием общих процессов, происходивших тогда в духовной жизни Московской Руси. А еще век спустя Иван Грозный с горечью восклицал: «У Троицы в Сергиеве благочестие иссякло и монастырь оскудел: ни пострижется нихто и не даст нихто ничего» (13, 164).
В последние годы жизни Сергия из той мистической «троицы», которая некогда была посвящена в его видения и откровения, — Михей, Симон, Исаакий-молчальник — уже никого не было в живых. Последним, зимой 1387/88 года, умер Исаакий. Должно быть, Сергий подумал тогда: настал и мой черед...
Впрочем, оставался на земле еще один человек, с которым Сергий чувствовал почти мистическую связь. То был Стефан, епископ Пермский. Судьба редко посылала Сергию и Стефану радость встречи. Однако чувство духовного родства не покидало обоих. Стефан был не только современником, но и — в широком смысле — учеником, последователем Сергия. Но в отличие от большинства других деятелей Сергиева круга он прославился не как устроитель новых монастырей, а как бесстрашный миссионер.
Будущий епископ родился около 1340 года в Устюге — тогдашней столице русского Севера. Город находился под властью князей из ростовского дома и был связан с Ростовом множеством нитей. В то же время здесь ощущалось могучее веяние новгородского духа. Отважные землепроходцы, добытчики «мягкого золота» — пушнины, люди с неистощимой энергией и предпринимательской жилкой, — все они, прежде чем отправиться дальше по Двине, Вычегде или Югу, какое-то время проводили здесь, в Устюге. Этот город был северо-восточным форпостом «православной земли Русской». Дальше начинались области, где жили «поганые» северные народы — «пермичи» (современные коми), «вогуличи» (современные манси), «тоймичи» и другие.
Сын клирика устюжского Успенского собора, Стефан должен был пойти по отцовской стезе. Он с радостью думал об этом. Уже в отрочестве, выучившись грамоте, Стефан помогал отцу: читал на клиросе, пел в церковном хоре. Его любимым занятием было чтение. Жажда знаний — точнее, познания Бога — со временем превратилась в страсть. Движимый ею, юноша покинул Устюг и отправился в Ростов. Там, в монастыре Григория Богослова, он принял монашеский постриг. За годы, проведенные в «Григорьевском затворе», Стефан изучил греческий язык, прочел все имевшиеся здесь творения святых отцов. Он читал их не торопясь, вдумываясь в каждую строчку.
Стефан любил поговорить, поспорить с умным собеседником о прочитанном. Одним из тех, кто пользовался его расположением, был совсем молодой тогда монах Епифаний, позднее получивший прозвище Премудрый. Пройдут годы — и «старец» Епифаний напишет Житие причисленного к святым Стефана.
Несомненно, еще в 70-е годы XIV века Стефан был знаком с Сергием Радонежским. Его пытливый, жадный ко всему «духовному» ум, его горячая вера привлекли внимание игумена. И не он ли напомнил Стефану о том, что сам исповедовал всей своей жизнью, — «вера без дел мертва» (Иаков, 2, 26)?
И Стефан нашел для себя дело, в котором гармонически соединились оба его главных дара — вера и разум. С юности зная язык пермичей, чьи земли начинались почти сразу за устюжскими окраинами, он составил для этого «бесписьменного» народа азбуку. Буквы ее отчасти напоминали древнее славянское письмо «глаголицу». С помощью этой азбуки Стефан перевел на язык «пермьских людей» важнейшие части Священного Писания.
Окончив всю подготовительную работу, Стефан в первой половине 1379 года явился в Москву. Для исполнения задуманного ему нужны были поддержка московского князя и благословение митрополита.
Князь Дмитрий Иванович долго беседовал с необычным монахом. Задуманное Стефаном «крещение Перми» — земель по течению Вычегды и ее притоков — сулило Москве большие выгоды. Именно эти края были важнейшим районом добычи пушнины. Дорогие меха — соболь, горностай, песец — были важной частью русских даров, подносимых ордынским ханам и вельможам. Торговля пушниной приносила московским купцам огромную прибыль. Утверждение «московского» православия на Вычегде — в одной из волостей Великого Новгорода — открывало дорогу в эти края для московской церковной и светской администрации, позволяло успешнее соперничать с новгородцами за влияние на русском Севере.
Разумеется, князь Дмитрий не собирался помогать всякому просящему. Лишь убедившись в том, что Стефан действительно готов для роли «апостола Перми», он дал ему необходимые грамоты, деньги и припасы. Вероятно, за добросовестность Стефана поручились влиятельные монастырские «старцы».
Коломенский епископ Герасим поставил Стефана в сан священника, а нареченный митрополит Митяй снабдил его антиминсами и всем необходимым для освящения церквей.
Свою миссионерскую деятельность Стефан начал в столице Перми — большом селе Усть-Вымь в среднем течении Вычегды. Там он сжег языческую кумирню и построил церковь во имя Благовещения. Стефан мужественно переносил ненависть жрецов, много раз пытавшихся изгнать его из этих краев. От прямой расправы с миссионером их удерживал лишь страх перед возмездием со стороны московского великого князя.
Стефан крестил язычников, учил их «слову Божьему». Для подготовки местного духовенства он устроил школу, в которой поначалу был единственным учителем. Вскоре он построил еще две церкви — Никольскую и Архангельскую. Богослужение в них также велось на местном наречии.
Однажды, когда борьба со жрецами достигла особой остроты, Стефан пошел на крайнее средство. Он вызвал их старейшину по имени Пам на «Божий суд» — испытание огнем и водой. Перед всеми «пермьскими людьми» оба они должны были войти в горящую клеть, а затем, нырнув в одну прорубь, выйти через другую, прорубленную ниже по течению Вычегды. Исход этого состязания и должен был показать: чья вера истинная, чей бог сильнее.
Когда пламя охватило предназначенную для испытания клеть, Стефан, помолившись и во весь голос затянув свой любимый псалом, смело двинулся в огонь. За собой он тащил оробевшего волхва. Там, где жар стал невыносим, жрец остановился и признал себя побежденным. Отказался он и от второго испытания. Разъяренный народ хотел казнить Пама. Но Стефан велел отпустить его, взяв клятву не хулить более христианскую веру.
Отважный проповедник торжествовал победу. С этого времени дело его быстро пошло на лад. Число новокрещеных росло не по дням, а по часам. Для их укрепления в вере нужны были дьяконы, священники, а главное, — местный архиерей, который мог бы освящать храмы и поставлять в сан, основывать монастыри и руководить всей церковной организацией края. А между тем до Ростова — столицы епархии, к которой принадлежал Устюг, — от Усть-Выми было не менее месяца пути.
В 1383 году Стефан поехал в Москву просить епископа для Перми. Князь Дмитрий вновь лично принял его. Внимательно выслушав рассказ Стефана, он подошел к монаху, обнял и расцеловал. На другой день митрополит Пимен вызвал Стефана и объявил, что именно ему и надлежит быть первым епископом Пермским.
Вернувшись в Усть-Вымь, Стефан основал там Михайловский монастырь, в котором устроил свою резиденцию. Вскоре появились и еще две небольшие обители — рассадники монашеского подвига в пустынном лесном крае.
Стефан был необычным для своего времени епископом. Поставленный на кафедру без всякой «мзды», он отличался полным бескорыстием. Порой вместе с какой-нибудь потаенной кумирней он сжигал и принесенные туда подношения — сотни ценнейших шкурок, стоимость которых равнялась целому состоянию. В голодные годы Стефан на свои средства кормил пермичей. Он защищал их от набегов грабителей-ушкуйников, мирил с восточными соседями — вогуличами.
Примечательно, что Стефан не ставил своей целью «русификацию» пермичей, не требовал отказа от родного языка. По словам Г. П. Федотова, он «смирил себя и свое национальное сознание перед национальной идеей другого — и сколь малого — народа» (105, 125). И в этом великом смирении, в способности увидеть и уважить чужую правду неистовый Стефан неожиданно оказывается так близок с молчаливым радонежским игуменом!
Впрочем, там, где речь шла о борьбе с язычеством, Стефан был непреклонен и не стеснялся в выборе средств. Согласно Житию, он однажды объявил, что каждый, кто принесет и отдаст ему своих домашних «кумиров», получит не только похвалу, но и «подарок». Такой же подарок ожидал и того, кто донесет на соседа, тайно поклоняющегося идолам.
В 1386 году Стефан по просьбе новгородского архиепископа Алексея ездил на берега Волхова. С помощью знаменитого проповедника новгородский владыка надеялся погасить вновь разгоравшуюся ересь стригольников.
Путешествие обещало быть долгим и многотрудным. Однако Стефан не мог отказать владыке: как и Сергий, он остро ощущал свою личную ответственность перед Богом за все, что происходит на Руси. До нас дошло одно его поучение против стригольников, написанное во время пребывания в Новгороде. Оно проникнуто духом строгой православной ортодоксии. Стефан требует изгнать еретиков из города, прекратить с ними всякое общение. Из этого поучения явствует: как и всякий страстный проповедник, Стефан был нетерпим. Современники не случайно дали ему прозвище Храп, что означало «яростный», «неистовый».
Далеко не все в облике Стефана и в методах его деятельности выглядит привлекательным. Истинный сын Средневековья, он был одержим своим служением, ощущал себя орудием в руках Бога. Можно сколько угодно осуждать Стефана за его нетерпимость к еретикам — которых, впрочем, он отнюдь не требовал сжигать на кострах! — и не всегда благовидные методы борьбы с язычеством. Но не забудем: этот человек готов был с именем Божьим на устах войти в горящий дом и прыгнуть в ледяную полынью. По силе религиозного чувства во всем русском Средневековье Стефану не уступит, пожалуй, один лишь протопоп Аввакум. Не забудем и о том, что христианскую догматику Стефан понимал не как сумму абстрактных истин, а как путь к спасению души.
В отечественной истории Стефан остался прежде всего как виднейший представитель многочисленной когорты русских миссионеров — безоружных проповедников учения Иисуса среди «не ведающих Бога» лесных и степных народов. «Напрасно говорят, что Русская Церковь не дорожит миссионерским служением, — писал Г. П. Федотов. — Начиная с ростовских святителей Леонтия и Исайи, с преп. Авраамия Ростовского и мученика Кукши, просветителя вятичей, до епископа Николая, основателя Японской Православной Церкви в конце XIX века, Русская Церковь не переставала давать апостолов Евангелия, лучшие из которых умели отделять служение вселенскому делу Христову от национально-государственных обрусительных задач» (105, 127).
Во время каждой из своих поездок в Москву Стефан посещал Маковец, встречался с Сергием. Житие Сергия рассказывает трогательную в своем простодушии легенду об их духовной близости, порой выражавшейся в чудесах.
Однажды Стефан, уже будучи епископом, ехал из Перми в Москву. Он очень торопился и потому решил навестить Сергия на обратном пути. И все же, проезжая мимо обители на расстоянии «яко поприщ 10 или вяще» (то есть 10 или более верст), он остановился. Повернувшись в сторону Троицкого монастыря, Стефан низко поклонился и произнес, обращаясь к Сергию: «Мир тебе, духовный брате!»
В это время Сергий сидел с братьями за трапезой. Внезапно он встал и, поклонившись, ответил на приветствие: «Радуйся и ты, пастуше Христова стада, и мир Божий да пребывает с тобою!» (9, 376). После этого он вновь сел на свое место и продолжил трапезу.
Монахи, удивленные поведением игумена, догадались, что он имел какое-то видение. В ответ на их расспросы Сергий сказал, что «в сей час епископу Стефану грядущу путем к граду Москве, и противу монастыря нашего поклонися святей Троице и нас смиренных благослови». Он назвал и место, откуда Стефан послал ему молитвенное приветствие. Позднее от тех, кто был в свите Стефана, троицкие монахи узнали, что все произошло именно так, как поведал им Сергий.
Эта мистическая встреча двух подвижников — а точнее, какие-то реальные события, лежавшие в основе рассказа Епифания, — могла произойти только в 1386 году, когда Стефан был в Москве по пути в Новгород. Во время первой поездки в Москву, в 1383 году, он еще не был епископом, а когда ехал туда в третий раз, в 1396 году, Сергия уже не было в живых. Впрочем, и для самого Стефана эта поездка стала последней. Он умер в Москве 26 апреля 1396 года и был погребен в кремлевской церкви Спаса на Бору.
В память о дружбе Сергия и Стефана троицкие монахи впоследствии построили придорожную часовню на том месте, где Стефан поклонился «великому старцу». В самом монастыре был принят обычай: во время трапезы раздавался звон колокольчика, по которому братья вставали и склоняли головы, чтя память своих великих учителей.
От природы Сергий был крепко сложен и вынослив. Однако старость неумолимо брала свое. Все тяжелее становилось вставать по утрам с жесткого иноческого ложа. Привыкший ко всему — а в особенности к своим обязанностям игумена — относиться добросовестно, Сергий тяготился своей немощью. За полгода до кончины он объявил о том, что передает игуменство Никону.
Освободившись от бремени власти, Сергий «безмльствовати начят». Случалось, за целый день он не произносил ни одного слова. Но молчание было для него лишь средством к достижению большего: того глубокого внутреннего покоя, «безгневия», умиления, которые и составляют суть монашеского безмолвия. «Благоразумное молчание есть... безмолвия супруг, приращение разума, творец видений... сокровенное восхождение... Любитель молчания приближается к Богу» (34, 124—125). Братья догадывались: «старец» решил замкнуть свой жизненный путь, вернуться к тому, с чего он начинал.
В сентябре 1392 года недуг стал совсем одолевать Сергия. Исхудавший, обессиленный, он уже не мог без помощи келейника встать с одра. Предчувствуя близкую кончину, Сергий велел собрать монахов в церковь. Два крепких ученика вывели — почти вынесли — «старца» из кельи. Оказавшись в храме, он по привычке встрепенулся; глаза его заблестели, голос окреп. Став перед царскими вратами, он обратился к инокам с последним поучением.
Завещание его было просто и бесхитростно. В нем не было ничего необычного или неизвестного собравшимся. Это были те самые простые и ясные слова, истинность которых он свидетельствовал всей своей жизнью и которые повторял, стоя на краю могилы. И даже автор Жития Сергия передает содержание его последних слов просто и лаконично, отказываясь в этом случае от всякого «плетения словес». «...Единомыслие друг к другу хранити завеща, имети же чистоту душевну и телесну и любовь нелицемерну... наипаче смирением украшатися, страннолюбиа не забывати» (9, 402).
С помощью учеников, поддерживавших его под руки, Сергий приобщился Святых Тайн, прикоснулся губами к Евангелию.
25 сентября 1392 года «великий старец» отошел в «мир иной».
Известие о кончине Сергия распространилось молниеносно. Толпы народа из соседних сел и деревень, из Радонежа, собрались в монастырь, желая проститься со «старцем». Из Москвы приехал митрополит Киприан, примчались князья и бояре, особо чтившие умершего.
Летописец сообщил о его кончине в таких словах: «Toe же осени... преставися преподобный игумен Сергии, святый старец, чудный, добрый, тихий, кроткыи, смиреныи, просто рещи и не умею его житиа сказати, ни написати. Но токмо вемы, преже его в нашей земли такова не бывало... всеми человекы любим бысть честнаго ради житиа его, иже бысть пастух не токмо своему стаду, но всей Русской земли нашей учитель и наставник» (18, 163).
Киприан приказал похоронить Сергия не на общем монастырском кладбище, а на почетном месте: внутри церкви, справа от иконостаса.
Шли годы. Троицкий монастырь был разорен и сожжен во время набега на Москву хана Едигея в 1408 году. Но вскоре он возродился из пепла. 25 сентября 1412 года, в день памяти Сергия, в монастыре была освящена новая церковь во имя Троицы. Полагают, что именно на этом торжестве Епифаний Премудрый впервые произнес сочиненное им Похвальное слово Преподобному (126, 17).
Уже в скоре после кончины Сергий стал почитаться троицкими монахами как святой. 5 июля 1422 года состоялось обретение мощей Сергия. Тогда же, в 1422—1423 годах, над могилой «великого старца» был построен каменный Троицкий собор, сохранившийся до наших дней. Роспись собора и его иконостас были выполнены артелью Андрея Рублева. Эти стенописи не дошли до настоящего времени: они были заменены на новые в 1635 году. Однако многие иконы, созданные Рублевым и его учениками, и по сей день украшают иконостас древнего Троицкого собора.
Бережно хранили монахи и некоторые личные вещи Сергия: его богослужебные ризы, келейные иконы, книги, посох.
Уже в середине XV века Сергий почитался как общерусский святой. У его гробницы происходили многочисленные чудеса, о которых составлялись обширные сказания.
Постепенно Сергий становится самым известным общерусским святым.
В своей «посмертной жизни» Сергий обрел как бы несколько ипостасей. Московские великие князья, а затем и цари считали его своим личным небесным покровителем. К нему обращались они в трудную минуту с молитвой о помощи. Со времен Василия II (1425—1462) московские правители вместе с семьей и боярами часто ездили на богомолье в Троицкий монастырь. Эти так называемые «троицкие походы» приурочивались обычно ко дню памяти Сергия — 25 сентября.
Это княжеско-царское почитание Сергия запечатлелось различными историческими фактами, обросло легендами. В феврале 1446 года великий князь Василий II, захваченный своими врагами в Троицком монастыре, умолял их о пощаде, держа в руках икону «Явление Богоматери Сергию», взятую с гробницы чудотворца. Позднее, в 1585 году, при переложении мощей Сергия в новую, изготовленную по заказу царя Федора Ивановича серебряную раку, на доске от старой гробницы троицкий иконописец Евстафий Головкин напишет новый образ «Явление Богоматери Сергию». Эта чудотворная икона станет неизменной спутницей русской армии во всех ее больших походах вплоть до Первой мировой войны.
В XVI веке существовала легенда о том, что жена Ивана III Софья зачала долгожданного первенца — сына Василия после богомолья в Троицкий монастырь. Сам Сергий явился ей у ворот обители и предсказал скорое рождение сына.
Во время похода Ивана Грозного на Казань в 1552 году он молился перед иконами «Троицы» и «Явление Богоматери Сергию», принесенными из самой обители. Рассказывали, что во время осады Казани русскими войсками, накануне дня решающего штурма, сам Сергий с метлой расхаживал по улицам города, подметал с них сор и пыль. Когда кто-то спросил его, зачем он это делает, «старец» ответил: «Утром у меня здесь будет много гостей».
Возвращаясь из казанского похода, Иван IV по дороге останавливался в Троицком монастыре, молился и благодарил чудотворца за помощь.
Сергий Радонежский появлялся и в тяжелые для Российского государства минуты. Во время героической обороны Троицкого монастыря от польско-литовских интервентов в 1608—1610 годах Преподобный, согласно «Сказанию» троицкого келаря Авраамия Палицына, часто являлся то одному, то другому защитнику обители, ободрял их и даже посылал через кольцо врагов с вестью в Москву трех своих «старцев» на крылатых конях. В память об этом в селе Деулине близ Троице-Сергиева монастыря, где в 1618 году было подписано перемирие с польским королевичем Владиславом, завершившее борьбу с чужеземцами в Смутное время, была построена церковь во имя Сергия Радонежского.
Предводитель народного ополчения Кузьма Минин доверительно рассказывал троицкому архимандриту Дионисию, что именно Сергий, трижды явившись ему во сне, заставил его бросить клич о сборе людей и средств для освобождения Москвы от чужеземцев.
Таковы лишь некоторые эпизоды из «посмертных деяний» Сергия как небесного покровителя Российской державы и ее государей. Они свидетельствуют о том, что образ Сергия уже через несколько десятилетий после его кончины вырос до значения национального символа. Его имя утверждало политическую и духовную независимость страны.
Но было и иное бессмертие Сергия Радонежского. Оно заключалось в сохранении и развитии тех начал, которые он утверждал всей своей жизнью. «Великий старец» жил в своих учениках, в мыслях и делах тех, кого он мог бы назвать своими духовными детьми. Иноки его «школы» как бы разделили между собой мистически-созерцательное, «антониевское» и деятельно-проповедническое, «феодосиевское» начала, гармонически сочетавшиеся в личности их учителя. Одни, вкусив «сладость безмолвия», уже не могли оставить ее и в поисках «пустыни» уходили в глухие заволжские леса; другие стремились своей «высокой жизнью» в городских киновиях учить людей любви и единомыслию.
Впрочем, деление это весьма условно. Две ветви сергиевской лозы постоянно сближались, переплетались друг с другом. И наибольшую известность получили именно те из учеников «великого старца», кто сумел, подобно ему, совместить оба эти начала.
Самым ярким среди «светильников» русского монашеского мира первой половины XV века был Кирилл Белозерский.
Выходец из московской знати, монах, а затем и настоятель Симонова монастыря, Кирилл был близко знаком с Сергием. Бывая в Москве, радонежский игумен обязательно приходил проведать Кирилла, побеседовать с ним. Однажды, уже лет через пять после кончины Сергия, Кирилл ночью увидел в оконце своей кельи чудесный свет и услышал голос самой Богородицы, повелевавшей ему отправиться в леса Белозерья и там основать «пустынный» монастырь. Не медля, Кирилл приступил к исполнению небесного повеления.
Со временем Кириллов монастырь стал для русского Севера тем же, чем маковецкая обитель — для Средней Руси. Выходцы из этой киновии основали в пустынных северных лесах в XV—XVI веках десятки новых иноческих общин, продолжив тем самым начатую еще во второй половине XIV века «монастырскую колонизацию».
Разумеется, эта деятельность требовала большого мужества, энергии, веры. Все это давал в XV столетии своим питомцам Кириллов монастырь — один из крупнейших в ту эпоху «центров духовного лучеиспускания» (105, 149).
Подобно Сергию, Кирилл не мог взирать равнодушно на бедствия «мира сего». Известно несколько его посланий к русским князьям. Они посвящены не только нравственно-христианским, но и социально-политическим темам. «Старец» призывал великого князя Василия Дмитриевича (1389—1425): «Возненавиди, господине, всякую власть, влекущую тя на грех» (1, 22).
Эту мысль смело можно признать сергиевской. Не она ли была в основе его безвластного, смиренного игуменства?
У каждого — своя правда, считал Кирилл. И пока люди не научатся видеть и уважать чужую правду, цепь злодеяний останется непрерывной. «Ты, господине, свою правду сказываешь, а они свою, — писал он князю Василию по случаю его войны с суздальскими князьями. — А в том, господине, межи вас крестьяном кровопролитие велико чинится. Ино, господине, посмотри того истинно, в чем будет их правда пред тобою, и ты, господине, своим смирением поступи на себе; а в чем будет твоя правда пред ними, и ты, господине, за себя стой по правде» (1, 22). В этом рассуждении изложена самая суть сергиевского взгляда на общественный порядок, твердо усвоенного ближайшим из его духовных наследников.
Другому сыну куликовского героя, удельному князю Андрею Дмитриевичу, во владениях которого находился Кириллов монастырь, «старец» отправил послание, в котором указывал на огромную ответственность правителя перед Богом за порученных ему людей. Он требовал от Андрея быть милосердным, справедливым. Князь должен искоренить в своих владениях лихоимство, пьянство, неправедный суд, разбой и прочие пороки.
Обращает на себя внимание самый тон посланий. Кирилл обращается к князьям с положенным монаху смирением, но без всякого подобострастия. Он не только считает себя вправе, но, более того, чувствует себя обязанным обличить князя, указать установленные евангельскими заповедями пределы его власти и в то же время показать направления, в которых князь должен действовать во исполнение тех же заповедей. Правда Евангелия выше правды Власти. Без Евангелия всякая власть греховна. Таковы в самом кратком виде основы «сергиевско-кирилловского» отношения к государству.
Запомним эти послания Кирилла: они написаны на языке свободы. Уничижаясь, он не унижается, но, напротив, вырастает до высот, с которых становится виден и слышен всем. Вероятно, именно так, в таком тоне и в таком направлении вел свои беседы с князьями и Сергий. Разница заключается лишь в том, что Сергий, живя в центре Владимирской Руси, мог за два-три дня добраться едва ли не в каждый из ее городов и потому предпочитал посланиям личную встречу и беседу. Кирилл находился за шесть сотен верст от Москвы и вынужден был больше писать, чем говорить.
Подобно Сергию, Кирилл не оставил после себя письменного изложения установленных им в монастыре порядков, а также каких-либо назиданий, обращенных к братьям. Замечено, что такие документы вообще не приняты были в русских монастырях до конца XV века. Все передавалось из уст в уста, от человека к человеку. Но и при таком порядке заветы основателя обители могли долгое время сохраняться благодаря преемственности. Основатель оставлял игуменом самого верного из своих учеников, тот — своего. Духовная свеча, зажженная Кириллом от пламени Сергиевой свечи, оставалась негасимой на Белоозере едва ли не до середины XVI века — значительно дольше, чем в самом Троицком монастыре. Кириллов монастырь славился своим «высоким житием», нестяжательскими традициями, твердостью «старцев» в отстаивании своих религиозных и политических убеждений. И лишь в эпоху Ивана Грозного обремененный огромным хозяйством, превратившийся в место ссылки опальной аристократии, Кириллов монастырь утрачивает энергию «духовного лучеиспускания». Но за полтора века его расцвета из монастыря вышли и разбрелись по Руси десятки подвижников, живых носителей «кирилловских» традиций духовной свободы и «высокого жития». Среди них наибольшую известность получили Савватий Соловецкий (умер в 1435 г.) и Нил Сорский (умер в 1508 г.).
Савватий Соловецкий прославился как один из основателей знаменитого островного монастыря, ставшего для Поморья тем, чем была для Средней Руси Троица, а для Заволжья — Кириллов. По мере падения духовного потенциала этих монастырей в XVI—XVII веках значение Соловецкого монастыря как религиозного центра неуклонно возрастало, выйдя наконец далеко за пределы Беломорья.
Другой знаменитый воспитанник Кириллова монастыря — Нил Сорский. Подобно Сергию, он искал пути обновления монашеской жизни. Обогащение и «обмирщение» не только городских, но и пустынных киновий заставили Нила искать новую форму для поддержания «высокого жития». Такой формой он считал скит — поселение двух-трех монахов в уединенном, отдаленном от основного монастыря месте. Само название этого типа иноческой общины происходит от пустыни Скит близ Александрии, где в IV веке н.э. «безмолвствовал» один из отцов христианского монашества Макарий Великий (63, 505). Занимаясь по будним дням келейной молитвой и физическим трудом, обитатели скита лишь по праздникам и воскресным дням приходили в свой монастырь на общую храмовую молитву.
Одно из главных достоинств скитничества, по мнению Нила, заключалось в том, что оно позволяло иноку жить трудом рук своих, а не находиться на содержании у богатых покровителей и живущих в монастырских вотчинах крестьян.
Монахи-скитники имели гораздо больше свободы действий, чем иноки, живущие в киновий. Каждый из них в своей келье занимался каким-либо рукоделием и затем продавал плоды своего труда. Исповедуя евангельскую бедность и обеспечивая себя трудом рук своих, обитатели скита обретали полную независимость от «мира».
Скитники имели много времени для индивидуальной, келейной молитвы. Поэтому среди них процветали созерцательность и напряженное богомыслие. Свобода от любого внешнего произвола сочеталась у скитников с внутренней свободой мистических озарений.
Поднимаясь к высотам духа, Нил и его последователи не изменили, однако, коренной традиции русского монашества — его отзывчивости к жалобам страждущего «мира», постоянной готовности стоять за правду. Безупречные в своем «высоком житии», скитники смело обличали тех, кто, по их мнению, отступал от евангельских заповедей. Впрочем, сам Нил совершенно по-сергиевски предпочитал учить не столько словом, сколько личным примером, всем своим образом жизни. Но ученики его — и в первую очередь Вассиан Патрикеев — не отказывались от устной и письменной полемики. Они отвергали основные направления деятельности тогдашнего церковного руководства: стремление к сохранению прежних и приобретению новых вотчин; стремление к жестокой физической расправе с вольнодумцами и еретиками; стремление заключить взаимовыгодный союз с «мирской» властью, предоставив ей заведомое отпущение грехов за любое злодейство, а за это получив ее поддержку в борьбе с еретиками и согласие на дальнейший рост церковного и главным образом монастырского землевладения. Именно за выступления против монастырского землевладения Нил и его последователи получили свое прозвище — «нестяжатели».
Позиция нестяжателей по всем названным вопросам определялась прежде всего их преданностью евангельским идеалам бедности, милосердия и независимости. Здесь — основа основ их мировоззрения. И в этом пламенном желании уподобиться Иисусу, соблюсти его заповеди и убедить других поступать так же — прямое духовное родство нестяжателей с Сергием.
Целый ряд более частных особенностей религиозных взглядов самого Нила прямо перекликается с Сергиевским мировоззрением. Выше всего в поведении инока Нил ценил смирение — этот ключ к братской любви. Сам он был скромен настолько, что даже не хотел называть себя по традиции «отцом» своих иноков, но только «братом».
Как и Сергий, Нил необычайно высоко ставил учение Василия Великого (77, 261). Эта любовь к творениям «великого каппадокийца» стала как бы родовой чертой всей нестяжательской «школы» (85, 47). Ей не противоречил и взгляд Василия на киновию как на лучшую форму иноческой общины. Нил также высоко ценил киновию, считал ее необходимой ступенью монашеской «лестницы к небу» (77, 265—266). Только пройдя через киновию, избранные иноки могли обратиться к «безмолвию» в скиту.
Протестуя против забвения заповедей Спасителя, нестяжатели оставались, однако, в лоне церкви, не посягая на ее догматы и уставы. Их взгляды, как и мировоззрение Сергия, отнюдь не были радикально-еретическими.
Благодаря своему высокому нравственному авторитету и сам Нил Сорский, и его последователи пользовались большим уважением как в светских, так и в церковных верхах. Нельзя было усомниться в том, что именно они представляют изначальный евангельский дух христианства. Именно поэтому нестяжателям долго прощали их смелые обличения. Государи — Иван III, Василий III и поначалу Иван IV — уважительно прислушивались к «заволжским старцам». Впрочем, их симпатия к нестяжательской проповеди была не вполне бескорыстна: власти пытались использовать в своих интересах некоторые стороны их учения, особенно требование «обезземелить» монастыри.
Признавая нравственную высоту учения нестяжателей, большинство иерархов в практических вопросах придерживались взглядов их главного противника — Иосифа Волоцкого, игумена Успенского монастыря близ Волоколамска (умер в 1515 г.). В отличие от Нила, уповавшего на нравственное самоусовершенствование, Иосиф верил в спасительную силу Организации. Его идеалом монашеского поселения была киновия.
Только укрепив Власть во всех ее ипостасях — игуменскую, архипастырскую, великокняжескую, — можно будет установить в рыхлом русском обществе порядок, полагал Иосиф. И если Нил исходил прежде всего из заповедей любви, то Иосиф искал опору в страхе человека перед земной и небесной карой. Вполне закономерно, что в поисках аргументов Иосиф обратился к Ветхому Завету с его обожествлением Власти и многочисленными сценами беспощадного истребления грешников.
Эта тенденция в произведениях Иосифа вызвала саркастическую отповедь в послании к нему кирилловских «старцев»: «Поразумей, господине Иосифе, много розни промеж Моисеа, Илии — и Петра апостола и Павла апостола, да и тебе от них» (11, 360). Примечательно, что тяга к ветхозаветным образам стала со временем характерной чертой религиозности Ивана IV.
По мере развития самодержавных начал в политике и образе мыслей московских государей влияние нестяжателей неуклонно падало. Воспитанная иосифлянской доктриной «земного Бога», самодержавная гордыня не могла мириться с чьей бы то ни было независимостью суждений. Иван ГУ уже вполне осознает себя в роли первосвященника, «помазаника Божьего», неподсудного человеческому нравственному закону. Расцвет «святополковских», братоубийственных начал в великокняжеской политике в период обострения борьбы за ликвидацию уделов (конец XV — первая половина XVI в.) также способствовал гонениям на нестяжателей. Своенравные последователи Нила Сорского, оказавшись на видных постах в иерархии, часто отказывались выполнять те требования государя, которые возмущали их христианскую совесть.
Все это привело к тому, что в середине XVI века нестяжательство практически исчезает как целостное религиозно-нравственное течение. Явившись своего рода «защитной реакцией» лучших, нравственно здоровых сил Русской Церкви на развитие вседозволенности в политике государей и приспособленчества в поведении высшего духовенства, нестяжательство в конце концов было подавлено общими усилиями духовных и светских властей. Русское централизованное государство построило свою нравственную доктрину на «святополковском» принципе: морально все, что идет на пользу интересам «державы», а точнее — самого «скипетро-держателя».
Иосифлянская иерархия в целом послушно и безответно восприняла даже такое безумие Власти, как опричнину. Впрочем, дух независимости и самоотверженного служения «миру» еще давал себя знать в Русской Церкви. Некоторые попытки препятствовать опричному террору предпринимал митрополит Афанасий (1564—1566). Однако подлинным обличителем опричнины выступил его преемник митрополит Филипп Колычев (1566—1568). Опасаясь вызвать бунт прямой расправой с популярным в народе иерархом, царь устроил судебный фарс, обвинив его в злоупотреблениях на посту игумена Соловецкого монастыря. Филипп был сведен с митрополии, сослан в Тверь и там два года спустя задушен Малютой Скуратовым по приказу царя. Напуганные этой расправой иерархи не пытались более спорить с Иваном IV. Не только в последней трети XVI века, но и позднее, в XVII—XVIII веках, в Русской Церкви уже не видно было этого древнего — идущего от Феодосия Печерского к Сергию Радонежскому и далее, к Кириллу Белозерскому, Нилу Сорскому, Филиппу Колычеву — способа служения людям путем обличения и «вразумления» Власти.
И все же стремление к служению «миру», отличавшее Сергия и его последователей, оказалось подобным тому зерну, о котором Иисус сказал: «Если пшеничное зерно, пав на землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Иоанн, 12, 24). Всходы духовных зерен порой оказывались неожиданными. Иногда они прорастали на собственно церковной ниве. Так, найденная последователем Сергия Нилом форма иноческого жития, скит, воскресла в середине XIX века в Оптиной пустыни и некоторых других монастырях. Но главное, она возродилась в этих скитах не в одной только форме, но и в духе, в служении миру мудрых «старцев» — утешителей, увековеченных Достоевским в образе старца Зосимы.
Дело маковецкого игумена живет не в одной лишь истории церкви. Оно стало частью духовного наследия русского народа. «Отвръзите мне врага правды, и вшед в ня...» (9, 428). «Отворите мне врата правды, и я войду в них...» В этих словах из Жития Сергия — самая суть его личности, его жизненного пути. И скольких людей увлек он за собой на поиски этих таинственных «врат»! И не в его ли «любви нелицемерной равно к всем человеком» (9, 418) — истоки той всечеловеческой ответственности, той неистовой жажды всеобщей правды, которой отмечены религиозно-нравственные искания великих русских мыслителей XIX — начала XX века?
Заветы Сергия — любовь к людям, непрерывное восхождение к нравственному совершенству путем мужественного самоотречения — стали характерными чертами русской духовной культуры. И сам Сергий — то явно, то сокровенно — живет в ней и будет жить, «доколе стоит земля Русская».
В данном разделе помещены материалы, позволяющие лучше понять труды и заботы преподобного Сергия Радонежского как настоятеля Троицкой обители и вместе с тем — как выдающегося церковно-политического деятеля своего времени.
Первыми помещены извлечения из сочинений о монашестве одного из отцов церкви — Василия Великого (ок. 330—379), архиепископа Кесарии Каппадокийской. Наставления Василия Великого можно было найти практически в каждой монастырской библиотеке средневековой Руси. Крупнейший философ и богослов своего времени, горячий борец с ересями, «великий каппадокиец» выступил и как создатель одного из первых общежительных монашеских уставов. «Наше православное греко-российское монашество, — писал историк Русской Церкви Е. Е. Голубинский, — есть монашество по уставу Василия Великого, так что Василий Великий должен быть признаваем нашими монахами за их учителя по преимуществу и по превосходству».
Мысли Василия Великого о монашестве, равно как и сама светлая, харизматическая личность святителя, ярко отразились в его богатом эпистолярном наследии. Ниже мы публикуем три его письма, два из которых содержат рассуждения об иночестве, а третье — ответ на обвинения в ереси, высказанные кем-то из недругов Василия. В этих письмах святитель является во всем блеске своего литературного таланта.
Долгая и драматическая борьба вокруг митрополичьей кафедры, начавшаяся после кончины митрополита Алексея 12 февраля 1378 года, породила целый ряд страстных публицистических произведений. Одно из них — послание митрополита Киприана к игуменам Сергию Радонежскому и Федору Симоновскому. Потерпев неудачу в своей дерзкой попытке «явочным порядком» утвердиться в Москве, литовский митрополит Киприан 23 июня 1378 года шлет своим корреспондентам кипящее гневом послание с описанием унижений, которым подверг его московский князь Дмитрий Иванович. В конце концов князь распорядился под стражей выслать незваных гостей из своей столицы и сопроводить их до литовской границы. Очутившись на свободе, Киприан взялся за перо и дал волю своим чувствам. Он горько упрекает обоих игуменов за то, что те уклонились от прямого выступления в его поддержку. Однако примечательно, что упреки не переходят в брань и проклятия. Митрополит явно не хочет разрывать отношения и дает понять, что продолжает считать Сергия и Федора своими сторонниками. Несомненно, Киприан рассчитывал, что это послание станет известно не только адресатам, но и всем его доброхотам в Москве. Поэтому он ищет подтверждений своей правоты в Священном Писании и прибегает к эффектным приемам византийской риторики. При всей эмоциональности послание тщательно продумано и отшлифовано.
С «мятежом во святительстве» связана и Уставная грамота суздальского архиепископа Дионисия псковскому Снетогорскому монастырю. Новейшие исследователи датируют ее февралем 1383 года (Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. (Далее — РФА) Вып. 3. М., 1987. С. 486) Она сохранилась в списке первой трети XVI века.
Отправившись в Константинополь в 1379 году для участия в борьбе за митрополичий престол, епископ Дионисий через несколько лет вернулся на Русь уже в сане архиепископа и в качестве доверенного лица (экзарха) патриарха Нила. Очевидно, ему поручено было ознакомиться с состоянием церковной и монашеской дисциплины во Пскове, жители которого постоянно жаловались на произвол и небрежение со стороны их прямого духовного главы — новгородского архиепископа. В Снетогорском монастыре Дионисий обнаружил вопиющие нарушения правил «общего жития». Желая покончить с этим, архиепископ от имени патриарха постановляет: «Отселе... в монастыри сем честней ничтоже своего ни игумену, ни братии, но все отдати Богу и Святей Богородици в монастырь, ни ести в келий, ни пити, ни у келаря просити; а келарю не дати, ни клучьнику не дати никомуже ничегоже без игуменова слова; ести же и пити в трапезе вкупе всем; опрочь же тряпезе ни ясти, ни пити никакоже, ни до обеда, ни по обедех; а до пияна никакоже не пити. А одеяние потребное имати у игумена, обычный, а не немечьскых сукон... А на службу, идеже аще послеть мниха, без ослушания да идеть; а без благословенна игуменя никакоже не ходить никуды. Послушание же и покорение имети во всем игумену: аще кто въпреки начнеть глаголати игумену и въздвигати начнеть свары, заперт таковый да будеть в темници, дондеже покается...» (23, 209)
Из этих постановлений можно представить реальную картину тогдашней жизни Снетогорского монастыря: имущественная и духовная обособленность каждого инока, заносчивость, бесчинства и пьянство монастырской верхушки. Очевидно, эти пороки в той или иной степени были присущи большинству тогдашних русских обителей.
«Монастырская реформа» митрополита Алексея и преподобного Сергия Радонежского подняла иноческую жизнь в Северо-Восточной Руси на новую высоту. Однако по мере ухода «в лучший мир» первых ревнителей «общего жития» все понемногу стало возвращаться «на круги своя». Проблема поддержания уставных порядков в общежительных монастырях становилась все более актуальной. Об этом свидетельствует Уставная грамота митрополита Ионы архимандриту и братии некоего монастыря о соблюдении общежительного устава. Время написания грамоты — конец 40-х годов XV века (РФА. Вып. 1. М., 1986. С. 145). Митрополит предписывает игумену избрать по согласованию с братией главных должностных лиц монастыря и строго сохранять уставную общую трапезу. Инокам под угрозой конфискации имущества и изгнания из обители запрещается «торговати или села строити собе на собину» — для собственного дохода.
Разложению «общего жития» в киновиях сильно способствовало наличие многочисленных монастырей традиционного, «особножительного» устава. Уклад жизни в этих обителях отчасти изображен в Уставной грамоте митрополита (Ионы, Феодосия, Филиппа?) в некий келиотский монастырь. Время ее написания — третья четверть XV века (РФА. Вып. 1. С. 101). В грамоте устанавливаются общие принципы распределения доходов среди обитателей «особняка». Архимандрит получает свою половину. Половина от второй половины положена монахам, имеющим сан священника или дьякона. Это монастырская элита, возвышающаяся над рядовыми иноками. Впрочем, высокие доходы архимандрита и священнослужителей обусловливают их высокий вклад в платежи в пользу архиерея. Примечательно, что рядовая братия не участвует в разделе доходов, получаемых от всякого рода церковных служб.
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ
Подвижнические уставы
подвизающимся в общежитии и в отшельничестве
Глава 5
Заниматься же подвижнику надобно работами приличными, которые свободны от всякой суетливости, долговременных развлечений и непозволительного прибытка, — которые большею частию можно нам производить, оставаясь под своей кровлей, так что и дело делается, и безмолвие соблюдается...
Глава 6
Но не должно без осторожности доверяться всякому и перед всяким себя обнаруживать и открывать. Ибо кто живет по Богу, у того много наветников, и нередко самые близкие к нему подсматривают за его жизнию. Поэтому не без предварительного испытания надобно иметь свидания с посторонними. Ибо если Спаситель, как говорит Евангелие, не всякому вверялся: сказано: сам Иисус не вдаяше Себе в веру их (Иоанн, 2, 24); если Он, чистый, непорочный, неукоризненный, праведный, Он, Который весь — добродетель, поступал так; то мы, грешные, поползновенные, не всегда верно идущие к цели, то по естественной своей немощи, то по ухищрению того, кто лукаво и неослабно с нами борется, выдавая себя людям любопытным, не навлечем ли на себя злой клеветы, и не устроим ли сами себе соблазнов? Ибо люди порочные часто и прекрасные дела стараются оклеветать и даже маловажных погрешностей не потерпят оставить неосмеянными. Поэтому нужно с осторожностию вступать в беседы с посторонними.
Бывает у них и другой недуг от невежественных суждений об удалившихся от мира: они думают, что в переменивших образ жизни не расположение одно переменено, но перестроена самая человеческая природа; не рассуждают, что подвижники подвержены тем же страстям и преодолевают их душевною силою и удалением себя от удовольствий; но полагают, что страсти от телесного естества их совершенно устранены. А посему, если человек духовный хотя несколько уклонится от совершенства, тотчас все, даже прежние самые горячие хвалители и почитатели, делаются жестокими обвинителями и сами себя обличают в том, что и прежде расточали похвалы не искренние. Как на поприще, если какой борец поскользнется, противник наступает на него немедленно, наносит ему удары и доводит его до совершенного падения; так и они, как скоро увидят, что живущий в подвиге добродетели уклонился несколько от совершенства, нападают на него, как стрелами поражая его укоризнами и клеветами, а не рассудят в себе, что самих ежедневно уязвляют страсти тысячами стрел...
Заметь и другое, чем обыкновенно страдают привязанные к настоящей жизни, когда судят о подвигах. Как скоро подвижник, после долгого невкушения, признал необходимым подкрепить тело пищею; они хотят, чтобы он, как безтелесный и невещественный, или вовсе не принимал пищи, или принимал как можно меньше. И если увидят подвижника, который не вовсе не щадит тела, но хотя в чем-нибудь удовлетворяет настоящей своей потребности, злословят и клевещут, и называют какими-то обжорами и лакомками, поношение и издевательство над одним распространяя на всех; а не рассуждают того, что сами два раза, иные же из них и три раза в день едят самые тяжелые и жирные яства, нагружают себя необъятною грудою мяс, и наливают безмерным количеством вина, и с такою же жадностию кидаются за стол, как и псы, после продолжительного голода спущенные с привязи. А истинные подвижники употребляют пищу самую сухую, которая, при легкости, имеет мало в себе питательного, и каждый день вкушают по одному разу; научившись же проводить жизнь в строгом порядке и вкушая пищу умеренно и разумно, имеют они право при вкушении с дерзновенною совестию подавать телу потребное. А посему и прилично, чтобы свобода наша не судилась от иныя совести (1 Кор. 10, 29). Ибо если вкушаем пищу с благодарением, для чего хулят нас за то самое, за что мы благодарим, скудную и дешевую пищу принимая с таким веселием, с каким не принимают они блистательных и многоценных приготовлений богатого яствами стола?
Но если кто из упомянутых мною людей известен своим благоразумием и благоговением и с уважением смотрит на нашу жизнь, такового с осмотрительностию допустить к трапезе, если будем о сем просить, не противно благоразумию.
Глава 7
Не надобно, под предлогом посещения братии и свидания с ними, делать многих и частых отлучек. Ибо это есть одно из диавольских примышлений, потому что враг и подобным способом пытается расстроить наше постоянство и благочиние в жизни, ввергнуть же нас в сластолюбие и различные расстройства помыслов. Но надобно в безмолвии беседовать с самими собою, рассматривать и исправлять душевные прегрешения. Ибо недавно оставивший мир, по собственному расположению, достоин похвалы за наклонность к доброму, но не приобрел еще совершенства добродетелей: нередко же бывает, что он и не думал еще, каким образом выполнить ими требуемое. Напротив того, ему нужно в безмолвии, вникая в себя самого, усматривать беспорядочные стремления и движения души, мужественно им противоборствовать и исправлять беспорядки добрыми помыслами, потому что порядок в душе есть знак добродетели. Поэтому, кто всегда в отлучках и переходах непрестанно расстроивает и рассеивает внимательность и собранность души и постепенно привыкает обращать взор на телесные удовольствия, тот будет ли в состоянии заглядывать в самого себя, или узнавать, что в душе не хорошо, или приводить это в устройство сообразно с долгом, пока еще раздражает душу к страстным расположениям?
Посему надобно больше пребывать в безмолвии, и каждому терпеливо оставаться в своем убежище, чтобы это свидетельствовало о постоянстве нравов, хотя и не жить в совершенном затворе, но с добрым дерзновением делать необходимые выходы, за которые нимало не зазирает совесть, и навещать из братии лучших и полезнейших по строгости жития, заимствуя для себя, при полезном свидании, образцы добродетелей и соблюдая в выходах своих, как сказали мы, умеренность и неукоризненность. Ибо часто выход и рассеивает уныние, родившееся в душе, и, дав как бы несколько укрепиться и отдохнуть, доставляет возможность вновь с усердием приступить к подвигам благочестия. А если кто высоко думает о том, что не выходит из своей хижины, пусть он знает, что надмевается пустым делом. Ибо не выходить из дому не есть еще само по себе прекрасное дело; и выходы по временам не сделают человека хорошим или худым. Но твердое и непоколебимое суждение о хорошем или, наоборот, переменчивость в суждениях делают человека добрым или негодным. Если же кто укоренил в душе прекрасное и долговременным подвижничеством приобрел опытность в управлении страстями, укротил в себе телесные безчинства и обуздал душевные и, надеясь на узду рассудка, намерен делать более частые выходы для назидания и посещения братий: то подобного человека и Писание еще более поощряет к исхождению, чтобы, поставив светильник на свещнице, всем подавал он свет прекрасного руководства, если только надеется, что встречающимся с ним и в слове и в деле послужит училищем добродетели, и таким образом приведет себя в безопасность, по сказанному Апостолом: да не како, иным проповедуя, сам неключим буду (1 Кор. 9, 27).
Глава 8
О том, что не должно давать воли и свободного доступа скитающимся подвижникам, но надобно остерегаться и их
Надобно остерегаться и тех, которые скитаются и переходят из одного братства в другое, постоянно, с неугомонной и неослабной стремительностью бегают по монастырям и под видом якобы духовной любви выполняют хотения плоти, у которых в душе нет ничего постоянного, твердого, благочинного, украшенного благоразумием, но есть все то, что суетно, злонравно, исполнено беспокойства и неразумия, коварства и лицемерия, лжи и обманчивого ласкательства. Язык у них необузданный, чрево неумеренное, душа всегда готова лететь и кидаться опрометью, помыслы подобны полету нетопырей, никогда не следуют прямому направлению, но несутся вкось и удобно обращаются назад, что обнаруживают в первых своих порывах, а к другому, сверх всякого ожидания, стремятся по переменчивости расположения, много ползают и нимало не подаются вперед...
Глава 9
О том, что подвижнику никак не должно домогаться избирательного голоса или начальства над братиею
Нимало не должно подвижнику домогаться избирательного голоса или начальства над братиею. Ибо это — диавольский недуг и проявление любоначалия, которое служит признаком самого высшего диавольского лукавства. И диавол сею страстию увлечен был к своему весьма известному падению; и кем обладает сия страсть, тот болезнует наравне с ним. Сверх того страсть сия плененных ею делает завистливыми, ревнивыми, обвинителями, бесстыдными, клеветниками, ласкателями, злокозненными, унижающимися сверх должного, раболепными, высокомерными и исполненными безчисленных смут. Ибо такой человек завидует достойным и клевещет на них, а нередко пожелает им и смерти, чтобы, при недостатке способных к делу, голоса дошли и до него. Он будет ласкательствовать тем, в чьей воле подать избирательный голос, и поэтому сделается раболепным; но будет дерзок против низких, если станут противиться, и поэтому начнет сплетать козни; у него будут тысячи смущений и подозрений, душевная тишина разрушится, и Бог мира, не находя места, где упокоиться, оставит его. Посему, зная такой вред, будем избегать неприличного пожелания. Если же кого Бог изберет к сему, то Он, как благоискусный, знает, как и соделать его достойным; а мы должны сознавать в себе, что не домогались ничего подобного и вовсе не имеем такого желания в душе. Ибо это есть самая тяжкая болезнь души и отпадение от добра.
Глава 10
Наипаче должно убегать тщеславия, не того, которое удаляет от трудов еще прежде трудов (ибо это было бы меньшее зло), но того, которое лишает венцов по трудах; этого неодолимого наветника нашему спасению, который под самыми небесными кругами ставит противу нас свою засаду и усиливается ниспровергнуть добродетели, пустившие стебли свои даже до неба. Ибо когда видит, что купец благочестия наполнил уже корабль своего разумения всякими товарами добродетелей, тогда, возбудив свою бурю, старается опрокинуть и потопить ладью. Ибо, убедив ум пловца, поспешающего к горнему царству, обратить взоры на дольнее и на человеческую славу, внезапно развевает все душевное богатство и, основания добродетели сравняв с землею, ниспровергает труды, досягавшие до небес, доведя до того, что за сделанное нами просим у людей себе награды мы, которым надлежало, устремя взор к единому Богу и Ему соблюдая в тайне добрые дела свои, от Него единого ожидать достойного себе воздаяния...
Глава 11
Таковы главные из добрых дел, описанные нами не в соответствии собственному величию добродетели, но соразмерно с нашими силами. Следующие же за сим добродетели, какими обыкновенно украшаются нравы, всякий, думаю, без труда увидит сам: таково, например, благовременное употребление слова и произношение оного на пользу. Полезным же будет или беседовать о добродетели во время, или вести речи по настоятельной и неминуемой нужде или вообще для созидания слушателей, а прочих речей, как излишних и бесполезных, избегать.
Глава 12
Надобно воздерживаться от всякой шутливости, так как со многими, занимающимися этим, случается, что погрешают они против здравого разума, когда душа развлекается смехом и теряет собранность и твердость ума. А нередко зло сие, возрастая постепенно, оканчивалось сквернословием и крайним безчинием: столько-то несовместны между собою трезвенность души и излияние шутливости! Если же когда, чтобы дать себе некоторую ослабу, нужно разогнать угрюмость беседою; то да будет слово ваше исполнено духовной благодати и приправлено евангельскою солию, чтобы оно изливало из себя благоухание внутренно мудрого домостроительства и вдвойне увеселяло слушателя: и успокоением, и даром разумения.
Глава 13
Подвижник должен, как можно более, быть исполнен кротости, потому что он или приобщился, или желает приобщиться Духа кротости; а приемлющий в себя сего Духа должен уподобляться приемлемому. Если же когда нужно и негодование, а именно, на леность подчиненного нам, то негодование да будет растворено рассудительностию...
Глава 14
Но всеми поступками должно руководить благоразумие. Ибо без благоразумия и все то, что, по видимому, прекрасно, от неблаговременности и несоблюдения меры обращается в порок. А когда разум и благоразумие определяют время и меру благ, тогда от употребления их получают удивительную выгоду и дающие, и приемлющие сии блага.
Глава 15
Всеми же начинаниями да руководит вера в Бога, и да сопутствует ей благая надежда, чтобы верою укреплять нам в себе душевную силу, а благою надеждою возбуждать в себе усердие к доброму. Ибо человеческое начинание в рассуждении доброго не совершится без помощи свыше, а вышняя благодать не снизойдет на того, кто не прилагал о сем старания. Напротив того в совершении добродетели должно соединиться то и другое — и человеческое усердие, и помощь, по вере приходящая свыше.
Глава 16
Во всем, что ни сделано нами доброго, душа причины успеха в деле должна приписывать Господу, нимало не думая, чтобы она в чем-либо добром успевала собственною силою. Ибо таким расположением, обыкновенно, производится в нас смиренномудрие. А смиренномудрие — сокровище-хранительница добродетелей...
Глава 17
Поелику прежде, хотя уже рассуждали мы о помыслах, однако же не объяснили, сколько есть способов, по которым в здравом рассудке зарождаются лукавые мысли: то теперь почли мы справедливым присовокупить и сие, чтобы исследование сего предмета было совершенно.
Итак, два способа, которыми непристойные мысли приводят в смущение здравый рассудок: или душа по собственному нерадению блуждает около того, что для нее неприлично, и от одних мечтаний переходит к другим самым бессмысленным; или бывает сие по злоумышлению диавола, который старается представлять уму предметы непристойные и отводить его от созерцания и внимательного рассматривания предметов похвальных...
Глава 18
В сказанном пред сим рассуждали мы, сколько было можно, о подвижнике, взятом отдельно и возлюбившем жизнь одинокую: как ему, приобучая душу к доброму и направляя тело к должному, можно напечатлеть в себе для нас образец совершенного любомудрия. Но поелику большая часть подвижников живут обществами, изощряя друг в друге мысли об усовершении себя в добродетели и чрез взаимное сравнение того, что делает для сего каждый, возбуждая себя к преспеянию в добром; то почли мы справедливым и им предложить словесное увещание. А прежде всего, выразумев великость и важность того блага, какое усвояют себе, должны они так принять сие увещание, чтобы показать в себе усердие и тщательность, достойную добродетели, в какой упражняются.
Итак, во-первых, возлюбив общение и совокупную жизнь, возвращаются они к тому, что по самой природе хорошо. Ибо то общение жизни называю совершеннейшим, из которого исключена собственность имущества, изгнана противоположность расположений, в котором с корнем истреблены всякое смятение, споры и ссоры, все же общее, и души, и расположения, и телесные силы, и что нужно к питанию тела и на служение ему, в котором один общий Бог, одна общая купля благочестия, общее спасение, общие подвиги, общие труды, общие венцы, в котором многие составляют одного, и каждый не один, но в ряду многих.
Что равняется сему житию? Но что и блаженнее оного? Что совершеннее такой близости и такого единения? Что приятнее этого слияния нравов и душ? Люди, подвигшиеся из разных племен и стран, привели себя в такое совершенное тождество, что во многих телах видится одна душа и многие тела оказываются орудиями одной воли. Немощный телом имеет у себя многих состраждущих ему расположением; больной и упадающий душою имеет у себя многих врачующих и восстановляющих его. Они в равной мере и рабы и господа друг другу, и с непреоборимою свободою взаимно оказывают один перед другим совершенное рабство, — не то, которое насильно вводится необходимостью обстоятельств, погружающею в великое уныние плененных в рабство, но то, которое с радостию производится свободою произволения, когда любовь подчиняет свободных друг другу и охраняет свободу самопроизволом. Богу угодно было, чтобы мы были такими и в начале; для этой цели и сотворил Он нас. И они-то, изглаждая в себе грех праотца Адама, возобновляют первобытную доброту, потому что у людей не было бы ни разделения, ни раздоров, ни войны, если бы грех не рассек естества. Они-то суть точные подражатели Спасителю и Его житию во плоти. Ибо как Спаситель, составив лик учеников, даже и Себя соделал общим для Апостолов; так и сии, повинующиеся своему вождю, прекрасно соблюдающие правило жизни, в точности подражают житию Апостолов и Господа. Они-то соревнуют жизни Ангелов, подобно им во всей строгости соблюдая общительность...
Глава 19
Для проницательных умом слово наше в предыдущем изложении свойств этого рода жизни определило уже правило для жизни. Но поелику для более простых братии надобно еще яснее изложить в подробности правило этой жизни, то и обратимся к сему.
Итак, приступивший к подобному образу жизни прежде всего должен иметь образ мыслей твердый, непоколебимый и неподвижный, такую решимость, которой бы не могли преодолеть и изменить духи злобы, и душевною твердостию даже до смерти показывать стойкость мучеников, как держась заповедей Божиих, так и соблюдая послушание наставникам. Ибо это главное в сем роде жизни...
Глава 20
От родственников, друзей и родителей надобно столько же отдаляться своим расположением, сколько видим далекими между собою мертвых и живых. Ибо кто действительно приуготовил себя к подвигам добродетели, отрекся от целого мира и от всего, что в мире, и (скажу полнее) распялся миру, тот умер для мира и для всего, что в мире, будут ли это родители, или братья, или родственники, состоящие в третьем, четвертом и далее колене. Поэтому, если родители удалятся от мира и приступят к тому же роду жизни, какой ведет сын, то подлинно они сродники, и стоят на степени не родителей, а братии. Ибо первый, самый истинный отец есть Отец всех; а вторый после Него — наставник в духовном житии. Если же сродники продолжают любить прежнюю жизнь, то составляют они часть мира, от которого мы удалились, и ни в каком родстве не состоят с тем, кто отложил плотского человека и совлекся свойства с ними. А кто вполне любит дружбу с людьми мирскими и желает непрестанно с ними беседовать, тот, в следствие частых бесед, поселяет в душе своей их расположения...
Глава 21
Надобно ясно увериться и в том, что однажды вступивший в союз и единение духовного братства не в праве уже отделяться и разлучаться с теми, с которыми стал соединен. Ибо, если вступившие между собою в связи по этой вещественной жизни часто не могут расходиться вопреки сделанным условиям, или поступающий так подпадает определенным за то наказаниям: то тем паче принявший на себя условия духовного сожительства, имеющего неразрывную и вечную связь, не в праве отделять и отторгать себя от тех, с которыми вступил в единение, или поступающий так подвергнет себя самым тяжким наказаниям свыше. Если женщина, которая вступила в сообщество с мужчиною и имеет с ним плотскую связь, как скоро обличена будет в неверности к нему, осуждается на смерть: то во сколько крат более делается виновным за свое отлучение тот, кто, при свидетельстве и посредничестве самого Духа, принят в духовное сообщество? Посему, как телесные члены, связанные между собою естественными узами, не могут отторгаться от тела, а если отторгнутся, то отторгнувшийся член сделается мертвым, так и подвижник, принятый в братство и удерживаемый в нем счленением Духа, которое крепче естественных уз, не имеет власти отделяться от тех, с которыми стал соединен; или, поступая так, он мертв душею и лишен благодати Духа, как обративший в ничто условия, заключенные при самом Духе.
Если же кто скажет, что некоторые из братии худы (конечно, не обвинит он всех, потому что не для худого чего вступают в сообщество, чтобы всем согласно быть худыми) — итак, если скажет, что некоторые из братии худы, без осторожности нарушают доброе, не радят о благопристойности, небрегут о строгости, приличной подвижникам, и потому надобно с таковыми разлучиться, то придумал он недостаточное оправдание своего удаления, потому что ни Петр, ни Андрей, ни Иоанн не отторглись от прочего лика Апостолов за лукавство Иуды, и никто другой из Апостолов не обратил сего в предлог к отступничеству, и злонравие Иуды нимало им не воспрепятствовало повиноваться Христу; напротив того, пребывая покорными наставлениям Господа, они ревновали о благочестии и добродетели, не совращаясь в лукавство Иуды. Таким образом, кто говорит: «ради дурных братии принужден я отделиться от духовного союза», тот изобрел неблаговидный предлог своему непостоянству; напротив того, сам он есть та каменистая земля, которая, по непостоянству воли, не может возрастить в себе слова истины, но, при малом приражении искушения или от неудержимости страстей, не терпит целомудренного жития; и едва взошедший росток учения вскоре иссушается в нем зноем страстей. И он придумывает, по собственному убеждению, пустые и недостаточные предлоги к своему оправданию на суде Христовом, и сам себя легко вводит в обман, потому что всего легче обмануть самого себя; ибо всякий бывает снисходительным к себе судиею, рассуждая, что приятное вместе и полезно...
Глава 22
О послушании — полнее
Показали мы по возможности, что однажды вступивший в единение с духовным обществом должен хранить сие единение неразрывным. А теперь снова займемся словом о послушании, о котором прежде говорили мы кратко; теперь же изложим свои мысли совершеннее и покажем, какой благопокорности к настоятелю требует от подвижников строгое учение, потому что меру сей благопокорности попытаюсь определить из самого Святого Писания.
Апостол Павел в послании к Римлянам повелевает всем властем предержащим повиноваться (Рим. 13, 1), то есть повиноваться властям мирским, а не духовным, что и дает он разуметь в последующем, где говорит об уроках и дани (7), и объясняет, что даже в самой малости противящийся власти противится Богу (2). Посему, если закон Божий требовал от благочестивых такого подчинения начальникам мира сего, получившим начальство по человеческому закону и притом жившим тогда в нечестии, то какую благопокорность обязан подвижник оказывать начальнику, который поставлен Богом и приял власть по Его законам? Противящийся наставнику не явно ли противится Божию повелению...
Глава 23
Подвижник должен и низкие работы брать на себя с великим старанием и усердием, зная, что все, делаемое ради Бога, не маловажно, но велико, духовно, достойно небес и привлекает нам тамошние награды. Поэтому, хотя бы надлежало ходить за подъяремными животными, которые носят на себе тяжести для общих потребностей, не должно противиться, представляя в уме, с каким усердием Апостолы повиновались Господу, повелевшему привести жребя, и рассуждая, что те, для кого приняли мы на себя попечение о вьючном скоте, суть братия Спасителю, и что благорасположение к ним и старание о них переносится на самого Господа, сказавшего: понеже сотвористе единому сих братии Моих менших, Мне сотвористе (Матф. 25, 40). Если же Он Себе присвояет, что делается для сих менших, то тем паче присвоит Себе, что делается для избранных, если только работающий не признает служения своего поводом к безпечности, но оградит себя со всяким трезвением, чтобы и ему самому, и тем, которые вместе с ним, была от сего польза. Если же должен отправить какую-либо низкую работу, то надобно ему знать, что и Спаситель служил ученикам и не гнушался исправлять маловажные дела; а для человека великое дело быть подражателем Богу и чрез сии низкие работы возводиму быть на высоту оного подражания. Да и кто назовет уже низким то, к чему Бог прикасался Своею деятельностью?
Глава 24
Почестей нисколько не должно домогаться подвижнику. Ибо, если за труды и заслуги ищет он воздаяний здесь, то жалок тем, что чрез временное вознаграждение теряет вечное. Если же вознамерился он подвизаться здесь, а венцы получить на небе, то должен не только сам не домогаться почестей, но бегать и отказываться от тех, какие ему воздают, чтобы здешняя почесть не послужила к умалению тамошней славы. Ибо настоящая жизнь вся предоставлена трудам и подвигам, а будущая — венцам и наградам...
Глава 25
Подвижник никак не должен домогаться разнообразия в снедях и, даже под видом воздержания, перемены предлагаемых яств. Ибо это бывает превращением общего благочиния и поводом к соблазнам; и тот делается наследником возвещенного: горе (Матф. 18, 7), кто в подвижническом обществе подает такие поводы к мятежу. Напротив того, хотя бы для вкушения с хлебом предлагалась соленая рыба, которую святые отцы рассудили вместо другой какой приправы в малом количестве прибавлять к яствам, примешивая сие к остальной снеди из воды или из зелени, подвижник не должен, под предлогом тщеславной, самопроизвольной набожности отказываясь от сего, как бы от мяса, требовать яств, более дорогих и доброкачественных: но, без особенного к сему внимания, омокая кусок в отвар из весьма малого куска соленой рыбы, да вкушает со всяким благодарением. Ибо этот весьма малый кусок, положенный в такое большое количество воды или, если случится, и в варение из семян, не есть признак лакомства, но самое строгое и в подлинном смысле исполненное терпения воздержание подвижников. Поэтому подвижнику святости не должно обращать внимание на что-либо подобное, потому что мы удерживаемся от подобных яств, не иудействуя, но избегая лакомого насыщения.
Глава 26
Если подвижник скажет, что вредны для него выходы и путешествия, предпринимаемые для необходимых общих потреб, и потому будет отказываться от выхода, то он не уразумел еще строгости послушания и не знает, что добродетель сия не усовершается такою недеятельностию. Посему пусть посмотрит на примеры святых, как достигали они совершенства в послушании, нимало не противоречили и не противились ни одному, даже неудобоисполнимому, приказу; и пусть обучится совершенному послушанию. Если же кто и в самом деле потерпит от сего вред, то пусть просит братство помолиться о нем Богу, и сам пусть испрашивает у Бога с несомненною надеждою, чтобы во всех духовных упражнениях и в телесных служениях добрым делам соделаться ему сосудом, годным в дело и благопотребным...
Глава 27
Подвижник ни на малое время не должен иметь власти располагать собою, чтобы предаваться собственным занятиям. Ибо, как орудие не может двигаться без художника, и член не может ни на краткое время отделиться от целого тела, или двигаться без воли внутреннего художника, правящего всем телом, так и подвижник не имеет власти что-нибудь делать или исполнять без воли настоятеля. Если же скажет, что он по немощи телесной не в силах исполнить, что ему приказано, то пусть предоставит начальнику своему испытать его немощь...
Глава 28
О том, что настоятель должен с отеческим доброжелательством устраивать нужное для пребывающих в послушании
Но и сам начальник должен, как отец, пекущийся о своих законных детях, обращать внимание на нужды каждого, и, по возможности, употреблять приличное врачевание и попечение и поддерживать с любовью и свойственным отцу доброжелательством каждый член, действительно немоществующий по душе или по телу.
Глава 29
О том, что в обществе подвижников не должно быть дружеских связей между двумя или тремя братьями
Надобно братиям иметь любовь друг к другу, но не должно двоим или троим, согласившись между собою, заводить особенные дружеские связи. Ибо это не любовь, а возмущение и разделение, и вместе доказательство порочности сдружившихся: если б они любили общее благочиние, то имели бы общую и равно внимательную любовь ко всем; а когда, отсекая и отделяя себя, они становятся обществом в обществе, то такой союз дружбы есть союз злой, и таких людей сводит что-нибудь отличающееся от общего дела, какое-нибудь нововведение против господствующего благоустройства. Посему не надобно допускать в обществах таких дружеских связей и кому-нибудь, для сохранения любви, вступать в сообщество с братом, который хочет действовать лукаво и нарушать уставы общего благочиния; а должно каждому быть в общении и единении со всеми, доколе все держатся доброго...
Глава 30
Не надобно желать себе лучшей одежды или обуви, а должно выбирать такую, которая похуже, дабы и в этом показать смиренномудрие, и не явиться любящими наряды, самолюбивыми и чуждыми братолюбия, потому что домогающийся первенства отпал от любви и смиренномудрия.
Глава 31
О том, что настоятель должен соображать свои приказания с телесными силами подчиненных, и о скрывающих свои силы
Настоятелю нужно обращать внимание на то, чтобы не делать приказаний, превышающих телесные силы, и через это безсильного не довести до прекословия. Он должен, как отец, одинаково расположенный и близкий ко всем, смотреть на телесные силы каждого, и сообразно с тем размерять и распределять свои приказания. Но величайшему осуждению подвергнутся те, которые, имея данную им от Бога телесную силу, отзываются, будто не имеют оной, и, безстыдно обманывая начальников, не повинуются их приказаниям. Ибо, если настоятель навлекает на себя великую и нестерпимую беду, когда скроет талант слова и не будет наперед объявлять каждому о мече, грядущем на грех, то несравненно большую беду навлечет на себя тот, кто, получив от Бога телесную силу для пользы общей, не употребит ее в дело и скроет.
Глава 32
Братьям не должно огорчаться и досадовать, когда настоятель поручает слабосильным служение, соответствующее их силам, и по требованию нужды оказывает им пощаду: а напротив того более сильным надобно щадить имеющих нужду в пощаде, как немощные члены, и таким образом исполнять долг духовной любви. Ибо и нога в теле не восстает против руки, не принуждает ее к своим делам, и целая рука не накладывает на мизинец тяжести своей работы: но каждый член действует тою силою, какую получил от природы, поддерживая члены слабые...
Глава 33
О том, что настоятели не должны давать воли подвижникам, оставляющим свое собрание, и принимать их в общежитие
Начальствующие над духовными обществами должны действовать в духе взаимного доброжелательства и, заботясь друг о друге, не разорять того, что устроено другими, и не принимать просто и без разбора тех, которые оставляют другие братства. Ибо это есть совершенное замешательство, расстройство и разрушение духовного дела. Так, разумнейшие из братии твердо пребывают в добре, удерживаясь страхом Божиим; а ленивые и безпечные ведутся и направляются к добру стыдом человеческим и нуждою, налагаемою от людей: посему, если безпечный увидит, что ему можно без страха убежать от трудов, назначаемых в избранном им однажды обществе, перейти в другую обитель и жить там без опасения и невоздержно, то он легко оторвется от союза, и поспешно принимающий его будет виновен в его погибели. И когда это зло размножится, то и хорошо живущих нередко будет совращать с прямого и правого пути, и погибель всех их соберется на главу того, кто подает повод к таким поползновениям. Итак, чтобы не случилось сего, будем отступающих от своих братии вразумлять и возвращать туда, откуда они вышли; если же не послушаются нас, будем беречься и отвращаться от них, избегать встречи с ними, и это же внушать и всем братьям...
...Отлучка брата из обители тогда только остается непредосудительною, когда это бывает по определению настоятеля для устроения дел монастыря...
Глава 34
О том, что подвижник, живущий в братстве, не должен приобретать чего-либо мирского в собственное свое владение
Подвижник, вступивший в описанное нами общество, должен быть свободен от всякого приобретения в собственность вещей мирских. Ибо, если не исполняет сего, то, во-первых, нарушает строгость общежития приобретением собственности, а сверх того сам на себе представляет сильное доказательство своего неверия, как не доверяющий Богу, что Он пропитает собравшихся во имя Его...
Текст печатается по изданию: Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. 3-е изд. Часть 5. Сергиев Посад, 1892. С. 343—426.
ИЗ ПИСЕМ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
К Григорию Богослову
Св. Григорию, который желал знать образ жизни и препровождение времени в Васильевой пустыне, по скромном отзыве о себе самом, излагает правила подвижнической жизни, показывает пользу уединения, чтения Писаний и молитвы, также описывает внешнюю жизнь подвижника. (Писано в начале уединения.)
Узнал я письмо твое, как узнают детей друга по примечаемому сходству с родителями. Положение места, говоришь ты, не много значит и не может в душе твоей произвести сколько-нибудь влечения к тому, чтоб жить с нами вместе, пока не узнаешь чего-нибудь о нашем образе жизни и о препровождении у нас времени. Подлинно, это — твое рассуждение, достойное твоей души, которая все здешнее ставит ни во что в сравнении с блаженством, какое уготовано нам по обетованиям.
Но я стыжусь и писать о том, что сам делаю ночь и день в этой пустыне. Ибо, хотя и оставил я городскую жизнь, как повод к тысячам зол, однако же никак не мог оставить самого себя. Но похожу на людей, которые, по непривычке к плаванию на море, приходят в изнеможение и чувствуют тошноту, жалуются на величину корабля, как на причину сильной качки, а перейдя с него в лодку или малое судно, и там страждут тошнотой и головокружением; потому что с ними вместе переходят тоска и желчь. Подобно сему в некотором отношении и мое положение: потому что, нося с собою живущие в нас страсти, везде мы с одинаковыми мятежами; а потому не много извлекаем пользы из этого одиночества.
Что же надлежало нам сделать и с чего начать, чтобы идти по следам Вождя нашего спасения? ибо Он говорит: аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет (Матф. 16, 24). — Вот что:
Надобно стараться иметь ум в безмолвии. Как глаз, который в непрестанном движении, то вертится в стороны, то обращается часто и вверх и вниз, не может ясно видеть того, что перед ним, а напротив того, если хочешь сделать, чтоб зрение его было ясно, надобно устремить взор на один видимый предмет: так и ум человеческий, если развлечен тысячами мирских забот, не может ясно усматривать истину. Как не связанного еще узами брака приводят в смятение неистовые пожелания, неудержимые влечения и какие-то мучения любви; так вступившего уже в супружество встречает новое волнение забот: когда нет детей, желание иметь их, а когда есть дети, попечение об их воспитании; охранение супруги, рачение о доме, надзор за служителями, утраты по договорам, споры с соседями, тяжбы в судах, опасности в торговле, труды в земледелии. Каждый день приносит с собою свое омрачение душе, и ночи, получая в наследство дневные заботы, обольщают ум теми же представлениями. Один только способ избежать сего; это — удаление от сего мира. А удаление от мира состоит не в том, чтоб телом быть вне мира, но чтобы душею оторваться от пристрастия к телу, не иметь у себя ни города, ни дома, ни собственности, ни товарищества, быть нестяжательным, не беспокоющимся о средствах жизни, беззаботным, избегающим всякого сношения с людьми, не знающим человеческих правил, готовым принимать напечатлеваемое в сердце божественным учением. Приуготовление же сердца состоит в отучении его от тех правил, какие заняты им из лукавого обычая, потому что и на воску нельзя писать, не изгладив положенных на нем начертаний; и душе невозможно вверить божественных догматов, не истребив в ней укорененных навыком мнений. Для сего, конечно, весьма великую пользу доставляет нам уединение, которое усыпляет в нас страсти и дает рузуму досуг совершенно отсечь их от души. Как не трудно одолевать укрощенных зверей, так пожелания, гнев, страх, скорби, эти злые ядовитые звери в душе, если усыплены они безмолвием, а не приводим их в рассвирепение постоянным раздражением, удобнее преодолеваются силою разума.
Поэтому пусть будет избрано такое место, каково, например, наше, свободное от общения с людьми, чтобы ничто постороннее не прерывало непрестанного упражнения. Упражнение же в благочестии питает душу божественными размышлениями. Поэтому что блаженнее сего — на земле подражать лику Ангелов; при самом начале дня поспешать на молитву, чествовать Создателя песнями и пениями: потом, когда воссияет совершенно солнце, принявшись за дела и везде имея при себе молитву, приправлять свои работы песнопениями, как солью; потому что песненные утешения приносят душе безпечальное и радостное упокоение?
Итак безмолвие служит для души началом очищения, когда ни язык не произносит чего-либо человеческого, ни глаза не заняты рассматриванием доброцветности и соразмерности в телах, ни слух не расслабляет душевного напряжения слушанием песней, сложенных для удовольствия, или разговорами людей шутливых и смехотворных, что, обыкновенно, всего более ослабляет душевные силы. Ум, не рассеваясь по внешним предметам и не развлекаясь миром под влиянием чувств, входит в самого себя, а от себя восходит к мысли о Боге; озаряемый же этою Добротою приходит в забвение о самой природе; душа не увлекается ни попечением о пропитании, ни беспокойством об одеждах, но, на свободе от земных забот, всю свою ревность обращает на приобретение вечных благ, на то, чтобы возрастали в ней целомудрие и мужество, справедливость и благоразумие, а равно и прочие добродетели, которые, состоя под сими родовыми добродетелями, обязывают ревнителя всякое дело в жизни исполнять должным образом.
А самый главный путь, которым отыскиваем то, к чему обязывает нас долг, есть изучение богодухновенных Писаний; потому что в них находим мы правила деятельности и в них жития блаженных мужей, представленные в письменах, подобно каким-то одушевленным картинам жизни по Богу, предлагаются нам для подражания добрым делам. Поэтому, в чем бы кто ни сознавал себя недостаточным, занимаясь Писанием, в нем, как в общей какой врачебнице, находит врачевство, пригодное своему недугу. И любитель целомудрия часто перечитывает историю об Иосифе, у него учится целомудренным поступкам, находя его не только воздерживающимся от удовольствий, но по навыку расположенным к добродетели. А мужеству обучается у Иова, который, при несчастном перевороте его жизни, в одно мгновение сделавшись из богатого бедным и из благочадного безчадным, не только сам в себе не переменился, сохраняя во всем возвышенный образ мыслей, но даже без огорчения перенес и то, что друзья, пришедши для утешения, ругались над ним и усугубляли скорбь его. Опять, кто имеет в виду, как в то же время быть и кротким и великодушным, чтобы против греха действовать гневом, а на людей — кротостию, тот найдет Давида мужественным в военных подвигах, но кротким и неколебимым при воздаянии врагам. Таков и Моисей, который с великим гневом восстает на согрешивших пред Богом, но с кротким сердцем переносит клеветы на него самого. И как живописцы, когда пишут картину с картины, часто всматриваясь в подлинник, стараются черты его перенести в свое произведение, так и возревновавший о том, чтобы соделаться совершенным во всех частях добродетели, должен при всяком случае всматриваться в жития святых, как бы в движущиеся и действующие какие изваяния, и что в них доброго, то чрез подражание делать своим.
Опять, если за чтениями следуют молитвы, то душа, движимая любовию к Богу, приступает к ним бодрее и зрелее. Прекрасна же молитва, уясняющая в душе мысль о Боге. А посредством памятования водруженная в нас мысль о Боге есть вселение в нас самого Бога. Таким образом делаемся мы храмом Божиим, когда непрестанное памятование не прерывается земными заботами и ум не возмущается внезапными страстными движениями, но избегающий всего боголюбец уединяется в Боге, отражая от себя страсти, приманивающие его к невоздержанию, и проводит время в занятиях, ведущих к добродетели.
И прежде всего надобно стараться не быть невеждою в употреблении дара слова, но спрашивать без любоприятельности, а отвечать без надменности, не прерывая собеседующего, когда говорит что полезное, без желания бросить от себя на показ слово, назначая меру и слову и слуху; надобно учиться не стыдясь, учить не скупясь, и если что узнал от другого, не скрывать сего, уподобляясь негодным женщинам, которые подкидывают незаконнорожденных детей, но с признательностию объявлять, кто отец слова. В напряжении голоса должна быть предпочитаема середина, чтобы при малом напряжении не оставался он неслышным и при большем усилении не делался несносным. Надобно самому с собою обдумывать, что будешь говорить, и потом уже пускать слово в народ. При встречах должно быть приветливым, в разговорах приятным, не шутливостию подслащая речь, но сообщая ей усладительность радушием совета. Во всяком случае, хотя бы надлежало сделать и выговор, надобно избегать жесткости; ибо, если сам себя унизишь по смиренномудрию, то найдешь удобный доступ к имеющему нужду в уврачевании. А часто полезен нам и тот способ выговора, какой употреблен пророком, который согрешившему Давиду не от себя произнес определение осуждения, но, употребив вводное лице, сделал самого Давида судиею собственного своего греха; так что сам на себя произнесши осуждение, не жаловался он уже на обличителя.
Смиренному и сокрушенному образу мыслей приличны взор печальный и потупленный в землю, небрежность о наружности, волосы непричесанные, одежда немытая. Что плачущие делают с намерением, то у нас должно выказываться не намеренно. Надобно, чтобы хитон был собран на теле поясом, впрочем подпояска лежала не выше чресл (это было бы женоподобно) и не так слабо стягивалась, чтобы хитон мог развеваться (это было бы изнеженно). Походка должна быть не медленная, которая бы изобличала душевное расслабление, и опять не скорая и торопливая, которая бы обнаруживала исступленные движения души. Цель одежды одна — служить для плоти покровом, достаточным зимою и летом. Но не гоняйся за приятностию в цвете, за тонкостию и мягкостию в отделке. Ибо разбирать доброцветность одежды есть то же щегольство, каким заняты женщины, которые и щеки и волосы у себя окрашивают в чужой цвет. Напротив того полезно, если хитон имеет столько толщины, что надевший его может согреться, не имея нужды в другом. Обувь должна быть по цене дешевая, но достаточно удовлетворяющая потребности. Одним словом, как в одежде надобно предпочитать необходимое, так в пище удовлетворит нужде хлеб, жажду утолит у здорового вода, и еще варения из семян могут поддерживать в теле крепость для необходимых потребностей. А пищу вкушать должно, не выказывая бешеной жадности, но во всем соблюдая твердость, кротость и воздержность от удовольствий, даже в это самое время имея ум непраздный от мысли о Боге; напротив же того самое свойство снедей и устройство приемлющего их тела надобно обращать в предлог к славословию Домостроителя вселенной, Которым примышлены различные роды снедей, приспособленные к свойству тел. Молитвы пред вкушением пищи должно совершать достойно даров Божиих, какие и теперь подаются и сберегаются на будущее время. Молитвы по вкушении пищи пусть содержат в себе и благодарение за дарованное, и прошение обетованного. На принятие пищи должен быть назначаем один определенный час, и при том один и тот же в продолжении известного срока, так чтобы из двадцати четырех часов в сутках он только один употребляем был для тела, все же прочие часы проводил подвижник в умном делании.
Сон должен быть легкий, от которого без труда можно пробудиться и какой естественным образом следует после малого вкушения пищи; его с намерением надобно прерывать попечениями о делах важных. А погружение в глубокое усыпление до расслабления членов, чем дается время неразумным мечтаниям, предает спящего таким образом ежедневной смерти. Напротив того, на что другими употребляется утро, на то подвижникам благочестия служит полночь; потому что ночное безмолвие всего более дает свободу душе, когда ни глаза, ни уши не передают сердцу вредных зрелищ или слухов, но ум наедине пребывает с Богом, и как исправляет себя припоминанием соделанных грехов, так предписывает себе правила к уклонению от зла и к совершению преднамеренного испрашивает содействия у Бога.
(а) Таково мое тебе сказание братской любви, о любезная глава! А ты соблаговоли вознаградить меня святыми своими молитвами, чтобы спастись мне от настоящего лукавого века, и от безрассудных людей, освободившись же от всякого греха, а лучше сказать, отделившись от самого врага и наветника нашей жизни, чистым сердцем узреть в познании Бога всяческих, по благодати Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.
О СОВЕРШЕНСТВЕ МОНАШЕСКОЙ ЖИЗНИ
(Писано, по-видимому, в 366 г.)
В богодухновенном Писании много правил, которые обязаны наблюдать возревновавшие о благоугождении Богу. Но я почел необходимым сделать краткое напоминание, по указанию самого богодухновенного Писания, пока о тех только обязанностях, о которых у вас теперь предложен вопрос. И поелику свидетельство о каждой обязанности найти в Писании не трудно, то предоставляю сие тем, которые упражняются в чтении Писания и сами в состоянии напоминать даже другим следующее:
Христианин должен иметь образ мыслей, достойный небесного звания, и жить достойно Евангелия Христова. Христианину не должно рассеиваться и чем-либо отвлекаться от
памятования о Боге, о воле и судах Его. Христианин, став во всем выше оправданий по Закону, не должен ни клясться, ни лгать. Он не должен хулить; не должен обижать; не должен ссориться; не должен мстить сам за себя; не должен воздавать злом за зло; не должен гневаться. Он должен быть долготерпеливым, переносить все, что бы то ни было; а кто делает неправду, того обличать благовременно, не с страстным движением, чтобы отомстить за себя, но с желанием исправить брата, по заповеди Господней. Об отсутствующем брате не должен он ничего говорить с намерением очернить; это есть клевета, хотя бы сказанное было и справедливо. Надобно отвращаться от человека, который наговаривает на брата. Не должно говорить шуточного. Не должно смеяться и терпеть смехотворцев. Не должно празднословить и говорить что-нибудь такое, что не служит ни к пользе слушающих, ни к необходимому и дозволенному нам Богом употреблению; почему занимающиеся работою должны, сколько можно, стараться, чтоб работа производилась в безмолвии и чтобы самые даже добрые речи вели у них те, кому по испытании поручено устроить слово к созиданию веры, да не будет оскорбляем Дух Святый Божий. Никто из пришлых не должен самовольно подходить к кому-либо из братии или разговаривать с ним, пока приставленные смотреть за общим во всем благочинением не рассудят, угодно ли сие Богу к общей пользе.
Не должно порабощаться вину, желать вкушения мяс и вообще быть сластолюбивым в рассуждении яств или пития; потому что подвизающийся воздерживается во всем. Данного каждому в употребление не должно почитать собственностию или припрятывать; но с заботливостию надобно смотреть на все сие, как на принадлежащее Владыке, и не проходить без внимания даже мимо того, что по случаю брошено или оставлено в небрежении.
Никто не должен быть господином даже себе самому; но каждый, как отданный Богом в услужение единодушным братиям, сообразно с сим обязан и рассуждать обо всем и делать все, впрочем, пребывая в собственном своем чине. Не должно роптать ни при недостатке потребного, ни при утомлении от дел; потому что судят о каждом те, кому предоставлена на сие власть.
Не должно дозволять себе ни крика, ни другого какого вида или движения, которыми показываются раздражительность или уклонение от несомненной уверенности, в Божием присутствии. Голос должно соразмерять с потребностию. Не должно отвечать кому-либо или делать что-нибудь дерзко или презрительно, но надобно показывать во всем скромность и ко всем почтительность. Не должно с умыслом мигать глазом или употреблять другой какой знак или движение члена, которые оскорбляют брата или выказывают презрение.
Не должно стараться о нарядности в одежде или в обуви, это — суетность. К удовлетворению телесных потребностей должно пользоваться не дорогим. Ничего не должно издерживать сверх потребности и для пышности: это — злоупотребление.
Не должно искать чести и домогаться первенства. Каждый должен предпочитать себе всех. Не должно быть непокорным.
Не должно в праздности есть хлеб тому, кто способен работать, а занявшийся исполнением чего-либо в славу Христову должен принуждать себя к ревности в деле, по мере сил. Каждый должен, с одобрения настоятелей, с разумом и убеждением так делать все, не исключая вкушения пищи и пития, как бы делалось сие в славу Божию. Не должно от одного дела переходить к другому без одобрения тех, кто приставлен распоряжаться сим, разве неминуемая нужда позовет кого вдруг на помощь обессилевшему. Каждый обязан пребывать в том, к чему приставлен, а не должен, преступая меру собственной обязанности, приниматься за непорученное ему, разве имеющие власть распоряжаться сим признают кого нуждающимся в его помощи. В одной рабочей не надобно никому быть из другой рабочей. Не должно ничего делать из соперничества или по ссоре с кем-нибудь.
Не должно завидовать доброй славе другого и радоваться чьему-либо недостатку. В любви Христовой надобно скорбеть и сокрушаться о недостатках брата, радоваться же его преуспеянию. Не должно равнодушно смотреть на согрешающих или умалчивать о них. Обличающий должен обличать со всяким сердоболием, в страхе Божием, и в намерении обратить грешника. Обличаемый или получающий выговор должен принимать сие охотно, признавая, что в исправлении состоит собственная его польза. Когда обвиняют кого, никто другой при обвиняемом, или и при других, не должен делать возражений обвиняющему. А если кому обвинение кажется неосновательным, то должен повести слово с обвинителем наедине и убедить его или сам убедиться. Каждый, сколько есть у него сил, должен врачевать того, кто имеет что-нибудь против него. На согрешившего и покаявшегося не должно помнить зла, а надобно простить ему от сердца.
Кто говорит, что покаялся в грехе, тот должен не только сокрушаться о том, в чем согрешил, но и принести достойные плоды покаяния. Кто вразумлен был касательно прежних своих грехов и сподобился получить отпущение оных, тот, если грешит опять, уготовляет себе суд гнева строжайший прежнего. Кто по первом и втором увещании остается в своем прегрешении, о том надобно объявить настоятелю и тогда, получив выговор при многих, придет, может быть, в стыд. А если и в таком случае не исправится, надобно уже отсечь его, как соблазн, и смотреть на него, как на язычника и мытаря, для приведения в безопасность ревностно трудящихся в прохождении послушания, по сказанному, что при падении нечестивых приходят в страх праведные. Но должно и плакать о нем, как о члене, отсеченном от тела.
Не должно допускать, чтобы солнце заходило в гневе брата; иначе ночь может разлучить обоих и оставить им неизбежное осуждение в день суда. Не должно отлагать времени своего исправления; потому что утрешний день не верен для нас: многие, замыслив многое, не дожили до утрешнего дня.
Не должно даваться в обман пресыщенному чреву, от которого бывают ночные мечтания. Не должно развлекаться непомерною работою и преступать пределы умеренности, по сказанному Апостолом; имеюще же пищу и одеяние, сим доволъни будем (1 Тим, 6, 8); потому что обилие сверх потребности выказывает любостяжательность; а любостяжательность осуждается как идолопоклонство (Кол. 3, 5). Не должно быть сребролюбивым и на ненужное собирать сокровища, каких не надобно. Приходящий к Богу должен возлюбить нищету во всем и быть пригвожден страхом Божиим, подобно сказавшему: пригвозди страху Твоему плоти моя; от судеб бо Твоих убояхся (Псал. 118, 120).
Да дарует же вам Господь, со всем убеждением приняв сказанное, во славу Божию явить плоды, достойные Духа, по благоволению Бога и содействием Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Дружески и с любовию выговаривает Афанасию, что, не переписавшись и не объяснившись с ним лично, или чрез людей близких, открыто порицает Василия, грозит ему и всем приходящим из Каппадокии разглашает, будто бы св. Василий пишет что-то зловредное. (Писано прежде 369 г.)
Некоторые, пришедшие к нам из Анкиры (а их много, трудно даже и перечислить, притом все говорят единогласно), известили меня, что ты, любезная глава (как почтительнее выразить мне это?), не с приятностию и не по обыкновению своему воспоминаешь обо мне. Но меня, как известно тебе, не поражает ничто человеческое, и всякая перемена не неожиданна для человека, который давно изведал немощь естества и удобство из одной противоположности переходить в другую. Поэтому не ставлю того в велико, если изменилось нечто в наших отношениях, и вместо прежней себе чести слышу теперь укоризны и оскорбления. Показалось же мне действительно странным и необычайным твое ко мне до того изменившееся расположение, что гневаешься и досадуешь на меня, даже, как говорят слышавшие, грозишь мне чем-то. Угрозам этим, скажу правду, много я смеялся. И совершенно стал бы ребенком, если бы убоялся подобных страхований. Страшным же и много озабочивающим почел я то, что твоя во всем точность, которая, как был я уверен, соблюдена к утешению Церквей, быть опорою правой веры и семенем древней и истинной любви, столько заимствовалась из настоящего положения дел, что хулы каких ни есть людей для тебя важнее дознанного обо мне долговременным опытом, и ты без доказательств увлекаешься в нелепые подозрения. Что еще говорю: в подозрения? Кто негодует и грозит, как сказывают это о тебе, тот, по-видимому, обнаруживает в себе гнев не подозревающего, но ясно и неоспоримо уже уверившегося.
Но, как сказал я, причину сего приписываю настоящему времени. Ибо великий ли был труд, чудный мой, переговорить со мною, о чем бы то ни было, в кратком письме как бы одному на один, или, если не хотел доверить подобного дела письму, вызвать меня к себе? А если непременно должно было вывести дело наружу и неудержимость гнева не давала времени к отсрочке, то можно было к объяснению со мною употребить посредников кого-либо одного из людей близких и обыкших хранить тайну. Но теперь кому из приходящих к вам, по какой бы то ни было нужде, не разглашают, будто бы пишу и слагаю что-то зловредное? А как утверждают пересказывающие речи твои слово в слово, тобою употреблено это самое речение.
Но сколько ни думаю сам с собою, ни чем не могу объяснить себе этого. Почему приходит в ум и такого рода мысль: не из еретиков ли кто, злонамеренно подписав мое имя под своими сочинениями, огорчил правоту веры твоей и вынудил у тебя такое слово? А что писано мною против осмелившихся утверждать, что Сын и Бог в сущности не подобен Богу и Отцу, или против говоривших хульно, что Дух Святый есть тварь и произведение, на то, конечно, не согласился бы произнести сей укоризны ты, который подъял великие и славные подвиги за православие. Но сам ты разрешишь мое недоумение, если соблаговолишь ясно сказать имя того, кто ввел тебя в огорчение против меня.
Печатается по изданию: Творения святых отцов в русском переводе, издаваемые при Московской Духовной академии. Т. 10. Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Часть 6. М., 1849. С. 6—15, 60-66, 70-72.
ИГУМЕНАМ СЕРГИЮ И ФЕОДОРУ
Киприан, милостию Божиею митрополит всея Руси, — честному старцю игумену Сергию и игумену Феодору и аще кто ин единомудрен с вами.
Не утаилося от вас и от всего рода християньского, елико створилося надо мною, еже не створилося есть ни над единым святителем, како Руская земля стала. Яз Божиим изволением и избранием великаго и святаго сбора и благословением и ставлением вселеньскаго патриарха поставлен есмь митрополит на всю Рускую землю, а вся вселенная ведаеть. И нынече поехал есмь был со всем чистосердием и з доброхотением к князю великому. И он послы ваша разослал мене не пропустити и еще заставил заставы, рати сбив и воеводы пред ними поставив, и елика зла надо мною деяти — еще же и смерти предати нас немилостивно — тех научи и наказа же. Аз же, его безъчестия и души его болши стрега, иным путем пройдох, на свое чистосердие надеяся и на свою любовь, еже имел есмь к князю великому, и к его княгини, и к его детем. Он же пристави надо мною мучителя, проклятаго Никифора. И которое зло остави, еже не сдея над мною! Хулы, и наругания, и насмехания, грабле-ниа, голод! Мене в ночи заточил нагаго и голодного. И от тоя ночи студени и нынеча стражу. Слуги же моя — над многим и злым, что над ними издХяли, отпуская их на клячах либивых беседел во обротех лычных, — из города вывели ограбленых и до сорочки, и до ножев, и до" ногавиць, и сапогов и киверев не оставили на них! Тако ли не обретеся никто же на Москове добра похотети души князя вели-каго и всей отчине его? «Вси ли уклонишася вкупе и непотребне быша?»
Створится князю великому, что клячи отданы, а того не ведаеть, что от 40 и штий коний ни един не осталъся цел — все заморили, похромили и перварили, ганяся на них куды хотели, и нынече теряются.
И аще миряне блюдутся князя, занеже у них жены и дети, стяжания и богатъства, и того не хотять погубити, — яко и сам Спас глаголеть: «Удобь есть вельблуду сквозе иглинеи уши пройти, неже богату в царьство небесное внити», — вы же, иже мира отреклися есте и иже в мире и живете единому Богу, како, толику злобу видив, умолчали есте? Аще хощете добра души князя великаго и всей отчине его, почто умолчали есте? Растерзали бы есте одежи своя, глаголали бы есте пред цари, не стыдяся! Аще быша вас послушали, добро бы. Аще быша вас убили, и вы — святи. Не весте ли, яко грех людьский на князи, и княжьский грех на люди нападаеть? Не весте ли Писание, глаголющее, яко аще шютьскых родитель клятва на чада чадом падаеть, колми паче духовных отець клятва? — И та сама основания подвиже и пагуби предаеть. Како же ли молчанием преминуете, видяще место святое поругаемо, по Писанию, глаголющему: «Мерзость запустения, стояще на месте святем»?
Сице ли почли суть князь и бояре митрополии и гробы святых митрополитов? Тако ли несть кого прочитающаго божественая правила? Не весте ли, что пишеть?
Святых апостол правило 76 глаголеть сице, яко: «Не подобает святителю брату, или сыну, или иному сроднику, или другу даровати и на святительское достояние поставляти его же хощеть. Наследники бо своего епископьства творити неправедно есть и Божия даровати пристрастием человечьскых. Не подобаеть бо Божию церковь под наследники подъкладати. Аще же кто таково створить, разрушоно таковое поставление да будет. Сам же створивый да отлучен будеть».
Послушайте же толкование сего правила что глаголеть. Святительское достояние Святаго Духа благодать, дар мнети подобает. Како убо дерьзнеть кто благодать духовную яко наследие предати кому дарованиемъ? Сего ради непрощено есть епископим в себе место их же хотять в своих церквах поставляти и посажати. Котории бо яже стяжаша имения в своего епископьства времени не имут власти оставляти им же хотят, не токмо яже от наследия сродников пребывша им, яко же 32 правило иже в Карфагени сбора рече, то и како самую епископью ко иным предадять яко наследником своим пастырьскыя власти и строения нищих, имения оставляющих, и, пристрастия ради человечьскаго, или дружбы, или любве ради сродничьныя, яже Богови освящена суть подаровають им же хотять? Аще убо от некоего таковое что створится, створеному бо разрушену быти правила повелевають, створивый же отлучен да будеть. Епископъм бо от сборов поставлятися повелено бысть.
И 23 правило Антиохийскаго сбора тако глаголеть: «Не подобаеть епископу, аще и на конець жития своего, иного оставляти наследника в себе место». Се же и израильтяном отречено бысть. На Моисиа бо яко вину въскладають, зане Арона и сын его на священничьство възведе. И аще бы Бог не знамением священьничьство их укрепил, изгнани быша были святительства.
И смотри же и святых апостол правило 29-е что глаголеть: «Аще который епископ мьзды ради сана святительска-го приобрящеть, или прозвитер, или диакон, да отлучится и сам, и поставивый его, и да отсечен будеть от святаго причастия оттинуд, яко Симон вълхъв мною, Петром».
Тожде глаголеть и 30-е правило тех же святых апостол. Глаголеть сице: «Аще который епископ мирьскых князий помощию святительство приобрящеть, да извержень и отлучен будеть, и способници ему вси».
Назнаменати лепо есть: когда вдвоицею казнен бываеть вкупе священник, или паче — по святемь Генадии патриархи Новаго Рима — трижда вкупе?
Слышите и толкованиа тому же — в 25-мь правиле речено бысть: «Не подобаеть двократы мыцати о едином». Сде же и в обою правилу сею сугубо наводить казни злобы ради преумножения и прегрешениих тяжести.
Ничто же есть убо злейшее сего, еже божественое дарование куплением себе приобретаеть, мьздою или силою княжьскою. Тако же и продаяй то яко раба вменяеть святаго духа дар. Яко же в сборном послании Тарасьеви, святей-шаго патриарха Костянтинаграда, к папе старейшаго Рима Андреянови тако писано есть: «Отраднее будеть Макидонию и прочим духоборцем, неже симъ; они бо тварь и раба Божия и отца святаго духа благословяху, а сии раба себе створять его; еже бо аще кто продаеть, и купляй его владыка хощеть быти купимому, ценою бо сребреною притяживаеть то».
Тако бы суть непрощена прегрешения такова! И того ради купующеи и продающей мьздою или силою княжьскою святительство — и обои извержени и от церкви оттинуд отлучени и изгнани бывают. Святаго же патриарха Генадия послание и проклятием таковыа осужаеть, сице бо глаголеть: «Да будеть отречен таковый и всякого священьскаго достояния же и службы лишен и проклятию и анафеме предань будеть. И приемляй куплению благодать святаго духа, и продаваяй — аще клирик, аще простець — да будеть проклят».
Се слышите правила и заповеди святых апостол и святых отець. Кто же христианин и святым именем Христовым именуяся, смееть дрьзнути инако глаголати? Зане пишеть в Святем писании, яко: «Вся, яже чрес церковнаго предания и учительства и въображениа святых и приснопамятных отець обнавляема и творима или по сем сдеятися хотяща, анафема да будеть». И по других глаголех, яко: «Иже в небрежение полагающим священная и божественая правила блаженых отець наших, иже святую церковь утвержають и, все христианьское жительство украшающе, к божественому наставляють благоговеньству, анафема да будеть».
Сим сице имущим, как у вас стоить на митрополице месте чернець в манатии святительской и в клобуце, и перемонатка святительская на нем, и посох в руках? И где се бещиние и злое дело слышалося? Ни в которых книгах.
Аще брать мой преставилъся, аз есмь святитель на его место. Моя есть митрополия. Не умети было ему наследника оставляти при своей смерти. Коли слышалося преже поставления възлагати на кого святительскыя одежи, их же нелзе иному никому же носити, но токмо святителем единем! Како же ли смееть стояти на месте святительскомъ? Не блюдеть ли ся казни Божиа? А еще страшно и трепетно и всякиа грозы исполнено еже створить: садится в святом олтари на наместном месте! Веруйте, братия, яко лучше бы ему не родитися. И аще долго терпить Бог и не низъпосылаеть казнь, к вечной муце готовить таковых.
А что клеплють митрополита, брата нашего, — что он благословил есть его на та вся дела, тъ есть лжа. Понеже пишить 34-е правило святых апостол и Антиохийскаго сбора правило 9-е, съгласующе сему, глаголет бо: «Кроме болшаго своего да не творять епископи ничто же, разве своего предела кождо, ни же болший, не сущим иным, — за единьство». Или утаилося есть нам, како учинилося есть на смерти ми-трополичи? Виде грамоту, записал митрополит, умирая. А та грамота будеть с нами на Великом сборе.
А се буди вам сведомо. Полтретия лета мне в святительстве; а как выехал есмь на Киев — две лете и 14 дний до сего дни, иже есть иуня месяца 23 день. Не вышло из моих уст слово на князя на великого на Дмитрия ни до ставления, ни по поставлении, ни на его княгыню, ни на его бояре. Ни доканчивал есмь с ким иному добра хотети боле его — ни делом, ни словом, ни помыслом. Несть моеа вины пред ним. Паче же молил есмь Бога о нем, и о княгини, и о детех его, и любил есмь от всего сердца, и добра хотел есмь ему и всей отчине его. И аще кого услышал есмь где пригадывающа на его лихо, неневидел есмь его. А коли где пригажаломися сборова, ему болшее место велель есмь «многа лета» пети, а да потом иным.
Аще кого в полону отведена где изнашел есмь из его отчины, колка сила моя была, выимая от погани, отпускал есмь. Кашинцев нашел есмь в Литви, два года в погребе седящих, и княгини деля великой вынял есмь их како мога, клячи под них подав есмь и отпустил их есмь зятю ея, князю кашиньскому.
Которую вину нашел есть на мне князь великий? Чим яз ему виновать или отчине его? Яз к нему ехал есмь благословити его, и княгиню его, и дети его, и бояр его, и всю отчину его, и жити ми с ним в своей митрополии, како и моя братия с отцем его и з дедом, с князьми великими. А еще с дары честными хотел есмь дарити. Кладет на мене вины, что был есмь в Литве первое. И которое лихо учинил есмь, быв тамо? Не зазря же ми никто же, — что иму говорити.
Аще был есмь в Литве, много христиан горькаго пленениа освободил есмь. Мнозе от невидящих Бога познали нами истиннаго Бога и к православной вере святым крещением пришли. Церкви святыа ставил есмь. Христианьство утвердил есмь. Места церковная, запустошена давными леты, оправил есмь приложити к митрополии всея Руси. Новый Городок литовьскый давно отпал, и яз его оправил и десятину доспел к митрополии же и села. В Велыньской же земли тако же: колько лет стояла Володимерьская епископиа без владыки, запустошала; и яз владыку поставил и места исправил. Тако же отприснаа села софийская отпала к князем и к бояром, и язь тых доискываюся. И оправдаю, чтобы по моей смерти было кого Бог оправдаеть.
Будь вам сведомо, что брату нашему Одеюрееви мивропродиву* не волно было сласти ни в Велыньскую землю, ни в Литовьскую владыку которого, или звати, или дозрети которое дело церковное, или поучити, или посварити на кого, или казнити виноватаго — или владыку, или архимандрита, или игумена — или князя поучити, или боярина. Святительским недозиранием которыйждо владыко, не блюдася, по своей воли ходил как хотел. А попове и черньци и вси христиане — как животина бес пастуха.
Ныне же, Божиею помощью, нашим потружанием, оправилося церковное дело. И годилося князю великому нас с радостию прияти, занеже в том болша ему честь. Яз потружаюся отпадшая место приложите к митрополии и хочю укрепити, чтобы до века так стояло на честь и на величьство митрополии. Князь же великий гадает двоити митрополию. Которое величьство прибудеть ему от гадкы? Хто же ли се пригадываеть ему?
Которая есть моя вина перед князем перед великимъ? Надеяся на Бога: не найдеть в мне вины ни единыя. И аще ли бы вина моя дошла которая, ни годится князем казнити святителевъ: есть у мене патриарх, болший над нами, есть Великий сбор; и он бы тамо послал вины моя; и они бы с неправою мене не казнили. А се ныне без вины мене обещестил, пограбил, запрев, держаль голодна и нага, а черньци мои на другом месте. Слуг моих опрочь мене заточил у ночи. А слуг моих нагих отслати велел с бещестными словесы. И хто можеть изрещи хулы, их же на мя изрекли! Се ли въздасть мне князь великий за любовь мою и доброхотение?
Слышите же, что глаголеть сбор святый, иже Первовторый именуемый, събравшися в храм Божий Слова Премудрости, рекше в Святей Софии. Глаголеть бо того сбора святаго правило 3-ее сице: «Аще кто от мирьскых, огосподився и преобидив убо божественых и царскых повелений, преобидив же и страшных церковных обычаев и законоположений, дерзнеть святителя кого бити, или запрети — или виною, или замыслив вину, — таковый да будеть проклят».
Сицево аз ныне пострадал еемь. Сде святый сбор проклинаеть, аще и вину каковую притворять святителю. Мне же которую вину изнайдоша, запревше мене в единою клети за сторожьми? И ни же до церкви имель есмь выхода. Потом же, смеръкшуся другому дневи, пришедше, изведоша мене, не ведящу мне, камо ведуть мене: на убиение ли, или на потопление? А еще бещестнейше: мене ведуще, и сторожеве, и проклятый Никифор воевода — одежами моих слуг оболчени и на их коних и седлех ехающе.
Слыши небо и земля и вси християне, что створиша над мною христиане!
Что же ли створиша патриаршим послом, хуляще на патриарха, и на царя, и на сбор Великий! Патриарха литвином назвали, царя тако же, и всечестный сбор вселеньский. И яз, колика сила, хотель есм, чтобы злоба утишилася. Тъ Бог ведаеть, что любил еемь от чистаго сердца князя великаго Дмитрия и добра ми было хотети ему и до своего живота.
А понеже таковое беществие възложили на мене и на мое святительство, — от благодати, даныя ми от Пресвятыя и Живоначалныя Троица, по правилом святых отець и божественых апостол, елици причастии суть моему иманию, и запиранию, и бещестию, и хулению, елици на тот свет свешали, дв оудушь отдумени* и неблагословении от мене, Киприана, митрополита всея Руси, и прокляти, по правилом святых отець!
И хто покусится сию грамоту сжещи или затаити, и тот таков.
Вы же, честнии старци и игумени, отпишите ми наборзе, да угонит мене ваша грамота наборзе, что мудрьствуете, понеже сде се еемь не благословил.
А ко Царюгоруду еду оборонитися Богом и святым патриархом и Великим сбором. И тии на куны надеются и на фрязы, аз же на Бога и на свою правду.
Писано же си грамота мною месяца иуня в 23 день в лето 6886, индикта перваго.
Мне же их бещестие болшу честь приложило по всей земли и в Царигороде.
Печатается по изданию: Памятники литературы Древней Руси. XIV — середина XV века. М., 1981. С. 430-442 (подготовка текста Г. М. Прохорова).
УСТАВНАЯ ГРАМОТА ЭКЗАРХА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
ПАТРИАРХА НИЛА СУЗДАЛЬСКОГО АРХИЕПИСКОПА ДИОНИСИЯ ОБЩЕЖИТЕЛЬНОМУ ПСКОВСКОМУ СНЕТОГОРСКОМУ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ МОНАСТЫРЮ.
ПСКОВ. (1383 г., ФЕВРАЛЬ)
Богу поспевающу и слово утвержающу слова ради, и Святым Духом свершаюшу, якоже заповеда всесвятый патриярх вселенскый, пекийся душами человечьскыми, учити и наказати, и управити, по божественым заповедем евангельскым добре живущаа укрепляти и благословити, съвратившая же ся възвратити на путь правый, сиречь на добродетельное житие, еже уставиша святии и богоноснии отци общее житие, по Великому Пахомию, еже ангел Божий, и по Великому Василию, еже два чина вписа мнишьскаго жития, пустынный и общее житие, еже похвалили паче пустыннаго, и святый Ефрем тако пишет, и святый Иоан, божественныя Лествица списатель, наипаче утверди и украси различно премудростьными наказании.
Пришедьшю же ми посланием всесвятого патриарха вселенскаго в богохранимый град Псков о исправлении о отлучившихся съборныя апостольскыя Христови церкви и на утвержение и на исправление священником и честным монастырем, и всем христоименитым людем, и слышахом о честном манастыри Пресвятыя Богородица, еже именуется Снетнаа Гора, общеживущим. И възрадовахся душею зело и възвеселихся попремногу. С тщанием идох и видих, и благослових от вселенскаго патриарха. И обретох я неисправляющася в всем божественаго писаниа и богоносных отець уставы — ово творящя, ово же оставляюща о божественом общем житии и о свершении мнишскаго устава, и о высоте бестрастия. Умолен бых от преподобнаго игумена, ту суща, яже о Христе братьи, направити съвратившаяся и наказати ненаказаныя.
Аз, Дионисий архиепископ сужьдальскый, по повелению всесвятого патриарха вселенскаго, възрев в Номоканон, во правила святых отець яже о божественом общем житии, понових и уставих препущенаа небрежением, в обиду святых отець уставы. Якоже рече правило еже в 5-м сборе: «Мнихом ничто же подобает своего имети, но все свое предати монастырю в власть». Рече богогласный Лука о веровавших Христу и мнишьское житие исправившим: «Яко ни един кто что от своего глаголаше его быти, но беша всем обща». Тем же, хотящим мнишьствовати, дати сущаа и приимати потребы. По пострижении же впадающим к нему всем манастырю имети власть: ни о чем же о своем пещися или рядити сим попущаеться. Аще кто купить стяжание кое, еже не причастно монастыревы, свое творя, си убо игуменом или епископом да въсприимутся, и многим дерзновением продаемо и убогим и немощным, клосным да раздается таковое стяжание. Поне когда Ананьи украсти поучившася, о приносимом запрещением повеле святый сбор уцеломудрити. Аще часты сребра уем от своих, не всего у ног апостольскых положив, умре, что подобает рещи о тех, иже не всего собе и приносяще Богови, но часть убо приносяще Богу, часть же своим похотем работающа, их же обрящеть болше томление якоже силну сушу Богу душу и тело и погубити? Иже в мнишьскый святый образ одении в манастырех сущих, и ни словом леть рещи: се твое, а се мое, или сего и оного. Ибо 5000 суще простьци и вся обща имяху, никто же своему что быти веща. Боле паче в общем житии, в монастыри не нарицати: а се мое. Кде же суть от плевел сеющаго диявола възрастъша в общем житии, глаголемыя отарица, не достоит нарицати общим, но разбойник седалища, и священнокрадениа и всея злобы неприязньны зделници. Сего бо ради наречется обыцее житие, да все обще имут, и ни единому имети диавольска начинания и своя попечениа пакостнаа и безумнаа, якоже и во святых Великий Василий глаголеть: «Яко имеяй во монастыри свое что в келий, велико или мало, чюжего себе Божия церкви створи, и Господня любве такоже чюж есть: полезнее убо есть с малыми разумными жити, неже с многими безщинными, преобидяща заповеди Господня».
Ныне же впадшаа в сия великаа съгрешения, прежереченаа правила святых отець преступльшаго невидением, аще начнуть каятися достойно и обещаются в та же великаа съгрешениа не впадати, аз, смиреный архиепископ Дионисий суждальскый, и благословением всесвятого патриарха прощаю отселе по повелению всесвятого патриарха вселень-скаго в честнем семь монастыри Святыя Богородица на Снетной Горе уставихом ти в монастыри сем честнем ничто же своего ни игумену, ни братии, но все отдати Богу и Святей Богородици в монастырь. Ни ести в келий, ни пити, не у келаря просити, а келарю не дати, ни клучнику не дати никому же ничего же без игуменова слова. Ести же и пити в трапезе вкупе всем. Опричь же тряпезе ни ясти ни пити никако же ни до обеда, ни по обедех, а допияна никако же не пити. А одеяние потребное имати у въигумена, обычный, а не немечскых сукон. А шюбы бораньи носити бес пуху, и обувь и до онущь имати въи у игумена, а лишних одежь не держати. А в церкви по правилу и по уставу святых отець да поют. А на службу идеже аще послеть мниха, без ослушания да идет, а без благословенна игуменя никако же не ходить никуды. Послушание же и покорение име в всем игумену. Аще кто въпреки начнет глаголати игумену и въздвигати начнет свары, заперт таковый да будет в темници, дондеже покается. А непокориваго мниха по первом и вторем, и третием наказании выженут его из манастыря да не вдадут ему от внесенаго в монастырь ничто же.
Се же от многа мало писахом вам. А прочее же обрящете в книгах святого Великаго Василиа Кесарийскаго и святого Ефрема, и святого Ивана Лествичника, и святого Феодора Студийскаго, и прочих святых отець — о послушании и о смирении, и о прочих добродетелех, яже свершивше милость Божию получите и Святыя Богородица и благословение всесвятого патриарха вселенскаго, и она будущаа благаа, яже уготова Бог любящим его.
Приде же в слухи наша и се, яко ктитор сего честнаго монастыря, рекше создатель, создав сий монастырь и братью совъкупив, и устав въведе святых отець, общее житие, яже многым наказанием известив и клятвами утвердив, еже есть на спасение душам человечьскым, пребывающим во монастыри сем честнем, и всем христоименитым людем на ползу и похвалу, пребывающим в богохранимом сем граде Пьскове: се аз, поновляя, пишю на утвержение сей грамоте, яко кто дерзнет помышлити благое се уставление превратите лукавым обычаем, будет под тягостию отлучение пресвятого патриарха вселеньскаго.
Текст печатается по изданию: Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI в. М., 1987. Ч. 3. С. 486-489.
МИТРОПОЛИТА (ИОНЫ) АРХИМАНДРИТУ
И БРАТИИ НЕКОЕГО СТАВРОПИГИАЛЬНОГО ОБЩЕЖИТЕЛЬНОГО МОНАСТЫРЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕЖИТЕЛЬНОГО УСТАВА.
(МОСКВА. ВСКОРЕ ПОСЛЕ 1448 г., ДЕКАБРЯ 15)
архимандриту с братнею во общем монастыре
Се яз имярек, митрополит всея Руси, дал есмь сию свою грамоту в пречестную обитель — во общий манастырь имярек архимандриту имярек и священноиноком, и иноком, и всей еже о Христе братьи того манастыря, что ми били челом, а сказывают, что у них преже было в манастыре богарадно общее житье чинно и уставно о Христе, с любовию о всем. А ныне деи грех ради наших по последнему сему времени нужному и неустроений ради земьских учало у них бити тое житье неуставно, не по преданию святых отець общаго житья чина же и устава и от некоторые братьи развратно.
И яз, имярек митрополит всея Руси, дал есмь сию свою грамоту в ту пречестную обитель сему архимандриту имярек и всей еже о Христе братьи, пребывающим ныне в том манастыре, также и по сем — кто ни буди в том манастыре архимандрит и священноиноци, и иноци того манастыря, да дръжат и ходят по сей по моей грамоте въпрок, держачи общее иноческое житье по преданию иноческаго чина же и устава, имеюще благоповиновение о всем к духовному своему настоятелю архимандриту. А он всяко с любовию духовною длъжен есть попечение имети о их спасении и о всем монастырьском строении, и о братьней потребе, и трапезою за все соединяется с ними, кроме своея кельи. А опрично общие манастырьские братские тряпезы по общего манастырьскаго житья начальству иныя тряпезы да не имеет, кроме братьи, развее приходящих великих гостей. И то да будет по чину же.
А дръжит как игумен, так и вси братья общее богарадное житье, а всякий приход манастырский — милостыни ли, молебены ли, или сорокоусты, или вписы, хлеб ли или что иное, приход манастырьскый или товар — то все архимандрит ведает по слову и по совету со всею своею братьею. А кого будеть таковского брата изобрати манастырьский приход ведати и церковное строение, и келаря и купчину устроити. Или которого брата на манастырьскую службу куда послати, и то все архимандрит избирает. И поставляют на всяку вещь манастырьскую сведанием и любовию всей братьи строит и уставляет, кого братья изберут, а по его благословению. Также и иноков приходящих архимандрит со всею братьею по слову же приимает.
А кто данныя сея нашея грамоты уставление порушит и о сем нашем писании не радити начнеть, а не Бога ради житье имет жити, соединения и соуза духовныя любве межи собою не имет держати, или который брат имет без архимандрича слова и благословения и без братийскаго ведания имет торговати или села строити собе на собину, и яз имярек, митрополить всея Руси, приказал архимандриту того, яко чинораздрушителя и развратника общему иноческому житью обоимати на манастырьскую потребу, а самого из манастыря выслати. А которой священноинок или инок, или той самый духовъный настаятель, архимандрить тоя пречистая обителю имет инако делати, и он явится пред Богом, яко чинораздрушитель, иже от святых отець преданнаго иноческаго житья общаго чина же и устава в той пречестной обители. И не приидет ли в чювство и не накажется с чистым покаянием и ему пристанищю, и не приидет к духовному своему настоятелю к архимандриту и ко всему богособранному стаду своея братьи, и таковый о сем и от нашего смерения приимет казнь духовную и неблагословение, донели же чистое покаяние свое пред Богом положить...
Там же. Ч. 1. С. 145-146.
ФОРМУЛЯРНЫЙ ИЗВОД УСТАВНОЙ ГРАМОТЫ
МИТРОПОЛИТА (ИОНЫ, ФЕОДОСИЯ, ФИЛИППА?) В НЕКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ КЕЛИОТСКИИ МОНАСТЫРЬ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ С МОНАСТЫРСКИХ СЕЛ, ПРОЦЕНТОВ, ВЫРУЧЕННЫХ НА РОСТОВЩИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ, ВКЛАДОВ, ОПЛАЧИВАЮЩИХ «ГОДОВОЕ ИЛИ СОРОКОУСТЫ И ВПИСЫ, И МОЛБЕНЫ», МЕЖДУ АРХИМАНДРИТОМ, ПОПАМИ, ДЬЯКОНАМИ И МОНАХАМИ,
А ТАКЖЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ИХ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПРИ ВЫПЛАТЕ ДАНИ И ПРОЕЗДНЫХ ПОШЛИН МИТРОПОЛИТУ.
(МОСКВА. 1448 г., ДЕКАБРЯ 15 — 1473 г., АПРЕЛЯ 5?)
Се яз, имярек митрополит всея Руси, дал есмь сию свою грамоту в манастырь имярек святого, по чему архимандриту и попом, и дияконом, и черньцем ходити о всем по сей по моей грамоте. Архимандрит имярек да имеет к священником и ко всем старцем того манастыря свершеную духовную любовь. А вы, священници и старци, чтобы есте своему архимандриту и духовному своему настоятелю с благоповиновением и с послушанием честь воздавали, без его благословенна и повеления неисходни были нигде же из манастыря. И о всем бы есте жили по чину и уставу иноческаго житья.
Архимандрит должен есть попечение имети о вашем спасении и по благословению нашего смерения. А которой поп, или диякон, или от черньцов хто негодовати имет о сем наказании и еще имет какую брань чинити в той честной обители, и яз приказал архимандриту того понаказати духовно перед двема или трема послухи. Да не престанет от того, а не накажется, будя, яко нечювствено, и яз велел того попа или диякона от церкви отслати, а черньца из манастыря выслати.
А что идет им хлеб из сел манастырьских, что на них хрестияне пашут, или на серебро манастырьское пашют, и они то делят межи собою, как по иным манастырем — аримандриту от всех жит половина, а попом и дияконом с черньци половина. А тое поповские и дияконские и чернецское половины попом и дияконом половина, а черньцом половина.
А что которых манастырьскых земль не испахивают, ни пожен не искашивают, а дают внаймы, и теми наймы также делятся — архимандриту половина, а попом и дияконом с черньци половина.
А в дань мою и в мои проезды митропольскии во все архимандрит подъимает половину, а другие половины попы и дияконы подъимають, а черньцы половину. А боле того черньци в церковной приход ни в манастырьской не въступаются ни во что.
А что годовое или сорокоусты и вписы, и молбены, а тем архимандрит делится с попы и дияконы по половинам — архимандриту изо всего половина, а попом и дияконом, и с проскурником, и с пономарем половина, а черньци в те приходы не въступаются ни во что.
А дана грамота...
Там же. Ч. 1. С. 101-102.
К.В.1
Хронология основных событий жизни Сергия Радонежского весьма противоречиво изложена создателем его Жития Епифанием Премудрым. Возможно, это объяснялось недостатком соответствующих сведений. Но не исключено, что премудрый Епифаний сознательно «путал карты», желая возвысить своего героя над реальностью. Ведь Житие — это своего рода «словесная икона». А главное в иконе — ощущение чуда, изображение невидимого и нездешнего. В иконе господствует обратная перспектива, а в Житии — «обратная логика». Наконец, законы художественного творчества требовали от Епифания некоторой хронологической непоследовательности: излагая одну тему от начала до конца, он в следующей главе должен был возвращаться на много лет назад. В итоге получалось, по выражению самого Епифания, «предняа назади, а задняа напреди» (126, 286).
Однако людям свойственно во всем искать обычную перспективу и обычную логику. Над загадками Епифания ломали голову уже его ближайшие последователи — агиограф Пахомий Серб и безымянные московские книжники XV столетия. Они правили и дополняли труд Епифания в соответствии со своими собственными представлениями о возможном и невозможном. В итоге клубок запутывался окончательно. Вот почему со времен Карамзина и вплоть до наших дней земная биография преподобного Сергия вызывает споры среди историков.
По мнению современного исследователя Жития Сергия Б. М. Клосса, во всем многообразии списков памятника можно выявить две устойчивые системы хронологических координат. Согласно первой из них, «епифаниевской», Сергий родился в 1322 г. и умер в 1392 г. в возрасте 70 лет. Монашеский постриг он принял в 1342 г. «Пахомиевская» датировка, принятая в церковной традиции, существенно иная. По ней Сергий родился в 1314 г., стал монахом в 1337 г. и умер в 1392 г. в возрасте 78 лет (126, 22). Понятно, что при такой реконструкции и сам Клосс, и опирающиеся на его выводы историки отдают предпочтение «епифаниевской» датировке как более древней и потому — более достоверной.
Однако данная схема допустима лишь как гипотеза. К ней можно предъявить целый ряд вопросов и возражений. Прежде всего необходимо объяснить происхождение хронологии Пахомия. Ведь агиограф не мог взять свои данные «с потолка». Он начал работать над Житием Сергия в конце 30-х гг. XV в., находясь в Троицком монастыре, где мог иметь достоверные сведения о жизни основателя обители. Размышляя над этим вопросом, Б. М. Клосс выдвинул предположение о том, что здесь имела место ошибка переписчика первоначального «епифаниевского» текста: буква «и» после цифры 70 была им прочитана как цифра 8. (В Древней Руси существовало буквенное обозначение цифр.) Этот дефектный вариант и попал в руки Пахомия, который взял отсюда цифру 78 как достоверную (126, 23).
Такое объяснение возможно. Но возможно и обратное: в первоначальном тексте Епифания возраст Сергия был обозначен как 78 лет. Однако за несколько десятилетий, отделяющих время создания «Похвального слова Сергию» (1412 г.) и Жития Сергия (около 1418 г.) от древнейших сохранившихся списков «чистого» Епифания (50-е гг. XV в. для «Похвального слова»), при переписке текстов цифра 8 (обозначенная буквой «и») была в одном из списков вычеркнута переписчиком, принявшим ее за лишний союз «и» (119, 5). Этот дефектный список и положил начало всему семейству «Похвальных слов» с цифрой 70. Между тем Пахомий Серб, впервые приступивший к работе в 1438 г., имел в своем распоряжении верный список сочинений Епифания, откуда и почерпнул свою хронологию.
Сильным аргументом в пользу поздней даты рождения Сергия (1322 г.) считается свидетельство автора Жития о том, что святой родился «в лета благочестиваго преславнаго дръжавнаго царя Андроника, самодръжьца гречьскаго... при архиепископе Коньстянтина града Кали-сте, патриарсе вселеньском, в земли же Русстей в княжение великое тферьское при великом князе Димитрии Михайловиче, при архиепископе пресвященнем Петре, митрополите всеа Руси, егда рать Ахмулова» (126, 297). Однако при этом обычно не ставится вопрос о характере и назначении этой справки. А между тем данный перечень светских и духовных правителей, если понимать его дословно, вызывает недоумение. В XIV столетии в Византии правили три императора по имени Андроник. (Андроник II Палеолог правил с 1282 по 1328 г., его внук Андроник III — с 1328 по 1341 г., а Андроник IV— с 1376 по 1379 г.). Примечательно, что агиограф не уточняет, какой из Андроников имеется в виду. Патриарх Каллист I Святогорец занимал кафедру в 1350—1354 и 1355—1362 гг. Митрополит Киевский Петр управлял Русской Церковью с 1308 по 1325 г. Князь Дмитрий Михайлович Тверской вступил на великое княжение Владимирское осенью 1322 г., то есть уже после предполагаемой поздней даты рождения Сергия (3 мая 1322 г.). Что же касается «Ахмыловой рати», то ордынский воевода Ахмыл появлялся в Северо-Восточной Руси как минимум дважды: летом 1318 г. и в 1322 г. (119, 4). В 1322 г. его действия ограничились разгромом Ярославля и не затронули Ростов.
В целом вся эта путаная хронологическая справка Жития напоминает столь же туманное хронологическое вступление «Похвалы Ивану Калите» в Сийском евангелии (1340 г.). Очевидно, что в обоих случаях цель автора состояла не в точной датировке события, а в повышении его значимости при помощи внушительной «вселенской» хронологии. Упоминание зловещей Ахмыловой рати и казненного в Орде тверского князя Дмитрия не столько датирует исторический факт, сколько подчеркивает провиденциальный характер рассматриваемого события — рождения святого Сергия. На это указывают и последние слова предыдущего абзаца о «премудром Божием промышлении», явленном в некоторых событиях жизни Сергия.
В пользу ранней даты рождения Сергия свидетельствует сообщение Вкладной книги Троице-Сергиева монастыря о том, что преподобный игуменствовал в продолжение 48 лет (55, 15). Таким образом, он возглавил маковецкую общину в 1344 г. Если признать за дату его рождения 1314 г., то возраст его в момент принятия игуменства — 30 лет; если же согласиться с поздней датой (1322 г.), то окажется, что он стал игуменом в 22 года. Между тем монашеские уставы требовали, чтобы игумен был не моложе «возраста Иисуса», то есть 33 лет (53, 586). И если 30 лет еще можно было как-то допустить, то 22 года исключались совершенно.
К.В.2
По мнению Б. М. Клосса, между рождением и крещением будущего святого прошло не 40 дней, а гораздо меньше (126, 27). Время его рождения совпало с празднованием Святой Троицы (в 1322 г. — 30 мая, в 1314 г. — 26 мая). Многие увидели в этом совпадении знак того, что мальчику предстоит стать «учеником Святой Троицы».
К.В.3
Цитаты из Жития Сергия даются по тексту Пространной редакции памятника. Вплоть до раздела «О худости порт Сергиевых и о некоем поселянине» этот текст практически совпадает с тем, который определен Б. М. Клоссом как первая часть епифаниевского Жития Сергия (126, 21).
К.В.4
Время московского «насилования» в Ростове Епифаний Премудрый определяет достаточно ясно: «за год един» после «Федорчуковой рати» (126, 303). Известно, что эта «рать» была зимой 1327/28 г. Следовательно, Василий Кочева и Мина явились в Ростов зимой 1328/29 г. Отсутствие самого Ивана Калиты вполне понятно: он был в это время во псковском походе. Однако некоторых историков почему-то не устраивает эта вполне естественная датировка.
В одном случае называется дата «не ранее 1334 г.» (126, 28). Главный аргумент — якобы точно известная поздняя дата рождения святого (1322). Далее отмечается, что еще до рассказа о переселении боярина Кирилла в Радонеж в Житии есть сюжет: мать упрекает Варфоломея за то, что он, еще не имея полных 12 лет, сокрушается о своих грехах. Прибавляя к предполагаемой дате рождения 12 лет, и можно заключить, что переезд был совершен не ранее 1334 г. Понятно, что вывод этот не более прочен, чем само предположение о поздней дате рождения. К тому же последовательность изложения событий в Житии носит отнюдь не протокольный характер...
Согласно версии другого историка, ростовское «насилование» и переезд семьи боярина Кирилла в Радонеж состоялись в 1332 г. (134, 76). Аргументы этой схемы суть следующие. До 1331 г. в Ростове правили два князя, Федор и Константин. А среди жертв насилия московских воевод агиограф указывает только одного «епарха градского». Помимо этого, Епифаний называет одной из причин разорения Кирилла «частые глады хлебные». А летописи тех лет сообщают о голоде лишь под 1332 г.
Оставим без комментариев аргумент о голоде: его несостоятельность очевидна. Сложнее дело обстоит с «епархом». Даже если понимать под этим библейским термином «княжеского наместника» (134, 76), то и в этом случае неясно, почему москвичи должны были мучить наместников обоих ростовских князей? Ведь один из этих князей готовился стать зятем Ивана Калиты. Да и в политическом отношении один из ростовских Васильевичей скорее всего был сторонником Москвы. Наконец, один мог быть должником, а второй — исправным плательщиком ордынской дани. Впрочем, вопрос с «епархом» действительно не простой.
Но интересно вот что. Зачем понадобилось агиографу прибегать к этому архаическому термину? Ведь и назвав Аверкия «старейшим боярином ростовским», он вполне раскрывал его положение. Возможно, этим термином Епифаний как бы намекал на суть московско-ростовского конфликта, подробно раскрывать которую он не считал нужным. Слово «епарх» встречается в Библии во 2-й книге Маккавейской в рассказе о бесчинствах Менелая, пообещавшего сирийскому царю Антиоху Епифану увеличить выплату дани и за это получившего должность первосвященника в Иерусалиме. «Менелай же началство убо одержа, о сре-бреницех же, цареви обещанных, ничтоже радяше: творящу же истязание Сострату, краеградия (крепости. — Н. Б.) епарху, к сему бо надлежаще даней дело...» (2 Мак. 4, 27—28). Вероятно, именно эта библейская аллюзия и объясняет появление данного термина у Епифания. В данном контексте «епарх» — это сборщик даней в пользу «царя». Понятно, что именно его и пытали московские воеводы в Ростове зимой 1328/29 г. Немедленная уплата недоимок по ордынским долгам была одним из условий, на которых Иван Калита и Александр Суздальский получили от хана свои «половины» великого княжения Владимирского. Вероятно, и сам небывалый раздел верховной власти был задуман ханом для того, чтобы облегчить князьям эту задачу.
К.В.5
В научной литературе высказывалось мнение, что Кирилл не был выслан из Ростова, а бежал от ненависти земляков, будучи сторонником Ивана Калиты. Основанием для такого предположения служит тезис о том, что в противном случае сын Кирилла Варфоломей не мог бы со временем стать «последовательным проводником политики своих врагов и насильников» — московских князей (50, 8—10). Однако если признать Кирилла сторонником Москвы, то не покажется ли странной такая «милость» для боярина, как поселение в глухом Радонеже? С другой стороны, Сергий никогда не был «последовательным проводником» политики московских князей. Он лишь делал то, что считал своим христианским нравственным долгом, не заботясь о том, чтобы при этом кому-либо угодить.
К.В.6
Современные исследователи биографии Сергия Радонежского сходятся на том, что преподобный принял монашеский постриг 7 октября 1342 г., на память святых мучеников Сергия и Вакха (126, 29; 134, 78). Это мнение требует уточнения. В «Похвальном слове» Епифаний Премудрый сообщает, что Сергий «чернечествова же лет 50» (126, 278). Эти данные не вызывают сомнений. Следовательно, преподобный принял монашеский постриг в воскресенье, 7 октября 1341 г. Таким образом, в момент кончины (25 сентября 1392 г.) он имел полных 50 лет монашеского «стажа». Но до пострижения Варфоломей несколько лет прожил на Маковце, сначала вместе со Стефаном, а потом — один. В Первой Пахомиевской редакции (по Б. М. Клоссу) говорится несколько расплывчато, что Варфоломею в момент пострига было «яко 20 лет» (126, 349). Но уже в Третьей Пахомиевской редакции эта цифра уточняется: «Бе же тогда святыи... возрастом 23 лет» (126, 384). Та же цифра (хотя и в виде вставки на полях рукописи) в епифаниевской редакции Жития Сергия (126, 310). Путаница в этих датах во многом объясняется тем, что речь идет о двух совершенно разных событиях: уходе братьев в лес — и пострижении Варфоломея в монахи. В реальности между этими событиями пролегло несколько лет.
Не станем абсолютизировать данные более ранних редакций: ведь и сам первоначальный текст Епифания дошел до нас в составе поздней Пространной редакции Жития Сергия в списке 1520-х гг. (126, 213). Пахомий мог взять свои первоначальные данные (20 лет) из дефектного списка Епифаниева Жития, а потом поправить это место (23 года) по исправному списку. Посмотрим лучше на внутреннюю логику событий. Уход Варфоломея в лес наиболее естественно датировать 1337 г. Этот год возникает из двух дат, приведенных Пахомием в его Третьей редакции Жития Сергия: год рождения святого — 1314-й, а «егда сподобися иноческаго образа, возрастом 23 лет» (126, 384). Вторая цифра относится не к пострижению в прямом смысле, а к уходу Варфоломея на Маковец. Это произошло в 1337 г. Если же принять предлагаемые современными исследователями даты, то получится, что Варфоломей, родившись в 1322 г., принял постриг в возрасте 20 лет в 1342-м (или 19 лет в 1341 г.). Но тогда его уход в лес произошел в возрасте 15 или 16 лет. Это противоречит как здравому смыслу, так и рассказу Жития о том, что юноша долго медлил с уходом из «мира», не желая нарушить волю родителей.
Сильным аргументом в пользу поздней даты (1342) начала подвижнической жизни Сергия и Стефана на Маковце можно считать сообщение Пахомия о том, что Сергий собственноручно постриг в монахи своего 12-летнего племянника Ивана, сына Стефана (126, 23). Однако здесь, как и в ряде других сюжетов, агиограф, по-видимому, соединяет в одно два разновременных события: приход Ивана на Маковец — и его пострижение.
В целом можно сказать, что традиционная хронология биографии Сергия Радонежского как версия не менее состоятельна, чем другие предложенные версии. Состояние источников не позволяет однозначно решить этот давний спор.
К.В.7
Доказательства «поздней» датировки введения Сергием «общего жития» носят спорный характер. Так, например, выстраивается гипотетическая история так называемого «филофеевского креста». (Этот маленький (4 х 2,5 см) нательный крест-мощевик был найден в 1918 г. реставратором Ю.А.Олсуфьевым внутри напрестольного креста, который, согласно монастырскому преданию, был прислан Сергию Радонежскому патриархом Филофеем. Согласно русской надписи на нательном кресте, внутри него находятся частица «животворящего древа», мощи 40 мучеников севастийских, святых Афанасия, Евдокии, Елевферия, девицы Феодосии и «новых мучеников литовских». Саму надпись на кресте одни исследователи по палеографическим признакам датировали XIV , а другие — XV столетием.) По мнению исследователей, коль скоро в «филофеевском» кресте есть мощи «новых мучеников литовских», стало быть, он не мог быть изготовлен ранее 1374 г., когда они были официально канонизированы в Константинополе. А значит, и посольство от Филофея к Сергию было не ранее этого времени. Далее в летописях подбирается подходящее известие о приезде «феков» по каким-то церковным делам в Москву в 1376—1377 гг. и с этим визитом увязываются вручение патриаршей грамоты Сергию и введение в Троицком монастыре «общего жития» (136, 19).
Для правильного понимания истории «общежительной реформы» действительно необходимо внимательнее присмотреться к «филофеевскому кресту». Примечателен сам подбор сокрытых в нем святых мощей. Этот подбор определенно указывает как на заказчика креста (митрополит Алексей), так и на время его изготовления (лето 1354 г.). Поясним это суждение. Достоверно известно, что Алексей был поставлен на кафедру патриархом Филофеем 30 июня 1354 г. Вскоре он отбыл на Русь. Корабль, на котором плыл святитель, попал в сильный шторм и достиг берега только 16 августа 1354 г. Таким образом, очевидно, что Алексей отправился в обратный путь в первой декаде августа 1354 г. Запомнив эти даты, обратимся теперь к «филофеевскому кресту».
Частица Животворящего Креста Господня напоминает о константинопольском обычае каждый год торжественно выносить часть Животворящего Креста из домовой церкви императорского дворца в храм Святой Софии 31 июля. Там совершался торжественный молебен с освящением воды. Затем Животворящий Крест в течение двух недель (с 1 по 14 августа) носили с многолюдной процессией и литиями по всему Константинополю. Считалось, что святыня охраняет жителей столицы от болезней и несчастий.
Митрополит Алексей, несомненно, участвовал в этих торжествах в свите патриарха Филофея. Возможно, патриарх рекомендовал святителю ввести этот праздник на Руси. Действительно, на Руси служба в честь Животворящего Креста появляется именно с конца XIV в. в связи с распространением Иерусалимского богослужебного устава.
Помимо Животворящего Креста подарок Филофея содержал частицу мощей Сорока мучеников севастийских, память которых весьма почиталась в Византии. В Константинополе существовал большой храм, посвященный Сорока мученикам, в котором хранились их святые мощи. В лавре Святого Афанасия на Афоне храм Сорока мучеников, примыкавший к главному собору во имя Пресвятой Богородицы, был построен еще ее основателем святым Афанасием Афонским. Вкладывая в крест, предназначенный для Сергия Радонежского, мощи Сорока мучеников и святого Афанасия (Афонского?), патриарх Филофей поступал как истинный воспитанник Святой горы. Эти святыни как нельзя лучше соответствовали главной цели обращения патриарха к Сергию: помочь маковецкому игумену ввести в обители «общее житие». Ведь святой Афанасий Афонский в церковной традиции был известен прежде всего как основатель «общего жития» на Святой горе. Автор Жития Сергия неоднократно уподобляет своего героя святому Афанасию, использует фрагменты его жизнеописания.
В «филофеевский крест» были вложены также мощи святого Елевферия и святой Евдокии. Первый из них — святой, в честь которого будущий митрополит получил свое мирское имя Алферий (17, 30). В месяцесловах той эпохи было два мученика с этим именем — Елевферий, епископ иллирийский (15 декабря) и Елевферий византианин (4 августа). Однако на Руси их, по-видимому, считали за одного и того же святого, имеющего две годовые памяти. Святая мученица Евдокия праздновалась в один день с Елевферием (4 августа) и таким образом попадала в круг наиболее почитаемых митрополитом Алексеем святых. И не на этот ли день (понедельник, 4 августа 1354 г.) святитель назначил свой отъезд из Константинополя на Русь?
Святая Феодосия, чьи мощи также сокрыты в «филофеевском кресте», праздновалась 29 мая. Заметим, что она была единственной святой этого дня. Появление в реликварии мощей Феодосии, по-видимому, связано было с намерением патриарха и побуждавшего его к этому митрополита Алексея подарить крест Сергию Радонежскому. Здесь уместно вспомнить предположение Б. М. Клосса о том, что преподобный родился не ровно за 40 дней до дня святого Варфоломея (3 мая — 11 июня), а несколько позже, около праздника Святой Троицы (126, 27). С этим предположением вполне можно согласиться, с той лишь поправкой, что это был не 1322 г. (Троица — 30 мая), а 1314 г. (Троица — 26 мая). Преподобный Сергий, по-видимому, родился через три дня после Троицы — 29 мая 1314 г., в день памяти святой Феодосии. Соответственно, он относился к Феодосии как к своей небесной покровительнице. Если это так, то святитель Алексей вполне мог знать об этом обстоятельстве.
Наконец, мощи «новых мучеников литовских». Они могли быть вложены в реликварии уже на Руси, в Киеве, где митрополит некоторое время находился на обратном пути из Константинополя. Местное почитание «литовских мучеников» началось гораздо ранее их официального признания Константинополем. Литовская тема была очень важной для Алексея именно в это время, когда ставленник литовского князя Ольгерда митрополит Роман предпринимал энергичные попытки взять под свою власть литовские епархии. Борьба за единство митрополии требовала от Алексея большой политической гибкости. Уступая хоть в чем-нибудь требованиям Ольгерда, он рисковал испортить отношения со своими московскими друзьями и единомышленниками. Поместив в крест, предназначенный для Троицкого монастыря, мощи «новых мучеников литовских», Алексей как бы напоминал Сергию о важности этой церковно-политической задачи.
К.В.8
Есть некоторые основания полагать, что во время своего «нижегородского похода» Сергий встречался и с князем Дмитрием Константиновичем, убеждал его поскорее заключить прочный мир с Москвой. Императрица Екатерина II глубоко интересовалась русской историей. При помощи лучших специалистов того времени она написала несколько исторических трудов, в которых встречаются уникальные факты. Императрица и ее консультанты имели в своем распоряжении не сохранившиеся до наших дней источники. Перу Екатерины принадлежит, среди прочего, составленная на основе источников записка «О преподобном Сергии». В ней читаем следующее. «В 1366 году (в действительности, в 1365 г. — Н. Б.) преподобный игумен Сергий, по просьбе князя великаго Дмитрия Ивановича, ездил послом в Нижний Новгород к князю Борису Константиновичу о мире, и мир и тишину паки восстави, и первыя слова о браке князя великаго Дмитрия Ивановича со дщерью князя Дмитрия Константиновича Суздальскаго были пособием преподобнаго игумена Сергия, чем пресеклись междоусобныя распри о великом княжении Владимирском на Клязьме» (124, 144). Свадьба Дмитрия Московского с дочерью Дмитрия Суздальского Евдокией была сыграна в Коломне 18 января 1366 г.
К.В. 9
Дата основания монастыря на Киржаче может определяться по-разному. Для сторонников «поздней» датировки основных событий биографии Сергия здесь кроется серьезная трудность. Ведь если преподобный ввел общежительный устав только в 1377 г. (136, 18), то как датировать тогда острый конфликт внутри маковецкой общины, заставивший Сергия надолго уйти из обители? Для улаживания этого конфликта потребовалось вмешательство митрополита Алексея. Другой исследователь датирует основание Благовещенского монастыря широким периодом от 1365 до 1373 г. (126, 43). Аргументы в пользу этой датировки достаточно шатки. На наш взгляд, определяющей является дата введения в Троице общежительного устава. Коль скоро устав был введен в 1354—1355 гг., то и бегство Сергия надо относить примерно к этому времени.
К.В. 10
Дата основания Андроникова монастыря столь же неопределенна, как и монастыря на Киржаче. Недавно предложена была датировка 1365—1373 гг. (126, 44). Однако она противоречит логике событий. Митрополит Алексей должен был приступить к исполнению своего обета вскоре после возвращения из литовского плена в 1360 г. Непонятно, что заставило его затягивать свой расчет с Богом на столь долгий срок? Отстаивая эту датировку, исследователь ссылается на известие Первой Пахомиевской редакции Жития Сергия о том, что игумен Андроник прожил в Троице под началом у Сергия 10 лет. Однако это известие появилось в данном контексте как вторичное, под влиянием помещенного несколько ниже рассуждения Сергия о том, что некоторые иноки, прожив в обители лет 10 или более, «потом санов хотят» (126, 370). Вообще во всем этом сюжете, как он изложен в Первой Пахомиевской редакции, ощутим какой-то уже неясный нам полемический подтекст или же просто путаница чернового оригинала Пахомия (126, 162). Возможно, здесь сказалось влияние Киево-Печерского патерика с его гневными обличениями «санолюбия» иноков (7, 480). Однако неуместность этой вставки в данном контексте была слишком очевидной. Не случайно при последующих обработках Жития Сергия она была удалена.
Есть еще одно обстоятельство, которое следует иметь в виду при хронологических изысканиях в Житии Сергия. Сообщение о том, что тот или иной подвижник был постриженником преподобного, не всегда следует понимать буквально. Сергий стал священником и полноправным игуменом только в 1354 г. Однако трудно поверить в то, что ранее этой даты маковецкая община пополнялась лишь за счет бродячих монахов. Несомненно, в обители был старец-игумен, имевший сан священника и совершавший постриг новых братьев по указанию харизматического главы общины — Сергия. Поначалу это был игумен Митрофан, постригший самого Сергия, а после его кончины — кто-то другой. Причем такая практика могла сохраняться и после 1354 г. (Например, во время длительной болезни преподобного или же его ухода на безмолвие.) Разумеется, все те, кто был пострижен по указанию Сергия и в его присутствии, также предпочитали называть себя его по-стриженниками. Однако в монашеском мире эту тонкую разницу замечали. Не случайно в рассказе о пострижении Федора Симоновского (Первая Пахомиевская редакция) особо оговорено, что он был пострижен лично Сергием («...и тако отлагает власы рукою преподобного Сергеа») (126, 352).
Практика исполнения обязанностей игумена одним из «старцев» соответствовала традициям древнерусского монашества. Известно, что Антоний Печерский, будучи главой общины и полноправным игуменом, зачастую поручал совершать постриг новых братьев своему ученику Никону (6, 318, 324). Подобные случаи известны в Киево-Печерском монастыре и в более позднее время (7, 488).
К.В.11
Традиционно временем основания Симонова монастыря считался 1370 г. (142, 229). В новейших исследованиях одни исследователи называют 1375—1378 гг. (126, 45); другие предлагают точную дату — «весна — осень 1377 г.» (135, 119). В основе этих подсчетов лежит принятая за истину «поздняя» хронология жизни Сергия. Если он вместе со Стефаном ушел в лес в 1342 г., значит, сын Стефана Иван (в иночестве Федор) не мог родиться позже 1342 г. Прибавляя к этой дате 33 года (минимальный возраст для игумена), можно получить 1375 г. как самую раннюю дату основания Федором Симонова монастыря. Другое рассуждение строится на уверенности в том, что уход Федора из троицкой общины для основания собственного монастыря был следствием того раскола, который произошел вследствие принятия общежительного устава (135, 119). Но коль скоро принятие устава относят к началу 1377 г., то для основания монастыря с участием умершего 12 февраля 1378 г. митрополита Алексея Федору остается только «весна — осень 1377 г.».
В биографии Федора Симоновского, как она представлена в Житии Сергия, вообще много неясного. Так, уже в Первой Пахомиевской редакции сообщается, что Сергий, исполняя волю Стефана, постриг его сына в возрасте всего лишь 12 лет (126, 352). Однако, как и в вопросе о возрасте самого Сергия во время пострижения, здесь существовали и иные, быть может, более достоверные, чем те, которые имел Пахомий при работе над Первой редакцией, источники информации. Не случайно в Пространной редакции Жития Сергия о возрасте пострижения Федора сказано довольно неопределенно: «Неции же реша яко десяти лет пострижен бысть, и инии же двою на десяте лет» (9, 336). Первый возраст (10 лет) скорее всего назван по «теоретическим» соображениям. Согласно церковным канонам (40-е правило VI Вселенского собора) именно с этого возраста разрешалось давать монашеский постриг. Агиограф явно хотел таким образом подчеркнуть благочестие Сергиева племянника, с самых ранних лет обратившегося к иночеству.
Однако так ли это было на самом деле? Еще церковные авторы прошлого столетия высказывали сомнение в точности этого необычного известия (142, 246). Очевидно, здесь, как и в ряде других сюжетов, агиограф, подобно иконописцу, соединил в одной композиции два совершенно разных события. Одно событие — появление племянника Сергия на Маковце. Возможно, Стефан привел сына на воспитание в Троицу в возрасте 12 лет, но пострижен он был лишь спустя несколько лет, после необходимого испытательного срока. Впрочем, и такое решение Стефана выглядит довольно странно. Отцы монашества (как и древнерусские подвижники) не одобряли совместного проживания взрослых монахов с детьми или отроками (21, 318). Для них предписано было создавать особые приюты вне стен монастыря. (Афанасий Афонский, например, не допускал отроков не только в своем монастыре, но и на всей Святой горе. Для их воспитания и подготовки к монашеству он отвел уединенный остров в море.) Но таких приютов Троицкий монастырь, насколько известно, не имел.
К.В.12
Согласно исторической выписке Екатерины II игумен Федор Симоновский «ходи со князем великим в поход на Мамая» (124, 146). Если это действительно так, то становится вполне понятным и внезапное прибытие Федора на Маковец 21 сентября с какой-то срочной вестью, и то особое доверие, которое оказывает Федору в последующие годы Дмитрий Донской. В начале 1381 г. симоновский игумен в звании духовного отца московского великого князя отправляется в Киев для решения вопроса о митрополии (18, 141). В августе-сентябре 1382 г. в обстановке всеобщей паники, вызванной нашествием Тохтамыша, Федор сопровождает великокняжескую семью в Кострому и крестит сына Дмитрия Донского Андрея, родившегося 14 августа (17, 71).
Карта на с. 16 воспроизведена из книги: История СССР
с древнейших времен до конца XVIII в. / Под ред. Б. А. Рыбакова. М., 1976. С. 158.
1314, 3 мая — рождение Сергия Радонежского.
1328 — переселение из Ростова в Радонеж.
1337— поселение на Маковце вместе с братом Стефаном.
1341, 7 октября — принял монашеский постриг с именем Сергия.
1344 — возникновение «общины двенадцати» во главе с Сергием.
1354 — поставление в священники и игумены епископом Афанасием;
около 1355 г. — введение в Троицком монастыре общежительного устава;
около 1355 г. — уход Сергия на Киржач.
1360 — основание Андроникова монастыря в Москве.
1365 — миротворческий «поход» в Нижний Новгород;
около 1374 — переход Троицкого монастыря в удел Владимира Серпуховского.
1374 — основание Высоцкого монастыря в Серпухове.
1374, конец — участие в княжеском съезде в Переяславле-Залесском.
1375, март — сентябрь — тяжелая болезнь Сергия.
1378, И августа — Дмитрий Московский разгромил татар в битве на реке Воже.
1379, лето — поручился за суздальского владыку Дионисия.
1379, 1 декабря — освятил Успенский собор монастыря «на Стромыне».
1380, 16 августа — благословение князя Дмитрия на битву с Мамаем,
1380, 8 сентября — Куликовская битва.
1380, 21 сентября — отправил келаря в Рязань для встречи с князем Олегом.
1381, весна — крестил сына Владимира Серпуховского Ивана.
1381 — основал Успенский Шавыкин монастырь.
1382, август — уходил от нашествия Тохтамыша в Тверь.
1385, лето — крестил сына Дмитрия Донского Петра.
1385, осень — миротворческий «поход» в Рязань.
1392, 25 сентября — кончина Сергия Радонежского.
ИСТОЧНИКИ
1.Акты исторические, собранные Археографической комиссией. Т. 1. СПб., 1841.
2. Духовные и договорные фамоты великих и удельных князей XIV— XVI вв. М.; Л., 1950.
3. Иосиф, игумен Волоцкий. Просветитель, или Обличение ереси жидовствующих. Казань, 1904.
4. Леонид, архимандрит. Два памятника древнерусской киевской письменности XI и XIII вв. // ЧОИДР, 1890. Кн. 2.
5. Никольский Н.К. Материалы для истории древнерусской духовной письменности // Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. Вып. 83. СПб., 1907, № 4.
6. Памятники литературы Древней Руси. XI — начало XII века. М., 1978.
7. Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980.
8. Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981.
9. Памятники литературы Древней Руси. XIV — середина XV века. М., 1981.
10. Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV века. М., 1982.
11. Памятники литературы Древней Руси. Конец XV — первая половина XVI века. М., 1984.
12. Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI века. М., 1985.
13. Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986.
14. Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI — начало XVII века. М., 1987.
15. Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Кушелевым-Безбородко. Вып. 4. СПб., 1862.
16. Полное собрание русских летописей. Т. VI. СПб., 1853. Софийские летописи. (Далее — ПСРЛ)
17. ПСРЛ. Т. XI. СПб., 1897. Никоновская летопись.
18. ПСРЛ. Т. XV. Вып. 1. М., 1965. Рогожский летописец.
19. ПСРЛ. Т. XV. Вып. 2. М., 1965. Тверской сборник.
20. ПСРЛ. Т. XVIII. СПб., 1913. Симеоновская летопись.
21. Послания Иосифа Волоцкого. М.; Л., 1959.
22. Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. М., 1983.
23. Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. Т. 6. СПб., 1880.
24. Сказание о иконе Божией Матери Одигитрии // Издание Общества любителей древней письменности. Вып. 19. М., 1878.
25. Срезневский И.И. Древние памятники русского письма и языка (X-XIV веков). СПб., 1882.
26. Тихонравов Н. С. Древние жития преподобного Сергия Радонежского. М., 1892. Тексты.
27. Цветочки святого Франциска Ассизского. М., 1913. Предисл. С. Н. Дурылина.
28. Чин пострижения в иноки // Издание Общества любителей древней письменности. Вып. 24, 63. СПб., 1878.
29. Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб., 1908. Тексты.
ПАТРИСТИКА
30. Блаженного Георгия Акафист Божией Матери. Фодхэм, 1954.
31. Деяния вселенских соборов, изданные в русском переводе при Казанской духовной академии. Т. 4. Казань, 1878.
32. Деяния вселенских соборов... Т. 7. Казань, 1873.
33. Иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина, подвижника и отшельника, бывшего епископом Ниневии, «Слова подвижнические». М, 1854. (В издании «Творения святых отцов в русском переводе». Т. 23)
34. Иоанна, игумена Синайской горы, Лествица (в русском переводе). М., 1892.
35. Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Ч. 1. М., 1872.
36. Творения... Василия Великого... Ч. 3. М., 1846.
37. Творения... Василия Великого... Ч. 4. М., 1846.
38. Творения... Василия Великого... Ч. 5. М., 1847.
39. Творения... Василия Великого... Ч. 6. М., 1849.
40. Творения... Василия Великого... Ч. 7. М., 1848.
41. Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. Ч. 1. М., 1848.
ЛИТЕРАТУРА
42. Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности. Ст. 1-я // Новый мир. 1988. № 7.
43. Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности. Ст. 2-я // Новый мир. 1988. № 9.
44. Аверинцев С.С. Красота как святость//Курьер ЮНЕСКО. 1988. Июль.
45. Белоброва О.В. Посольство константинопольского патриарха Филофея к Сергию Радонежскому // Сообщения Загорского государственного историко-художественного музея-заповедника, 1958. Вып. 2.
46. Балашов Дм. Ветер времени. Роман // Север. 1987. № 5—8.
47. Борисов Н.С. К изучению датированных летописных известий XIV-XV веков // История СССР. 1983. № 4.
48. Борисов Н.С. Русская церковь в политической борьбе XIV— XV веков. М., 1986.
49. Булгаков С.Н. (протоиерей Сергий). Православие (Очерки учения православной церкви). Париж, 1962.
50. Бурейченко И.И. К вопросу о дате основания Троице-Сергиева монастыря // Сообщения Загорского государственного историко-художественного музея-заповедника. 1958. Вып. 2.
51. Варлаам, архимандрит. Описание историко-археологических древностей и редких вещей, находящихся в Кирилло-Белозерском монастыре // Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1859. Кн. 3. (Далее — ЧОИДР).
52. Гоголь Н.В. Сочинения. Поли. собр. в одном томе. М., 1921.
53. Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. 1. Вторая половина тома. М., 1881.
54. Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. 2. Вторая половина тома. М., 1917.
55. Голубинский Е.Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая лавра. Ч. 1. Жизнеописание преподобного Сергия // ЧОИДР, 1909. Кн. 2. Разд. III.
56. Данэм Б. Герои и еретики (Политическая история западной мысли). М., 1967.
57. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Ч. 1—2. М., 1980.
58. Егоров В.Л. Пересвет и Ослябя //Вопросы истории. 1985. № 9.
59. Зайцев Б. Преподобный Сергий Радонежский. Париж, 1925.
60. Знамя преподобного Сергия Радонежского. Сб. статей. Рига. 1934.
61. Зубов В.П. Епифаний Премудрый и Пахомий Серб (К вопросу о редакциях «Жития Сергия Радонежского») // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы и языка (Пушкинского Дома). Т. IX. М.; Л., 1953. (Далее - ТОДРЛ)
62. Ивановский В. Русское законодательство XVIII и XIX вв. в своих постановлениях относительно монашествующих лиц и монастырей (Опыт историко-канонического исследования). Харьков, 1905.
63. Игнатий (Брянчанинов), епископ. Аскетические опыты. Ч. 1. СПб., 1865.
64. Историческое описание Махрищского монастыря. Сергиев Посад, 1906.
65. Кадлубовский Аре. Очерки по истории древнерусской литературы житий святых. Вып. 1—5. Варшава, 1902.
66. Казанский П. История православного русского монашества от основания Печерской обители преп. Антонием до основания лавры св. Троицы преп. Сергием. М., 1855.
67. Карлейль Т. Исторические и критические опыты. М., 1878. 68.Клибанов А.И. Реформационные движения в России в XIV — первой половине XVI в. М., 1960.
69. Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871.
70. Ключевский В.О. Отзывы и ответы. Сб. статей. М., 1914.
71. Ключевский В.О. Очерки и речи. Сб. статей. Пг., 1918.
72. Ключевский В.О. Сочинения. Т. 2. М., 1988.
73. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Книга первая. Господство Дома св. Владимира. X-XVI столетия. СПб., 1912.
74. Кудрявцев М. История православного монашества в Северо-Восточной России со времен пр. Сергия Радонежского. Ч. 1. М., 1881.
75. Кузьмин А.Г. Церковь и светская власть в эпоху Куликовской битвы // Вопросы научного атеизма. Вып. 37. М., 1988.
76. Культура и общество Древней Руси (X—XVII вв.) (Зарубежная историография). Реферативный сборник. Ч. 1. М., 1988.
77. Культура и общество Древней Руси (X—XVII вв.) (Зарубежная историография). Реферативный сборник. Ч. 2. М., 1988.
78. Кучкин В.А. О роли Сергия Радонежского в подготовке Куликовской битвы // Вопросы научного атеизма. Вып. 37. М., 1988.
79. Кучкин В.А. Русские княжества и земли перед Куликовской битвой. — В кн.: Куликовская битва. Сб. статей. М., 1980.
80. Кучкин В. А. Свидание перед походом на Дон или на Вожу?// Наука и религия. 1987. № 7.
81.Лебедев А.П. Исторические очерки состояния византийско-восточной церкви от конца XI до половины XV в. М., 1902.
82.Леонид, архимандрит. Святая Русь. Справочная книжка по русской агиографии // Издания Общества любителей древней письменности. Т. 97. СПб., 1891.
83. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979.
84. Мейендорф И.Ф. (протоиерей Иоанн). Введение в святоотеческое богословие. Нью-Йорк, 1985.
85. Моисеева Г.Н. Валаамская беседа — памятник русской публицистики середины XVI века. М.; Л., 1958.
86. Насонов А.Н. История русского летописания. XI — начало XVIII века. М., 1969.
87. Никольский Н.К. Общинная и келейная жизнь в Кирилло-Белозерском монастыре в XV и XVI веках и в начале XVII-го //Христианское чтение. 1907. Август.
88. Позов А. Логос-медитация древней церкви (Умное делание). Мюнхен, 1964.
89. Покровский Хотьков девичий монастырь. М., 1854.
90. Прохоров Г.М. Келейная исихастская литература (Иоанн Лествичник, авва Дорофей, Исаак Сирин, Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит) в библиотеке Троице-Сергиевой лавры с XIV по XVII в. // ТОДРЛ. Т. XXVIII. Л., 1974.
91. Прохоров Г.М. Повесть о Митяе. Л., 1978.
92. Прохоров Г.М. Памятники переводной и русской литературы XIV-XV веков. Л., 1987.
93. Ренан Э. Жизнь Иисуса. СПб., 1906.
94. Серебрянский Н. Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле //ЧОИДР. 1908. Кн. 3. Разд. III.
95. Синицы на Н.В. Нестяжательство и русская православная церковь XIV—XVI вв. // Религии мира. Ежегодник. 1983. М., 1983.
96. Случевский К. Государственное значение св. Сергия и Троице-Сергиевой лавры. М., 1889.
97. Соколов И.И. Избрание патриархов в Византии с половины IX до половины XV века // Христианское чтение. 1907. № 3.
98. Соколов И. Состояние монашества в византийской церкви с половины IX до начала XIII века. Казань, 1894.
99. Татищев В.Н. История российская. Т. 5. М.; Л., 1965.
100.Толстой М.В. Несколько слов об Успенском Дубенском монастыре //ЧОИДР. 1860. Кн. 1. Разд. 1.
101. Толстой М.В. Комментарии к «Книге, глаголемой о российских святых» // ЧОИДР, 1887. Кн. 4. Разд. П.
102. «Троица» Андрея Рублева. Антология. М., 1981.
103. Трубецкой Евг. Смысл жизни. Париж, 1979.
104. Успенский (епископ Порфирий). История Афона. Ч. 3. СПб., 1892.
105. Федотов Г.П. Святые Древней Руси. Нью-Йорк, 1959.
106. Флоренский П.А. Моленные иконы преподобного Сергия // Журнал Московской патриархии. 1969. № 9.
107. Флоренский П.А. Троице-Сергиева лавра и Россия. — В кн.: Троице-Сергиева лавра. Сергиев Посад, 1919.
108.Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988.
109. Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV веках. М., 1960.
110.Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. Киев, 1987.
111.Шляков Н. Невыясненное известие из жизни преп. Сергия Радонежского // Прибавление к «Церковным ведомостям» за 1892 г., №41.
112. Щапов А.П. Сочинения. Т. 1. СПб., 1906.
113. Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период (1238—1505). Т. 1. СПб., 1889.
СПИСОК РАБОТ О ПРЕПОДОБНОМ СЕРГИИ РАДОНЕЖСКОМ И ЕГО ЭПОХЕ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПОСЛЕ 1989 ГОДА
114. Аверьянов К. А. Из истории ростовских «половин» // История и культура Ростовской земли. 1999. Ростов, 2000.
115. Басенков А.Е. Московско-тверские отношения при Дмитрии Донском (60—70-е годы XIV в.). Автореферат диссертации канд. ист. наук. СПб., 1992.
116. Бегунов Ю.К. Куликовская битва и сказания об иконах Пресвятой Богородицы // Богословские труды. Сб. 31. М., 1992.
117. Борисов Н.С. Преподобный Сергий Радонежский и духовные традиции Владимиро-Суздальской Руси // Журнал Московской патриархии. 1992. № 11-12.
118. Борисов Н.С. Иван Калита. М., 1995.
119. Борисов Н.С. Основание Троицкого монастыря в историческом контексте первой половины XIV в. // Тезисы докладов Международной конференции «Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России». 29 сентября — 1 октября 1998 г. Сергиев Посад, 1998.
120. Борисов Н.С. Политика московских князей (конец XIII — первая половина XIV века). М., 1999.
121. Бълхова М.И. Монастыри на Руси как феодальная организация. XII — середина XIV вв. Автореферат диссертации канд. ист. наук. М., 1990.
122.Воронцова Л.М. К вопросу о складывании почитания преподобного Сергия Радонежского в XV в. // Труды по истории Троице-Сергиевой лавры. Б/м. 1998.
123.Дмитриев М.В. К проблемам истории русского монашества в XIV — начале XVI века (по страницам книги П. Гонно) // Вопросы истории. 1997. № 3.
124. Жизнь и житие Сергия Радонежского. Составление, послесловие и комментарии В. В. Колесова. М., 1991.
125. Жуковская Л.П. Митрополит Алексей и его перевод чудовской рукописи Нового завета 1354 г. // Культура средневековой Москвы XIV-XV вв. М., 1995.
126. Клосс Б.М. Избранные труды. Т. 1. Житие Сергия Радонежского. М., 1998.
127. Клосс Б.М. К изучению биографии преподобного Сергия Радонежского // Древнерусское искусство. Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV—XV вв. СПб., 1998.
128. Клосс Б.М. Заметки по истории Троице-Сергиевой лавры XV—XVII вв. // Труды по истории Троице-Сергиевой лавры. Б/м. 1998.
129. Кривцов Д.Ю. Значение общежительных монастырей для формирования нравственно-этических основ великорусской нации в период образования централизованного государства (XIV—XV вв.). Автореферат диссертации канд. ист. наук. Нижний Новгород, 1994.
130. Кричевский Б.В. Митрополичья власть в 30—70-е годы XIV века (Юридический статус и политическая деятельность русских митрополитов). Автореферат диссертации канд. ист. наук. СПб., 1997.
131. Кузьмин А.В. Генеалогия ростовских князей XIII — середины XIV вв. // История и культура Ростовской земли. 1999. Ростов, 2000.
132. Кучкин В. А. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский в канун Куликовской битвы // Церковь, общество и государство в феодальной России. Сб. статей. М., 1990.
133. Кучкин В.А. Монголо-татарское иго в освещении древнерусских книжников (XIII — первая четверть XIV в.) // Русская культура в условиях иноземных нашествий и войн. X — начало XX в. Сб. научных трудов. М., 1990.
134. Кучкин В.А. Сергий Радонежский // Вопросы истории. 1992. № 10.
135. Кучкин В.А. Начало московского Симонова монастыря // Культура средневековой Москвы XIV—XVII вв. М., 1995.
136. Кучкин В. А. Сергий Радонежский и «филофеевский крест»// Древнерусское искусство. Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV—XV вв. СПб., 1998.
137. Маясова Н.А. Образ преподобного Сергия Радонежского в древнерусском шитье (К вопросу об иконографии) // Древнерусское искусство. Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV-XV вв. СПб., 1998.
138. Муравьева Л.Л. О начале летописания в Троице-Сергиевом монастыре // Исследования по источниковедению истории России дооктябрьского периода. Сб. статей. М., 1993.
139. Муравьева Л.Л. О начале летописания в Троице-Сергиевом монастыре // Культура средневековой Москвы XIV—XVII вв. М., 1995.
140. Назаров В.Д. К истории «земной жизни» Сергия Радонежского (Биографические заметки) // Тезисы докладов Международной конференции «Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России». 29 сентября — 1 октября 1998 г. Сергиев Посад, 1998.
141. Нарциссов В.В. Проблемы иконографии преподобного Сергия Радонежского // Древнерусское искусство. Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV—XV вв. СПб., 1998.
142. Никон, архимандрит. Житие и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца // Житие и подвиги преподобного Сергия Радонежского. Репринт с издания 1904 года. Издание Свято-Троице-Сергиевой лавры, 1990.
143. Памятники Куликовского цикла. (Составители — А. А. Зимин, Б. М. Клосс, Л. Ф. Кузьмина, В. А. Кучкин.) СПб., 1998.
144. Перевезенцев СВ. Русская религиозно-философская мысль X—XVII вв. Основные идеи и тенденции развития. М., 1999.
145. Петров А.Е. Сергий Радонежский // Великие духовные пастыри России. М., 1999.
146. Подобедова О.И. Роль преподобного Сергия Радонежского в духовной жизни Русской земли (середина XIV—XV столетие) // Древнерусское искусство. Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV-XV вв. СПб., 1998.
147. Попова О.С. Русские иконы эпохи св. Сергия Радонежского и его учеников. Православная духовность XIV в. и ее русский вариант // Древнерусское искусство. Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV-XV вв. СПб., 1998.
148. Преподобный Сергий Радонежский. [Альбом иконографии Сергия Радонежского и его учеников.] Автор-составитель Н. Чугреева. М., 1992.
149. Преподобный Сергий Радонежский. [Фотоальбом.] Автор-составитель В. Н. Корнюшин. М., 1992.
150. Рыбаков Б. А. Стригольники. Русские гуманисты XIV столетия. М., 1993.
151.Рындина А.В. Литургическая деятельность митрополита Киприана в предметном мире православного богослужения // Культура средневековой Москвы XIV—XVII вв. М., 1995.
152. Сапунов В. В. Сергий Радонежский — собиратель земли Русской // Тезисы докладов Международной конференции «Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России». 29 сентября — 1 октября 1998 г. Сергиев Посад, 1998.
153. Сергий Радонежский. Сборник. Составитель В. А. Десятников. М., 1991.
154.Сергий Радонежский (К предстоящему юбилею.) Каталог книжно-иллюстративной выставки. Государственная публичная историческая библиотека. М., 1990.
155. Смолич И. К. Русское монашество. 988—1917. Жизнь и учение старцев. М., 1999.
156. Сосни на Е.В. Преподобный Стефан Махрищский и Троице-Сергиева лавра // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России. Материалы Международной конференции 29 сентября — 1 октября 1998 г. М., 2000.
157. Сочнев Ю.В. Русская Церковь и Золотая Орда. Автореферат диссертации канд. ист. наук. СПб., 1997.
158. Столярова Л.В. Древнерусские надписи XI—XIV веков на пергаменных кодексах. М., 1998.
159. Ткаченко В.А. Радонеж. Страницы истории. Сергиев Посад, 1997.
160. Топоров В.П. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 2. Три века христианства на Руси (XII—XV вв.). М., 1998.
161.Фетищев С.А. Московское великое княжество в системе политических отношений конца XIV в. (1389—1395 гг.). Автореферат диссертации канд. ист. наук. СПб., 1996.
162.Ханагова И.Г. Сергиевская традиция в деятельности ростовского архиепископа Вассиана Рыло // История и культура Ростовской земли. 1992 (Материалы научной конференции, посвященной 600-летию со дня кончины преподобного Сергия Радонежского). Ростов, 1993.
163. Чернов С.З. Успенский Дубенский Шавыкин монастырь в свете археологических данных // Культура средневековой Москвы XIV-XVI1 вв. М., 1995.
* В скобках указаны номер по списку литературы, находящемуся в конце данной книги, и номер страницы. Ссылки на Библию (издание Московской патриархии, 1976) даются согласно традиционному делению ее текста.
* Одной или несколькими «звездочками» отмечены положения, требующие пояснений. Читатель найдет их в разделе «Комментарии» в конце книги.
* Зашифрованы слова «Алексееви митрополиту».
* Зашифрованы слова: «да будуть отлучени». Очевидно, русский писец не решился открыто писать эти слова, направленные против великого князя.
Хронология основных событий жизни Сергия Радонежского весьма противоречиво изложена создателем его Жития Епифанием Премудрым. Возможно, это объяснялось недостатком соответствующих сведений. Но не исключено, что премудрый Епифаний сознательно «путал карты», желая возвысить своего героя над реальностью. Ведь Житие — это своего рода «словесная икона». А главное в иконе — ощущение чуда, изображение невидимого и нездешнего. В иконе господствует обратная перспектива, а в Житии — «обратная логика». Наконец, законы художественного творчества требовали от Епифания некоторой хронологической непоследовательности: излагая одну тему от начала до конца, он в следующей главе должен был возвращаться на много лет назад. В итоге получалось, по выражению самого Епифания, «предняа назади, а задняа напреди» (126, 286).
Однако людям свойственно во всем искать обычную перспективу и обычную логику. Над загадками Епифания ломали голову уже его ближайшие последователи — агиограф Пахомий Серб и безымянные московские книжники XV столетия. Они правили и дополняли труд Епифания в соответствии со своими собственными представлениями о возможном и невозможном. В итоге клубок запутывался окончательно. Вот почему со времен Карамзина и вплоть до наших дней земная биография преподобного Сергия вызывает споры среди историков.
По мнению современного исследователя Жития Сергия Б. М. Клосса, во всем многообразии списков памятника можно выявить две устойчивые системы хронологических координат. Согласно первой из них, «епифаниевской», Сергий родился в 1322 г. и умер в 1392 г. в возрасте 70 лет. Монашеский постриг он принял в 1342 г. «Пахомиевская» датировка, принятая в церковной традиции, существенно иная. По ней Сергий родился в 1314 г., стал монахом в 1337 г. и умер в 1392 г. в возрасте 78 лет (126, 22). Понятно, что при такой реконструкции и сам Клосс, и опирающиеся на его выводы историки отдают предпочтение «епифаниевской» датировке как более древней и потому — более достоверной.
Однако данная схема допустима лишь как гипотеза. К ней можно предъявить целый ряд вопросов и возражений. Прежде всего необходимо объяснить происхождение хронологии Пахомия. Ведь агиограф не мог взять свои данные «с потолка». Он начал работать над Житием Сергия в конце 30-х гг. XV в., находясь в Троицком монастыре, где мог иметь достоверные сведения о жизни основателя обители. Размышляя над этим вопросом, Б. М. Клосс выдвинул предположение о том, что здесь имела место ошибка переписчика первоначального «епифаниев-ского» текста: буква «и» после цифры 70 была им прочитана как цифра 8. (В Древней Руси существовало буквенное обозначение цифр.) Этот дефектный вариант и попал в руки Пахомия, который взял отсюда цифру 78 как достоверную (126, 23).
Такое объяснение возможно. Но возможно и обратное: в первоначальном тексте Епифания возраст Сергия был обозначен как 78 лет. Однако за несколько десятилетий, отделяющих время создания «Похвального слова Сергию» (1412 г.) и Жития Сергия (около 1418 г.) от древнейших сохранившихся списков «чистого» Епифания (50-е гг. XV в. для «Похвального слова»), при переписке текстов цифра 8 (обозначенная буквой «и») была в одном из списков вычеркнута переписчиком, принявшим ее за лишний союз «и» (119, 5). Этот дефектный список и положил начало всему семейству «Похвальных слов» с цифрой 70. Между тем Пахомий Серб, впервые приступивший к работе в 1438 г., имел в своем распоряжении верный список сочинений Епифания, откуда и почерпнул свою хронологию.
Сильным аргументом в пользу поздней даты рождения Сергия (1322 г.) считается свидетельство автора Жития о том, что святой родился «в лета благочестиваго преславнаго дръжавнаго царя Андроника, самодръжьца гречьскаго... при архиепископе Коньстянтина града Кали-сте, патриарсе вселеньском, в земли же Русстей в княжение великое тферьское при великом князе Димитрии Михайловиче, при архиепископе пресвященнем Петре, митрополите всеа Руси, егда рать Ахмулова» (126, 297). Однако при этом обычно не ставится вопрос о характере и назначении этой справки. А между тем данный перечень светских и духовных правителей, если понимать его дословно, вызывает недоумение. В XIV столетии в Византии правили три императора по имени Андроник. (Андроник II Палеолог правил с 1282 по 1328 г., его внук Андроник III — с 1328 по 1341 г., а Андроник IV— с 1376 по 1379 г.). Примечательно, что агиограф не уточняет, какой из Андроников имеется в виду. Патриарх Каллист I Святогорец занимал кафедру в 1350—1354 и 1355—1362 гг. Митрополит Киевский Петр управлял Русской Церковью с 1308 по 1325 г. Князь Дмитрий Михайлович Тверской вступил на великое княжение Владимирское осенью 1322 г., то есть уже после предполагаемой поздней даты рождения Сергия (3 мая 1322 г.). Что же касается «Ахмыловой рати», то ордынский воевода Ахмыл появлялся в Северо-Восточной Руси как минимум дважды: летом 1318 г. и в 1322 г. (119, 4). В 1322 г. его действия ограничились разгромом Ярославля и не затронули Ростов.
В целом вся эта путаная хронологическая справка Жития напоминает столь же туманное хронологическое вступление «Похвалы Ивану Калите» в Сийском евангелии (1340 г.). Очевидно, что в обоих случаях цель автора состояла не в точной датировке события, а в повышении его значимости при помощи внушительной «вселенской» хронологии. Упоминание зловещей Ахмыловой рати и казненного в Орде тверского князя Дмитрия не столько датирует исторический факт, сколько подчеркивает провиденциальный характер рассматриваемого события — рождения святого Сергия. На это указывают и последние слова предыдущего абзаца о «премудром Божием промышлении», явленном в некоторых событиях жизни Сергия.
В пользу ранней даты рождения Сергия свидетельствует сообщение Вкладной книги Троице-Сергиева монастыря о том, что преподобный игуменствовал в продолжение 48 лет (55, 15). Таким образом, он возглавил маковецкую общину в 1344 г. Если признать за дату его рождения 1314 г., то возраст его в момент принятия игуменства — 30 лет; если же согласиться с поздней датой (1322 г.), то окажется, что он стал игуменом в 22 года. Между тем монашеские уставы требовали, чтобы игумен был не моложе «возраста Иисуса», то есть 33 лет (53, 586). И если 30 лет еще можно было как-то допустить, то 22 года исключались совершенно.
По мнению Б. М. Клосса, между рождением и крещением будущего святого прошло не 40 дней, а гораздо меньше (126, 27). Время его рождения совпало с празднованием Святой Троицы (в 1322 г. — 30 мая, в 1314 г. — 26 мая). Многие увидели в этом совпадении знак того, что мальчику предстоит стать «учеником Святой Троицы».
Время московского «насилования» в Ростове Епифаний Премудрый определяет достаточно ясно: «за год един» после «Федорчу-ковой рати» (126, 303). Известно, что эта «рать» была зимой 1327/28 г. Следовательно, Василий Кочева и Мина явились в Ростов зимой 1328/29 г. Отсутствие самого Ивана Калиты вполне понятно: он был в это время во псковском походе. Однако некоторых историков почему-то не устраивает эта вполне естественная датировка.
В одном случае называется дата «не ранее 1334 г.» (126, 28). Главный аргумент — якобы точно известная поздняя дата рождения святого (1322). Далее отмечается, что еще до рассказа о переселении боярина Кирилла в Радонеж в Житии есть сюжет: мать упрекает Варфоломея за то, что он, еще не имея полных 12 лет, сокрушается о своих грехах. Прибавляя к предполагаемой дате рождения 12 лет, и можно заключить, что переезд был совершен не ранее 1334 г. Понятно, что вывод этот не более прочен, чем само предположение о поздней дате рождения. К тому же последовательность изложения событий в Житии носит отнюдь не протокольный характер...
Согласно версии другого историка, ростовское «насилование» и переезд семьи боярина Кирилла в Радонеж состоялись в 1332 г. (134, 76). Аргументы этой схемы суть следующие. До 1331 г. в Ростове правили два князя, Федор и Константин. А среди жертв насилия московских воевод агиограф указывает только одного «епарха градского». Помимо этого, Епифаний называет одной из причин разорения Кирилла «частые глады хлебные». А летописи тех лет сообщают о голоде лишь под 1332 г.
Оставим без комментариев аргумент о голоде: его несостоятельность очевидна. Сложнее дело обстоит с «епархом». Даже если понимать под этим библейским термином «княжеского наместника» (134, 76), то и в этом случае неясно, почему москвичи должны были мучить наместников обоих ростовских князей? Ведь один из этих князей готовился стать зятем Ивана Калиты. Да и в политическом отношении один из ростовских Васильевичей скорее всего был сторонником Москвы. Наконец, один мог быть должником, а второй — исправным плательщиком ордынской дани. Впрочем, вопрос с «епархом» действительно не простой.
Но интересно вот что. Зачем понадобилось агиографу прибегать к этому архаическому термину? Ведь и назвав Аверкия «старейшим боярином ростовским», он вполне раскрывал его положение. Возможно, этим термином Епифаний как бы намекал на суть московско-ростовского конфликта, подробно раскрывать которую он не считал нужным. Слово «епарх» встречается в Библии во 2-й книге Маккавейской в рассказе о бесчинствах Менелая, пообещавшего сирийскому царю Антиоху Епифану увеличить выплату дани и за это получившего должность первосвященника в Иерусалиме. «Менелай же началство убо одержа, о сребреницех же, цареви обещанных, ничтоже радяше: творящу же истязание Сострату, краеградия (крепости. — Н. Б.) епарху, к сему бо надлежаще даней дело...» (2 Мак. 4, 27—28). Вероятно, именно эта библейская аллюзия и объясняет появление данного термина у Епифания. В данном контексте «епарх» — это сборщик даней в пользу «царя». Понятно, что именно его и пытали московские воеводы в Ростове зимой 1328/29 г. Немедленная уплата недоимок по ордынским долгам была одним из условий, на которых Иван Калита и Александр Суздальский получили от хана свои «половины» великого княжения Владимирского. Вероятно, и сам небывалый раздел верховной власти был задуман ханом для того, чтобы облегчить князьям эту задачу.
В научной литературе высказывалось мнение, что Кирилл не был выслан из Ростова, а бежал от ненависти земляков, будучи сторонником Ивана Калиты. Основанием для такого предположения служит тезис о том, что в противном случае сын Кирилла Варфоломей не мог бы со временем стать «последовательным проводником политики своих врагов и насильников» — московских князей (50, 8—10). Однако если признать Кирилла сторонником Москвы, то не покажется ли странной такая «милость» для боярина, как поселение в глухом Радонеже? С другой стороны, Сергий никогда не был «последовательным проводником» политики московских князей. Он лишь делал то, что считал своим христианским нравственным долгом, не заботясь о том, чтобы при этом кому-либо угодить.
В научной литературе высказывалось мнение, что Кирилл не был выслан из Ростова, а бежал от ненависти земляков, будучи сторонником Ивана Калиты. Основанием для такого предположения служит тезис о том, что в противном случае сын Кирилла Варфоломей не мог бы со временем стать «последовательным проводником политики своих врагов и насильников» — московских князей (50, 8—10). Однако если признать Кирилла сторонником Москвы, то не покажется ли странной такая «милость» для боярина, как поселение в глухом Радонеже? С другой стороны, Сергий никогда не был «последовательным проводником» политики московских князей. Он лишь делал то, что считал своим христианским нравственным долгом, не заботясь о том, чтобы при этом кому-либо угодить.
Доказательства «поздней» датировки введения Сергием «общего жития» носят спорный характер. Так, например, выстраивается гипотетическая история так называемого «филофеевского креста». (Этот маленький (4 х 2,5 см) нательный крест-мощевик был найден в 1918 г. реставратором Ю.А.Олсуфьевым внутри напрестольного креста, который, согласно монастырскому преданию, был прислан Сергию Радонежскому патриархом Филофеем. Согласно русской надписи на нательном кресте, внутри него находятся частица «животворящего древа», мощи 40 мучеников севастийских, святых Афанасия, Евдокии, Елевферия, девицы Феодосии и «новых мучеников литовских». Саму надпись на кресте одни исследователи по палеографическим признакам датировали XIV , а другие — XV столетием.) По мнению исследователей, коль скоро в «филофеевском» кресте есть мощи «новых мучеников литовских», стало быть, он не мог быть изготовлен ранее 1374 г., когда они были официально канонизированы в Константинополе. А значит, и посольство от Филофея к Сергию было не ранее этого времени. Далее в летописях подбирается подходящее известие о приезде «феков» по каким-то церковным делам в Москву в 1376—1377 гг. и с этим визитом увязываются вручение патриаршей грамоты Сергию и введение в Троицком монастыре «общего жития» (136, 19).
Есть некоторые основания полагать, что во время своего «нижегородского похода» Сергий встречался и с князем Дмитрием Константиновичем, убеждал его поскорее заключить прочный мир с Москвой. Императрица Екатерина II глубоко интересовалась русской историей. При помощи лучших специалистов того времени она написала несколько исторических трудов, в которых встречаются уникальные факты. Императрица и ее консультанты имели в своем распоряжении не сохранившиеся до наших дней источники. Перу Екатерины принадлежит, среди прочего, составленная на основе источников записка «О преподобном Сергии». В ней читаем следующее. «В 1366 году (в действительности, в 1365 г. — Н. Б.) преподобный игумен Сергий, по просьбе князя великаго Дмитрия Ивановича, ездил послом в Нижний Новгород к князю Борису Константиновичу о мире, и мир и тишину паки восстави, и первыя слова о браке князя великаго Дмитрия Ивановича со дщерью князя Дмитрия Константиновича Суздаль-скаго были пособием преподобнаго игумена Сергия, чем пресеклись междоусобныя распри о великом княжении Владимирском на Клязьме» (124, 144). Свадьба Дмитрия Московского с дочерью Дмитрия Суздальского Евдокией была сыграна в Коломне 18 января 1366 г.
Дата основания монастыря на Киржаче может определяться по-разному. Для сторонников «поздней» датировки основных событий биографии Сергия здесь кроется серьезная трудность. Ведь если преподобный ввел общежительный устав только в 1377 г. (136, 18), то как датировать тогда острый конфликт внутри маковецкой общины, заставивший Сергия надолго уйти из обители? Для улаживания этого конфликта потребовалось вмешательство митрополита Алексея. Другой исследователь датирует основание Благовещенского монастыря широким периодом от 1365 до 1373 г. (126, 43). Аргументы в пользу этой датировки достаточно шатки. На наш взгляд, определяющей является дата введения в Троице общежительного устава. Коль скоро устав был введен в 1354—1355 гг., то и бегство Сергия надо относить примерно к этому времени.
Дата основания Андроникова монастыря столь же неопределенна, как и монастыря на Киржаче. Недавно предложена была датировка 1365—1373 гг. (126, 44). Однако она противоречит логике событий. Митрополит Алексей должен был приступить к исполнению своего обета вскоре после возвращения из литовского плена в 1360 г. Непонятно, что заставило его затягивать свой расчет с Богом на столь долгий срок? Отстаивая эту датировку, исследователь ссылается на известие Первой Пахомиевской редакции Жития Сергия о том, что игумен Андроник прожил в Троице под началом у Сергия 10 лет. Однако это известие появилось в данном контексте как вторичное, под влиянием помещенного несколько ниже рассуждения Сергия о том, что некоторые иноки, прожив в обители лет 10 или более, «потом санов хотят» (126, 370). Вообще во всем этом сюжете, как он изложен в Первой Пахомиевской редакции, ощутим какой-то уже неясный нам полемический подтекст или же просто путаница чернового оригинала Пахомия (126, 162). Возможно, здесь сказалось влияние Киево-Печерского патерика с его гневными обличениями «санолюбия» иноков (7, 480). Однако неуместность этой вставки в данном контексте была слишком очевидной. Не случайно при последующих обработках Жития Сергия она была удалена.
Есть еще одно обстоятельство, которое следует иметь в виду при хронологических изысканиях в Житии Сергия. Сообщение о том, что тот или иной подвижник был постриженником преподобного, не всегда следует понимать буквально. Сергий стал священником и полноправным игуменом только в 1354 г. Однако трудно поверить в то, что ранее этой даты маковецкая община пополнялась лишь за счет бродячих монахов. Несомненно, в обители был старец-игумен, имевший сан священника и совершавший постриг новых братьев по указанию харизматического главы общины — Сергия. Поначалу это был игумен Митрофан, постригший самого Сергия, а после его кончины — кто-то другой. Причем такая практика могла сохраняться и после 1354 г. (Например, во время длительной болезни преподобного или же его ухода на безмолвие.) Разумеется, все те, кто был пострижен по указанию Сергия и в его присутствии, также предпочитали называть себя его по-стриженниками. Однако в монашеском мире эту тонкую разницу замечали. Не случайно в рассказе о пострижении Федора Симоновского (Первая Пахомиевская редакция) особо оговорено, что он был пострижен лично Сергием («...и тако отлагает власы рукою преподобного Сергеа») (126, 352).
Практика исполнения обязанностей игумена одним из «старцев» соответствовала традициям древнерусского монашества. Известно, что Антоний Печерский, будучи главой общины и полноправным игуменом, зачастую поручал совершать постриг новых братьев своему ученику Никону (6, 318, 324). Подобные случаи известны в Киево-Печерском монастыре и в более позднее время (7, 488).
Традиционно временем основания Симонова монастыря считался 1370 г. (142, 229). В новейших исследованиях одни исследователи называют 1375—1378 гг. (126, 45); другие предлагают точную дату — «весна — осень 1377 г.» (135, 119). В основе этих подсчетов лежит принятая за истину «поздняя» хронология жизни Сергия. Если он вместе со Стефаном ушел в лес в 1342 г., значит, сын Стефана Иван (в иночестве Федор) не мог родиться позже 1342 г. Прибавляя к этой дате 33 года (минимальный возраст для игумена), можно получить 1375 г. как самую раннюю дату основания Федором Симонова монастыря. Другое рассуждение строится на уверенности в том, что уход Федора из троицкой общины для основания собственного монастыря был следствием того раскола, который произошел вследствие принятия общежительного устава (135, 119). Но коль скоро принятие устава относят к началу 1377 г., то для основания монастыря с участием умершего 12 февраля 1378 г. митрополита Алексея Федору остается только «весна — осень 1377 г.».
В биографии Федора Симоновского, как она представлена в Житии Сергия, вообще много неясного. Так, уже в Первой Пахомиевской редакции сообщается, что Сергий, исполняя волю Стефана, постриг его сына в возрасте всего лишь 12 лет (126, 352). Однако, как и в вопросе о возрасте самого Сергия во время пострижения, здесь существовали и иные, быть может, более достоверные, чем те, которые имел Пахомий при работе над Первой редакцией, источники информации. Не случайно в Пространной редакции Жития Сергия о возрасте пострижения Федора сказано довольно неопределенно: «Неции же реша яко десяти лет пострижен бысть, и инии же двою на десяте лет» (9, 336). Первый возраст (10 лет) скорее всего назван по «теоретическим» соображениям. Согласно церковным канонам (40-е правило VI Вселенского собора) именно с этого возраста разрешалось давать монашеский постриг. Агиограф явно хотел таким образом подчеркнуть благочестие Сергиева племянника, с самых ранних лет обратившегося к иночеству.
Однако так ли это было на самом деле? Еще церковные авторы прошлого столетия высказывали сомнение в точности этого необычного известия (142, 246). Очевидно, здесь, как и в ряде других сюжетов, агиограф, подобно иконописцу, соединил в одной композиции два совершенно разных события. Одно событие — появление племянника Сергия на Маковце. Возможно, Стефан привел сына на воспитание в Троицу в возрасте 12 лет, но пострижен он был лишь спустя несколько лет, после необходимого испытательного срока. Впрочем, и такое решение Стефана выглядит довольно странно. Отцы монашества (как и древнерусские подвижники) не одобряли совместного проживания взрослых монахов с детьми или отроками (21, 318). Для них предписано было создавать особые приюты вне стен монастыря. (Афанасий Афонский, например, не допускал отроков не только в своем монастыре, но и на всей Святой горе. Для их воспитания и подготовки к монашеству он отвел уединенный остров в море.) Но таких приютов Троицкий монастырь, насколько известно, не имел.
Согласно исторической выписке Екатерины II игумен Федор Симоновский «ходи со князем великим в поход на Мамая» (124, 146). Если это действительно так, то становится вполне понятным и внезапное прибытие Федора на Маковец 21 сентября с какой-то срочной вестью, и то особое доверие, которое оказывает Федору в последующие годы Дмитрий Донской. В начале 1381 г. симоновский игумен в звании духовного отца московского великого князя отправляется в Киев для решения вопроса о митрополии (18, 141). В августе-сентябре 1382 г. в обстановке всеобщей паники, вызванной нашествием Тохтамыша, Федор сопровождает великокняжескую семью в Кострому и крестит сына Дмитрия Донского Андрея, родившегося 14 августа (17, 71).
Внимание! Сайт является помещением библиотеки. Копирование, сохранение (скачать и сохранить) на жестком диске или иной способ сохранения произведений осуществляются пользователями на свой риск. Все книги в электронном варианте, содержащиеся на сайте «Библиотека svitk.ru», принадлежат своим законным владельцам (авторам, переводчикам, издательствам). Все книги и статьи взяты из открытых источников и размещаются здесь только для ознакомительных целей.
Обязательно покупайте бумажные версии книг, этим вы поддерживаете авторов и издательства, тем самым, помогая выходу новых книг.
Публикация данного документа не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Но такие документы способствуют быстрейшему профессиональному и духовному росту читателей и являются рекламой бумажных изданий таких документов.
Все авторские права сохраняются за правообладателем. Если Вы являетесь автором данного документа и хотите дополнить его или изменить, уточнить реквизиты автора, опубликовать другие документы или возможно вы не желаете, чтобы какой-то из ваших материалов находился в библиотеке, пожалуйста, свяжитесь со мной по e-mail: ktivsvitk@yandex.ru