

|
|
|
Издательство «АГНИ»
Самара
1997
Карклиня И.-Г.Н. Капли живой воды. – Самара: Агни, 1997. – 280 с.: ил.
Книга «Капли живой воды» сороковая по счету в жизни Инги-Галины Карклиня. Сложные духовные вопросы просматриваются сквозь призму трудной судьбы, которая свела автора со многими замечательными людьми нашего века.
Попав в юности в заполярный лагерь заключенных, Инга Карклиня оценила Учение Живой Этики, последователи которого помогли выжить и духовно окрепнуть автору. Вернувшись в Латвию, она занялась исследовательской работой по родословной Рерихов и тех, благодаря кому состоялось Латвийское Общество имени Н.К. Рериха и кто нес «Негасимый свет духовности», как названа в книге первая глава. Во вторую – «На земле предков Рерихов» вошли искусствоведческие работы о современниках и сподвижниках Н.К. Рериха в области искусств. Автобиографические статьи составили третью главу впервые печатающейся книги.
В книге 66 черно-белых фотографий и 15 цветных иллюстраций.
ISBN 5-87931-018-3
© Издательство «АГНИ», 1997

НЕГАСИМЫЙ СВЕТ ДУХОВНОСТИ Рерихи и Латвия
РЫЦАРЬ ДУХА Феликс Денисович Лукин
ОГНЕННЫЙ КОНЬ ДУХА – ЦЕЛИТЕЛЬ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Харальд Феликсович Лукин
СИМВОЛ ВОЖДЯ СЕРДЦА Рихард Яковлевич Рудзитис
СПУТНИЦА ЖИЗНИ, ДРУГ И СОРАТНИЦА Элла Рейнгольдовна Рудзите
ДУХОВНАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЪ Дочери Р. Рудзитиса
ДОЧЬ СВЕТА Катрина Екабовна Драудзиня
ОН БЫЛ ИЗ ТЕХ, О КОМ ГОВОРЯТ СТОЯ Александр Иванович Клизовский
ВО ИМЯ ОБЩЕГО БЛАГА Мэта Яновна Пормале
КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ... Милда Риекстиня-Лицис
КАК ХОРОШО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ... НО КТО ТЫ? Элза Карловна Швалбе-Матвеева
У ВАС ДВЕ ПРЕКРАСНЫЕ РОДИНЫ... Ольга Катенева-Нейман
МЕЖАПАРК – ДУХОВНЫЙ ОЧАГ РЕРИХОВЦЕВ 30-х ГОДОВ Ингрид Калнс, Фелиция и Лидия Осташевы
ЛАТЫШСКИЕ УЧЕНИКИ Н.К. РЕРИХА Профессор Карлис Миесниек
ПЕСНЕ ДЕНЬ ВЕЛИКИЙ Кришьянис Барон
СКАЗАНИЯ В ДЕРЕВЕ И ЯНТАРЕ Артур Берниек
ПОСМЕРТНЫЙ РОМАН В ПИСЬМАХ Янис Карклиньш
ГДЕ ТЫ, МОЙ СОЛОВУШКА-СОЛОВЕЙ? Арнольд Аузиньш
О величайшем Зодчем мостов дружбы и братства – Николае Рерихе – написано очень много. Но еще далеко не все. С каждым годом открываются все новые и новые страницы его жизни, обогащенные интересными фактами. Значительную исследовательскую работу проводят и члены Латвийского Общества имени Н.К. Рериха.
«Латвия нам всегда была близка как по народному эпосу, так и по моим предкам, – писал в 30-х годах в письме к рижским друзьям Николай Константинович. – Прадед моей жены тоже из Риги».
На латвийскую землю Рерихи пришли из Скандинавии более двух столетий тому назад и поселились на побережье Балтийского моря, вблизи курземской столицы Либавы (Лиепаи). В родословной Н.К. Рериха прослеживаются три поколения предков по отцовской линии, которые были связаны с Латвией.
Это прадед Иоганес Рерих, проживший на этой земле до 96 лет. Чем он занимался – нам неизвестно. В одной из латышских дайн говорится: «На величаво-суровой земле куршей и ливов, где гранитные валуны подступают к самому морю, нельзя стать землепашцем, не сдвинув их в сторону реки, не выкорчевав вековые корни могучих дубов...» Прижиться здесь могли лишь сильные духом.
Многовековая слава скандинавских корабельных мастеров и создателей быстроходных ладей осталась в памяти старожилов Балтики. Латышская народная поэтесса Мирдза Кемпе уроженка этого края – вспоминала, что ее прадед научился делать такие ладьи под парусом у одного из скандинавов Газенпота по фамилии Рерих. Совпадение ли это, или родословная нить?..
Дед Николая Рериха – Фридрих Иоганесович (впоследствии именуемый в Петербурге Федором Ивановичем) – прожил еще более долгую жизнь в Латвии – вначале в Газенпоте, где родился его сын Константин, отец Николая, а затем в Риге и на Рижском взморье. Известно, что он работал архивариусом в Лифляндском губернском управлении, имел наклонности к литературе, любил музыку и охотно занимался садоводством. Его любовь к Домскому органу – «молитве духа» – передалась и его потомкам, особенно внукам Николаю и Борису.
Из писем Николая Константиновича к рижанам мы узнаем, что в его памяти на всю жизнь сохранились светлые детские воспоминания о весенне-летнем отдыхе в Майоренгофе на даче деда.
Приведу некоторые штрихи из записной книжки своего прадеда Екаба Филки – взморского фурмана, содержавшего для обслуживания приезжих господ двух чистокровных рысаков. Уже за месяц до приезда петербургских гостей – сына Константина с семьей – Фридрих Рерих ангажировал Екаба Филку на весь летний сезон. Тогда же обсуждались и расписывались основные маршруты по побережью от Майоренгофа до Кемери.
По воспоминаниям своего дяди Адольфа Филки мне удалось получить представление о даче архивариуса в Майоренгофе. Она находилась возле Рижского залива в репрезентабельном районе с роскошными особняками и магазинами, торгующими западными товарами, на одной из перпендикулярных улиц, пересекающих центральную магистраль Иомас. Своей ухоженностью и обилием цветов дача привлекала внимание прохожих. Ее владелец – благородного облика господин с несколько суженным разрезом глаз и рыжеватой бородкой клинышком – был приветлив, общителен, кроме русского свободно владел немецким и латышским языками. Высоко ценил местных мастеров и не скупился на оплату их труда. Поэтому каждый из взморских ремесленников охотно нанимался к нему на сезонную работу. До глубокой старости Фридрих Рерих не носил очков, но читал много и имел обширную библиотеку русских и немецких классиков.
Уже в начале мая дача архивариуса приводилась в порядок: окрашивались окна и двери, устанавливались на столбах детские качели, а под развесистой яблоней в глубине сада вешался гамак для жены сына – Марии Васильевны – очень милой, улыбчивой женщины со славянским округлым лицом. Одно время в саду рядом с домом была восточная беседка с фонарем, где в вечерние часы семья Рерихов пила чай. Во время сильной морской бури ее снесло.
Поездки в Ригу обычно связывались с концертами Баха в Домском соборе. Как-то по просьбе нотариуса Константина Федоровича состоялась необычная «сверхпрограммная» поездка в Газенпот, где он родился. Ему хотелось встретиться со сказительницей Анной Трейей, предсказательницей судеб. Старушке было более восьмидесяти лет, жила она одиноко, замкнуто. Но своему земляку – петербургскому нотариусу – она не смогла отказать в приеме. На обратном пути Мария Васильевна взволнованно говорила: «Ты слышал, Костя, она дважды повторила, что наш Коля будет «великим человеком». Константин Рерих считал, что сын Николай должен стать его преемником – унаследовать нотариальную контору. Николай же все явственней выражал склонность к художеству и проявлял интерес к археологическим раскопкам.
Спустя много лет Николай Константинович напишет в своих воспоминаниях о Латвии: «...В те далекие дни услышались впервые сказания о народных героях Латвии, о зыбучих песках Куришгафа (Куршулициса), о развалинах замков, хранивших увлекательные предания. Одним из самых ярких впечатлений было собирание янтарей. Может быть, в поисках янтаря заключалось какое-то смутное предвидение будущих курганных находок, доказывающих существование далеких общений уже в неолите».[1]
Семейная хроника Рерихов связана со скандинавскими преданиями и легендами. Одно сказание я услышала от старого латышского резчика по дереву сказочника Артура Берниека, который общался с латышскими просветителями – собирателем народных песен-дайн Кришьянисом Бароном и поэтом Фрицисом Бривземниеком. По утверждению Берниека, это сказание в романтическом духе скандинавских скальдов было преподнесено в 1901 году деду Николая Константиновича – Фридриху Рериху в его столетие со дня рождения, когда по скандинавскому обычаю юбиляра катали по Рижскому заливу на ладье с красными парусами.
Вот это сказание в обработке Ф. Бривземниека, переведенное мной на русский язык: «...Спокон веков, как россыпи золотого янтаря, по Курземскому побережью Балтийского моря селились пришельцы из ближних и дальних стран. Никто не ведал, каким попутным ветром их занесло на эту суровую землю гранитных валунов и могучих лесных чащ. Полюбив ее всей душой, они нарекли ее своей родиной, а местные племена своими братьями и сестрами. И никто не спрашивал у пришельцев, какого они рода-племени и почему их язык непохож на язык куршей и ливов. Друг друга они понимали языком сердца...
Когда же на латвийскую землю обрушилась беда и Черный рыцарь поработитель пронзил Солнце Свободы мечом, повергнув непокорный край во тьму, на берегу Скандинавии вспыхнуло пламя костра Дружбы. Оно горело долго и ярко, пока не растопило тьму и над Курляндским краем вновь не засияло Солнце Свободы...»
Жизнь Константина Рериха была тесно связана с Россией. Завершив среднее образование в Риге и получив высшее юридическое в Петербурге, он в 1860 году женился на славянке Марии Васильевне Калашниковой и обосновался на постоянное жительство в столице Российской империи.
9 октября (27 сентября) 1874 года в семье нотариуса Петербургского окружного суда Константина Федоровича Рериха родился долгожданный первенец – Николай, затем появились на свет еще два сына, Владимир и Борис. Единственная дочь Лидочка была старшим ребенком в семье.
Нотариус занимал видное место в столичном обществе и пользовался заслуженным уважением. Дом его был широко открыт для ученых, археологов, литераторов, художников, музыкантов. Близкими людьми к семье Рерихов были академики – выдающийся химик Дмитрий Менделеев и известный скульптор Михаил Микешин, автор проектов памятников «Тысячелетие России» в Новгороде, «Екатерина II» в Петербурге и «Богдан Хмельницкий» в Киеве. В формировании эстетических взглядов Коли Рериха Микешин сыграл большую роль.
Микешин верил в большое будущее своего ученика Николая Рериха и благословил его дипломную работу «Гонец» (1896 ) в Академии художеств.
Академические годы (1893–1898) были для Николая Рериха становлением высоких нравственных и демократических принципов. Путь к постижению прекрасного отразился в его дневнике – исповеди души. Стремясь к самоусовершенствованию, расширяя свои познания в области различных наук и в сфере культуры, Николай Рерих пытался приобщить к этому и своих коллег по курсу. У него появилась идея создания студенческого кружка самоусовершенствования на основе взаимного обогащения в области естествознания, философии, истории, психологии, эстетики и беллетристики. «Читать и обсуждать будем вместе... Все будем делать вместе, не боясь критики и неединомыслия, – утверждал он. – В спорах рождается истина. Программное художественное образование будем пополнять сочинением эскизов на всевозможные темы и обсуждать их тоже совместно. В кружок самоусовершенствования принимаются все, независимо от курсов, наций, художественных направлений. Кружок должен носить демократический интернациональный характер. Он должен стать прогрессивным очагом Культуры». Таков был смысл устава, выработанный студентом второго курса. Свое выступление на открытии кружка Николай Рерих завершил призывом «протянуть друг другу руки помощи, соединиться мыслями и поработать для достижения начертанной себе цели...»[2]
Нити дружбы и сотрудничества связали Николая Рериха с латышами: Янисом Розенталом, Янисом Валтером и Вильгельмом Пурвитисом.
Первая встреча произошла на открытии занятия кружка, руководимого Рерихом. К студентам живописных мастерских Академии присоединились их соотечественники из училища барона Штиглица: в будущем корифеи латышской профессиональной культуры Густав Шкилтер, Теодор Залькалн и график Юлис Мадерниек. Вечер был интересным и многообещающим. Но, увы, за ним последовало разочарование. Различный уровень знаний и духовного развития помешал студентам объединиться. Кружок распался.
В 1894 году в Академии состоялась традиционная выставка дипломных работ студентов. Она вызвала большой интерес столичной публики. На сей раз в центре внимания оказалась многофигурная жанровая картина Яниса Розентала, ученика Алексея Кившенко и Владимира Маковского. Называлась она «После богослужения». В основе сюжета – характерное для конца XIX века социальное расслоение латышской деревни. Писал Розентал свою картину в родном местечке Салду. На первом плане были изображены родители художника: отец – сельский кузнец и мать – мастерица и сказочница. Демократизм художника проявился в несколько гротесковом изображении чванной богатой прослойки населения.
«Николай Рерих, – вспоминал Густав Шкилтер, – был взволнован и обрадован появлением этого шедевра на академической выставке.
— Какое великолепие! Сколько света и задушевности! – восклицал он. – Это подлинная эпопея народной жизни глазами гуманиста!..»
Рерих вместе со Шкилтером долго разыскивали в толпе смущенного автора, чтобы пожать ему руку. Растроганный признанием одного из лучших учеников профессора Куинджи, Янис Розентал пригласил Рериха и Шкилтера в свою мастерскую на улицу Садовую. Там за небольшую цену он снимал мансарду с окном во всю стену. Мебели почти никакой не было: массивный дубовый стол, несколько мольбертов, два стула и две железные кровати, покрытые самоткаными одеялами с латышским орнаментом. Рерих заметил на стене висящую гитару и, обрадовавшись, спросил: «Вы играете?..» Розентал ответил: «Играет и поет мой тезка Янис Валтер... Сейчас он на занятиях латышского студенческого кружка «Рукис», что в переводе на русский означает «Труженик». И заметил: «Я бы вас пригласил туда, но занятия нашего кружка ведутся на латышском языке... Деятельность его развивается в русле народных просветителей, носящих название «младолатыши». Во главе этого движения стоят такие авторитетные мужи национальной культуры, как собиратель латышских дайн Кришьянис Барон и его ближайшие соратники Кришьянис Валдемар, поэт Фрицис Бривземниек, братья Алунаны... Все они ратуют за статус родного языка и занимаются исследованием народного творчества. Мы, молодое поколение художников, – студенты Академии, училища Штиглица и консерватории, – ставим своей целью продолжать их благородное дело...»[3]
Мастерская Розентала была приютом, а порой и местом работы для многих латышских студентов. Здесь же зачастую обговаривались и дела кружка, создавался его рукописный иллюстрированный журнал.
Позднее, в 1924 году, в латышском «Иллюстрированном журнале» (№ 2) Густав Шкилтер опубликовал свои воспоминания о петербургском кружке «Рукис». Излагая его программу, скульптор писал: «Прежде всего каждый член этого кружка должен чувствовать себя сыном своей родины. Для этого необходимо стремиться к определению своей творческой индивидуальности, притом быть профессионально подготовленным...»
Прогрессивный демократический дух «Рукиса» был близок Николаю Рериху. Однако он мечтал о создании более широкого интернационального кружка, в котором бы каждый смог совершенствовать не только свою национальную культуру, но и приобщаться к другим. Это, по его мнению, было бы духовным обогащением для всех.
Уже в дневниках студента Николая Рериха появляются золотые россыпи философских мыслей о духовном развитии человечества путем Культуры. Уже тогда ему как великое прозрение духа становится понятным действенное значение Красоты, Искусства.
В 1936 году в Риге в издательстве Латвийского Общества имени Н. Рериха вышла в свет его книга «Врата в Будущее» с посвящением: «Елене, жене моей, другине, спутнице, вдохновительнице». Девизом книги, обращенной к людям всего мира и, прежде всего, к молодежи, служит призыв великого учителя: «Пылайте сердцами, творите любовью».
«Для всех нас, латышских художников, – писал Г. Шкилтер, – которые знали и общались с Николаем Рерихом в разные периоды его жизни в России и за рубежом, книга «Врата в Будущее» стала путеводителем в жизни, она звала к размышлению о своем самоусовершенствовании, ответственной миссии носителей и создателей Прекрасного. С большой благодарностью судьбе вспоминаю свои краткие встречи с Николаем Константиновичем в студенческие годы в Петербурге, а также в усадьбе «Извара» под Петербургом, которая, как нам объяснил ее владелец, в переводе с индусского означала «Богами благословенная».
Густав Шкилтер вспоминал один из вечеров студенческого содружества, организованных по просьбе братьев Николая и Бориса, который состоялся в петербургской квартире Рерихов на Университетской набережной. На нем присутствовали Янис Валтер, Вильгельм Пурвитис и молодой композитор Язеп Витол.
По просьбе хозяев дома Язеп Витол музицировал, Янис Валтер пел под гитару. Николаю Рериху вспомнились летние каникулы у дедушки в Латвии. «Я не знаю более певучих и музыкальных народов, чем украинцы и прибалты», – сказал он. Тогда же возникла взволновавшая всех беседа о назначении художественной культуры. Николай Рерих прочел из своей записной книжки сформулированные им афоризмы «О сущности Прекрасного»: «В искусстве таятся семена созидания... Недаром под звуки Орфеевой лиры строились города». «Искусство есть водворение в душу стройности и порядка... Из древности много подтверждений тому». «Если мир, по словам Платона, управляется идеями, то благородные зерна искусства всегда будут тем благостным посевом...»
Гостеприимный, открытый для всех дом Рерихов охотно посещался и коллегами Михаила Микешина, профессорами Академии художеств Архипом Куинджи, Ильей Репиным. Однажды Михаил Осипович привез в Извару своего украинского друга – ученика Миколы Мурашко и Ге – Ивана Кирилловича Пархоменко. Он оказался на редкость задушевным человеком и прекрасным рассказчиком. Позже в беседах со своими латышскими учениками по Школе поощрения художеств, в частности с Миесниеком, Кронвальдом и Филком, Николай Константинович вспоминал: «Однажды мы с семьей просидели всю ночь, слушая захватывающие рассказы Ивана Пархоменко об Украине – «святой Тарасовой земле».
Позволю себе небольшое отступление. В феврале 1976 года в Доме творчества писателей в Ирпене я встретила земляка Пархоменко – полтавчанина прозаика Александра Ковинько. Он подарил мне свою книгу, на которой написал: «Радость есть особая мудрость... Если вы чего-то хотите, вы должны об этом думать и вы должны магнитом сердца привлечь это...»
Это были слова Николая Рериха из его книги «Врата в Будущее», выпущенной рижским издательством. Полтавчанин получил ее в дар от поэта Юлия Ванага в 1965 году во время недели латышской культуры на Украине.
Однако вернемся к петербургским страницам биографии Николая Константиновича, его дружеским и творческим контактам с латышскими мастерами искусства. Как известно, они зародились уже в студенческие годы. Правда, в отличие от обоих Янисов – Розентала и Валтера – с коллегой по курсу Вильгельмом Пурвитисом у Николая Рериха не сразу установились доверительные отношения.
Самолюбивый, легкоранимый Вильгельм вначале сторонился, как ему казалось, барственного, материально независимого сына известного петербургского нотариуса. Считал его баловнем судьбы.
«Нас сблизила дружественная демократическая обстановка мастерской маэстро Куинджи, – вспоминал впоследствии Николай Константинович. – Для профессора Куинджи все студенты независимо от их сословия, положения в обществе были равны. Определяющими качествами учеников он считал их личные способности и трудолюбие...»
«Тогда же и мне «открылся» по-настоящему Рерих, – признался Густаву Шкилтеру Пурвитис. – Его большой живописный талант и эрудиция во многих областях науки, философии, литературы, страстный интерес к археологии и естествознанию сочетались с искренней доброжелательностью к коллегам».
Вильгельма Пурвитиса и Яниса Розентала поразила дипломная работа Николая Рериха «Гонец» своим глубоким философским смыслом и самобытным образным и живописным решением.
...Поздней ночью в скупом свете луны четко обрисовываются силуэты двух загадочных фигур – гонца и седого старика. Они везут важную и тревожную весть: «Между славянскими племенами началась война». Сюжет этой романтической картины относится к началу нашей эры. Работа «Гонец» была приобретена Третьяковым.
В 1896 году Рерих с большим успехом окончил Академию художеств. После Академии творческие пути Вильгельма Пурвитиса и Рериха часто пересекаются. По совету Стасова и Репина художник уезжает в Париж и поступает в мастерскую выдающегося рисовальщика и живописца исторических картин Ф. Кормона...

Профессор Вильгельм Пурвитис
Осенью 1901 года Николай Рерих женился на дочери архитектора Ивана Шапошникова – Елене Ивановне, ставшей для него не только другом на всю жизнь, но и соратницей в его больших начинаниях и свершениях.
Вместе со своей супругой Николай Константинович в мае 1903 года посетил места своих и Елены Ивановны предков в Латвии. Еще в студенческие годы, посещая в Петербурге на улице Садовой мастерскую двух Янисов – Розентала и Валтера, он пообещал им после окончания Академии художеств непременно побывать в Латвии и вместе с ними побродить по древним историческим местам. И вот только теперь, через семь лет, когда уже нет в живых дедушки Фридриха, сбылось их сокровенное желание. Они смогли ощутить всю гамму красок благодатной земли Прибалтики начиная от весеннего пробуждения природы, когда небо и реки насыщены кобальтом пурвитисовских весен, до звонкой сентябрьской охры с буйным акцентом ржаво-карминовых красок в неостывших от жаркого лета видземских полотнах Яниса Розентала. Их очаровал тонкий лиризм солнечного безветренного полдня в «скрипичной гамме» картины Яниса Валтера «Купающиеся мальчики»... К сожалению, публикаций об этой поездке супругов Рерихов в Латвию почти нет.
Пользуясь искусствоведческими каналами – контактами с художниками и архитекторами старших поколений, мне все же удалось установить некоторые факты, подтверждающие посещение родных мест Курземского (Курляндского) края Рерихами.
Сошлюсь на беседу с уроженцем Лиепаи известным латышским архитектором Эрнестом Екабовичем Шталбергом (1883–1958). Встреча с ним происходила на Видземском взморье в Вецаки на улице Сэклю, дом 6, где находилась мастерская скульптора Льва Владимировича Буковского. Профессор Шталберг позировал художнику для портрета. Однажды он рассказал о своей встрече с супругами Рерих в Риге в 1903 году: «...Это получилось неожиданно в романо-готическом дворике Домского собора... Николай Константинович писал один из своих этюдов... Я попросил разрешения посмотреть на его работу и сказал, что по окончании среднего образования в Риге попытаюсь поступить на архитектурный факультет в Петербурге... Слово за слово... Я и сам не заметил, как стал гидом супругов Рерих и даже попал в один из кадров его фотоснимков... Мы вместе посетили ряд церковных архивов Старой Риги, заглянули в Домскую школу, готовящую священников... Интерес к старине у Николая Рериха был настолько велик, что он не удовлетворялся скупыми датами экскурсоводов, а как истинный исследователь добивался доступа к подлинным документам, делая рукописные копии с них... Его волновало равнодушие чиновников к своему богатому наследию... Как много прекрасных творений зодчества канули бесследно в вечность... Уже тогда им владела мысль о совместной разработке конвенции по защите художественных ценностей...»
— А как работал Николай Константинович на пленэре? – поинтересовалась я.
«Работал как истинный художник-эстет, – объяснил Шталберг, – очень собранно, экономя каждое движение. Кисть для него была как смычок у скрипача. Краска ложилась на холст легко и уверенно. Композиционных поправок не было. А вот освещению Рерих придавал огромное значение. Поэтому у этюдов было много вариантов. Он не боялся открытого, локального звучания цвета. Но в цикле «Старая Рига», написанном в разную пору дня, светотеневые отношения играли первостепенную роль, передавая особенность прибалтийского приглушенного колорита».
Дружелюбный, общительный Рерих имел в Латвии много друзей и прежде всего коллег по Академии. С кем из них он желал прежде всего встретиться? Конечно, с Вильгельмом Пурвитисом и Янисом Розенталом, с которыми не прерывалась петербургская связь на академических выставках. Рерих знал, что в Риге готовится к открытию городской Художественный музей на улице Кришьяниса Валдемара. Знал, что Пурвитису архитектором и первым директором В. Нейманом доверена стенная роспись в верхнем вестибюле здания. Но, увы, там он не застал своего коллегу. Прервав незаконченную работу, тот выехал в Ревель, а затем в Мюнхен на чествование своей персональной выставки и получение золотой медали. Не было в Риге и Яниса Розентала: он находился в Хельсинки. Там предстояло большое событие в его жизни – свадьба с финской певицей Элли Форели. Портреты невесты Розентала Рерихи видели на выставке в Юрмале.
Из коллег по Академии в Латвии находился лишь второй Янис – Янис Валтер. Он по-прежнему жил в Елгаве, на своей родине, и любезно пригласил к себе супругов Рерих. В памяти Николая Константиновича еще свежа была дипломная картина Валтера «Базарная площадь в Елгаве» (1897). Писал он ее в солнечный воскресный день, и колорит был светлым, радостным. Персонажи были конкретные. На переднем плане слева крупным планом две женские фигуры в нарядных платьях и в шляпках – представительницы елгавской аристократии. Позируя художнику, они просили не упоминать их имен. В центре на дальнем плане – художник за мольбертом. Для его образа позировал Вильгельм Пурвитис. Рядом с ним, спиной к зрителю, полицейский в белой парадной форме. Тоже конкретная личность. Янис Валтер очень гордился родословной своего древнего города – столицы Курляндского герцогства. Как свидетельствует летопись XIII века, он возник на месте поселения орденского замка. Страстный любитель старины, Николай Рерих здесь сделал много записей и карандашных зарисовок, подкрепил их фотографиями замечательных творений зодчества XVI – XVII веков – церквей Святой Троицы и Анны. Барочный дворец Бирона на месте старого замка впоследствии перестраивался по проектам Растрелли. Перестраивалась и меняла свой стиль «Академия Петрина»[4]. Классицизм вносил строгость и рационализм в архитектуру Елгавы (Митавы) последующих столетий.
В дневниковых записях появились строки: «И сама Рига, с древними соборами и прекрасным органистом, ввела нас в свое славное прошлое. Помню улицы Старой Риги – им я посвятил несколько этюдов...» Разрушительные вихри начала XX века видоизменили облик этого прекрасного города, превратили в руины многие бессмертные творения зодчих. Перекосились и почернели черепичные крыши елгавских селений. Свою боль за судьбу незащищенных памятников старины, свое разочарование в происшедшей с годами войны метаморфозе Николай Рерих выразил в ответной картине «Елгавская базарная площадь» (1903). ...Домики под почерневшими черепичными крышами, покосившиеся деревянные заборы и хмурое осеннее небо. На его фоне – аскетические силуэты старых лютеранских кирх... Почему так мрачно? «Наши современники жестоки, – говорит автор. – Они разрушают все, что строили с любовью их предки...» Об этом Н.К. Рерих пишет в своей брошюре «По старине» (1904). Печальной оказалась поездка Рерихов на Рижское взморье в Майори. Уютная, ухоженная дедушкина дача с беседками и гамаками для внуков сгорела после переезда Фридриха Рериха в Петербург. «Супруги Рерих посетили около сорока исторических городов и поселений. Николаем Константиновичем было создано около ста живописных и графических архитектурных этюдов и свыше 500 фотоснимков», – пишет Гунта Рихардовна Рудзите в своей статье «Н.К. Рерих в Прибалтике»[5]. Впоследствии часть из них была использована И.Э. Грабарем в его «Истории русского искусства» (Москва, 1910 – 1914). Эти произведения не вошли в коллекцию картин, подаренных в начале 30-х годов Музею Латвийского Общества имени Н.К. Рериха.
В апреле 1906 года Николай Рерих становится директором школы Общества поощрения художеств. Преподает композицию, создает музей и мастерские. К нему в ученики поступают и латышские одаренные юноши, желающие стать профессиональными художниками. У многих из них сопроводительные письма, написанные рукой В. Пурвитиса, Я. Розентала, Ю. Мадерниека. Среди них – Карлис Миесниек из Пиебалги, Алберт Филка из Юрмалы, Франциск Варславан из Резекне, Алберт Кронинберг, Индрикис Зебериньш и многие другие.
Через четыре года, в 1910 году, в одной из своих публикаций, посвященной работе школы и тому огромному признанию, которым она стала пользоваться во всей Российской империи, включая Прибалтику, Александр Бенуа напишет: «Самое закоснелое из российских художественных учреждений оказывается вдруг способным на обновление и жизненность. Это чудо произошло благодаря энергии одного человека, одного художника – Рериха».
О методе преподавания Рериха трудно говорить в рамках традиционной системы конца XIX – начала XX столетия. «Он никогда никому ничего не навязывал, – вспоминал К. Миесниек. – Он не преподавал по академической программе, а беседовал, очень деликатно, но настойчиво, призывал нас к самоопределению, категорически выступал против любого подражания и бездумного копирования. Ободрял своей верой, что «все получится, если будете исходить от собственного восприятия». О Николае Рерихе с большой теплотой вспоминал скульптор Иван Шадр, ученик Теодора Залькална, преподававшего в 1902 – 1903 годах в Художественной школе Екатеринбурга и приводил слова Николая Константиновича: «Выслушав советы учителей, сделай так, как нужно тебе». Это говорило об уважении Рериха-педагога к самостоятельному мышлению учеников, к стремлению сохранить их самобытность.
Для Латвии это были тяжкие предреволюционные годы. Художники влачили жалкое существование. Их картины мало кто покупал, а коллекционеры, имеющие связь с заграницей, сбывали их произведения за солидную цену европейским частным галереям. Открывшийся в Риге в 1905 году Музей латышского искусства был весьма ограничен в средствах. И все же в его постоянной экспозиции можно было увидеть произведения национальной классики: Карла Гуна, Юлия Феддера, Адама Алксниса, Яниса Розентала, Вильгельма Пурвитиса, Александра Рамана, Яниса Валтера... Для всех этих художников, воспитанников петербургской Академии художеств, школы барона Штиглица, связь с Петербургом – это не только духовная поддержка веры в себя, но и материальный источник для существования. В 1906 году в российской столице латышским студентам удается издавать сатирический журнал «Весы», идет сбор средств на издание Кришьянисом Бароном многотомника латышских дайн. Здесь в клубе «Рукис», руководимом студентом мастерской Д.Н. Кардовского Янисом Тильбергом, Рерих слушает концерты молодого композитора, ученика Римского-Корсакова – Эмиля Дарзиня. В памяти Рериха на всю жизнь остается его музыка на слова Я. Райниса «Сломанные сосны». Это лишь штрихи для более глубоких и последовательных исследований контактов Николая Константиновича с латышскими художниками.
В 1910 году после распада первого объединения «Мир искусства» возникло новое, на других основах. Николай Рерих избран его председателем. Тогда же он пригласил Вильгельма Пурвитиса участвовать в комиссии по отбору произведений для столичных салонов. В годы первой мировой войны Рерих вместе с Тильбергом сотрудничают в Красном Кресте, организовывают выставки-продажи картин. Полученные деньги идут на помощь беженцам, осиротевшим детям и раненым воинам.
В ногу с Николаем Рерихом в это мятежное время идет на своей родине и Вильгельм Пурвитис. Он занят большими организационными делами: ратует о создании Латвийской академии художеств, возглавляет Художественное училище в Риге. В нем трудятся по приглашению В. Пурвитиса ученики Н. Рериха из школы Общества поощрения художеств. С 1911 года Янис-Роберт Тильберг преподает там живопись портрета и обнаженной натуры.
В 1917 году во время Февральской, а затем и Октябрьской революций Николай Константинович в авангарде борцов за сохранение художественного наследия русского народа. Этой же задачей занят на своей родине Вильгельм Пурвитис, который по-прежнему в курсе дел своего коллеги и действует, ратуя о создании в Латвии Академии художеств, потом с 1919 по 1934 годы он является ее ректором. Большая заслуга его в реорганизации городского Художественного музея. Опыт совместной работы с Николаем Рерихом сказывается во всех смелых начинаниях Пурвитиса по охране отечественных памятников архитектуры и изобразительного искусства.
Творческая и организаторская работа Николая Константиновича этих лет неразрывно связана с археологическими и этнографическими исследованиями. Рерих последовательно и тщательно изучает и культурные связи Руси со Скандинавией. Его находками, восходящими к глубоким корням культуры народов XI–XII веков, пополняется экспозиция музея Русского археологического общества.
В 1918 году под председательством Алексея Максимовича Горького была создана Комиссия по делам искусства и архитектуры. В ее состав вошли Александр Бенуа и Николай Рерих. Она занималась вопросами охраны памятников древности, проектированием новых, организовывала работу музеев и театров. При непосредственном участии Горького и Рериха было создано Общество друзей и любителей искусства. Деятельность Николая Константиновича и его латышского коллеги по Академии Вильгельма Пурвитиса была связана с Красным Крестом. Большая общественная нагрузка не помешала Рериху заниматься живописью и литературным трудом. Осенью 1918 года он завершает свою повесть «Пламя», в которой призывает «прозреть», «обратиться к Свету»: «Приходите, берите, стройте! Я ощущаю в себе силу начать страницу жизни... Заканчивается наш черный век».
После публикации декрета Совнаркома о плане монументальной пропаганды комиссар просвещения Анатолий Васильевич Луначарский вручил петроградскому скульптору Шервуду список имен выдающихся деятелей, ученых, писателей, художников, артистов, предполагаемых для увековечивания в памятниках.
Желающих участвовать в конкурсе проектов было много. В нем принимали участие выдающиеся скульпторы всех республик, в том числе и Латвии. В приеме проектных заявок и в жюри участвовал скульптор Карлис Зале (Залитис) – правая рука Шервуда. Жюри было строгое и компетентное. К реализации было одобрено 16 проектов, из них шесть принадлежали латышским скульпторам – Карлису Зале, Теодору Залькалну и Янису Тильбергу. Работа над моделями и их отливкой в гипсе происходила в скульптурных мастерских Академии художеств, а в летние месяцы во дворе академического корпуса на 4-й линии Васильевского острова. Находящийся в курсе всех художественных событий Петрограда Николай Константинович Рерих наведывался и в эту мастерскую. Первым был открыт бюст Добролюбова работы Карлиса Зале – 27 октября 1918 года – на Петроградской стороне у Тучкова моста, затем монумент Н. Чернышевскому Теодора Залькална на Сенатской площади (17 ноября) и 28 ноября на площади Красных Зорь памятник Тарасу Шевченко, созданный Янисом Тильбергом. На открытии присутствовал А.В. Луначарский. Впоследствии Карлис Зале рассказывал, что на открытие его памятника пришел и директор школы Общества поощрения художеств профессор Николай Константинович Рерих. «Он пожал мне руку и сказал Луначарскому: «Желательно было бы памятники латышских мастеров со временем перевести из гипса в более прочные материалы...» Выступая на открытии, А.В. Луначарский пожалел, что эти «прекрасные произведения осуществлены в таком недолговечном материале, как гипс». Обещал позаботиться об их отлитии в бронзе. «Помнится, мы оба – я и Карлис Зале – предложили свои работы осуществить в латвийском граните, – вспоминал профессор Янис-Роберт Тильберг в 1970 году незадолго до кончины. – Но, увы, все эти памятники в середине 20-х годов разрушились и были сняты с пьедесталов...»

Открытие памятника Кобзарю.
В первом ряду справа: А.В. Луначарский, Я. Тильберг, Д.И. Лещенко
В 1923 году Рерих с семьей уезжает в Индию. Там продолжаются его исследования древних памятников, философии, духовных богатств Востока. Верная спутница жизни художника Елена Ивановна – его соратница и вдохновительница. Достойными продолжателями дела своих родителей стали их сыновья Юрий и Святослав. Юрий Николаевич известен как выдающийся исследователь восточной философии.. Знание многих языков помогло ему в обширной научной и педагогической деятельности. После смерти Елены Ивановны Юрий Николаевич Рерих приезжает работать в Москву. Здесь в 1960 году обрывается его жизнь.
Младший сын Рерихов, избрав профессию художника, остается верен духовным традициям своей семьи. В 80-х годах он избирается почетным членом Академии художеств СССР. По просьбе возобновившего свою деятельность Латвийского Общества им. Н.К. Рериха в 1988 году становится его почетным президентом, поддерживает тесную связь, посылает для его музея картины, дает комментарии к лечебным травам Индии.
Совершим краткий исторический экскурс в историю создания Латвийского Общества Живой Этики.
В сентябре 1923 года рижский востоковед Владимир Анатольевич Шибаев (1898–1975), заинтересовавшийся Учением Живой Этики, встретился в Сан-Морице (Швейцария) с Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной. Беседы принесли взаимное понимание, возникло стремление к сотрудничеству. Затем состоялись еще встречи и совместная поездка из Парижа в Индию. О ней в своих «Воспоминаниях очевидца» Владимир Шибаев пишет: «Долгое чудесное путешествие по тихим морям наедине с Николаем Константиновичем, постоянные беседы с ним... открыли мне всю глубину замечательной личности... Покидая Индию, я вез с собой много рукописей и много разных поручений от Н.К. Рериха»[6].
На основании их Владимир Анатольевич создает в Риге кружок друзей Живой Этики, готовит к изданию рукописи Н.К. Рериха. В 1924 году в рижском издательстве «Алатас» выходит в свет книга Н.К. Рериха «Пути Благословения». Выпуская этот уникальный труд, издатели во вступлении писали: «Н.К. Рерих через бури разрушения, через тьму непонимания и через стены вражеских препятствий проносит в Будущее не расплесканною чашу Красоты и Мудрости. И тем самым он становится одним из величайших духовных вождей современности, к голосу которого с особой чуткостью должны прислушиваться молодые поколения. Мы верим, что книга Рериха явится одной из первых стрел всепобеждающего Света, исцеляющего дух и пробуждающего в людях дремлющее Благо».
Спустя четыре года по вызову Н.К. Рериха В.А. Шибаев выезжает в Индию и становится секретарем института гималайских исследований «Урусвати». В Латвии у Владимира Анатольевича остаются больной отец, друзья и единомышленники. Рижский кружок восточной философии В.А. Шибаев передал своему другу д-ру Феликсу Денисовичу Лукину (1875–1934). В 1926 году д-р Лукин встретился с супругами Рерих в Париже. Там был найден взаимный духовный контакт, определены функции общества и вручен проект Пакта Мира. Д-р Ф. Лукин вернулся на Родину окрыленный своей почетной миссией. С благословения четы Рерих 13 октября 1930 года в Риге было провозглашено открытие Общества. Тогда же состоялось и подписание проекта Пакта Мира. К уже существовавшим секциям «Философии и Живой Этики», «Женского единения» и «Изучения родословной семьи Рерихов» в Латвии добавилась новая и, пожалуй, самая значимая – «Пакта Н. Рериха и Знамени Мира», которую посещали слушатели всех секций, а также с ней сотрудничали латвийские работники музеев, Академии наук и искусства, театральные деятели. Под Пактом Мира поставили свои подписи сенатор Калис Дуцманис, поэт Янис Райнис, композитор, ректор консерватории Язеп Витол, композитор Алфред Калниньш, академик Маул Страдынь, ректор Академии художеств профессор Вильгельм Пурвитис, профессор Карлис Зале. Из Индии от семьи Рерихов пришло поздравление Латвийскому Обществу.
«Когда мы узнали, что Ф. Лукин стал во главе нашего Латвийского Общества, – писал Николай Константинович в 1934 году, – почувствовалось, что устои Общества будут прочны... И не на время, но по существу навсегда... Основы культуры нерушимы, если они любовно заложены».
И надежды семьи Рерихов оправдались. Латвийское Общество заявило о себе как об одном из первых ведущих центров европейской духовной культуры. К сожалению, доктор Феликс Лукин не дожил до принятия Пакта Мира в Вашингтоне. Но он стал объединяющим духовным началом сотрудничества, в котором родственно сходились люди разных сословий, профессий и возрастов – все те, кто стремился к свету познания высшего начала. Его деятельность, которая продолжалась всего шесть лет, укрепила основы Общества для дальнейшего благотворного развития. Одним из первых оно принимает участие в движении за принятие Пакта Мира. Устанавливает непосредственную творческую связь с институтом гималайских исследований «Урусвати».
Приветствуя образование Латвийского Общества, Елена Ивановна пишет: «Так еще одно прекрасное начинание воздвиглось как оплот против воинствующей тьмы!.. Прошу передать всему правлению и всем членам-основателям Общества сердечный привет и пожелания, чтобы этот оплот укреплялся и мужественно, светло и радостно прилагал свои силы на пути служения Общему Благу». Письмо датировано 16 июля 1935 года.
Доктор Лукин воспитал достойных себе преемников. Среди них был поэт-философ Рихард Рудзитис, возглавивший Латвийское Общество им. Н.К. Рериха с 1936 по 1940 годы. Это было время бурного расцвета. При Обществе был организован музей, где хранилось 55 картин Николая и Святослава Рерихов, экспонировались выставки искусства прибалтийских республик, работали различные кружки. Была создана обширная библиотека редких изданий. В рижском издательстве «Угунс» печаталась серия книг «Живой Этики», трудов Н.К. Рериха. Выходили также книги поэта Рихарда Рудзитиса, его исследования творчества Н.К. Рериха, переводы Тагора. Впервые в печати появилась трилогия Александра Клизовского «Основы миропонимания Новой Эпохи»... Николай Константинович и Елена Ивановна с большим вниманием следили за творческим развитием Общества. Обменивались письмами и давали полезные советы.
15 апреля 1935 года в Вашингтоне президентом Ф. Рузвельтом и двадцать одной республикой Латинской Америки был подписан договор об охране художественных ценностей и исторических памятников – достояния вселенной как в экстремальных условиях войн, так и в мирное время, когда из-за невежества и чиновничьего равнодушия гибнут неоценимые ценности духовного богатства народов нашей планеты... Президент США сказал: «...предлагая этот Пакт, разработанный в 1929 году художником академиком Николаем Рерихом, к подписанию, мы стремились к тому, чтобы его всемирное признание сделалось насущным принципом для охраны современной цивилизации»[7]. Вскоре под Пактом поставили свою подпись светочи мировой культуры: Ромэн Роллан, Рабиндранат Тагор, Альберт Эйнштейн, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Томас Манн и многие-многие другие.
Катрина Драудзиня, возглавлявшая секцию «Женского единения», вспоминала: «День подписания Пакта Мира был радостен и волнителен. Мы все единодушно встали на защиту памятников культуры... Мы всеми силами стремились к восстановлению разрушенных памятников архитектуры...» Тогда же в Кулу пришло письмо из Риги от группы латышских скульпторов – преподавателей Академии художеств. Они поздравляли Н.К. Рериха с единодушным принятием Пакта Мира и защиты памятников культуры... Приглашали его посетить Латвию в период расцвета ее духовных сил, воплощенных в ваянии и зодчестве.
В 1936 году в Риге в издательстве «Угунс» вышла в свет книга Рихарда Рудзитиса, посвященная апологету культуры Николаю Рериху. В ней имеются такие замечательные главы, как «Миссия Культуры», «Лига Культуры» и «Женщина и Культура». Приводятся слова Николая Константиновича и Елены Ивановны, которые очень существенны и для нашего времени: «Там, где культура, там и мир... Нужно разоружиться в сердце и в духе. Сердце человеческое должно согласиться на разоружение и сотрудничество». Комментируя эти изречения, Рудзитис говорит: «Наша эпоха смешала, нивелировала, нередко даже запятнала истинное, сокровенное понятие культуры. Европейская логика весьма часто смешивает культуру с цивилизацией, вечное с временным, преходящим. Рерих снова и снова призывает разграничивать эти понятия. Культура должна обосновывать и одухотворять цивилизацию как свою составную часть. Первичное понятие культуры для Рериха – служение Свету. Этому понятию он находит и филологическое оправдание. «Культура имеет два корня, первый – друидический... Культ всегда останется почитанием Благого Начала, а слово Ур нам напоминает старый восточный корень, обозначающий Свет, Огонь. Итак, Культ – Ур может означать почитание Света». Отсюда вывод автора статьи, что «... Культура для Рериха есть свет духа, все высшие духовные и материальные ценности... Она – синтез и сотрудничество между всеми видами человеческих ценностей... Пока культура лишь пирог праздничный, она еще не перестроит жизнь...» Люди истинной культуры для Рериха не мечтатели, но воплотители своих высочайших мыслей и мечтаний. Николай Рерих приходит как апостол всекультурного и всечеловеческого сотрудничества и содружества...»
В главе «Лига Культуры» Рудзитис пишет: «Будучи по своей сущности настоящим реалистом и воплотителем, Н.К. Рерих пытается осуществить свои идеалы в многосторонних и монументальных жизненных начинаниях». Вспоминаем и мы, исследователи жизни и творческих деяний Рериха: с 1906 по 1917 годы – должность директора Императорской школы Общества поощрения художеств в Петербурге; в Нью-Йорке – музей-небоскреб имени Н.К. Рериха; в Гималаях – научный институт; его Знамя Мира принято многими державами; возникла конвенция Пакта Мира; основана Всемирная Лига Культуры. В последней объединяются все культурные, научные и художественные общества и отдельные личности. Елена Ивановна так определила ее сущность: «Это как бы обширнейший храм, в котором каждый, стремящийся к общему Благу и к совершенствованию жизни, находит свое место». И как по-современному звучит статус Лиги: «Всемирная Лига Культуры есть кооперативное объединение научных, художественных, промышленных, финансовых и прочих учреждений, обществ и личностей, работающих в пределах культурных путей».
В главе «Женщина и Культура» Рихард Рудзитис пишет: «Люди опять осознали грядущую эпоху Матери Мира. И опять меч подвига в руке Жанны д'Арк... Три миллиона женщин Америки приняли Знамя культуры». В статье «Стража Матери Мира», обращаясь к Федерации женских клубов штата Нью-Йорк, примкнувшей к Знамени Мира, Н. Рерих пишет: «...Кто же, как не женщина внесет в дух человеческий высшее понятие Культуры?.. Перечисляя подвиги женщин, мы напишем историю всего Мира». Как величайший пример женщины будущего, поэт Латвии Р. Рудзитис упоминает Елену Ивановну Рерих. Вдохновение ее духа ощущается сквозь ритм труда музея и Общества имени Рериха. Она основала при центре музея Рериха секцию Всемирного единения женщин с целью дать женщине ее настоящее место в эре Великой Матери. Призывая к свершению великой миссии женщины, Елена Ивановна пишет: «В тяжкие дни космических катаклизмов и человеческого разъединения и дегенерации, забвения всех высших принципов бытия... должен подняться голос женщины, испившей чашу страдания и унижения и закалившейся в великом терпении». А о главах труда латышского поэта Рихарда Рудзитиса Елена Ивановна напишет в письме: «...Родной Рихард Яковлевич, на днях получила чудесные главы Вашего труда о Николае Константиновиче на русском языке, а затем пришла книга. Сердечное Вам спасибо за это прекрасное приношение...»
К сожалению, арест, а затем и скорая кончина в 1960 году не дали возможности поэту завершить вторую часть многолетнего труда «Братство Грааля». В одном из писем к автору книги Николай Константинович назвал его «современным бардом святого Грааля».
К 1940 году Латвийское Общество имени Н.К. Рериха насчитывало значительное количество деятельных членов и друзей. Каждый стремился внести свою лепту в развитие этой духовной сокровищницы. Общество им. Рериха было близко великому поэту Латвии Янису Райнису. Неоценимый вклад в духовную культуру Латвии внесли Александр Клизовский, Рихард Рудзитис и Феликс Лукин. В Обществе появилась еще одна секция, в которой Рудзитис с большим удовольствием занимался с детьми театрально-музыкальным творчеством. Хочется вспомнить выдающихся латышских актрис Милду РиекстиняЛицис, Мирдзу Шмитхене, Эмилию Виестуре, супругов Ольгу и Яниса Мисиньш. Плодотворно работала секция Женского единения, руководимая врачом-стоматологом Катриной Екабовной (Екатериной Яковлевной) Драудзиня. Елена Ивановна была ее непосредственной наставницей и покровительницей. Она писала: «Женщина должна осознать свое значение, свою великую миссию Матери Мира и готовиться к несению ответственности за судьбы человечества».
Особое место в рериховском движении 30–40-х годов занимал Харальд (Гаральд) Феликсович Лукин – врач, наделенный огромной психической энергией. Его Елена Ивановна в своих письмах называла «Огненным конем», просила Латвийское Общество беречь его и помогать ему в трудные моменты жизни. Она писала в доверительном письме: «... Берегите Гаральда... ибо он в своем рвении иногда не считается со своими возможностями». Действительно, это личность сложная, даже противоречивая в восприятии других: его доброта, честность сочетаются со вспыльчивым нравом, прямотой, которая затрагивает самолюбие коллег. Он всегда ищет в себе ответ на свои ошибки. Харальд не стремился после смерти отца занять его место в Обществе и, будучи впоследствии секретарем Общества, не чувствовал себя на должном месте. Он выбрал для себя наиболее трудный путь «одиночки-борца» и целителя физических и духовных недугов.
Осенью 1940 года Латвийское Общество им. Н.К. Рериха, как антисоветская организация, было ликвидировано, имущество его конфисковано. А в 1948 году начались аресты членов и друзей Общества. Вначале были осуждены на 10 лет по статье 5810/11 мужчины, а затем в 1949 году репрессированы женщины. С рериховцами мне посчастливилось провести пять лет заключения в лагерях Инты и Абезя. И хотя эти годы были физически и нравственно очень тяжелыми, я благодарна судьбе, что она меня сблизила с этими светлыми людьми, устремленными к добру и духовному восхождению. В 1955–1956 годах рериховцы были реабилитированы, вернулись на родину в Латвию без права пропагандирования своих идей и общения между собой, но, несмотря на это, продолжали встречаться.
В 1988 году в жизни латвийских рериховцев старшего и среднего поколений произошло большое событие: Общество Н.К. Рериха возобновило свою деятельность, получило государственный статус – это произошло в октябре 1988 года. В уютном зале «Аве Сол» состоялось торжественное открытие Латвийского Общества... На нем присутствовали и его корифеи, принятые в почетные члены. Среди них: Мэта Пормале, Элла Рудзите, Лидия Осташева-Калнс, Элза ШвалбеМатвеева, Лония Андермане. Заседание по традиции 30-х годов открыли со Знаменем Мира сын первого председателя д-ра Феликса Лукина – д-р Харальд Лукин и дочь Рихарда Рудзитиса Гунта Рудзите. Состоялись выборы председателя и президиума. Председателем единогласно выбрали Гунту Рихардовну Рудзите...
В первые два года общими усилиями на высоком энтузиазме было сделано очень многое. Появились молодые искренние помощники с горячими сердцами. Среди них Гвидо Трепше, Ингуна Трепше, Ингрид Раудцепа, Лидия Качна. В первый состав правления вошли: литературовед Саулцерите Виесе, кинорежиссер Ансис Эпнер, директор церкви Петра Марианна Озолиня, инженер и популярный лектор по вопросам Живой Этики Анатолий Макаров, приведший за собой в Общество своих русских друзей... Работы было непочатый край, а забот и проблем и того больше... Все отвоевывалось с большим трудом... Были большие трудности с помещением, созданием библиотечного фонда. Лекции читались в разных местах, но слушателей было всегда в избытке... Начало работать издательство «Угунс», руководимое супругами Г. и И. Трепше...
Свой маленький вклад в деятельность этого Общества старалась внести и я. В октябре 1990 года при поддержке Гунты Рудзите состоялась моя первая персональная выставка в Риге «Рериховцы 30-х годов» (миниатюрные портреты в техниках темперы и акварели, а также натюрморты «Цветы памяти»). Тогда же я открыла первую страницу своих очерков «Капли живой воды» (Голоса рериховцев 30-х годов)...
Кем был Феликс Лукин? –
Истинный Брат человечества.
Он принадлежал к семейству героев духа.
«Свет Сердца». Книга памяти Ф. Лукина
Феликс Денисович Лукин родился 6 февраля 1875 года в селении Малпилс Рижского уезда. Он рос непосредственным и жизнерадостным мальчиком. Любил домашних животных и птиц. А вот с первой приходской школой ему не повезло. Учитель, невзлюбивший его за независимый нрав, отрицал в нем присутствие всякого природного дарования и нередко подвергал телесным наказаниям. Положение спасло открытие в Виеталве новой школы.
Искренний в своих поступках, не ожидая похвалы и благодарности, Феликс уже с детства стремился разделить беду других. Его сестра Зельма Гаст рассказывала, как он тайком от домашних навещал своего маленького друга Янитиса, заболевшего скарлатиной.
Феликс учился в четвертом классе гимназии, когда умер отец – кормилец семьи, возлагавший на сына большие надежды. Беззаботная юность оборвалась, ее сменили суровые житейские будни. Теперь гимназист самостоятельно зарабатывает средства на свое содержание и оплату учебы, а в свободные от занятий часы трудится на земельном участке отцовской усадьбы и выращивает для души цветы. Одной из замечательных традиций семьи Лукиных был сбор лекарственных трав. Рецепты их применения передавались от поколения к поколению. При жизни родителей, естественно, никто их не записывал, полагаясь на добрую память. И только Феликс уже в гимназические годы стал задумываться над созданием картотеки полезных трав. В одном из своих писем в Ригу Зельма Гаст пишет: «Только спустя много лет я поняла, что брат уже в ранние годы определил свое призвание врача-гомеопата... Призыв Достоевского «Помогите, помогите больной душе человека» вечно звучал в его сердце».
В 1894 году, успешно закончив среднее образование, Феликс Лукин поступает в Дерптский университет на медицинский факультет. Об этом периоде его жизни сохранились воспоминания коллег: профессора Эдварда Калныньша и доктора О. Войта. «Со студенческих лет мне запомнился этот милый, сердечный коллега, простой в обращении и всегда готовый оказать любому помощь. В часы досуга я в нем встречал остроумного собеседника, которому не в малой степени был присущ юмор. Не помню, чтобы Феликс жаловался на трудности обстоятельств». К сказанному профессором Э. Калныньшем доктор Воит добавляет: «Феликс Лукин не удовлетворялся официальной программой университетских лекций (хотя и регулярно их посещал). Его круг интересов был значительно обширней: он занимался природоведением, изучал философию, любил литературу, интересовался трудами выдающихся поэтов Латвии, в частности Яниса Райниса и Аспазии».
В этом, несомненно, заслуга и его будущей супруги. Заглянем в краткую энциклопедическую справку, где среди забытых теперь талантливых писателей первой половины XX века упоминается имя Антонии Лукиной, печатавшейся под псевдонимом Иванде Кайя. Антония, или Тония, как ее называли в семье, на год моложе своего мужа. Она родилась 13 октября 1876 года в Юмправе, в семье торговца Мелдера Милле. Одновременно с Феликсом Лукиным училась в рижской гимназии имени Ломоносова. Уже в те годы у них зародилась симпатия друг к другу, которая вскоре перешла в крепкую дружбу и любовь на всю жизнь. Гимназистов объединяло стремление к познанию сущности жизни, определение миссии человека на земле. «Ты, безусловно, станешь выдающимся медиком исследователем, – прогнозировала Антония Феликсу, – а я займусь философией и испробую свои силы в литературе...» Ее предсказания сбылись. После окончания гимназии Тония Мелдере едет в Германию, где в течение года слушает лекции по философии, вначале в Берлине, а затем в Лейпциге. В свою очередь Феликс Лукин, получив в 1899 году звание врача и приняв решение специализироваться в области глазных заболеваний, отправляется за границу. «Цель моей поездки – изучение новых методов лечения глаза, – пишет он своей невесте в Лейпциг. – Слышал, что в Вене при университете существует клиника глазных болезней, которую возглавляет профессор Фукс. Попробую стажироваться у него... Постараюсь заглянуть и к тебе в Лейпциг, чтобы, наконец, решить вопрос нашей совместной жизни... Естественно, прежде всего следует устроиться на работе и начать частную практику. Думая о тебе, буду ориентироваться на устройство в Риге...»

Феликс Лукин с женой, писательницей Иванде Кайя
Однако задуманное не сразу удалось осуществить. Первое время молодому врачу пришлось поработать в провинциях России, где свирепствовала эпидемия очень опасной болезни глаз – трахомы. Быстро распространяясь, она охватывала целые деревни. Труд врача был изнурителен.
Вернувшись в Ригу, доктор Лукин получил место на Рижско-Орловской железной дороге. Параллельно начал заниматься и частной практикой. В памяти рижан старшего поколения до сих пор сохранился гостеприимный дом на улице Гертрудес (напротив церкви) с табличкой на дверях «Доктор Ф. Лукин». Сюда приходили и приезжали не только больные туберкулезом легких, глазными недугами, но и те, кому требовались консультации и советы в области психотерапии или книги по восточной философии. От него исходила «какая-то необыкновенная духовная энергия, которая приковывала к себе, как магнит, вселяя в душу чувство трепета и благоговения... Я уходила от него обновленной, с верой в исцеление...»,– вспоминает актриса Мирдза Шмитхене.
Престиж молодого врача возрастал. Непомерно увеличивалось и число пациентов. Пришлось отказаться от отдыха в воскресные дни и удлинить свой рабочий день. Теперь доктор уже поднимался с рассветом – в четыре часа, чтобы успеть уделить время своим теоретическим занятиям. Достигнутые положительные результаты уже не удовлетворяли, шли поиски новых открытий.
Все это радовало и тревожило молодую жену. Здоровье Феликса заметно пошатнулось: помимо усталости появились признаки легочного заболевания.
В 1906 году у молодоженов родился первенец, сын Харальд – будущий врач, верный помощник отца. На сохранившейся в архиве семейной фотографии 1912 года запечатлены счастливые родители с тремя детьми: шестилетний сын Харальд, дочь Силвия – всеобщая любимица и маленький Ивар, унаследовавший внешнее сходство с отцом.
— Ради них ты должен беречь себя, – просила Тония. – Работа тебя захлестнула настолько, что ты перестал замечать нас.
Доктор осознавал свою вину перед женой, в писательский талант которой верил. Но почему Тония, написавшая уже несколько романов и повестей, публикуется лишь как журналистка? Откуда это неверие в свои силы? И однажды доктор Феликс посоветовал жене проконсультироваться с кем-нибудь из ведущих писателей, может быть, с Анной Бригадере. Предложение мужа понравилось Тонии, однако ей больше всего хотелось довериться Аспазии и Райнису... Но с 1905 года они живут в эмиграции – в Швейцарии.
О встречах с Антонией Лукиной мы узнаем из письма Аспазии, присланного в адрес Латвийского Общества имени Н. К. Рериха, посвященного памяти Феликса Лукина, под названием «Просветленный»:
«...Сближение мое и Райниса с доктором Феликсом Лукиным состоялось через его супругу – писательницу (тогда она еще не носила псевдоним Иванде Кайя, он родился уже в Швейцарии, точнее в Лугано)... Живя в Кастаньоле, мы как-то получили письмо с родины, написанное незнакомой рукой. Стали гадать – от кого бы оно могло быть? В конце письма стояла подпись – «Антония Лукина». Она нам не открыла тайны. В указанный день приезда незнакомки Райнис пошел встречать ее к поезду. Она оказалась подвижной, стройной и красивой. Впоследствии Райнис говорил, что Антония напомнила ему птичку, которая больше летает, чем ходит... И сколько нам было о чем говорить!.. Сидели до поздней ночи. Потом нашли, где ее пристроить на ночлег (в нашей маленькой комнате было слишком тесно). Заочно Антония познакомила нас со своей семьей, образно описав портрет каждого. Однако главной темой наших бесед была литература. Антония привезла с собой рукописи своих романов, рассказов и пьес. Она прочитала нам вслух роман «Врожденный грех»[8]. Мне лично особенно понравилась ее драматическая, преисполненная поэзии пьеса «Аполлон». (К сожалению, до сих пор не представленная на нашей сцене. – И. К.). В свою очередь, Райнис преподал ей несколько литературных уроков, определил некоторые стилистические направления... Потом мы вместе съездили на кладбище в Лугано. У одного памятника наша гостья задержалась дольше. На нем была изображена чайка со сломанными крыльями. Она как бы предвестила ее судьбу. «Это, наверное, буду я»,– промолвила грустно Антония. Впоследствии писательница взяла себе псевдоним Иванде Кайя.

Ф. Лукин с женой и детьми Иваром, Харальдом и Силвией
Второй раз Антония посетила меня в Цюрихе, где я лечилась и посещала высшие курсы. В этот раз с нею были оба мальчика – Харальд и Ивар. Особенно симпатичным мне показался старший Харальд – одухотворенный, грустно-нежный. Младший – романтическая натура с задорным блеском в глазах. Позднее я узнала, что Харальд пошел по стопам отца – стал известным врачом. Была еще одна встреча незадолго до войны в 1914 году...»
Началась война – годы тяжелых испытаний для семьи Лукиных. Служащих железной дороги «Рига – Орел» эвакуировали в Витебск. Там эпидемия трахомы приняла острые формы, требующие хирургического вмешательства. Естественно, доктор Лукин на переднем фронте борьбы с заболеванием, унесшим немало жизней, в том числе и детей. Напряженный труд, порой круглосуточный, продолжался около четырех лет. Самоотверженность доктора Лукина и выносливость его семьи трудно переоценить.
О дальнейшей работе отца на родине рассказывает в своих мемуарах сын Харальд:
«...Отец разучился отдыхать. Он живет в неустанном напряжении. Тщательно исследует причины каждого заболевания, ищет на них ответа в научных открытиях зарубежных ученых, поддерживает с ними контакт. Однажды он прочитал в иностранном журнале о Ценном открытии нового метода лечения туберкулеза медикаментозной терапией. Долго не раздумывая, отец отправляется в Копенгаген и в течение трех недель наблюдает за экспериментом. Результаты положительные – большой процент выздоравливающих. Окрыленный надеждой, он возвращается домой и начинает внедрять «чудодейственный метод» у себя в клинике. Но, увы, он не дает ожидаемого эффекта. Вместе с разочарованием падает доверие пациентов. Однако не в характере доктора Феликса останавливаться на полпути. Вскоре причина неудачи была раскрыта: превышена концентрация лекарств. И вновь победа!»
Присущий доктору Лукину оптимистический настрой и врожденное чувство юмора помогают ему перенести катаклизмы в личной жизни и врачебной практике. На светлом пути к истине у доктора Ф. Лукина часто встречаются тяжкие испытания, и, пожалуй, одно из самых скорбных – нервное потрясение с потерей речи и слуха у любимой жены Тонии. Это произошло в 1921 году вследствие острых переживаний военных лет. Слишком хрупкой и ранимой оказалась ее поэтическая душа... Все, что было в силах доктора Феликса, сделано, чтобы облегчить ее страдания и продлить жизнь (Иванде Кайя умерла 2 января 1942 года). Несмотря на осложнившееся семейное положение (заботы о детях и домашнем быте), Феликс Денисович продолжает трудиться с полной отдачей сил, расширяя свои познания в других отраслях медицины. «Гомеопатия у отца была одним из его призваний, и в последний период жизни он становится одним из популярных гомеопатов Латвии, – вспоминает Харальд Лукин. – В этой области отец находил сторонников среди коллег в других республиках. Этим объясняется его поездка в Таллинн к эстонскому врачу Розендорфу. В совместной работе с ним отец нашел ценное пополнение лекарств для своей практической деятельности. Помимо исследований методом электрогомеопатии, он познакомился с методом диагностики по глазной радужной оболочке (в медицине это называется иридодиагностикой)».
При установлении диагноза болезни своего пациента д-р Лукин стремился прежде всего определить его душевно-психическое состояние. Мне хочется поделиться теми немногими сведениями о методах лечения доктора Феликса, которые я узнала от бывших пациентов Феликса Денисовича.
Вот что рассказала о нем известная писательница 20 – 30-х годов Луция Замаич, автор нашумевшей книги «Я, Луция Замаич, и мои слова». Познакомилась я с ней в начале 60-х годов у художницы Александры Бельцовой-Суты. Луция Замаич в эти годы находилась в опале и поддерживала дружеские связи лишь с небольшой группой своих сверстников. Бельцова была инициатором «посиделок друзей молодости 20 – 30-х годов». Разговор от воспоминаний о проказах юности перешел на болезни, подсказанные уже почтительным возрастом. «Нет теперь таких врачей, как Феликс Лукин, – вздохнула Замаич, – ему я обязана продлением своей жизни. Действительно, редко кому с диагнозом «рак груди» удается прожить тридцать лет без оперативного вмешательства на травах!..
Конечно, не в одних травах дело. Хотя те травы были из Гималаев от Рерихов. Важно, на каком настое психической энергии они настаивались. Доктор Лукин был из тех чудодейственных врачей, которые одновременно врачевали весь организм. Его беседы располагали к откровению. И прежде, чем начать лечить гомеопатическими средствами, он уже знал всю мою жизнь, преисполненную большими переживаниями и утратами. Однажды доктор мне сказал: «Вы затрачиваете свои эмоциональные силы нерационально. Подумайте об этом, сконцентрируйте свою мысль на стремлении достичь внутреннего равновесия...»
Знакомство с воспоминаниями современников, опубликованными в книге «Свет сердца», наводит на размышления о том, что Феликс Лукин с восточной философией, теософией и Живой Этикой был знаком много раньше, чем об этом говорится в официальных сведениях, порой неточных. Еще в гимназические годы юный Феликс, как и его будущая супруга Антония Мелдере, проводит часы досуга в философских размышлениях о миссии человека на земле. Уже тогда перед ним возникает вопрос: «Что в жизни является самым важным?» И сам на него отвечает: «Абсолютная отдача без каких-либо сомнений. Чем человек выше поднимается духовно, тем больше он способен помочь другим»... Когда же перед Феликсом встал вопрос о выборе профессии теософа или врача, он все же становится врачом. Но и эта профессия требует не меньших затрат сил. «Врач должен проникнуть в душу своего пациента, – говорит он. – И в этом ему поможет изучение теософии». В эти годы в его записной книжке можно найти записи: «Узнать больше о Теософском обществе... Узнал – в 1877 году в Америке вышла книга Е.П. Блаватской «Разоблаченная Изида». Вот бы ее почитать! Слышал много противоречивых суждений о Е.П.Б.» Дальше шла выписка из некролога: «В мае 1891 года скончалась Елена Петровна Блаватская... О ней президент Теософского общества Г. Олькотт писал: «Придет день, когда имя ее будет записано благодарным потомством...»
Впоследствии Аспазия вспоминала: «Когда Антония Лукина приезжала в Кастаньолу, помимо рукописей своих произведений у нее были с собой тетрадь с записью лекций по философии, прослушанных в Лейпциге, и записная книжка с просьбами и поручениями мужа. Одно из них было: «Попытаться достать (а то и списать) первое издание сборника «Вопросы теософии», изданного в России в 1911 году...» Судя по семейной фотографии, которую показывала Антония, эта встреча состоялась в 1912 или в 1913 году.
В своем воспоминании «Идущий необычной дорогой» Катрина Драудзиня пишет: «Во время болезни, находясь в Давосе, Ф. Лукин рассказывал: «...Целыми днями находился в постели, было достаточно времени для размышления... Перед глазами прошла вся жизнь. Пришел к убеждению, что смысл истины необходимо искать в ином измерении. Несколько лет поисков и ошибок... Наконец нашел мировоззрение, которое полностью отвечает моим логическим рассуждениям и потребностям души. Сейчас единственное – работать и бороться»...
Добрым вестником из Индии в 1923 году был рижский востоковед Владимир Анатольевич Шибаев. Это он поведал доктору о своем знакомстве с Рерихами в Сан-Морице (Швейцария):
«Был поздний вечер, когда в дверь моей квартиры позвонил доктор Лукин, – вспоминает Владимир Анатольевич. – И прямо с порога сказал: «Слышал, что вы занимаетесь восточной философией... Мне необходимо поговорить с вами о вещах, которые меня интересуют».
Лукин пришел не с пустыми руками. Он принес с собой увесистый научный труд и положил его на стол передо мной. Спросил, знаком ли мне он... Я ответил: «Именно этот труд и был темой моего научного исследования». Мы сразу нашли общий язык. Уходя, доктор Лукин спросил, могу ли я ему что-нибудь дать на эту тему. И я дал ему первую книгу Живой Этики («Листы Сада Мории»).
С этого времени мы стали часто встречаться, естественно, по вечерам после приема больных. К вопросам Учения Живой Этики Феликс Денисович относился очень серьезно. Однажды он меня поразил, прочитав на память целую страницу из прочитанной книги, и дал к ней комментарий. А с какой убежденностью он стремился применить к себе все принятое! Уже тогда Лукин, как врач, понимал, что целый ряд болезней возникает не от внешних причин, а вследствие того, что человек неправильно ведет себя по отношению к основным законам жизни, что причиной болезни может быть плохая мысль, зависть, вражда. Феликс Лукин стремился искренне разобраться во всем и помочь больному...»
В 1928 году по приглашению Николая Константиновича Владимир Шибаев выезжает в Индию и становится секретарем института гималайских исследований «Урусвати». Покидая Латвию, он нашел достойную замену для руководства кружком Живой Этики имени Н.К. Рериха – доктора Феликса Лукина. Вскоре, побывав в Париже и встретившись с Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной, Феликс Денисович получил от них благословение на создание Латвийского Общества имени Н.К. Рериха.
В жизни и деятельности д-ра Феликса Лукина Латвийское Общество им. Н.К. Рериха занимало особое место. Он его создал, вернее сотворил, вложил в него свою душу, мудрость и мужество борца за осуществление светлых идеалов. За короткое организационное время с 1928 по 1930 годы он сумел подобрать верных соратников, воодушевить их своим горением... Среди них был поэт-философ Рихард Екабович (Яковлевич) Рудзитис (1898 – 1960). Его он высмотрел и полюбил уже в 20-е годы, когда тот был студентом философского отделения университета, писал стихи, занимался журналистикой, переводил на латышский язык сборник стихов Р. Тагора и работал в научном отделе Центральной городской библиотеки Риги. Еще до вступления в Общество поэт был знаком с теософскими трудами Елены Блаватской и благодаря знанию иностранных языков читал многие произведения классиков в оригинале. По своему нраву Рудзитис был кроток, застенчив, тяжело переживал свой физический недостаток – заикание. С первых дней пребывания в Обществе он проявил еще одно ценное качество – инициативность в издательской и культурно-общественной сфере. Рудзитис единогласно был избран в правление Общества и стал первым помощником, «правой рукой» председателя. Одновременно в правление был избран, по рекомендации Владимира Шибаева, и бывший офицер русской армии, ровесник Ф.Д. Лукина – Александр Иванович Клизовский (1874 – 1942). Представляя его Феликсу Денисовичу, Владимир Анатольевич сказал коротко: «Ему верить можно как себе и всецело положиться на него в любых случаях жизни. Тому порукой его бескорыстие, благородство души и преданность Учению...» Из краткой автобиографической справки стало известно, что Клизовский родился в Польше, был сыном полкового музыканта. Военным стал не по призванию, а по желанию отца. Карьера не состоялась, хотя и дослужился до довольно высокого офицерского звания. Своих политических взглядов Клизовский не скрывал: он верил в революционное будущее России, уважал Ленина, любил Блока и С. Рахманинова, внутренне спорил с Иваном Буниным – эмигрантом революционной России. С врачом Катриной Драудзиня (1882 – 1969) Александр Иванович познакомился через переводчицу английского и французского языков Мэту Яновну Пормале (тогда она еще носила девичью фамилию Закис). Пришел к ней на прием как пациент. Разговорившись, обнаружили общие взгляды на жизнь, призвание человека. Оба интересовались проявлениями психической энергии, соприкоснулись с Учением Живой Этики через книгу очерков «Пути Благословения» Николая Рериха, которую Владимир Анатольевич Шибаев в 1923 году в рукописи привез в Ригу из Индии и приложил большие усилия, чтобы издать ее здесь в издательстве «Алатас» в 1924 году...
Катрина Драудзиня, как и Александр Клизовский, до вступления на путь Учения Живой Этики прошла сложный путь испытаний. В молодости Драудзиня была атеисткой, примкнула к революционному движению студентов 1905 года. В ее врачебном кабинете была обнаружена студенческая нелегальная литература, антигосударственные листовки. И хоть она сама в политике мало что смыслила, ей хотелось видеть свой народ свободным от угнетения иноземными властями... За это Катрина Екабовна поплатилась долголетней ссылкой в город Орел и вернулась в Латвию лишь в 1920 году... Но и в ссылке ее труд был полезен людям, как и ее доброта и отзывчивость сердца. Александр Иванович Клизовский предлагал ей вступить в Общество Феликса Лукина, но она не решалась, отвечая, что «еще не готова... не разобралась в себе». Упомянула, что ее уже приглашала туда молодая актриса – супруга поэта Рудзитиса – Элла... Она же ее и привела туда в 1932 – 1933 годах. У д-ра Феликса Лукина был острый глаз на духовную сущность человека. После образования Общества он подыскивал подходящую кандидатуру для руководителя секции Женского единения. Переводчица Мэта Яновна Пормале (1897 – 1993) вспоминает в своем интервью (1989): «После появления в Обществе Катрины Драудзиня (занимавшейся вместе с ней в старшей группе) он однажды объявил: «А я уже нашел «золотой ключик»... До Катрины Екабовны руководителем этой секции была ее подруга актриса Милда Яновна Риекстиня-Лицис. Прекрасный человек с чуткой поэтической, по-детски наивной душой, она, однако, не обладала организационными и педагогическими способностями.
Конечно, о каждом члене этого Общества 30-х годов можно сказать много добрых слов: все они были глубоко преданы Учению Живой Этики и приносили большую пользу в его становлении и развитии. По обширной корреспонденции Латвийского Общества начиная с 1931 года можно было проследить этапы его становления. Любые проблемы д-р Лукин и его правление решали совместно с Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной. В письме к д-ру Лукину в 1931 году Н.К. Рерих пишет: «В Риге должно быть не только Общество, но и отделение музея. Для этого из Нью-Йорка будет послана группа моих картин». В декабре 1932 года Обществом было получено 8 картин: «Бхагаван», «Брамапутра», «Твердыня Тибета», этюды «Майтрейя», «Тибетский стан» и другие. Все они созданы в 1932 году. Пришли без рам, но с комментариями автора, какими они должны быть. 12 октября 1934 года было получено разрешение Рижской префектуры на постоянную экспозицию картин Рериха в помещении Общества на ул. Элизабетес, дом 21 а.
С этого времени Общество стало носить название «Обществомузей им. Н.К. Рериха». В Обществе было создано несколько секций восточной философии и Живой Этики; секции «Наследие семьи Рерихов», «Пакт Рериха», «Знамя Мира», «Женское единение». Руководя последней, Катрина Драудзиня находилась в непосредственной переписке с Еленой Ивановной Рерих, получая от нее не только советы, предложения, но и публикации ее работ. «Женщина должна осознать свое значение, свою великую миссию Матери Мира и готовиться к несению ответственности за судьбы человечества», – писала в своих письмах 30-х годов Елена Ивановна.
В 1932 – 1933 годах были записаны, а затем в 1937 году изданы «Собеседования с д-ром Ф. Лукиным» под названием «Зерна мыслей». Среди них есть и такие афоризмы: «Понять можно интеллектуально, но нужно воспринять и сердцем»; «Полузнание может человека сделать высокомерным»; «Труд – большая радость. Он может изменить и человеческую карму»; «Бездействие омертвляет дух, бездействие – это яд»; «Только в осознанном труде можно исправить свои ошибки»; «Вера без труда бездейственно мертва»; «Испытания и страдания обогащаются опытом»; «Чем раньше человек поднимется духовно, тем больше он поможет это сделать другим»; «Воспитывать в себе терпение к недостаткам других, чтобы не разжечь злобу и ненависть, отравляющие окружающее пространство»; «Каждая мысль фиксируется в пространстве, поэтому делайте доброжелательные посылки мыслей всем и Миру, а не только себе...»; «Нельзя опускать крылья во время полета»... Отдельные труды Лукина посвящены оздоровлению человеческого организма через психическую энергию и духовное состояние. «Плохие мысли – источник многих физических заболеваний, – утверждает д-р Лукин. – Среди них не только нервно-психические, но также сердечные, желудочные и также кожные...». «Употребление любых наркотических средств притупляет и даже омертвляет интеллектуальную деятельность. Большую роль в оздоровлении организма играет правильное питание, начиная с хлеба». Коллеги д-ра Лукина рассказывали о том, что он сам давал рецепты выпекания хлеба без дрожжей из муки крупного помола. У д-ра был свой метод определения болезни по глазам. Он большое значение придавал «излучению вещей», находящихся в квартирах больных, и интересовался, откуда они пришли и что знали о них прежние хозяева, поэтому очень осторожно относился к предметам, приобретенным в антиквариатах... Высоко ценил получаемые из Индии рецепты тибетской медицины. Собирал и проверял их на практике. Огорчало Феликса Денисовича то, что его сын Харальд, обладающий очень большой целительной психической энергией, прекрасный врач-гинеколог и терапевт, в ранний период своей жизни не уделял должного внимания Обществу Рериха.
Уже в первые годы своей деятельности под руководством Феликса Лукина Латвийское Общество им. Рериха заявило о себе, как об одном из ведущих центров европейской духовной культуры. Одним из первых оно приняло участие в движении «Мир через Культуру» за принятие Пакта. Впоследствии, вспоминая об отце, Харальд Феликсович говорил о том, что его самоотверженный труд с полной отдачей сил «был пламенным горением его сердца, смыслом всей его жизни, призванием жить и творить во имя блага человечества».
Умер д-р Феликс Денисович Лукин 28 марта 1934 года. Перед смертью он завещал своему старшему сыну – доктору Харальду своих больных и рецепты их лечения по его методу. Просил его продолжать сотрудничать с институтом «Урусвати» и не прерывать контактов с семьей Рерихов. Заветы отца Харальд Феликсович свято выполнял до самой своей кончины (в 1992 году). О судьбе Общества д-р Феликс не беспокоился: у него были верные соратники, продолжатели дела его жизни. И первый из них – поэт Рихард Яковлевич Рудзитис, который спустя два года стал председателем Латвийского Общества им. Н.К. Рериха. Он свято выполнял заветы своего наставника и, тесно контактируя с семьей Рерихов, оправдал надежды Николая Константиновича и Елены Ивановны, о чем свидетельствуют их письма. В 1937 году, через три года после кончины доктора Лукина, в рижском издательстве «Угунс» вышла на латышском языке книга памяти Ф.Д. Лукина «Свет Сердца». Она открывается посвящением Елены Рерих: «Кем был Феликс Лукин? – Истинный Брат человечества. Он принадлежал к семейству героев духа... Свои познания он черпал из всемирной сокровищницы знаний и истоков древней мудрости... Его пламенный дух горел в едином порыве, посвящая все свои силы служению на благо человечества. Поистине он был тем человеком, который своей жизнью определил путь Знаний...»
Он всегда ищет ошибку, прежде всего, в себе самом.
Елена Рерих
В своем письме от июня 1936 года, спустя два года после смерти создателя и первого председателя Латвийского Общества имени Н.К. Рериха, Елена Ивановна Рерих пишет письмо его тридцатилетнему сыну Харальду Феликсовичу: «Следует помнить, что все лекарства являются лишь средствами вспомогательными... Без всеначальной энергии никакое лекарство не окажет должного действия. Нельзя делить врачей на аллопатов и гомеопатов, каждый применяет лучший метод индивидуально...» Как известно, д-р Харальд Лукин в начале своей медицинской деятельности шел традиционным путем: окончил медицинский факультет Латвийского университета, специализировался как врач-гинеколог...
После смерти отца, приняв его пациентов, Харальд Лукин получил духовную поддержку от семьи Рерихов. С ним близко сотрудничал младший сын Святослав Николаевич – художник и страстный знаток целебных трав.
5 марта 1940 года Елена Ивановна пишет доверительное письмо председателю Латвийского Общества поэту Рихарду Рудзитису: «Не раз было повторено – «Берегите Гаральда, охраните его». Знаю, что его нужно именно охранить, ибо он в своем рвении иногда не считается со своими возможностями. Пример мы имеем в его большой щедрости. Знаю также, что он слишком быстр в своих действиях и не сдержан в выражениях. Но все это искупается его редчайшим сердцем, незлобивостью, честностью и замечательною чертою – он всегда ищет ошибку, прежде всего, в себе самом». И сам Харальд Феликсович в минуты откровения признался одному из своих близких друзей: «Если в моем сердце есть доброта и отзывчивость, то это унаследовано от отца... А вот эмоциональные срывы – это определенно от матери – человека богемной творческой натуры... А как уравновесить эти полярные стихии уже моя собственная и далеко не легкая задача...»
Родился Харальд, сын-первенец в семье Лукиных, 6 июня 1906 года. Отец ещё молодой, но признанный врач. Мать талантливая писательница, известная под именем Иванде Кайя. Позднее появились брат Ивар и сестра Силвия. На семейной фотографии 1912 года, опубликованной в книге памяти Ф. Лукина, они только начинают свой жизненный путь, и у каждого своя судьба...

Харальд Лукин
Вскоре Антония – мать Харальда – посетила в Кастаньоле (Швейцария) чету любимых ею поэтов – Аспазию и Яниса Райниса. Позднее, уже в начале 30-х годов, когда в Юрмале (Майори) актриса Милда Риекстиня-Лицис посетила овдовевшую Аспазию (Я. Райнис умер в 1929 году ), поэтесса сказала, что молодой доктор Лукин принес ей «целительную порцию лекарств из восточных трав для бодрости духа, чтобы не высыхало перо. Мне запомнился его благородный облик, высокая прямая осанка и круто вьющиеся волосы. Его глаза по-детски были ясными и доверчивыми... Только когда я спросила о состоянии здоровья его матери, он нахмурился и промолчал...»
Действительно, несчастье на семью Лукиных обрушилось нежданно в 1921 году, когда тяжелый паралич отнял у Иванды Кайи речь и слух, приковав к постели на все оставшиеся годы жизни.
Харальду, старшему из детей, было тогда 15 лет, и он видел, как трудно приходилось отцу, но как мужественно, не теряя духовного равновесия, он самоотверженно исполнял врачебный долг. Тогда же в гимназические годы созрело желание у старшего сына стать врачом.
Достигнув совершеннолетия, Харальд без особых трудностей сдал вступительные экзамены на лечебное отделение медицинского факультета Латвийского университета. Там встретил и избранницу сердца Магдалену Шнейдере.
О дальнейшем периоде жизни доктора Харальда Лукина рассказывает его однофамилец, пациентка и преданный друг Мэта Яновна Лукина:[9]
— С доктором Харальдом Феликсовичем Лукиным и его будущей супругой Магдаленой Шнейдере я познакомилась в начале 30-х годов, когда, окончив в 1931 году среднюю школу, не могла определиться в выборе профессии. Колебалась между двумя желаниями – заняться медициной или посвятить себя живописи. Время было беспокойное, увеличивалась безработица, ходили слухи о предстоящей войне...
Незадолго до начала войны доктор Лукин женился на Магдалене Шнейдере. Она была знающим врачом и прекрасным педагогом. Я ей во многом обязана своим знанием медицины при оказании практической помощи раненым. Врач Шнейдере-Лукина, очевидно, тоже обладала психической энергией, вкладывая в лечение больных свою душу.
Харальд Феликсович Лукин был выбран секретарем Общества и по приглашению Николая Константиновича стал членом-корреспондентом гималайского исследовательского института «Урусвати». Тогда же завязалась тесная связь с младшим сыном Рерихов – Святославом Николаевичем, который не только обеспечивал молодого латышского врача ценными лечебными травами, но и посылал рецепты их приготовления и применения. После смерти отца Харальд Феликсович не стремился занять в Обществе ведущее место. Его истинным призванием была медицина, вернее практика лечащего врача. Он свято выполнял завещание отца и продолжал лечить его больных лекарствами по отцовским гомеопатическим рецептам. Для него это был не только долг перед любимым человеком, наставником в жизни, но и новым прогрессивным этапом в его научно-исследовательской деятельности. «Я уверовал на практике в чудодейственную силу гомеопатии», – говорил он своим коллегам, покидая 2-ю городскую клинику, где в начале 30-х годов проходил стажировку, и переходя работать в кабинет отца на улице Гертрудес. Как терапевт обширных знаний, Харальд все дальше уходил от узкой специализации. К нему, как и к покойному доктору Феликсу, обращались больные со всеми заболеваниями.

Мэта Яновна Балта-Лукина
Одной из пациенток с тяжелым хирургическим диагнозом – костный туберкулез и заключением врача – ампутация ноги до коленного сустава стала 24-летняя Мэта Балта-Лукина красивая блондинка с карими глазами. Она только год тому назад вышла замуж, была жизнерадостна, занималась спортом и живописью. Она обратилась к доктору Харальду Лукину за консультацией. «Сняв с моей воспаленной и опухшей ноги гипс, – вспоминает она, – доктор Лукин взволнованно воскликнул: «Господи, что они с Вами сделали!..» Впоследствии, когда наше знакомство перешло в долголетнюю дружбу, я больше никогда не слыхала, чтобы он критиковал своих коллег. Лечение моей ноги продолжалось долго и завершилось полным исцелением».
И такой случай в практике доктора Харальда Лукина не был единичным.
Передо мной рукопись воспоминания еще одной пациентки, Валды Зосс: «О Харальде Лукине я слышала много и как о враче, и как о человеке – убежденном рериховце. Трижды он мне помог освободиться от серьезных заболеваний. Перед этим я обращалась к местным врачам. Но когда состояние не улучшилось, отправилась в Ригу к доктору Харальду Лукину. Хотя он официально не был хирургом, именно только он помог мне. Не беря с меня денег, дал лекарства, приготовленные по его рецептам из лечебных трав. Это о докторе Лукине как о враче.
Как член рериховского Общества с начала его образования, он помогал нам, молодым членам, материально для посещения выставок произведений Николая Константиновича и Святослава Николаевича в Москве и Ленинграде. Его доброта и самоотверженность при личной большой скромности поражала нас всех. Естественно, у него, как у выдающегося человека – врача и преданного рериховца, было много завистников среди коллег, которые не гнушались писать на него клеветнические доносы. Обладая скрытным характером, доктор Харальд редко жаловался, за исключением Е.И. Рерих, с которой он делился в письмах своими переживаниями относительно несправедливого отношения к памяти отца, что его особенно угнетало. и он не был одинок, его спасали душевные письма из Индии. Они поддерживали его дух и уверенность в правоте своих действий. (Эти письма Е.И. теперь опубликованы в Латвии. – И. К.)».[10]
Снова обращаюсь к воспоминаниям его пациентки и друга Мэты Лукиной, которая знала доктора Г.Ф. Лукина на протяжении многих лет: «Доктор Харальд обладал редким человеческим качеством: он всегда говорил всем то, что думал, – прямо в глаза, за глаза никого не осуждал. Зла ни к кому не испытывал, никому не мстил. И если с его обидчиком приключалась беда, он протягивал ему руку помощи бескорыстно... В моем понимании доктор Лукин был «сверхчеловеком»...
В 1940 году Общество имени Н.К. Рериха в Латвии было закрыто по политическим причинам как противогосударственная антисоветская организация, хотя ни у кого из его членов не было противогосударственных поступков. Напротив, доктор Харальд Феликсович, убежденный гуманист, сотрудничал в латышской печати того времени. После закрытия Общества с конфискацией имущества продолжалась тайная слежка за каждым рериховцем и даже за теми, кто держал в руках книги Живой Этики или имел картины Рерихов. Так создавалось «Дело о рериховцах 30-х годов». Первым сигналом тревоги был арест Александра Клизовского, автора трилогии «Основы миропонимания Новой Эпохи» и «Психической энергии». В 1948 году начались аресты мужского состава рериховского Общества.
Тяжело, с физическим насилием проходило следствие. Харальд Феликсович Лукин отбывал наказание в Заполярье – в Воркутинском лагере политзаключенных строгого режима. Вернулся на родину в середине 50-х годов, с седой головой и запретом заниматься врачебной практикой. И все же, пусть нелегально, пусть секретно, она состоялась, и в достаточно широком масштабе. Количество больных, нуждавшихся в его помощи, возрастало с каждым днем. Ему помогали и ветераны рериховского Общества и молодое поколение, успевшее присоединиться к рериховскому движению в Латвии.

Харальд Лукин в горах
Из интервью с его пациентами я узнала, в каких трудных и вместе с тем самоотверженных условиях протекали приемы доктора Харальда Лукина.
По воспоминаниям Мэты Яновны, приемы доктора Лукина проходили в строгом секрете, по строгому расписанию часов в однокомнатной квартире Лукиных за Двиной по ул. Агенскалнские сосны... Иногда за день он успевал принять до пятидесяти больных с разными заболеваниями. Одновременно на квартирах его коллег по Обществу также тайно происходило приготовление лекарств из трав, привозимых самим доктором из экспедиций в горы Тянь-Шаня, Кавказа и других богатых лекарственными растениями мест. Туда отправлялся Харальд Феликсович в начале 60-х годов с групповыми экспедициями, а уже в 70-х годах большей частью один с рюкзаком за спиной, палаткой и аппаратом. Фотографировал много и с большим удовольствием раздаривал фотоснимки друзьям. В домашнем архиве Мэты Лукиной имеются ценные папки с оригиналами фотоснимков, надписанных рукой доктора Харальда. Они датированы 1971 – 1976 годами.
Всеми этими краткими сведениями, естественно, не исчерпывается разносторонний, яркий образ этого замечательного человека. Помимо медицины и экспедиций в горы Харальд Феликсович любил классическую музыку, общался с многими музыкантами, артистами драматических театров. Другом его отца был выдающийся мастер сцены и режиссёр Эдуард Смилгис. Также интересовался изобразительным искусством, посещал мастерские живописцев Яниса-Роберта Тильберга, Карлиса Миесниека, Пилды Вики, Александры Бельцовой-Суты и многих других. Очень дружественные отношения у него сложились с академиком Янисом Страдынем. Последний не без гордости вспоминал, что доктор Харальд Лукин принимал 12 декабря 1933 года роды у его матери.
Я лично Харальда Феликсовича видела лишь три раза: в июле 1960 года, когда он по просьбе Катрины Драудзиня и вместе с ней навестил моего умирающего мужа в Майори. Тогда же доктор Лукин сказал: «Если бы не операция, постарался бы помочь, а сейчас вот эта белая настойка только снимет боли...» Второй раз видела его на сцене в театре «Аве Сол», когда он в 1988 году вместе с Гунтой Рудзите вносил рериховское Знамя Мира. И третий раз – на выставке живописца Илзе Рудзите из Барнаула, которая состоялась в церкви Петра. Он осматривал её в одиночестве.
Завершу свой краткий очерк – эскизный портрет словами из воспоминания о докторе Харальде Лукине Регины Буш, члена Латвийского Общества: «...Он человек, стоящий на пути подвижников Культуры, с пламенным, чутким сердцем, воспринимающим Красоту истины во всех человеческих творениях... Искусство и музыка для него были богослужением, и сам он был человеком двух миров, частицей горных вершин. Имея пространственное мышление, он всем сердцем стремился к Новой Светлой Эпохе».
Шлю Вам всю мою веру в то, что Вы, приняв духовное наследие Феликса Денисовича, олицетворите в себе его символ – символ Вождя Сердца.
Елена Рерих. Гималаи. 29 мая 1936 год
С Рихардом Яковлевичем Рудзитисом я познакомилась в августе 1955 года после возвращения из лагеря. Жила я тогда с матерью и скульптором Элзой Швалбе на бульваре Райниса, дом 2 в квартире своей кузины Зенты Мангол. Тесная, заставленная мебелью комната с тусклым дневным светом не была рассчитана на прием почетных гостей. В то время реабилитации ни у меня, ни у Швалбе еще не было, и жили мы здесь нелегально, без права прописки, избегая приема любых знакомых. И вдруг нежданный посетитель. Худощавый пожилой мужчина в очках и с толстым портфелем... Говорит заикаясь: «Я к скульптору Элзе Швалбе. Поэт Рихард Рудзитис».
И сразу доверие. Зента Мангол – секретарь-машинистка Латвийского университета – человек воспитанный, выросший в зажиточной интеллигентной семье. Отец ее, Людвиг Аудзе, в прошлом владелец типографии, издававшей женский календарь. Для нее имя поэта Рихарда Рудзитиса говорит многое. Он не раз консультировал отца по отбору юбилейных дат для календаря. В домашней библиотеке Аудзе имеются его печатные труды – сборники стихов и эссе о Райнисе, Чюрленисе... Как старшая из кузин, она находит неудобным мое присутствие при разговоре двух старших людей. Я удаляюсь... Но Элза, поняв причину моего отсутствия, позвала меня и представила Рихарду Яковлевичу.
Я была смущена и взволнована... О нем я слышала в лагере от Катрины Екабовны Драудзиня и Элзы Карловны – знала, что с 1936 по 1940 годы он был председателем Латвийского Общества Н.К. Рериха, автором многих книг и статей о семье Николая Рериха, лично переписывался с его женой Еленой Ивановной. И вдруг он здесь – в Риге, на пороге нашей скромной квартиры... Невысокий, пожилой мужчина, внешне неприметный, в поношенном костюме, без галстука.
Рудзитис, глядя на меня, грустно улыбнулся: «Неужели и такое юное дитя с косичками могли посадить за решетку? А у меня примерно в таком же возрасте дочери... Гунта, Илзе и Мария. Сиротами выросли без нас с женой...» Заметив на столе доску с овальным рельефом из глины, изображавшим меня в профиль, добавил: «Похожа. Но слишком серьезна для ее возраста...» Через несколько минут, затаив дыхание, я уже слушала отрывки из незавершенной до ареста рукописи Рудзитиса «Братство Грааля»...
Элза Карловна, знавшая поэта в 30 – 40-е годы, говорит, что, если бы встретила его теперь на улице, не узнала бы.
— А откуда Рихард Рудзитис узнал наш адрес? – полюбопытствовала я.
— Очевидно, от доктора Катрины Драудзиня. Ведь рериховцы 30-х годов продолжают общаться, – и перейдя на шепот, прикладывает руку к губам. Я понимаю: ни слова! Общение нам запрещено.
Были и другие встречи с Рихардом Яковлевичем... Помню, осенью того же года приехала в Юмправу для очередной проверочной явки в милицию, где состояла на учете вместе с Элзой Швалбе до получения амнистии и реабилитации. Зашла в усадьбу Катрины Драудзиня, у которой была прописана, и застала там Рихарда Яковлевича. Он работал в огороде... Оказалось, что уже с детства привык трудиться на земле, вместе с родителями занимался выращиванием овощей и клубники... Рудзитис давал полезные, проверенные на собственной практике советы... И всей душой поддерживал давнюю мечту Катрины Екабовны создать из рериховцев трудовую общину... Драудзиня, грустно улыбнувшись, сказала: «Теперь это уже тщетная мечта: мы разбросаны по свету... Да и силы не те... А вот книгу индексов Живой Этики я все же постараюсь завершить...» После обеденного перерыва мы вернулись в комнату, где были разложены на столах и подоконниках маленькие белые листочки, исписанные мелким бисерным почерком. «Какое же это было замечательное поколение рериховцев 30-х годов, – подумала я. – Как много в них творческой энергии и как они преданы Учению...»
1960 год для всех нас начался печально. Перед первым мая у моего мужа – Яниса Карклиньша – разлилась желчь. После операции я привезла его в Юрмалу (Майори), где в доме отдыха на улице Лиенас, 9 работала моя мать. Цвели яблони и сирень. А мой муж, человек могучего сложения и сильной воли, угасал с каждым днем. Все чаще к нему наведывались коллеги из театра оперы, спеша проститься. Кто-то даже привез проигрыватель. Звучали его любимые симфонии Баха, Бетховена, Берлиоза. Из музыки Чайковского ему, как человеку несентиментальному, близка была лишь опера «Пиковая дама»... Когда больной перестал подниматься с постели, по инициативе д-ра Драудзиня рериховцы установили часы дежурства: чаще всех приезжали Катрина Екабовна и актриса Милда Риекстиня-Лицис, навещал и поэт Рихард Рудзитис. Однажды он привез от доктора Харальда Лукина белую, как молоко, микстуру из хвойного раствора.
— Она сделана из гималайских трав, – объяснил он, – по рецепту доктора Феликса Лукина.
Каждому посещению муж очень радовался, понимая близость своего ухода. Как-то он попросил Рихарда Яковлевича почитать что-нибудь из своих стихов, написанных в лагере Заполярья.
Помнится, Рудзитис нас всех пригласил съездить на выставку Святослава Николаевича в Москву, обещал познакомить с востоковедом Юрием Николаевичем, к которому мы питали особую симпатию... Но, увы, болезнь мужа нарушила все наши планы... В Москву поехали лишь Катрина Драудзиня и Рихард Рудзитис. Вернувшись в Латвию, Катрина Екабовна вновь побывала у нас и сообщила печальную весть: нежданно скончался Юрий Николаевич... Это произошло 21 мая 1960 года. Элза Швалбе зажгла свечу, и мы молча, с глубокой скорбью проводили великого ученого в последний путь... Потом, вздохнув, Янис тихо промолвил: «Теперь мой черед...» Муж умер 17 июля 1960 года... А осенью того же года – 5 ноября, когда в Межапарке, где проживала семья Рудзитиса, уже падали с кленов последние ржаво-красные листья, ушел еще один светлый человек, выдающийся поэт-философ, преданный Учению Живой Этики, – Рихард Рудзитис. Умирая, поэт сказал: «Я ухожу с уверенностью, что рукопись книги остается в надежных руках моей супруги и дочери Гунты...»
* * *
Рихард Рудзитис родился 19 (7) февраля 1898 года на Рижском взморье в Меллужи. Его родители – отец Екаб и мать Катрина – занимались огородничеством. Урожай клубники, которую выращивал Рихард, доставлял большую радость семье и служил хорошим подспорьем материальной базе. Было у Рудзитисов и небольшое хозяйство – корова и куры. Жили скромно. Кроме сына Рихарда, у Рудзитисов были старшая дочь Элфрида и сын Андрей-Густав. Все они с раннего возраста были приучены к труду на земле. Каждый из них по своим способностям и материальным возможностям получил образование и самостоятельно приобрел профессию. Трудней других приходилось Рихарду, который обладал многими талантами и стремился к широким познаниям. Вначале, как брат и сестра, он учился в местной приходской школе, затем с 1909 по 1916 годы – в гимназии Луда Берзиня и Шмитхене в Дубулты. Там способный к языкам подросток овладел рядом иностранных языков, начал читать в подлинниках произведения мировой классики. Тогда же у него пробудился интерес к латышскому фольклору и литературе. Любимыми поэтами стали Райнис и Порук. Рихарду не было и 12 лет, когда он познакомился с поэзией Тагора и попытался ее переводить на латышский язык. Уже в школьные годы он завел дневник, которому поверял свои сокровенные мысли и мечты. Благодаря своим ярким способностям очень выделялся среди своих сверстников. Естественно, не каждый мог понять его поэтическую, легкоранимую душу. Был у него и один физический недостаток, который затруднял общение, – это заикание. В годы первой мировой войны, когда он учился в последних классах гимназии, ее эвакуировали в Дерпт (Эстонию)... Там же с 1916 по 1918 годы латышский юноша изучает в университете классическую философию. Средства были весьма ограничены, и ради знания он урезал себя до минимума. После возвращения на родину, Рудзитис был призван в Латвийскую армию. Только в 1931 году ему удалось окончить философский факультет Латвийского университета. Регулярно печататься он начал с 1917 года. Правда, первое стихотворение было опубликовано еще в школьные годы в латышской газете «Яунайс вардс» («Новое слово»). В 1918 году в студенческом журнале «Яунатне тербата» были помещены в переводе Рудзитиса стихи из сборника Тагора «Садовод», а в 1922 году вышел в свет его первый сборник поэзии «Песни человека».

Рихард Рудзитис
В жизнь молодого поэта в середине 20-х годов пришла большая на всю жизнь любовь. Он встретил на концерте, посвященном Янису Райнису, свою избранницу сердца – молодую актрису Эллу Страздыня. В 1933 году он посвятил ей один из самых романтических сборников стихов «Прекрасной душе».
До рождения дочерей супруги Рудзитис много ездили по отдаленным местам республики, бывали и за рубежом. Как журналист, он ездил с хором Рейтера в Скандинавию. Также побывал с женой в Италии. Стремление к познанию прекрасного было обоюдным стремлением молодоженов. Университет Рихард Яковлевич заканчивал в 1931 году. Своей дипломной работой он выбрал тему «О категории прекрасного и доброго» – фольклорная тема с философским осмысливанием: прекрасное неотделимо от доброго. Поэт был постоянен и в выборе места работы: со студенческих лет он трудился в Государственной библиотеке Риги. Его деятельность носила научно-исследовательский и творческий характер. В обширном мире книг он чувствовал себя в духовно близкой атмосфере. Творил как писатель и поэт-философ, занимался журналистикой, писал рецензии, поднимал в печати актуальные общественные проблемы, например, «Борьба в Индии», «Махатма Ганди». Рудзитис не ограничивался пополнением лишь своих знаний и стремился передавать их другим. Его консультации во многих областях гуманитарных наук помогали молодым ученым, литераторам. Видные деятели латвийской культуры с его помощью стали интересоваться восточной философией, Учением Живой Этики и посещать Общество им. Н.К. Рериха. Среди них Зента Мауриня, Мария Вердинская, Мирдза Шмитхене.
В 1933 году в семье Рудзитис родилась первая дочь Гунта, которой суждено было стать преемницей отца, затем средняя дочь Илзе – будущий художник, посвятившая свое творчество духовно-философским темам, и третья – младшая дочь Мария, которая станет врачом, беззаветно отдающим все свои силы и доброту сердца для лечения больных.
Но помимо семьи у поэта Рихарда Рудзитиса было и ответственное общественное дело, которое стало делом всей его жизни, совести и долга. Это – Латвийское Общество имени Н.К. Рериха, которое он возглавлял с 1936 по 1940 годы.

Конгресс обществ имени Рериха прибалтийских стран. Рига. 10 октября
1937 года.
В первом ряду слева: Е. Драудзиня, Ю. Гринберг, К. Волконский, Р. Рудзитис,
Ю. Монтвидене, Н. Серафинене, Юхневич, Ф. Буцен, Е. Зильберсдорф, К. Иодвалкис.
Во втором ряду слева: О. Мисиня, А. Виестуре, И. Блюменталь, Г. Лукин,
А. Клизовский, Сипавичус, В. Скабас, Б. Иалушите, В. Будкус, П. Глемжас
Как определился путь поэта-философа в это Общество? Этот вопрос стоит и перед его дочерью Гунтой. Шаг за шагом, день за днем, через дневники, обширное эпистолярное наследие и воспоминания восстанавливаются перед нами в ретроспективной последовательности все факты жизни, творчества и общественной деятельности.
Еще до официального открытия Общества д-р Феликс Лукин, руководивший кружком восточной философии, пожелал издать в Риге на русском и латышском языках книги Живой Этики. Для этого потребовался квалифицированный переводчик, владеющий поэтической структурой изложения текстов восточной литературы... И этого мало. Ему потребовался поэт-философ, знакомый с Учением Живой Этики, творчеством Тагора и Николая Рериха. И, естественно, более подходящей кандидатуры, чем Рихард Рудзитис, он не мог найти.
Латвийское Общество под руководством доктора Феликса Денисовича Лукина начало свою официальную деятельность 13 октября 1930 года, получив на это благословение от Рерихов. В момент открытия Общества уже существовало его правление из активных членов. Одними из незаменимых помощников в творческих и издательских делах были Рихард Рудзитис и переводчица иностранных языков Мэта Яновна Пормале.
Напряженная работа в Обществе не только не помешала, но и усилила творческую энергию поэта. Рудзитис издает сборник эссе «Сознание красоты спасет». Одну из первых книг в 30-е годы он посвятил Николаю Константиновичу под названием «Николай Рерих – Водитель Культуры».
В главе «Миссия Культуры» автор пишет: «Нужно снова и снова разъяснять и насаждать в человеческом сознании понятие истинной Культуры, для того чтобы человечество стало ее переживать, как нечто священное, чтобы оно никогда не погрешило против культурных ценностей и, вместе с тем, против самого созидателя и носителя этих ценностей – живого человека... Наша эпоха смешала, нивелировала, нередко даже запятнала истинное понятие Культуры. Современный мир забывает ее первичный священный смысл... Так Н.К. Рерих приходит как апостол всекультурного и всечеловеческого сотрудничества и содружества. Нужно внести взаимопонимание и согласованность как среди всех истинных ценностей, так и между всеми людьми, всеми организациями и нациями. Ни один, даже незначительнейший индивид или нация не должны исключаться из сотрудничества на поле культурных возможностей».
На книгу «Николай Рерих – Водитель Культуры» откликнулась с большой радостью и одобрением Елена Ивановна: «Родной Рихард Яковлевич! Получила Ваше сердечное письмо от б Авг., также пришла на днях и прекрасно изданная брошюрка о Н.К. Сердечное Вам спасибо за все Ваши заботы и превосходную статью, обрисовывающую позднейшую деятельность Н.К. Также получили радостное известие на разрешение издания «Агни Йоги» – это большая победа по нынешним временам. Так устремление духа и настойчивость побеждают препятствия... Сейчас пришло письмо от Н.К., он прочел пересланные главы Вашей книги и просит меня передать Вам все самое сердечное, все самое прекрасное, что я и делаю с особой радостью... Сердечный привет Вашей семье. Сердцем и духом с Вами. Е. Рерих. 03.09.35.»
Катрина Драудзиня вспоминала: «Доктор Лукин, да и мы все, выражаясь латышской поговоркой, «снимали шапку» перед человеком-феноменом, не побоюсь этого слова». Это подтверждали и письма из Индии Елены и Николая Рерих. Поэт интересовал семью Рерих не только как правая рука доктора Феликса, но и как человек необыкновенно широкого дарования и такой же редкой кристально чистой души. Рериховцы, как правило, были скромными людьми и на вид не выставляли своих дарований и заслуг. У них были более высокие критерии оценки любой полезной деятельности. Поэтому одами и прославлениями никто не одаривал друг друга.

Интерьер зала в Латвийском Обществе. Фотоснимок 1930-х годов
Лукин, высоко ценя Рихарда Рудзитиса, не смог уберечь своего самоотверженного помощника от чрезмерной нагрузки, как и себя. Рихард Рудзитис работал с полной отдачей духовных и физических сил. Принимал активное участие в заседаниях правления, проводил занятия со старшими группами в Обществе и с детьми, вел корреспонденцию, лично занимался перепиской с семьей Рерихов, посылал на консультации свои рукописи и печатные труды. И все это совмещал со своей штатной работой в Государственной библиотеке. Исполняемые обязанности отнюдь не были легкими. Он заведовал несколькими ответственными отделами, давал консультации по вопросам философии, фольклора и литературы, прочитывал и рецензировал уйму книг. Супруга и маленькая дочь, для которой краткие часы, проведенные с отцом, были истинным праздником, терпеливо переживали его долгое отсутствие.
Весна 1934 года для молодого, еще неокрепшего Латвийского Общества оказалась трагической. Коварный недуг свалил доктора Феликса Лукина. Предчувствуя близость своего ухода, доктор Феликс пригласил на беседу своих ближайших помощников – Рихарда Рудзитиса и Карлиса Стуре. Оба преданные общему делу. Оба люди пишущие и выступающие с высокопрофессиональными лекциями и рефератами... Но как они не схожи! Поэт Рудзитис деликатен, со всеми умеет найти общий язык... Карлис Иванович Стуре – человек волевого характера, эрудированный, к тому же прекрасный оратор. Последнего качества у Рудзитиса из-за заикания не было, поэтому иногда его рефераты приходилось читать супруге... Он просит доктора назначить президентом Карлиса Стуре и обещает ему помогать.
После кончины Ф. Лукина два года (с 1934 по 1936) Обществом руководил доктор филологических наук Карлис Стуре. Загруженный научной и педагогической работой, он уговорил поэта Рихарда Рудзитиса принять «бразды правления». Его кандидатуру одобрила и семья Рерихов, которая поддерживала с ним контакты.
Острую боль утраты испытали все, кто знал доктора Феликса Лукина. Превосходным памятником любви к нему является книга «Свет Сердца», в которой имеется реквием поэта Рудзитиса под названием «Пламенное сердце». Он пишет: «Это сердце интернационально. Это сердце не принадлежит одной Латвии. У него нет границ и замков. Это сердце – свободно...»
17 мая 1934 года Елена Ивановна пишет: «Родной Рихард Яковлевич! Буду так обращаться к Вам, ибо Вы любили и духовно были близки нашему родному Феликсу Денисовичу. Вы правильно пишете, что всем членам Общества предстоит большое испытание. Но я не сомневаюсь, что испытание это будет пройдено успешно. Разве Фел. Ден. не оставил духовных наследников (к ним я, прежде всего, причисляю Вас), которые несмотря ни на что будут продолжать начатое великое и светлое дело... Очень отрадно было слышать о мудром водительстве Фел. Ден., и, конечно, желательно, чтобы работа тесного кружка продолжалась по программе, намеченной Фел. Ден. Рефераты, задание письменных работ по Учению и совместные обсуждения крайне полезны. Именно многим нужно научиться мыслить и концентрировать свои мысли... с пером в руках... Издание журнала – мысль прекрасная, и содержание намеченное правильно. Конечно, можно будет давать статьи о Живой Этике, широко пользуясь данными Учения... Берегите здоровье! Широкая терпимость, великодушие и устремление в будущее – завет Н.К.».
После двух трудных лет, в мае 1936 года, Рихард Рудзитис был избран председателем Латвийского Общества им. Н.К. Рериха. Все заветы д-ра Лукина, его система занятий, график будущих мероприятий, стремление к широким международным контактам – все свято выполнялось... Время подсказывало и новые, более совершенные формы сотрудничества с научным центром «Урусвати». Установились и тесные творческие связи Латвии с прибалтийскими республиками.
Общество им. Н.К. Рериха становится истинным духовным очагом культуры Латвии. В его издательстве «Угунс» начинают выходить в свет ценные научные исследования Александра Ивановича Клизовского: «Психическая энергия», «Правда о масонстве» и трилогия «Основы миропонимания Новой Эпохи». До полусотни редких книг по восточной философии, произведений Рериха и поэта Рудзитиса увидело свет.
И вдруг – тяжелое испытание для рериховцев и их друзей. 5 августа 1940 года Советское правительство издало специальный указ о закрытии культурно-просветительных обществ, чья идеологическая направленность не отвечала требованиям социалистической действительности. Это постановление коснулось и музея Латвийского Общества имени Н.К. Рериха. Его имущество и картины были конфискованы. Кое-что из картин было распределено между музеями республики. Кое-что по своим возможностям выкупили бывшие члены Общества. Часть удалось спрятать в подвалах у надежных друзей, в основном в Межапарке. Но как подвела доверчивость рериховцев! Как уместно было в этот период вспомнить о предупреждении Н.К. и Е.И. Рерих: «Вы должны уберечься от всякого предательства. Ведь оно, как темная отрава, заражает весь организм...»
Гунта Рудзите вспоминает: «Отца арестовали в апреле 1948 года в Межапарке... Через несколько дней, не дожидаясь суда, вывезли для переработки, как сырье, его ценную, многотысячную библиотеку... Больно и жутко было смотреть на это варварство. На следствии выяснилось, что за ним была уже давно установлена слежка. Нет сомнения, что просматривалась и корреспонденция, особенно идущая за рубеж, в Индию... С точки зрения советских следственных органов, поэт Рудзитис был далек от идей социализма». И доказательств тому достаточно. Хотя бы то, что он отказался переводить на латышский язык «творения» отца отечества Иосифа Сталина... Также по своему мировоззрению он не стремился поступать в члены Союза писателей Советской Латвии... Были и другие доказательства его «несоответствия общепринятым социалистическим догмам». Это подтверждает оценка академика А. Упита: «Поэзия Рихарда Рудзитиса романтическая, религиозно-мистическая. Его образы поднимаются над реальностью, не прикасаясь к земле»[11].
Следствие для рериховцев-мужчин было тяжелым, с применением насилия. Особенно тяжело оно протекало по отношению к Рихарду Рудзитису и Харальду Лукину... По маршруту гулагов Инта – Воркута с переходом в колоннах десятков километров хрупкое сердце поэта сдало... И его определили в инвалидный мужской лагерь поселка Абезь. Там, исполняя «посильную» работу без выхода за зону, он нашел отдушину в поэзии – создал сборник стихов под названием «На роковой горе»[12]. Эти строки он писал с болью в сердце, с тоской и тревогой за свою семью, осиротевших малолетних дочерей (жена Элла тоже была арестована и осуждена).
Среди его стихов и «Молитва ко Всевышнему» со словами: «Дай мне еще раз встретить светлую, седую матушку и ощутить себя ее ребенком... И все равно, что бы со мной ни произошло, пусть сбудется Твоя, а не моя воля. Ведь я только странник безбрежного Млечного пути. Куда Ты меня направишь, туда и пойду».[13]
Роковым для латышских рериховцев был 1960 год. Первым глубоким потрясением для всех и особенно поэта Рудзитиса была неожиданная кончина в Москве старшего сына Рерихов – выдающегося востоковеда Юрия Николаевича. С ним Рихард Яковлевич поддерживал тесную связь с 1957 года, когда Юрий Николаевич приехал по желанию матери в Москву и еще не определился с квартирой, жил в гостинице. Пророчески звучали слова Елены Ивановны: «Ты поедешь в Россию лишь на три года».
Завершая свой краткий очерк о поэте-философе, председателе Латвийского Общества с 1936 по 1940 год, упомяну лишь о том, что до последнего дня своей жизни Рихард Яковлевич трудился над своей книгой «Братство Грааля», которой посвятил более двух десятилетий, и умер осенью 1960 года, не завершив авторской корректуры для издания. Но книга вышла в свет в 1994 году в издательстве «Угунс». Вышла благодаря творческим усилиям старшей дочери поэта, председателя вновь открывшегося Латвийского Общества им. Рериха с 1988 года.
Перевод с латышского был сделан старейшим членом Общества 30-х годов, возглавлявшей отдел переводов и корреспонденции Мэтой Яновной Пормале. В 1995 году порадовала читателей и книга лирической поэзии Рихарда Рудзитиса «Сердце спешит на встречу с утром». Это стихи о молодости духа, любви и вечном стремлении поэта к свету и красоте.
Элла Рейнгольдовна, Вы можете быть счастливы, что Вас полюбил Рихард Рудзитис.
Е.И. Рерих. Из письма к Рихарду
Рудзитису. 1938 год
«Я встретил прекрасную душу...» Эти строки стиха в 1924 году студент философского отделения Латвийского университета посвятил своей будущей жене актрисе Элле Страздыня.
До этой встречи двух любящих сердец у каждого из них была довольно суровая жизнь в многодетной семье без кормильца. Оба стремились получить образование, овладеть творческой профессией. Элла Страздыня – девушка привлекательной артистической наружности – мечтала о драматической сцене. Рихард Рудзитис, одаренный с детства литературными способностями, видел свое истинное призвание в поэзии. Эти два кристально-чистые ручейка вскоре слились в единую реку могучего потока духовной энергии.
В 1991 – 1992 годах незадолго до кончины Эллы Рейнгольдовны Рудзите я взяла у нее интервью.
«...Я родилась 1 июня 1900 года в Северной Видземе в местечке Апукалнс Алуксненского уезда. Мой отец Рейнгольд Страздыньш (Гросвальд) был довольно крупным для того времени торговцем. Но в 1906 году он умер, оставив овдовевшую жену с тремя малолетними детьми». Элле в то время шел шестой год. Уже с детства она отличалась хрупким телосложением и легкоранимой душой. Смерть отца тяжело отразилась на ее здоровье. Чтобы ее поддержать, мать отправила дочь на два года в деревню к своему отцу – честному труженику земли, придерживающемуся строгих религиозных уставов своих предков. В таком же духе он воспитывал и свою любимую внучку.
«...Я стала глубоко верующей, посещала с благоговением церковь и просила помочь нашей семье и всем страждущим сиротам», вспоминала Элла Рудзите. Уже в приходской школе у девочки проявились способности к учению, послушание и трудолюбие – все те качества, которые помогли ей в дальнейшей жизни. Чтобы дать возможность дочери завершить среднее образование, мать, не позволявшая себе одалживаться у других, впервые обратилась за материальной помощью к своему брату – владельцу бакалейной лавки, в которой она служила продавщицей. Гимназию Элла посещала в городе Валке. С ней в одном классе училась Элина Залите, будущая известная писательница и поэтесса, а также сестра популярного латышского певца Мариса Ветры. Гимназистки подружились и взаимно обогатили свои познания. Позднее Элина Залите вспоминала, что уже в Валкской гимназии она слушала с волнением свои стихи в чтении Эллы Страздыня. В те юные годы Марис Ветра был очарован ее подругой... Но скромная, застенчивая Элла избегала своих поклонников...
Путь к избранию профессии у Страздыня был сложным, и не сразу она пришла на сцену. До этого Элла училась в Дерптском университете Эстонии на философском отделении... Время было беспокойное, очень многим, пережившим первую мировую войну, требовалась медицинская помощь... «...И я подумала, что профессия врача более оправдывает мой выбор, чем театральная карьера, – рассказывает Элла Рудзите. – Я поступила на медицинский факультет Латвийского университета. Год училась старательно, заглушая в себе зов сердца на сцену... Посещая концерты и вечера вокала композитора Яниса Залитиса, я привлекла к себе его внимание и симпатии. Но истинный избранник моего сердца был впереди».
О своем знакомстве с поэтом Рихардом Рудзитисом Элла Рейнгольдовна вспоминает так: «Это перст Судьбы... Получилось все неожиданно и романтично... До сих пор благодарю Всевышнего за этот дар взаимной любви и слияния сердец на пути к Свету... В памяти воскресает 20 апреля 1920 года... В этот вечер в зале Национальной оперы состоялась встреча с Янисом Райнисом и Аспазией, вернувшимися на Родину из эмиграции.
Это незабываемое событие для всего нашего народа. Попасть на этот вечер было нелегко – желающих было во много раз больше, чем мест в зале и на балконах. Билеты для студентов разыгрывались в лотерею. У меня оказалось два билета – один лишний... Для кого, спросила я себя мысленно... И я попросила одного из своих коллег порекомендовать того, кто больше всего нуждался в этом билете... Кресло рядом со мной занял молодой студент философского отделения – поэт Рихард Рудзитис... Кто мог предугадать, что он в моей судьбе сыграет решающую роль... С первого знакомства мы нашли общий язык и духовное родство... Меня в нем привлекла необыкновенная скромность и душевная чистота. Поразил острый ум и обширная эрудиция в гуманитарных науках. Он был молод, внешне привлекателен, элегантно одет и обладал хорошими манерами. Естественно, после окончания концерта Рудзитис проводил меня до дома».
Как потом выяснилось, в этот же вечер студент в своем дневнике записал одну строку будущего стихотворения: «Я нашел родную душу...» «Наши теплые дружеские отношения продолжались несколько лет, – вспоминала Элла Рейнгольдовна. – Поэт одаривал меня цветами, посвятил мне стихи «Я встретил нежданно прекрасную душу», впоследствии ставшими заглавными для сборника лирических любовных стихов. Особенно меня радовало одно из стихотворений, написанное в бурную ветреную ночь, – «А у тебя так светло, так тихо...»
Поэт любил музыку, театр, цветы... И в этом тоже их вкусы совпадали. У Эллы Страздыня появилось настойчивое желание испытать свои сценические способности. Она посещала занятия сценического кружка Бируты Скуениеце. Скуениеце первая заметила незаурядные сценические способности Эллы Страздыня и посоветовала ей стать профессиональной актрисой. Свою артистическую карьеру Элла начала в Валмиерском театре у режиссера Домбровского-Думбрая. Затем работала на сцене в Лиепае.
«В Лиепайском театре я играла роли вместе с Янисом Леиньш, Эвалдом Вальтером, – рассказывала Э. Рудзите. – Режиссером в ту пору был Янис Зариньш. Особенно мне удавались драматические и трагические роли. Отзывы критики были весьма положительные. Моей мечтой было сыграть роль Лизы в тургеневском «Дворянском гнезде». Так я дошла до столичной сцены Национального театра. Там выступала вместе с Жаном Катлапом, Эмилией Берзинь».
Но, как часто бывает, в сценической среде фортуна изменила молодой талантливой актрисе в самом расцвете ее творческих сил. Ей перестали давать соответствующие ее амплуа роли. Причина была простой – у нее отсутствовала «влиятельная рука». Мешал и бескомпромиссный нрав. В 1926 году Элла Страздыня вышла замуж за Рихарда Рудзитиса. Позднее в театральных кругах говорили: «Яркая актриса гордо покинула сцену».
«Пока не было детей, мы много ездили по Латвии и за границу – в Италию, Австрию, Чехословакию, Польшу. Рихард был не только поэтом, но и журналистом, часто печатался в местной периодике. Работал он в Государственной библиотеке Риги, охотно консультировал по вопросам фольклора, поэзии, философским трудам. Я гордилась своим супругом и радовалась вместе с ним его успехам.
Я стала первой слушательницей его произведений... Он открыл мне путь к Учению Живой Этики... Это помогло мне понять глубокий философский смысл произведений Яниса Райниса и Аспазии... В переводах мужа мне открылся Тагор. В 1930 году, когда образовалось Латвийское Общество им. Н.К. Рериха, я стала его членом.
В мае 1933 года, когда у меня родилась первая дочь Гунта, а роды принимал д-р Харальд Лукин во второй городской больнице (теперь клиника академика Паула Страдыньша), председатель Латвийского Общества им. Н.К. Рериха преподнес мне букет алых роз как символ пламенного сердца... Когда же в 1937 и 1939 годах родились еще две дочери – Илзе и Мария, мне пришлось отказаться от дальних поездок с мужем и распрощаться со сценой и творческими планами. Моей целью стало воспитание детей, достойных своего отца...»
Гунта Рудзите поделилась своими детскими воспоминаниями, как они, три сестры, заслушивались чтением стихов матерью. «С детства мы привыкли слушать материнскую колыбельную. Пела она проникновенно. Прекрасный голос у нее сочетался с тонкой артистичностью исполнения. В своей юности она брала уроки пения у Эрнеста Вигнера. Мама была и большой мастерицей рассказывать сказки и читать стихи отца. Все ее время принадлежало нам и нашему отцу. Вечерами, уложив нас спать, она садилась за письменный стол и переписывала начисто его труды... Она и первой с материнским проникновением улавливала наши склонности и поощряла их развитие».
Семья Рудзитис жила обособленно, сложно и материально очень скромно. «Отец заработанные в библиотеке деньги тратил также на нужды Общества, – продолжает Гунта, – оплачивая отсылку корреспонденции в Индию, приобретение книг. Тогда к рождественским и новогодним праздникам готовились всей семьей, проявляя свою творческую изобретательность. Любовь к отцу и матери для нас была священна, мы гордились нашими родителями и ставили их себе в пример. И вдруг разразилась над нашей родиной гроза репрессий 1948 – 1949 годов. Она коснулась членов и друзей Общества имени Рериха...»
Первым из семьи был «вырван» поэт Рихард Рудзитис. Затем через год его жена. Дети были оставлены на произвол судьбы. Старшей шел пятнадцатый год, младшей – девятый...
«Нас разделяли большие расстояния, – вспоминала Элла Рудзите. – Рихард находился в Коми АССР, а я в Казахстане. Оба в инвалидных лагерях. Друг о друге мы ничего не знали. Не было известий и о детях...»
И кто знает, может быть, материнское сердце не выдержало бы боли разлуки и тревоги, если бы не крепкая внутренняя духовная связь.
Когда Элла Рудзите вернулась из лагеря домой, то застала старшую дочь Гунту тяжело больной. Не сладко было и малолетним дочерям, которых разобрали родственники. Общими усилиями семья вернулась к жизни. Дети продолжили учебу. Мать работала почтальоном в Межапарке. Отец окончательно потерял здоровье. Вернуться на работу в библиотеку он уже не смог.
«Когда муж в 1960 году ушел из жизни, я с ним не рассталась, – говорит Элла Рудзите. – Меня спас оставленный им обширный неопубликованный труд. До сих пор мы с дочерью Гунтой занимаемся его наследием, готовим к публикации рукописи, дневники. Мне уже девяносто третий год... Пишу свои воспоминания о нем, о себе и горжусь тем, что наши дети – наши преемники и внуки оправдали надежды...»[14]
Этот краткий эскизный портрет я посвящаю Гунте Рудзите – моей коллеге по профессии и человеку, близкому по духу и творческой работе в области рериховского движения. Биографические линии нашей жизни часто переплетались...
Инга Карклиня
Духовными преемниками я считаю его трех дочерей: Гунту, Илзе и Марию. Все родились в 30-х годах. Старшая – в 1933-м, средняя – в 1937-м, а младшая – в 1939-м.
Елена Ивановна, жившая жизнью и заботами Латвийского Общества на протяжении всего десятилетия его существования (1930 – 1940), интересовалась семьями сотрудников и просила присылать ей фотографии с указанием дат рождения. «Как потом выяснилось, она обладала особым даром определения характеров и судеб по ним, – объяснил поэт Рихард Рудзитис, – тогда же моя супруга Элла послала ей фотографии двух старших дочерей Гунты и Илзе в малолетнем возрасте. Данные Еленой Ивановной определения их характеров и судеб – сбылись...» Она писала, что «у старшей – Гунты глубокие чувства, у средней Илзе – судьба воительницы духа...»
По характеру и выбору профессии сестры очень разные. Илзе живописец по призванию. Основной темой ее творчества, миссия которого нести людям Свет, Мир и Красоту, является духовная сущность человечества... Жизнь ее проходит в тяжких испытаниях, из-за репрессии родителей ей пришлось покинуть Родину и переехать с мужем на постоянное место жительства в Барнаул, где талант и усердие принесли Илзе широкое признание и в Латвии, и во многих странах мира...
Мария – детский врач, мать большого семейства. С детства, она отличалась послушанием и добротой. В семье ее называли Солнышком и согревали сердце у ее «домашнего очага». О ней Юрий Николаевич в середине 50-х годов в Москве сказал поэту: «Ваша Марите – сама доброта».
Гунта-Ренате Рудзите, прежде чем найти свое истинное призвание, прошла тяжкий путь испытаний... О себе говорить не любит. В беседе со мной поведала: «Моя биография далека от романтики. Было краткое детство без баловства и изобилия, но согретое заботой и любовью родителей. Родителями я горжусь: они для меня пример благородства, душевной чистоты и высокой моральной культуры. До рождения младших сестер мать меня водила на воскресные детские утренники в Латвийское Общество. Там были музыкальные и драматические кружки, проходили концерты. Настроение было праздничное, дружелюбное. В Обществе Рериха отец руководил воскресной школой для детей... К этой работе присоединялась и наша мама – великолепная рассказчица, обладавшая вокальными данными... Там я впервые услышала рассказы «О луче Солнца, преображающем мир», впервые почувствовала завораживающее влияние музыки... Эта атмосфера была мне близка. В нашем доме я слышала прекрасное исполнение мамой народных песен. Благодаря ей рано познакомилась с латышской поэзией и поняла, что мой папа тоже большой поэт и ученый. Поняла и то, что он не похож на многих своих коллег, которые умеют подчеркнуть свое общественное положение. Он был прост в общении с людьми и смущался, когда его называли господином председателем, а порой и президентом Общества. Его помню в минуты раскованности в домашней обстановке. Он был остроумен, любил импровизировать детские игры. Меня с детства учили перед сном обдумывать свои поступки и оценивать их. Я научилась молитве «Пусть всем будет хорошо. Мир всему миру». Обращалась к Учителю со словами: «Помоги мне быть доброй». Когда мне исполнилось пять лет, отец подарил мне нитку янтаря – светлого, прозрачного и пожелал, чтобы и моя жизнь была такой... Это солнечное ожерелье потом преломлялось в моих снах янтарной листвой березовой рощи... С четырех лет я научилась читать. Отец сам выбирал для меня, а затем для сестер детские книги. Уже в том возрасте у меня были запоминающиеся вещие сны. Со школьных лет у меня началась пестрая жизнь, разрушающая высокие духовные идеалы, воспитанные семьей. С 1939 года из Межапарка мы переехали жить в центр Риги на улицу Аусеклю, дом 3. В 1940 году я училась в советской начальной школе. В 1941 началась война и годы фашистской оккупации. После войны было бедственное для всех время, и особенно для детей. Не было в городе электричества, отопления. Мы снова переехали в Межапарк. Я там продолжала учиться в школе имени Порука (18-я латышская школа). Зная, что мой отец поэт, и от меня мои учителя и коллеги ждали проявления литературного таланта. Позднее, в 14 лет, (для себя) я стала писать поэтические произведения.
И вдруг на пятнадцатом году моей жизни разразилась гроза над нашей семьей: в 1948 году арестовали отца, а затем в 1949 и мать. Мы осиротели, лишились крова. Младших сестер приютили родственники, а мне пришлось самой добывать средства на жизнь. Жила в квартире одна. У меня не было одежды и обуви для зимы. Окончила среднюю школу в 1951 году в отсутствие родителей. Дальше не могла продолжать образование из-за «запятнанной» биографии. Голодная и холодная, я тщетно искала для себя работу. На время удалось устроиться уборщицей в туберкулезной больнице в отделении «открытой формы». Вскоре там заразилась туберкулезом. Какое-то время попробовала продержаться на тяжелой физической работе в садоводстве.
В 1954 году по состоянию здоровья вернулся из Заполярья отец – больной, исхудавший, но не сломленный духом, а затем и мать. Представляю, какую боль и волнение я доставила вернувшимся из лагерей родителям!.. Но наша семья опять была вместе. И это было большим счастьем. Мать работала почтальоном в Межапарке. Отец окончательно потерял здоровье. Вернуться на работу в библиотеку он уже не смог. Зарабатывал лишь редкими переводами. Из-за состояния здоровья я всегда сопровождала его в поездках в Москву на рериховские вернисажи, а также для встреч с Юрием Николаевичем Рерихом. Они всегда проходили очень душевно и оставляли глубокое впечатление. Возвращаясь в Ригу, отец подробно описывал их в своем дневнике. Впоследствии они частично были опубликованы в нашем журнале «Угунс»... Несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, отец продолжал работать над рукописью книги «Братство Грааля»... Отец иногда жаловался, что ему не хватает искусствоведческого профессионального образования, чтобы писать о произведениях искусства, в первую очередь семьи Рерихов, наследие которых являлось одной из основных тем его исследовательских трудов. По просьбе Е.И. Рерих он должен был написать труд о космическом аспекте трудов Н.К. Рериха.
По настоянию отца я в 1955 году поступила в Латвийский университет на филологический факультет (отделение латышского языка и литературы). Закончила высшее образование в год смерти отца, в 1960 году. Когда через год открылось в Академии художеств отделение искусствознания, я поступила на него (в 1967 году окончила курс). Работала в подвалах Государственной библиотеки имени В. Лациса. Получила тяжелую форму астмы, стала инвалидом второй группы. Затем работала в библиотеке Музея латышского и русского искусства на улице Горького»...[15]
Там она так же, как и отец зарекомендовала себя очень эрудированным научным сотрудником. Была у Гунты мечта поступить в аспирантуру... Но, увы, помешали пятна в биографии родителей. Ярлычок «дочери репрессированных» (пусть даже в 50-х годах, когда все латышские рериховцы были реабилитированы) стал преградой для осуществления этой мечты... К тому же беспартийный работник гуманитарных наук, сужу и по себе, был «бесперспективным в продвижении» – лишался премий и даже благодарственных грамот.
С 1988 года, когда официально возобновило свою деятельность Латвийское Общество им. Н.К. Рериха, Гунта Рихардовна Рудзите избрана его председателем... Условия жизни и времени с его мятежным и подчас противоречивым дыханием потребовали основательной перестройки настоящего Общества им. Н.К. Рериха...
Гунта, отказавшись от личной жизни, всецело посвятила себя делу отца – Учению Живой Этики, деятельности Общества, исследованию начатой им темы «Родословная Рерихов в Прибалтике», а также издательству. В 1994 году в издательстве «Угунс» вышла книга в переводе Мэты Пормале «Братство Грааля», в 1995 – сборник избранной лирической поэзии Рихарда Рудзитиса. В него вошли стихи разных лет из сборников: «Песни человека», «Прекрасной душе», «Крылья Огня» и «На роковой горе». Труд, достойный благодарности...
Доктор Катрина Драудзиня была тем «золотым ключиком», который обнаружил в Обществе Н.К. Рериха Ф.Д. Лукин для создания секции «Женского единения». Она сумела зажечь огонь сердца у других на пути к познанию Матери Мира. Это произошло в начале 30-х годов... Тогда же, получив фотоснимок К. Драудзиня, Елена Ивановна назвала ее «дочерью Света»...
Мэта Пормале. Из воспоминаний. Октябрь 1989 год
Доктор-стоматолог Катрина Екабовна (Екатерина Яковлевна) Драудзиня родилась 9 июля 1882 года в Земгале волости Елеясь на хуторе Кукню. Родители, как и все предки Катрины, занимались крестьянским трудом. К своей земле относились с любовью и преклонением. Уклад семьи был патриархальным с верой в Бога. Соблюдались все праздники и обряды. Может быть, поэтому в далекие времена крепостного права земгальский барон окрестил предка девочки фамилией «Драудзиньш», что в переводе на русский язык означало «друг». «Наш род очень гордился своей фамилией и старался ее оправдать», – вспоминала Катрина Екабовна. С детства она приобщилась к сельскому быту и, несмотря на маленький рост и хрупкое телосложение, не уступала в выносливости взрослым. Катрина Драудзиня искренне любила свой песенный край с могучими лиственными массивами и тихо журчащей речкой Берзе. Еще в начале нашего века, проезжая по Добельскому шоссе, можно было увидеть старые земгальские хутора с почерневшими крышами. На некоторых из них сохранились резные деревянные украшения в виде птиц и животных. По древнему крестьянскому верованию, они охраняли домашний очаг от темной силы, пожаров и грозы.
Катрина Яковлевна (так ее звали в России) любила вспоминать свое детство: «...В те далекие времена земгальские крестьянские дома строились без фундамента, на деревянных сваях, имели низкие из обтесанных бревен потолки и маленькие квадратные окна, закрывающиеся на ночь деревянными задвижками. Отец, получивший дом от своего деда, гордился тем, что он построен без единого железного гвоздя... В самые жаркие солнечные дни у нас в комнате было сумрачно и прохладно, пахло травами – мятой и медовиками. Поэтому и дышалось здесь так легко. На чердаке по дедовскому обычаю стоял заготовленный отцом при жизни сосновый гроб. «Для себя не жалко и дубовый, но нужно пожалеть людей – при моей-то комплекции им тяжело будет его нести, – объяснял он. – А вот крест на могиле обязательно дубовый и с навесом, чтобы дольше простоял...» Особенно я любила вечера, когда вся семья возвращалась к ужину домой. Зажигались лучины. Все располагались вблизи большого дубового стола, а в холодные осенние дни – поближе к печи, которая занимала почти треть избы. Отец чинил домашнюю утварь, изготовлял из яловой кожи пастолас[16], а мать с бабушкой пряли, вязали, а когда стригли овец, то и ткали. Сами из природных средств окрашивали нитки. У моей матери был прекрасный художественный вкус, и она сама придумывала орнаменты для покрывал и платков. А бабушка была совсем неграмотной, но обладала даром сказительницы и по памяти рассказывала много дайн. Помнится, к ней приезжал поэт Фрицис Бривземниек и записывал с ее слов старинные народные песни нашего края. По субботам у нас бывали посиделки, каждый приходил со своими пирогами и рукоделием. Тогда много пели и читали привозимые из Риги газеты. Я выучилась читать в раннем детстве, когда не было и пяти лет...»
Уже в местной приходской школе у Катрины обнаружились незаурядные способности к учебе. Тогда же встал вопрос о дальнейшем образовании. Но где взять средства для оплаты? Для начала помогли священник и директор приходской школы. Катрина Драудзиня поступила в елгавскую частную гимназию Доротеяс[17]. Она пользовалась большой популярностью, и занятия проходили на немецком языке.
«В моей жизни никогда ничто не проходило без препятствий и испытаний, – сказала доктор Драудзиня. – Только расслаблюсь немножко и начинаю верить, что все трудности позади, размечтаюсь о планах будущего, как вновь отрезвляющий удар в сердце...»
Так было и с гимназией. Отличные отметки, прекрасное, пусть даже требовательно-строгое отношение директрисы и учителей – все это давало право Катрине надеяться на светлое будущее. И вдруг она стала перед фактом: умер священник, заболел отец, покачнувшееся материальное положение семьи требовало прекращения ее учебы и возвращения домой. Гордая и независимая по натуре девушка решила ночью тайком покинуть гимназию и своим замыслом поделилась лишь с одной подругой по койке (они вместе снимали в мансарде маленькое подсобное помещение без оплаты).
«Но и тут меня подвела моя излишняя доверчивость, – улыбнулась Драудзиня. – Не успела я переступить порог дома, как мне преградила дорогу сама директриса. Она была глубоко оскорблена моим «неблагодарным поступком». «Мою гимназию еще никто так не покидал»,– сказала она гневно. И не успела я сказать слова в свое оправдание, как объявила, что сама урегулирует вопрос с моей задолженностью. Когда же я, оробев, стала бормотать слова благодарности и обещать, что «непременно верну долг», она вдруг обняла меня за плечи и примирительно-ласково сказала: «Вернешь, девочка, долг не мне, а людям, которые будут нуждаться в твоих знаниях и помощи. Поэтому выбирай для себя профессию, полезную людям...»
Вскоре после окончания гимназии Катрина Драудзиня узнала о том, что в Риге начинаются приемные экзамены на высшие медицинские курсы врачей-стоматологов. «Это для меня»,– подумала она. И вновь щедрая рука помощи оказала ей услугу. На сей раз через студенческую кассу взаимопомощи, организованную при Политехническом институте в Елгаве. Время было тревожное, революционное – приближался 1905 год. Земгальская молодежь, объединившись в кружки, называя себя социалистами, ратовала за новый строй, за развитие национальной культуры и доступность демократическим слоям общества, особенно крестьянскому, получения образования и специальности. Это оказалось по душе Катрине Драудзиня. Она сблизилась с социалистами, не понимая ничего в сложившейся политической ситуации и не зная о методах их движения.
Поступление на высшие курсы стоматологов было сопряжено с большими сложностями, и главная из них: прием был только для мужчин и желательно – жителей столицы, то есть Риги. «Спасла моя фамилия, записанная в паспорте в мужском роде – по отцу Драудзиньш. Когда же я предстала перед комиссией и не запинаясь ответила на все вопросы, меня приняли, как исключение, с испытательным сроком».
Итак, успешно завершив образование и получив аттестат первой в Латвии женщины – профессионального стоматолога, она с помощью друзей-социалистов открыла свой частный зубоврачебный кабинет в Риге.
«Я была на седьмом небе от счастья и благодарности, – признавалась Катрина Екабовна. – И забыла о всякой предосторожности. На радостях сфотографировалась со своими «спасителями» и даже разослала совместные фотоснимки по указанным ими адресам. И каково же было мое разочарование, когда я узнала, что их помощь не была так бескорыстна. В моем кабинете социалисты устроили убежище для своих сходок и хранения нелегальной литературы».
В конечном результате их заговор был раскрыт, состоялся обыск и допрос в кабинете доктора Драудзиня. Социалисты были арестованы, литература конфискована, а Катрине Екабовне предложено было выбрать себе самой место жительства на «вольное поселение» вдали от Латвии.
Об этом экстремальном эпизоде в жизни врача Драудзиня мне рассказала ее коллега и друг по Обществу Мэта Яновна Пормале.
К нашему удивлению, Катрина приказ о долгосрочной ссылке (на 10 лет) приняла спокойно и даже с присущим ей юмором. Она закрыла глаза и, вращая глобус, ткнула пальцем. Он указал на город Орел. «Ну что же, Орел – так Орел! И там живут и трудятся люди...» И действительно, ее труд там оказался в большом почете. Ссыльные люди были бедные, а она – врач с доброй, отзывчивой душой. Они очень скоро нашли общий язык и полюбили своего бескорыстного и очень доверчивого целителя. Отказывая себе во всем, Катрина Яковлевна экономила свой скудный заработок для будущего кабинета. Тоскуя по родине, жила мечтой о возвращении. Эта возможность ей представилась только после Октябрьской революции в 1918 году.
Двухэтажный деревянный домик на улице Гертрудес между Тербатас и Кр. Барона был хорошо знаком рижанам. Здесь на первом этаже располагался стоматологический кабинет в то время уже опытного врача Катрины Драудзиня. Высокое мастерство, скромная плата, обаяние привлекали посетителей. Однажды в конце 20-х годов к ней на прием заглянул рижский востоковед Шибаев, который тогда возглавлял кружок друзей Н.К. Рериха. Он был приятно удивлен, увидев на столе врача несколько книг Живой Этики. И сразу догадался: это, конечно, от семьи поэта Рихарда Рудзитиса. Он и дал ему адрес Катрины Драудзиня. Беседа затянулась до поздней ночи. Доверие породило искреннюю многолетнюю дружбу.
13 октября 1930 года было основано Латвийское Общество имени Н.К. Рериха. Вскоре и Катрина включилась в его работу. Председатель Общества Феликс Лукин предложил ей вести секцию «Женского единения». Впоследствии при встрече с ней я узнала, в какое волнение повергло ее неожиданное предложение доктора Лукина. «Я не готова к принятию такой высокой обязанности», – забеспокоилась Катрина. Но доктор Лукин был неумолим: «Я уверен, моя дорогая коллега, вы отлично справитесь с поставленным заданием. К тому же у вас будет такой прекрасный наставник, как Елена Рерих. Она уже слышала о вас от востоковеда Шибаева и просила передать вам, чтобы вы, не стесняясь, обращались за советами к ней непосредственно».
Вскоре секция стала самой посещаемой. В это время Катрина занималась переводом на латышский язык книги «Община» и «Тайная Доктрина» Е. Блаватской. По совету Лукина и Юрия Рериха, с которым познакомилась в Москве, она обдумывала создание многотомника «Индексы Живой Этики». Этот труд стал делом всей жизни Катрины Драудзиня. Она загорелась идеей создания общины. На собственные средства, сэкономленные за долгие годы стоматологической практики, Драудзиня приобрела участок земли вначале в Огре, а затем вместе с усадьбой Лачплесис в Юмправе на Видземском взморье. Здесь должны были поселиться единомышленники. Катрина Екабовна так представляла себе функции общины. «Каждое объединение стремится к миру, к улучшению жизни. Будем вместе трудиться на земле, беседовать, обмениваться знаниями, опытом, расширять свои познания в восточной философии. Получаемые плоды будем отсылать в детские дома сиротам, помогать калекам и обездоленным старикам». Об этом она пишет и в своей рукописи «Размышления о психической энергии». К сожалению, эта книга не издана и из личного архива художницы Элзы Швалбе перешла ко мне.
Высказывания автора звучат современно: «В настоящее время, когда расчлененное человечество дошло до преступности и взаимные отношения народов угрожают небывалыми в истории катастрофами, наука выполнила бы свою миссию, если бы приложила все усилия, чтобы лабораторно доказать единство жизни и существование всеобъединяющей жизненной энергии. Внедрение в сознание человечества мысли, что народы, несмотря на различный цвет кожи, являются носителями искры той же земной жизни и подвергнуты общей карме, придало бы их взаимоотношениям другие, гуманные формы содружества и спасло бы мир».
Катрина Драудзиня нашла себя в Обществе им. Рериха. Но вдруг удар – смерть Феликса Лукина 28 марта 1934 года глубокой болью отразилась в сердцах всех, кто его знал, любил и сотрудничал с ним.
Уже спустя месяц после смерти доктора Ф. Лукина у правления Латвийского Общества имени Рериха возникла идея создать книгу воспоминаний «Свет Сердца» о Феликсе Денисовиче на латышском языке. Инициатором издания стал поэт Рихард Рудзитис. Ему помогала переводчица Мэта Пормале (письма, посвященные памяти первого президента Общества, приходили из многих стран мира на разных языках), от всей души помогала Катрина Екабовна, призывая коллег и друзей Общества писать свои воспоминания. Эту инициативу поддержала семья Рерихов и их секретарь Владимир Шибаев. Цитирую фрагменты из статьи Катрины Драудзиня «Идущий необычным путем»:
«Обычно нужны долгие годы, пока выкристаллизуется в человеческой памяти духовное лицо выдающейся личности и получатся его ясные очертания, но сейчас период ускоренных перемен, и я не ставлю себе целью выразить значение и заслуги доктора как в медицине, так и в Обществе. Мое желание – лишь напомнить то самое сокровенное и существенное, что ярко характеризует доктора Лукина как человека духа. Это его скрытое от посторонних глаз качество проявлялось в неустанной, настойчивой и суровой борьбе самого с собой. Быть объективным перед самим собой – это не только великое искусство, но и достижение духовного подвига».[18]
Вторая половина 30-х годов была расцветом деятельности Латвийского Общества имени Рериха в Риге, и Драудзиня принимала в этом активное участие. В 1940 году официально прервавшее свою деятельность Общество продолжало работу на нелегальном положении. Для Катрины Драудзиня, как и для большинства рериховцев, роковыми оказались 1948 – 1949 годы. К. Драудзиня пришлось прервать свой труд по Живой Этике. Усадьба Лачплесис была разграблена, пропало много книг, рукописей и писем Елены Рерих. Начались поголовные обыски, аресты. Рериховцев судили, их разбросали по лагерям Заполярья и Средней Азии.
В эти скорбные годы я и познакомилась с нею в инвалидном лагере Абезь Интинского района Коми АССР. В 1951 году это была худощавая старушка невысокого роста, в очках. Она ни на что не жаловалась и все невзгоды лагерной жизни, а их было так много, переносила мужественно. Ее поразительные отзывчивость, самоотверженность и доброта согрели и меня.
Запомнился такой факт: получая посылки от родных и близких, она анонимно передавала их самым нуждающимся.
Я впервые была оторвана от матери. Срок огромный. Переписка и посылки разрешены лишь два раза в год. Безысходность, грубость, жестокость. И вдруг – ласковые, проникновенные слова, внушающие надежду и веру в то, что все еще впереди. Только в это нужно сильно верить и посылать миру свои добрые, искренние мысли, приходить на помощь страдающим, больным. Эти советы помогли мне решиться пойти работать в инфекционный изолятор. Драудзиня сказала: «Мы верили в вас и мысленно поддерживали вас». Когда меня весной 1955 года досрочно освободили с запретом жить в Риге до реабилитации, Катрина Драудзиня предложила мне прописаться у нее в Юмправе. На прощание она сказала: «Как хорошо, что вы освободились в марте. У меня в Лачплесис уже цветут подснежники».
В Юмправе я дождалась возвращения Екатерины Драудзиня. Как сейчас помню, вернувшись, она уже на следующий день взялась за работу. Вставала рано, едва рассветет, и отправлялась в сад – поливала и полола грядки. После завтрака, строго вегетарианского, принималась за основное дело жизни – восстановление утерянной части «Индексов». Мне запомнилась большая просторная комната, окна открыты настежь. Никакой лишней мебели. На сдвинутых столах – маленькие белые листочки, исписанные мелким почерком. Такие же листочки на подоконниках, этажерке.
Вспоминаю эпизоды из моей личной жизни, в которых приняла участие доктор Драудзиня. Я советовалась с ней о своем замужестве. Музыкант Янис Карклиньш был уже в возрасте.
«Я знаю его. Это благородная душа, – сказала Драудзиня. – Он сможет стать вам добрым и надежным помощником в жизни. К тому же он знаком с Учением». Помню ее щедрые дары к свадьбе, где она была посаженной матерью, – книги Живой Этики, печатная машинка Клизовского и его единственный фотоснимок 1934 года.
Не прошло и двух лет нашей совместной жизни, как муж тяжело заболел раком поджелудочной железы, болезнь прогрессировала, и летальный исход был неизбежным. К этому печальному событию нас подготовила доктор Драудзиня. Она часто нас навещала, долго оставалась с ним наедине, беседовала и читала параграфы из книг Живой Этики. Больной успокаивался и засыпал.
Накануне ухода Яниса, прощаясь со мной, Драудзиня сказала: «Не отходите от него, прислушайтесь к тому, что он скажет вам, запомните все, о чем попросит, и обязательно напишите о нем воспоминания. Он достоин этого. Только не плачьте, не расстраивайте его. Он должен уйти тихо и спокойно...» Последнего я не смогла пообещать...
После смерти Яниса я почти потеряла зрение от долгих ночных дежурств, прекратила посещать лекции в университете и отказалась от предложения Художественного музея продолжить работу младшего научного сотрудника. Катрина Драудзиня и Элза Швалбе оплатили предложенную мне путевку в Дом отдыха в Дурбе.
В марте 1969 года, когда в усадьбе Лачплесис зацвели бело-синие подснежники, Катрина Драудзиня попрощалась с нами навсегда.
Это самый тихий и поэтичный уголок Юмправы с белыми крестами, гранитными изваяниями и вечно зеленой хвоей. Здесь в изголовье невысокого холмика установлен привезенный из Земгале живописный известковый валун с вмонтированной в него эмблемой огня[19] как символа ее души.
Пусть каждый вспомнит свои болезни... все свои несчастья, все катастрофы и рушения, и он увидит, что все это есть действие законов эволюции, которые ударами извне будят и требуют отклика человеческого сознания изнутри.
Александр Клизовский
Что мы знаем об Александре Ивановиче Клизовском – авторе трех замечательных книг: «Психическая энергия», «Правда о масонстве» и трилогии «Основы миропонимания Новой Эпохи»? Непростительно мало и противоречиво.
Когда вышла в свет первая книга трилогии «Основы миропонимания Новой Эпохи», ее автору исполнилось 60 лет. Виски и бороду забелила седина. В спокойном внимательном взгляде карих глаз появилась усталость.
Катрина Драудзиня вспоминала: «...Новогодний день 1934 года. Мы, как всегда, собрались в большом зале на общее собрание. В этот праздничный день наш президент Феликс Лукин и все остальные члены правления были в темных костюмах и при галстуках... Мне было поручено вручить юбиляру букет алых роз как символ огненного Сердца... Янис Миесиньш – друг нашего Общества – принес уникальную подборку статей Елены Блаватской и ее выступлений в Теософском обществе... Было, конечно, чем обрадовать своего коллегу и поэта Рихарда Рудзитиса, у которого, в отличие от Клизовского, была душа, как говорится, «нараспашку», и все коллеги и друзья знали, над чем он работает, и слушали отрывки из его рукописей задолго до их публикаций... А вот что в кожаной папке у Феликса Денисовича, никто не догадывался. Но, судя по радостному выражению лица, что-то очень важное и непременно хорошее... Когда Александр Клизовский вошел в зал, все поднялись со своих мест и умолкли. Только пианист-любитель Бруно Якобсон наигрывал одну из своих импровизаций на тему «Йоги...»

Александр Иванович Клизовский
Трудно передать словами смущение юбиляра – мужественного, непроницаемого по эмоциям человека, когда доктор Лукин вручил ему типографские гранки первой книги, присланные издательством «Утренняя краса» (тогда еще не было разрешения от префектуры на издательство «Угунс» («Огонь»)...
В предельно краткой автобиографической справке, хранящейся в архиве Общества, Александр Иванович сообщал: «Родился в 1874 году, 15 января по новому стилю, в семье военного музыканта. Не по призванию, а по настоянию отца выбрал военную профессию. В 1918 году демобилизовался и постоянно живу в Латвии. Женат, имею дочь. С Учением Живой Этики познакомился через теософские труды Елены Блаватской. В начале 1920-х годов начал посещать кружок восточной философии Владимира Анатольевича Шибаева... От него получил первую, изданную в Латвии книгу Н.К. Рериха «Пути Благословения». В кружке, руководимом д-ром Ф.Д. Лукиным, состою с 1927 года (официально – с 1930, когда оно получило статус Общества). Состою в научной секции, посещаю также лекции по философии, интересуют занятия секции Пакта Рериха и Знамени Мира. Состою в переписке с Институтом гималайских исследований. Печатных исследовательских трудов пока не имею. Преждевременно сообщать о своих творческих планах не согласен по причине суеверия» (Подпись. 16.04.31).
Ободренный высоким признанием, автор вторую книгу трилогии (1936) посвятил Елене Ивановне Рерих с надписью на титульном листе: «Своему Светлому Гуру, которая вдохновляла на труд, направляла на мысль, будила сознание и щедро делилась своими познаниями из области высшего знания».
5 августа 1940 года советское правительство Латвии издало указ о закрытии культурно-просветительных обществ, чье идеологическое направление не соответствовало «социалистическому реалистическому мышлению и его развитию». Это коснулось и Латвийского Общества, «не пожелавшего даже перерегистрироваться вовремя». Вскоре имущество музея было конфисковано, картины распределены по музеям, кое-что удалось откупить и спрятать...
Мой муж Янис Карклиньш вспоминал: «Медлить и рассуждать не было времени. Все силы были направлены, чтобы спасти, упрятать самое ценное в самом надежном месте... Таким нам показался дом известной актрисы Национального театра Милды Риекстиня-Лицис – в Межапарке на улице Островского. Преимущество: он отапливался зимой, а для картин это первое условие надежности хранения... Перевозкой и переноской ценного багажа занялись не только мужчины – члены Общества, но и мы – его друзья... В это время я и познакомился с Александром Клизовским. Седой старик (ему было 67 лет. – И. К.), он был крепок физически и ловок в упаковке картин. Соблюдая закон конспирации, действовали в одиночку в поздние часы... Помнится, что с разрешения актрисы он присовокупил и личный пакет, кратко объяснив: рукописи и дневник. В комнате Милды Яновны хранилась «на всякий случай» пишущая машинка Клизовского, он, кажется, принес ее перед самым арестом в 1941 году».
К слову добавлю, что эта машинка нам с мужем была подарена в 1958 году на свадьбу – вместе с фотографией Александра Ивановича и его книгой «Психическая энергия»... А у фотографии тоже своя история.
Д-р Драудзиня вспоминала: «В начале 30-х годов мы все, кроме Мэты Пормале и Александра Клизовского, с радостью послали свои фото для альбома Е.И. Мэта Пормале, перенесшая операцию на правой щеке, отказалась из-за своей «нефотогеничности», а Александр Клизовский – один из самых представительных мужчин Общества – отказывался по убеждению и скромности: он не признавал «культа личности» и не праздновал никаких своих юбилеев даже в семейном кругу». Но на сей раз – в свое шестидесятилетие в виде исключения согласился. Так мы с Мэтой Пормале стали обладательницами его единственного репрезентабельного снимка. Как на него отреагировала Елена Ивановна, он с нами не поделился...
В июне 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, а за ней последовали массовые репрессии, «бывший белогвардейский офицер-деникинец Александр Иванович Клизовский был арестован и пропал без вести». Катрина Драудзиня и Мэта Пормале пытались передать в Центральную тюрьму ему передачу, но получили краткий ответ: «Выбыл за пределы республики»...
Спустя десятилетия стало известно содержание «судебного дела» Александра Клизовского: «Арестованного отправили по этапу в Петропавловск (Казахстан), и там, в тюремной больнице, он умер 29 апреля 1942 года (имеется медицинское свидетельство)». Последнее меня не убеждает. Работая в лагере политзаключенных медицинской сестрой в инфекционных изоляторах, заполняя причину летального исхода болезни, по приказу администрации всем без разбора писала: «Умер от сердечной недостаточности»... Но как бы там ни было – расстреляли или замучили пытками – на 69-м году жизни Александр Клизовский завершил свой жизненный путь... Однако его труды – суть его земного существования – с нами. По ним мы учимся пониманию мира и эпохи.
Пормале – человек, творящий добро по призванию сердца...
Катрина Драудзиня
На путь Учения Живой Этики Мэта Яновна Пормале вступила в конце 20-х годов, когда был основан кружок философии Феликса Лукина. Тогда же она получила из его рук первую книгу Живой Этики – «Община».
Строки из нее: «Содружество может лечить раны других – только нужно мыслить и действовать во благо» – становятся девизом всей жизни Мэты Яновны.
«Пормале – человек, творящий добро по призванию сердца, – сказала о ней ее близкая подруга Катрина Драудзиня, – она никогда не стремилась к славе, не занимала административных должностей. При обширных знаниях языков и эрудиции в восточной философии не выступала публично с лекциями. Категорически отклонила свою кандидатуру в члены правления Общества... Хотя участвовала бессменно во всех мероприятиях как переводчица, заведовавшая отделом международной корреспонденции. Без ее участия не проходила ни одна конференция, не выходили в свет книги, брошюры, каталоги... На ней одной держалась переписка со странами Америки и Европы. Правда, она никогда ответных писем не подписывала своим именем... Однако деликатно-корректный стиль Пормале хорошо запомнился адресатам...»
Мэту Яновну с ее мужем Карлисом Пормалисом я впервые увидела в 60-е годы на концерте композитора Яниса Медыня. Познакомила меня с ней Элза Карловна Швалбе. Потом я ее встречала в Юмправе у Катрины Драудзиня, которая перед смертью просила Мэту Яновну стать объединяющим звеном рериховской группы, ряды которой редели с каждым годом. И дух рериховцев 30-х годов сохранялся, пока была жива Мэта Яновна Пормале. Вокруг нее сплотились новые приверженцы рериховского движения: сестры Зариня, которые стали ее близкими друзьями и помощниками в последние трудные годы болезни. Мэта Пормале охотно принимала у себя и более молодое поколение. С ней было приятно и поучительно проводить собеседования. Она умела выслушивать других, проникаться их заботами и бедами. Ее благотворное влияние и доброту я ощущала и на себе. Интересы Мэты Яновны были многогранны. Она по-прежнему любила бывать на концертах, оперных представлениях, посещала музеи, выставки, чтила все юбилейные даты семьи Рерихов и вела обширную переписку с рериховцами Москвы и Украины. У меня сохранились ее письма, в которых она тепло откликалась на мои публикации. Когда возникла у меня идея создать книгу очерков-мемуаров о рериховцах 30-х годов, она поддержала эту инициативу так же, как и труды старшей дочери поэта Рудзитиса Гунты, посвященные рериховскому эпистолярному наследию и публикации книг отца. Очень скромная и малословная в отношении себя, Мэта Яновна, лишь через посредничество скульптора Швалбе, согласилась дать мне интервью о себе и своих сверстниках по Латвийскому Обществу имени Н.К. Рериха 30-х годов. С него и началась моя книга.

Мэта Яновна Пормале
Вот некоторые фрагменты из интервью: «...Я родилась 30 января 1897 года в Видземе, поблизости от озера Мурниеки, – начала свой рассказ Пормале. – Родителей своих я не помню. Мне не было и двух лет, как меня удочерили супруги Кристина и Янис Закис из Риги. Детей у них не было, и всю свою любовь и родительскую самоотверженную заботу они посвятили мне... Естественно, я старалась им отплатить тем же... Моя жажда к учебе находила поддержку... Родители мои не были богатыми людьми – все было заработано трудом. Отец работал на железной дороге, а мать занималась домашним хозяйством. С годами на заработанные деньги они купили скромный домик в Риге в районе Чекуркална. С транспортом в те далекие годы моего детства были трудности... Прогимназия Эмилии Шульц, куда меня определили, находилась в центре Риги на улице Дзирнаву. Вместе с отцом я отправлялась на занятия ранним утренним поездом. В то время отец работал на производстве «Феникс»... Чтобы облегчить мои занятия, родители дома разговаривали на немецком языке...»
Училась Мэта Закис прилежно и делала заметные успехи в любимых предметах: истории, литературе, географии. Особенно легко ей давались языки... Дополнительно брала частные уроки английского языка...
С большой теплотой вспоминала Мэта своих учителей.
«Особенно мне посчастливилось в гимназии Людмилы Тайловой, куда я поступила после окончания прогимназии на отделение педагогики. Чтобы получить аттестат преподавателя, следовало выбрать три предмета... Я выбрала немецкий язык, историю и географию... О профессии педагога и не помышляла, ибо к этому не имела наклонностей... Вообще была у меня сокровенная мечта стать моряком, повидать свет. Я очень жалела, что не родилась мальчиком.
В гимназические годы у меня было два выдающихся педагога из писательских кругов. Янис Акуратер, который преподавал латышский язык младшим классам, был истинным демократом, защищавшим права своего народа. Революционный дух начала века отразился в его пламенных стихах и песнях протеста против любого чужеземного ига... Я читала журнал «Навстречу солнцу» ( «Pret saule»), который он редактировал. Потом узнала, что Акуратер был арестован и выслан в Плескаву... Биографические данные о нем были так противоречивы в энциклопедических словарях, что мне, далекой от политики и революционных событий, в них не под силу было разобраться. И все же я обрадовалась тому, что он, переживший мятежное время войны, нашел себе мирный берег для творчества в скандинавских странах... А потом, уже будучи в Латвийском Обществе им. Н.К. Рериха, я от Зенты Мауриня узнала, что Янис Акуратер стал интересоваться восточной философией, призывать в своих творениях к «духовной революции без оружия...»
Поэт Фрицис Барда читал только один год в гимназии лекции по латышской литературе, но и этого было достаточно, чтобы запомнить их на всю жизнь. Его беседы, особенно о поэзии, чередовались с философским трактованием мировоззрения А. Бергсона, Г. Генделя, А. Шопенгауэра... Ему был близок В. Гете, Р. Рильке... Все это не могло не отразиться на романтическом мировоззрении подростков начала XX века... Конечно, и я тогда впервые из школьной библиотеки принесла домой книги по списку, рекомендованному Фрицисом Барда...»
Погруженная в воспоминания своих юношеских лет Мэта Яновна разволновалась... И ее верный друг Алиса Зариня, которая после смерти мужа и своей сестры стала близким человеком в доме Пормале, попросила меня сделать перерыв в записи...
Когда через несколько часов беседа возобновилась, Мэта Яновна рассказала: «Я забыла упомянуть о том, что у меня был еще один замечательный учитель музыки из прославленного рода братьев Алунанов – Николай Алунан. Конечно, он не был в то время так популярен, как его братья: Адольф – отец латышского театра, Индрикс – журналист, переводчик и издатель, Юрис – тот, кого по праву считают основоположником национальной поэзии, соратник Кришьяниса Валдемара и Кришьяниса Барона. Но и Николай был очень талантливым композитором и музыкальным критиком. В конце прошлого столетия он занимался в Петербургской консерватории у Римского-Корсакова и Рубинштейна. В Риге имел свой оркестр «Элфония». В 1919 году, когда была создана Латвийская консерватория, Язеп Витол пригласил его стать педагогом... Но его жизнь внезапно трагически оборвалась... Конечно, я его знала очень мало и особых успехов в игре на пианино не имела, но все же считаю, что именно он приобщил меня к классической музыкальной культуре, и уже в юношеские годы я часто посещала концерты симфонической музыки, бывала на оперных премьерах... И все же в моей жизни изучение иностранных языков занимало первое место, хотя никакой карьеры в этой области я не сделала...»
И Мэта Яновна рассказала не без теплой иронии, свойственной ее натуре, о своих перипетиях в самостоятельном жизнеустройстве. «...А было это так: когда закончила среднее образование и получила аттестат зрелости, я твердо решила, что пришла для меня пора самостоятельно зарабатывать на жизнь... Как человек неделовой, но обязательный в исполнении своих планов, начала с чтения объявлений о работоустройстве... Остановилась на двух приглашениях: 1) в системе железной дороги – грамотную, молодую со знанием латышского и русского языков, 2) на преподавательскую работу в школы – со знанием иностранных языков и специализированных предметов. Указывались адреса. Послала в оба адреса и решила: откуда первым придет ответ, туда и поступлю работать... Первым пришло приглашение из управления железной дороги «Рига – Орловская». Там требовался работник на станцию Торнякалнс. В мои функции входило писать на русском языке накладные. Как и обязанности, оплата была очень скромной, педантичной... Вечерами много читала, в основном иностранную классику, и пришла к выводу, что было бы неплохо, если бы поучилась на высших французских курсах... Познакомилась с француженкой, которая была замужем за латышским академиком технических наук. Она стремилась выучить латышский язык, и мы взаимно помогали друг другу... Вскоре меня перевели в директорскую канцелярию Управления железной дороги. Здесь пригодились и мое знание иностранных языков, и те навыки, которые получила на экономическом отделении института...»
Может быть, на этом и закончилась биография, если бы не произошло в ее жизни большое событие, открывшее путь к познанию духовной истины бытия, к Учению Живой Этики...
«А произошло это так, – вспоминает Мэта Яновна, – в 1927 – 1928 годах я проводила лето на Рижском взморье. Снимала комнату на одной из близких к морю улиц, чтобы слышать шум морских прибоев. Он дает особый настрой мыслей и чувств... Ко мне по воскресным дням приезжали коллеги по работе. Одна из них познакомила меня со своей подругой Гертрудой Лейтане, которая интересовалась восточной философией и живописью. Заметив на моем столе раскрытую книгу Кржыжановской, она спросила: «Вы тоже интересуетесь романтикой Востока?» Я кивнула утвердительно головой... И тут же, уже не мне, а своим подругам-студенткам, она сообщила, что этой осенью состоится набор младшей группы в оккультный кружок д-ра Феликса Денисовича Лукина. Занятия состоятся у него на рижской квартире... Тогда я робко спросила: «А мне можно?» «Можно всем, – сказала Гертруда, – если это по зову сердца...» и так в канун Рождества я отправилась вместе с Гертрудой по указанному адресу...»
Подробно и трогательно, с легкой иронией к себе Пормале рассказывала, как долго она готовилась к этому дню, чего только не передумала... Перебрала весь свой скромный гардероб и выбрала самое нарядное платье, изменила прическу, подчеркнув прямым пробором, как ей казалось, строгость своего облика...
«И все это оказалось ни к чему, – застенчиво улыбнулась Пормале. – Все присутствовавшие, а в основном это была молодежь – студенты и гимназисты последних классов, были в своей повседневной форменной одежде... И сам д-р Лукин – в домашнем костюме без галстука. Он только закончил прием больных... Это был человек крепкого сложения с крупными чертами лица и пышной бородой. Волосы на висках серебрились. Он поздоровался с каждым в отдельности за руку и спросил, что привело нас в кружок. Внимательно посмотрел в глаза (по глазам, как объяснил позже, устанавливается физическое и духовное состояние индивидуума)... Естественно, обратил внимание и на контузию моей правой щеки и слезящийся глаз. Спросил: «Наверное, вы перестарались в гимнастических упражнениях «по йоге». Я смущенно подтвердила его диагноз... На вопрос, читала ли я что-нибудь из книг по Живой Этике, я постеснялась назвать романы Кржыжановской и ответила: «Ничего, но очень хотела бы». В этот день занятия не состоялись, и после опроса присутствовавших, а их было значительное количество, мы разошлись. У дверей доктор меня остановил и пригласил после рождественских праздников прийти к нему на прием, одновременно протянул книгу. Она называлась «Община». Объяснил: «Это поможет вам определиться...»
Последующие занятия уже проходили в другом, более обширном помещении на ул. Базницас. Там же я познакомилась с актрисой Русской драмы Марией Андреевной Ведринской. Прекрасная актриса, она была не менее дружелюбным, отзывчивым человеком. Я с удовольствием посещала спектакли Русской драмы, в которых она принимала участие...»
В самые трудные минуты жизни, а их было немало, Мэта Яновна не теряла равновесия духа. Никто никогда не видел ее раздраженной, не слышал от нее жалоб на трудности жизни и подорванное здоровье. Эта хрупкая, невысокого роста женщина на 70-м году жизни проявляла редкое мужество и не теряла духовных связей с друзьями. В 1968 году из жизни ушел ее супруг, с которым она прожила 30 лет. Через год умерла ее близкая подруга Катрина Драудзиня, нелегально руководившая с 1960 года, после смерти Рихарда Рудзитиса, репрессированной группой рериховцев Латвии. Теперь эту миссию исполняла Мэта Пормале.
Со скульптором Элзой Карловной Швалбе-Матвеевой Мэта Яновна состояла в тесных дружественных отношениях. Объединяла их светлая память о Катрине Екабовне Драудзиня... Обе они поддерживали мое желание создать книгу памяти рериховцев 30-х годов в Латвии. Обе стали ее консультантами... Поэтому первым интервью для книги было интервью с Мэтой Яновной Пормале в присутствии скульптора Швалбе осенью 1989 года, и позже второе – ее автобиографический рассказ. Тогда же я узнала, что она вместе с Фелицитой Осташевой – учительницей из Латгалии – переводили с латышского на русский рукопись книги поэта Рихарда Рудзитиса «Братство Грааля». После кончины Ф. Осташевой завершать перевод и корректуры пришлось одной Пормале... Бережно хранила в своем домашнем архиве Мэта Яновна письма от семьи Рерихов, вела дневниковые записи встреч с Юрием и Святославом Рерихами во второй половине 50-х годов в Москве. Помнится, что как самый дорогой подарок она хранила альбомы с репродукциями картин Николая и Святослава Рерихов. Показывая мне эти альбомы, она подробно и высокопрофессионально посвящала меня не только в их содержание, но и комментировала обстоятельства, в которых они создавались и где экспонировались... При всей объективной честности рассказа Пормале не касалась интимных подробностей жизни своих коллег, а также отдельных конфликтных ситуаций в Обществе 30-х годов...
Элза Карловна вспоминала: «Через Мэту Яновну я познакомилась с ее близкими друзьями – сестрами Анной и Алисой Зариня. Были у Пормале единомыслящие коллеги-теософы в Москве – Арон Моисеевич Горностай-Польский и его жена Зельма Карловна Кермель, с которыми она сохранила добрые дружественные отношения до самой их кончины. Вместе с ними я посетила московскую квартиру Рерихов... От Мэты Пормале я услышала о замечательной семье Букреевых из Донецка... Татьяна Борисовна была духовно близким человеком для нее. Их связывали долголетние нити общения не только письмами, но и мыслями на расстоянии... Удивительным феноменом-ученым был ее брат, который в столетнем возрасте продолжал педагогическую деятельность в университете... Мэта Яновна любила знакомить со своими друзьями, которые не были рериховцами, но представляли интерес как деятели культуры. Такой была киевская актриса Капнист из аристократической семьи. Она запомнилась мне в роли цыганки из фильма «Цыган». Мэта Пормале познакомилась с ней в следственной камере в 1949 году. Они вместе отбывали наказание в одном из лагерей Тайшетского района Российской Федерации».
«Из нашего рериховского Общества там не было никого, – вспоминала Мэта Яновна, – но и там были достойные честные люди с добрыми сердцами... Например, мадам Капнист – превосходная актриса, остроумная рассказчица, она вселяла в нас бодрость духа и веру в лучшие времена...»
Между прочим, во время одной из поездок в Киев в конце 70-х годов мы с Элзой Швалбе встретились с актрисой Капнист по просьбе Мэты Яновны. Она посетила нас в киевской гостинице, и не одна, а с группой своих молодых коллег. Несмотря на почтенный возраст, мадам Капнист была преисполнена творческих замыслов и планов на будущее, собиралась навестить Мэту Яновну в Риге...
Мне кажется, в жизни Мэты Пормале не было случайных встреч и забытых друзей... Помню, что после лагеря в 60-х, 70-х годах к ней в гости приезжала в летние месяцы старушка Алина Ивановна Стрицис... Та самая прекрасная модель юной девушки, которую в далекие 20 – 30-е годы запечатлел на своем холсте выдающийся живописец Латвии Волдемар Тоне... Она до конца своей жизни любила Латвию.
По своей натуре Мэта Пормале была человеком активным, творческим, живущим интересами своей родины. Она часто принимала участие в культурных мероприятиях республики. Вместе с Алисой Зариня совершала поездки по республике в мемориальные места известных латышских художников, писателей. Любившая оперную музыку и симфонические концерты, она не пропускала премьер и вернисажей... Весенне-летние месяцы обычно она проводила на Видземском взморье, в Саулкрастах, где постоянно жила Алиса. Там же принимала и своих московских и украинских друзей... Зимой они обе перекочевывали в однокомнатную уютную рижскую квартиру Мэты Яновны на Бикерниеку, дом 31. Все так продолжалось, пока прогрессирующая болезнь не ограничила жизнеспособность Пормале... Но и в этот период она не была одинокой, ее окружали заботливые друзья и бывшие коллеги по Обществу. Среди них следует упомянуть Мэту Яновну Лукину – друга и пациентку д-ра Харальда Лукина. Самоотверженная труженица, она не состояла в рериховском Обществе 30-х годов, но была верна идеям Учения Живой Этики, уверовала в то, что самые тяжкие испытания обогащают духовно. Мэта Лукина поочередно с Верой Виллер, приезжавшей на «дежурства» к больной Пормале из Вентспилса, были теми, кто провел у постели больной последние дни ее жизни... В тот момент уже не было в живых Алисы Зариня, ушедшей годом раньше своей духовной наставницы. 1 июля 1993 года на 97-м году жизни ушла от нас и старейшая сподвижница Латвийского Общества 30-х годов Мэта Яновна Пормале.
И теперь, когда из рериховцев 30-х годов остались считанные единицы и когда покачнулись традиционные контакты между молодыми поколениями, особенно дороги воспоминания о них, и все чаще обращаюсь к своим магнитофонным записям, оживляющим в памяти их голоса...
Душа у Милды Риекстиня была нежной, кроткой и незлобивой. Такой она сохранилась до конца жизни после тяжких испытаний в лагере Заполярья.
Элза Швалбе
Все, о чем я сейчас пишу, произошло до 1 июня 1949 года в Межапарке на улице Островского (Олава), дом 6, в особняке актрисы Милды Риекстиня-Лицис. Стоял солнечный безветренный день. В саду цвели розы, благоухал жасмин. На круглом столике с плетеными ножками были разложены альбомы с театральными фотографиями. Несколько минут тому назад захлопнулась калитка за подругой – известной актрисой Национального театра Мирдзой Шмитхене. Только она запомнила этот день и пришла поздравить Милду с 35-летним юбилеем на сцене. Как и тогда, обе подруги в белых платьях, их лица радостно сияют... Как дороги воспоминания тех лет, их совместной жизни, такой многообещающей... Сколько было триумфов и незабываемых встреч!.. И как хорошо вспоминать о них вместе...
«Прежде всего я за все благодарна своим учителям и наставникам, – говорит Милда. – Первым по праву был Екаб Дубур-Ариньш – многогранная личность: актер, певец, драматург, театральный критик и замечательный педагог, организатор. С 1903 по 1909 годы он возглавлял рижские театры, а затем вместе с Эрнестом Зелтматисом основал в Риге драматические курсы». Много позже, уже вернувшись из заполярного лагеря политзаключенных, Милда Риекстиня выступит по радио со своими воспоминаниями о нем (3 ноября 1968): «Екаб Дубур (1866 – 1916) был душой и сердцем нашего курса. Он нас наставлял: «Будете переживать свою роль на сцене, будет переживать и зритель в зале». Особое внимание Дубур уделял искусству декламации: «Она должна быть не только четкой, но и хорошо слышимой при самых тихих вибрациях голоса... Никогда в своих эмоциях чтец не должен впадать в патетику и экзальтацию. Чем непринужденней интонация, тем она доходчивей». В мае 1912 года состоялся первый выпуск драматических курсантов. В их числе Я. Симеон, О. Аринь и я. После дебюта я была приглашена как молодая актриса-инженю[20]. Через два года я начала работать в Национальном театре... С ролями мне повезло. Все, что играла, было близко сердцу...»
В 1989 году, работая над книгой «Капли живой воды», я обратилась к Ирине Лиепе с просьбой написать свои воспоминания о М. Риекстиня-Лицис.
18 октября того же года я получила от нее письмо:
«Много лет мы жили с Милдой Риекстиня по соседству в Межапарке. Часто встречались, часто навещали друг друга и делились впечатлениями о театральной жизни нашей республики... Говоря о ней, в моей памяти возникает образ выдающейся личности, которая обладает редкими человеческими качествами: доброжелательностью, сердечностью и предельной скромностью. Она самоотверженно, с полной отдачей сил трудилась в области своей профессии. Эти личные качества воплощала с большой искренностью и в создаваемых образах. Отсюда – ответная, очень теплая, а порой и просто восторженная реакция зрителей. Отрицательные образы ей было бы трудно, а порой и просто невозможно играть... О своей дружбе с Я. Райнисом и Аспазией Милда, конечно, вам рассказала сама. Добавлю лишь один эпизод, который ее очень обрадовал. В 1920 году после возвращения из эмиграции Райнис был назначен директором Национального театра. Жил его жизнью и часто бывал на репетициях. В зале у него было даже любимое кресло. Однажды в антракте между действиями он подошел к Милде Риекстиня и спросил: «Вы верите в реинкарнацию?» От неожиданности она растерялась. И поэт сам ответил: «А я верю». В дальнейшем это послужило толчком для бесед с Райнисом и Аспазией на духовные темы – о восточной философии и Живой Этике».
Я познакомилась с Милдой Риекстиня в инвалидном лагере Абезь в Коми АССР и вместе с ней провела там пять лет. После освобождения в середине 50-х годов мы вновь встретились в Риге. Вскоре наше знакомство перешло в тесные дружеские отношения. Милда Яновна часто бывала у нас в доме, вели беседы об Учении Живой Этики. Милда Яновна охотно вспоминала свои молодые годы в театре.

Ингрид Калнс. Портрет актрисы Милды Риекстиня-Лицис
В марте 1924 года в Национальном театре состоялся юбилейный вечер актрисы, посвященный десятилетию сценической деятельности. В организации бенефиса, кроме административных лиц, живое участие принимали директор театра Янис Райнис и его супруга Аспазия. Этим, очевидно, объясняется и присутствие на чествовании актрисы высокопоставленных гостей – меценатов искусства Антона и Эмилии Беньяминовых, библиографа Яниса Миесиньша и художественной элиты: Эдуарда Смилгиса, Юрия Юровского, Николая Барабанова, Кристапа Линде. Из писателей на чествовании присутствовали Анна Бригадере, Бирута Скуениеце, Карлис Скалбе, Янис Акуратер и многие другие. Не замедлили появиться и отзывы в газетах. Так, 18 марта 1924 года самая популярная рижская газета «Яунакас зиняс» («Новые известия»), основанная Беньяминовыми, сообщала: «Актриса отчитывалась за свой десятилетний труд на сцене. Она сказала свое слово. Многие созданные ею образы надолго останутся в памяти зрителей... По желанию М. Риекстиня-Лицис для бенефиса была выбрана пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион». После окончания спектакля состоялось чествование юбиляра. Поздравляли директор театра Янис Райнис и ведущий актер Кристап Линде. Администрация от имени коллектива театра преподнесла юбиляру кольцо с бриллиантом...»
«Это был самый счастливый день в моей жизни», – вспоминала впоследствии Милда Риекстиня. По своей скромности она умолчала о том, что еще несколько дней после бенефиса получала поздравления и подарки от поклонников. К ней на дом присылали и фотографов из редакций местных газет, брали интервью. В этом же 1924 году массовым тиражом была выпущена открытка с ее портретом в белой шали.
Мирдза Шмитхене вспоминала: «Тогда же Милда получила в дар от Яниса Райниса роман в стихах «Пять эскизных тетрадей Дагды». С автографом Аспазии принес ей книгу «Ночь ведьм» (1923) народный артист Янис Осис. В то время еще молодой поэт-романтик Арвид (Янис) Судрабкалн поздравил своим первым сборником стихов «Крылатая Армада» с эпиграфом: «Нет гаваней, где корабли мечты могли б на якорь стать спокойно».
В республиканском Музее истории театрального искусства в настоящий момент находятся два фонда эпистолярного наследия
Мирдзы Шмитхене и Милды Риекстиня-Лицис. Они дополняют друг друга фотографиями и публикациями местной театральной хроники.
Об интересном факте знакомства с Милдой Риекстиня-Лицис рассказала мне поэтесса Мирдза Кемпе в 1964 году:
«Наши дружеские контакты установились через Райниса, – объяснила поэтесса. – Это произошло в 1928 году в Риге. Прекратив занятия в университете, выдержав конкурс, я была принята диктором в Радиофонд. Работа была не творческой, в основном для заработка. Чтобы приблизиться к своей сокровенной мечте – стать поэтессой, мне необходима была уверенность в своих возможностях.
В гимназические годы я послала любимому поэту свои «детские пробы», и он ответил обнадеживающе, посоветовал продолжать трудиться в этом направлении». И тогда этот вопрос для Мирдзы Кемпе стал вопросом жизни.
Узнав, что молодая актриса после своего триумфального бенефиса стала запросто бывать в доме Райнисов, она попросила Милду посодействовать личной встрече с Янисом. Это было нелегко сделать. Последние два года своей жизни поэт плохо себя чувствовал, и Аспазия отменила все волнующие его визиты. Выручило сохранившееся письмо Райниса к молодой поэтессе, которое она, как талисман, носила на груди вместе с медальоном матери. Райнис, находившийся тогда во Франции, писал: «Знакома ли широкая общественность с Вашими стихами? Вы – поэтесса, и это надо показать...» Но как это сделать? Всегда решительная в своих поступках, Мирдза колебалась с «выходом на широкую аудиторию»... В этот раз по совету мужа, литератора Эрика Адамсона, она принесла Милде Риекстиня некоторые свои лирические стихи из будущего сборника «Утренний ветер» и попросила ее при встрече почитать Райнису. Актриса с удовольствием исполнила эту просьбу через Аспазию. Стихи молодой талантливой поэтессы обоим поэтам очень понравились, и они свое мнение подтвердили письменно.
В середине двадцатых годов Милда Риекстиня и ее подруга Мирдза Шмитхене проявляют большой интерес к Учению Живой Этики, начинают посещать кружки чтения книг по восточной философии (вначале под руководством Владимира Шибаева, затем доктора Феликса Лукина). В начале 30-х годов, когда образовалось в Риге Латвийское Общество им. Н.К. Рериха, Милда Риекстиня становится его активным членом и некоторое время руководит секцией «Женского единения».
«Из-за моего робкого характера из меня не получился достойный руководитель группы, – призналась Милда Яновна. – Вскоре доктор Феликс Лукин уговорил Катрину Драудзиня стать во главе секции «Женского единения», и я перешла в ее группу. С Катриной у меня установились самые тесные дружеские контакты на всю жизнь. Для меня она стала духовной наставницей и советчицей во всех вопросах. Особенно важна была ее поддержка в годы совместного пребывания в лагере политзаключенных.
Женская секция, руководимая Драудзиня, была самой сплоченной. Мы все жили очень дружно и поддерживали идею создания Трудовой общины в Юмправе (усадьба Драудзиня). Я сама часто приезжала туда, и мы дружно трудились на ее участке земли, а по вечерам читали книги Живой Этики. В то время Катрина Драудзиня уже работала над составлением индекса к книгам Живой Этики. Из нас всех она особенно тепло и любовно относилась к Мэте Пормале. По возрасту близкие мы четверо: доктор Драудзиня, Мэта Пормале, Элла Рудзите и я».
От Катрины Драудзиня я лично слышала самые добрые, любовно-опекаемые слова о Милде Риекстиня-Лицис: «У Милдынь – девственная, наивная, кроткая душа... Она беззащитна и доверчива к людям... Между собой мы ласково называем ее «подснежником».
В 1940 году во время закрытия Общества был организован срочный вывоз картин Рерихов в безопасные места – по квартирам членов и друзей Общества, и в первую очередь к Милде РиекстиняЛицис в Межапарк. Особняк актрисы им представлялся самым надежным местом. Но за домом уже давно была установлена слежка.
Милда Яновна недоумевала: какие неуловимые черные тени мелькали перед окнами дома, оставляя следы на заснеженных тропинках сада? Почему так часто портились электрические и телефонные провода именно в этом доме, и каждый раз для их починки по вызову приходили другие мастера? Эти вопросы у кроткой, доверчивой к людям хозяйки стали возникать уже в заполярном лагере поселка Абезь во время бессонных ночей...
В Риге же первый тревожный звонок в квартиру Риекстиня-Лицис раздался в разгаре лета 1948 года от Эллы Рудзите, супруги Рихарда Рудзитиса. Она сообщала об обыске и аресте мужа, волновалась за судьбу своих трех малолетних дочерей... Год был прожит в страхе, в ожидании надвигающейся беды. Мирдза Шмитхене успокаивала свою подругу: «Таких, как ты, не берут...» Все чаще они собирались в уютном доме на улице Островского и вспоминали свои счастливые годы молодости. И чем тревожней становилось на душе, чем острей было предчувствие близкой беды и разлуки, тем чаще они обращались к книгам Живой Этики, вспоминали наставления доктора Лукина: «Страх обезоруживает человека, ослабляет психическую энергию».
И, наконец, свершилось то, чего так боялась Милда Риекстиня... Случилось в тот самый день, 1 июня 1949 года, спустя пару часов после ухода Мирдзы Шмитхене. Против калитки на улице остановилась черная машина с занавешенными окнами, и двое в штатском вошли в дом. В памяти Риекстиня навсегда остался этот день, когда в ее доме впервые за всю жизнь хозяйничали непрошеные гости: выдвигали ящики письменного стола, бросали на пол дорогие сердцу книги, запихивали в портфель тетради с записями... О, как хорошо они ориентировались в доме, не пощадив даже кладовых. И лишь погреб остался незамеченным. Онемевшая от страха, она застыла без движения на указанном месте... И никак не могла понять, почему после окончания «акции» ей вдруг предложили захватить с собой теплые вещи...
В ЧК на улице Стабу Риекстиня-Лицис поместили по соседству с камерой, где находилась Элла Рудзите. Во время получасовой прогулки Элла шепнула, что арестованы все члены Общества и многие им сочувствующие. Сама же она будет проситься в Коми АССР, где находится ее муж:...
Следствие у рериховцев-женщин проходило сравнительно легко, без применения насильственных мер. Они все были осуждены заочно Особым совещанием по статье 5810/11, на 10 лет трудовых лагерей строгого режима. Как ни старались их расселить на расстоянии друг от друга, в инвалидный лагерь поселка Абезь Интинского района Коми АССР из их группы попали пятеро: Катрина Драудзиня, Милда Риекстиня, Элза Швалбе, Людмила Слетова и Капитолина Ренкуль. Последняя в лагере умерла от тяжелого приступа удушья астмы. Остальные вернулись на родину в 1955 – 1956 годах по реабилитации.

Милда Яновна Риекстиня-Лицис
В 50 – 60-х годах я близко сдружилась с Милдой Яновной Риекстиня. После моего замужества она часто бывала у нас в гостях и даже на свадьбе. Вместе с ней мы совершали прогулки по местам Райниса в Майори и Дубулты. Она читала стихи Райниса, вспоминала о своих беседах с Аспазией. От Милды я узнала, что в юбилей на 70-летие поэтессы рериховцы подарили ей первый том «Тайной Доктрины» и «Космогенезис» Е.П. Блаватской, переводчиком которого была Елена Рерих. Аспазия очень полюбила эту книгу и сожалела, что Райнис, мечтавший о ней в молодости, не смог дождаться ее выхода в свет в Риге. Она вышла в Риге в издательстве «Угунс» в 1937 году.
Последние годы жизни актрисы Национального театра, лучшей исполнительницы роли Майи из пьесы Анны Бригадере, были безрадостны. Опасаясь преследований, ее покинули многие друзья и коллеги. Актриса тяжело переживала отрыв от театра, для нее больше не находилось там подходящих ролей. Она переживала за судьбу своего мужа – эмигранта, бывшего полковника Латвийской национальной гвардии. Ее преследовал страх повторного ареста. Особенно отягощало духовное состояние известие родственников о том, что после ее ареста повторно и более тщательно был сделан обыск в квартире и в стенах установлены подслушивающие аппараты.
«Чувствую себя под постоянным надзором, – говорила Милда Яновна грустно. – Это сковывает мысль, леденит сердце... К этому я не могу привыкнуть и смириться...»
12 марта 1969 года скончалась ее самая близкая подруга – Катрина Екабовна Драудзиня... «Теперь за мной очередь, – сказала актриса. – Но смерти я не боюсь, ведь это только расставание на время и избавление от страданий. Очень трудно доживать свой век без друзей и, главное, без любимого дела».
В 1975 году в 84-летнем возрасте Милда Риекстиня-Лицис скончалась, оставив в сердцах всех, кто ее знал, свет и тепло...
В памяти так ярко возникает образ этого человека, доброта и отзывчивость которого согревала и мое сердце... В людях Милда Яновна всегда находила созвучные ей черты доброты и благожелательности... Даже к тем, кто причинял ей боль и омрачал последние годы существования, она не испытывала зла... Я благодарю судьбу за встречу с ней, за ее нежность и веру в мои творческие возможности... Ей первой я открыла мечту написать воспоминания о репрессированных рериховцах, ее коллегах... Помолчав, она сказала: «Зачем же «репрессированных»... Их жизнь была примером мужества, благородства и служения благу, – и, улыбнувшись, добавила, – только обо мне, пожалуйста, не надо. Я так мало осуществила того, к чему стремилась...»
Натюрморт как будто ритуальный: Абажур, фиалки и вино. Все как прежде. Только взор печальный Приковало темное окно...
П. Терентьев
Это стихотворение написано другом молодости Элзы Карловны Швалбе – инженером-химиком Петром Николаевичем Терентьевым весной 1941 года.
Кем был этот человек голубой крови с поэтической душой декадента, который стал для нее единственной мужской моделью скульптурного портрета? Об этом она никому не поведала... И только в октябре нынешнего года, когда ей исполнилось 92, она прочла по памяти это четырехстишье: «Вот так создаются образы...»
Так – я не умею... Но попытаюсь – уже не в первый раз – написать о ней повесть нашей почти полувековой дружбы...
С Элзой Карловной Швалбе-Матвеевой я познакомилась в декабре 1950 года в оледеневшем от 50-градусного мороза поселке Абезь Интинского района Коми АССР. Здесь располагался инвалидный лагерь политзаключенных строгого режима... Его контингент довольно печальный: старческого возраста женщины, покалеченная во время следствия и на шахтах Воркуты молодежь... Да еще такие, как мы с ней, которые «полегли костьми» во время многочасового перехода в колоннах... Страшное безмолвие Заполярья поглотило все – людей, бараки и юрты. Слило воедино небо с землей, и только тусклые голубые очертания сторожевых вышек напоминают о жуткой реальности – «заживо погребенные»...

Элза Швалбе. 1930-е годы
Минимально краткое пребывание в лечебных бараках – и две доски в двухэтажных общих... Там рядом мы пролежали пять лет... Первый год «привыкания» был самым тяжелым. В коротком тяжелом сне я возвращалась домой к осиротевшей матери или, накинув на плечи ее старенький плед, мчалась на лекции в университет...
Пробуждение по лагерному гонгу было отрезвляющим... По-солдатски быстро одевались, заправляли «конвертиками» постель и выходили на освещенную фонарями площадку. Линейка проходила по номерам, пришитым на спине бушлата. Не откликались лишь тяжелобольные, калеки и умершие за ночь... С каждым днем их становилось все больше. Никто их не жалел, не оплакивал – говорили даже: «счастливый человек, отмучился...» – и поспешно занимали его место на нарах. Тяжелее было с теми, кто, не выдержав испытаний судьбы, «шел на проволоку» и получал выстрел в спину. Их упрекали за «убийство души». Старушки-монашки, сгруппированные в отдельный барак, молились за усопших...
В снежные бураны, когда ветер срывал куски крыши бараков и гасил электрический свет, многим грезились призраки и детский плач...
Обреченность и безысходность судьбы сковывали мою душу отчаянием и туманили рассудок. И кто знает, чем бы это все закончилось, если бы рядом не было Элзы Швалбе...
Уравновешенная, немногословная, с прямой горделивой осанкой, она даже в бушлате, с туго заплетенной вокруг головы косой и спокойным проницательным взглядом серо-голубых глаз выделялась из понурой серой толпы заключенных... Выслушивая меня, она не говорила утешительных слов, не жалела меня. Она беседовала со мной о кармическом законе, об испытаниях, посланных людям для самоусовершенствования, о том, что наши действия и мысли фиксируются в пространстве, что они обладают силой притягивать к себе родственные эмоции – плохие или хорошие... И что за одну, пусть короткую жизнь на земле человек при сильном и осмысленном желании должен побороть в себе хотя бы один-два своих недостатка... «Кстати, тебе необходимо бороться со страхом и чувством одиночества, – добавила она строго. – И будешь еще благодарить судьбу за такие испытания. Без них тебе не стать писательницей...» Тогда мне трудно было поверить в эту жестокую истину. И я долго ни о чем не расспрашивала Элзу Карловну, пока она сама в минуту откровения не рассказала о своих нелегких переживаниях.
Незадолго до ареста Швалбе в Риге вывезли из отцовского имения Пучерга Валмиерского округа в Амурскую область на поселение ее старушку мать на костылях, старшую сестру с мужем и дочерью. А младшая дочь сестры, девятилетняя Рита, находилась в это время в Валмиерской больнице после операции. И как родители девочки ни просили конвой разрешить навестить ее по пути, им не разрешили. Так и уехали, не зная исхода операции... «Неслыханная жестокость», – подумала я...
«Узнав о случившемся, я забрала племянницу к себе в Ригу, – продолжала рассказ Элза Карловна. – Но ненадолго. Вскоре арестовали и меня. А Риту родственники мужа определили в детский дом. Там она и по сей день... Девочка способная – хорошо учится...»
Через письма Элзы в Ригу моя мать познакомилась с ее свекровью – Марго Карловной Матвеевой. Они подружились. Когда же конфисковали квартиру скульптора с мастерской на улице Стабу, дом 14, Элза Карловна прислала моей матери доверенность на получение ее мебели...
В 1953 году Швалбе пришло письмо из Амурской области с печальной вестью. Сестра Маргарита сообщала, что в доме для престарелых умерли мать и муж... А старшая дочь Ингрид вышла замуж и ждет ребенка. Поговаривают, что скоро отпустят домой...
«А где теперь их дом?» – заволновалась Элза Карловна и строго отнеслась к тому, что будет с ребенком...
С приходом весной незаходящего угнетающего солнца в лагере начинается разложение неприкрытых продуктов, отходов и трупов, вспыхивает дизентерия. Одной из первых заболевает Элза Швалбе... К этому времени я заканчиваю курсы медсестер и отправляюсь работать в дизентерийный изолятор... Дежуря по ночам, пишу свой «Дневник на подкладке бушлата».
В октябре 1953 года Элзе Карловне исполняется 50 лет. Для меня это кажется много. Приветствую подругу стихотворными строками:
Поздравляю.
Прожила полвека
С чистым сердцем, светлою душой,
С именем достойным Человека
Тем, что пишут буквою Большой.
В 1954 году в режиме лагеря наступает оттепель. Чаще начинают приходить письма и посылки. Устраивают выставку творчества заключенных. На ней представлена скульптура Элзы Швалбе «Мать с ребенком». Автор дарит ее мне для отсылки матери. Оказывается, и мы имеем право что-то из своего рукоделия посылать домой. Из Москвы ожидается комиссия, и лагерь приводит в порядок бараки. Проходит санчистка и борьба с клопами... Элзе Карловне администрация предлагает реставрировать на прогулочной «штрассе» скульптуру Дискобола, у которого повреждена голова. Она возрождает его в прекрасном облике...
А у меня новое испытание. В шести километрах от лагеря открыт изолятор для смертников. В этот раз – инфекционный энцефалит с летальным исходом. Приглашают медиков-многосрочников. Советуюсь с Элзой. Она не отговаривает, но предлагает сделать самостоятельный выбор... Я иду, чтобы избавиться от страха перед смертью... Через полгода, похоронив под снегом 96 из 98 человек, возвращаюсь в барак. Меня приветствуют как человека «с того света» ...Только Элза молчит. Почему? Перед сном она сказала: «Мне не хотелось бы, чтобы ты себя возомнила героем... Ты только сделала то, что положено каждому медику...»
А в марте 1955 года происходит неожиданное для всех многосрочников – их освобождают из-под стражи первыми... Среди них и я. Отсидев 6 лет и 8 месяцев, попадаю под амнистию... Но пока закон не вступил в силу, не имею права жить в больших городах – значит, к матери в Ригу нельзя... Элза предлагает мне указать адрес ее отцовской усадьбы: Валмиерская область, Руиенский район, Пучерга. Без каких-либо сантиментов договариваемся, что встретимся у моей мамы на бульваре Райниса, дом 2... Перед прощанием Элза предлагает надеть ее пальто и спрятать бушлат в чемодан...
Спустя неделю после приезда меня навестила темноволосая девушка с косами в синем ученическом платье.
— Неужели же Рита Валдес – племянница Швалбе? Тот же высокий лоб, густые темные брови и немногословная тихая речь...
Мы с первого знакомства сблизились. Рита мало знала о своей тете... Она недолго с ней вместе жила и не успела к ней привыкнуть... Ей никто еще не сообщил, что умерли бабушка и отец... Рита учится в восьмом классе и мечтает о встрече с матерью и сестрой... По ее инициативе мы вместе сфотографировались и послали в посылке тете Элзе снимок.
Знакомлюсь и со свекровью Швалбе милая, улыбающаяся старушка, преподавательница французского и немецкого языков. Она говорит: «Теперь мы одна семья – нас объединила Элза...» Она не теряет надежды, что сноха после возвращения вернется к ее сыну: «Ведь Юрий до сих пор ее любит и ждет...» От нее я узнаю трогательную историю замужества Элзы в начале войны. Юрий, блестящий художник, окончивший с золотой медалью Брюссельскую Академию искусств, участвовал во многих французских выставках. Естественно, как вся золотая молодежь того времени, вел богемный образ жизни... У него была и невеста... А вернулся в Латвию, встретил на вечеринке художников царственную «Элзу с обворожительными серо-голубыми глазами... и женился...»
Вскоре (еще до возвращения Элзы) я познакомилась и с ее бывшим мужем – живописцем Георгием Матвеевым (1910 – 1966). Талантливый, остроумный человек, превосходно воспитанный, так же, как Элза, он любит русских декадентов: Гумилева, Ахматову. Сам пишет стихи под стать инженеру Петру Терентьеву. Матвеев рассказывает мне, как в 1941 году по поручению Союза художников Латвии он стал гидом Веры Мухиной, приезжавшей в Ригу для участия в конкурсе проектов памятника Янису Райнису... Она приглашала его к себе в московскую мастерскую... Расспрашивал меня об Элзе; он так и не понял, за что ее могли арестовать. Ведь она всегда была в Академии и Союзе художников на передовом фланге, получала первые места на конкурсах и имела государственные заказы?!

Элза Швалбе. 1936 год
«Когда ее забрали в июле 1949 года, в мастерской на улице Стабу остался отлитый в гипсе бюст Александра Пушкина, она готовила его к юбилейной дате поэта... Мечтала отлить в бронзе... В то время я был дружен с народным артистом Русской драмы, пушкинистом Юрием Юровским. Он охотно приобрел у меня эту скульптуру и пообещал, когда вернется автор, вернуть ее...» Прощаясь с Георгием Ивановичем, я выразила уверенность, что Элза непременно вернется к нему...
«О, вы, юное дитя, еще не знаете свою подругу, – сказал он грустно, улыбнувшись. – Элза не умеет прощать, но она умеет красиво уходить без ссор, упреков и даже без предупреждения... Вот так просто, однажды вернувшись в свою мастерскую на улице Суворова, я не застал ни ее, ни ее вещей и даже записки с адресом... Вот так, а глубокий след в душе оставила на всю жизнь...»
В июле 1955 года Элза Карловна появилась на пороге нашей рижской квартиры... Появилась налегке – в тапочках. «С прошлым, тем более лагерным, необходимо прощаться без сувениров», – объяснила она. Увидев на своем старинном серванте лагерную скульптуру «Мать с ребенком», да еще с приклеенной головой (посылку, очевидно, проверяли!), Элза решительно заявила: «Ее следует выбросить – долой с глаз...» Но тут заступилась моя мама: «Это мой дорогой подарок...»
До получения документов (мне – об амнистии, Элзе – о реабилитации) мы жили нелегально на улице Райниса в квартире родственников мамы, репрессированных в 1941-м. Но никто из моих кузин, боявшихся любого звонка в дверь, не протестовал. Элза была из того же сословия, что и их родители, и к ней они относились с особым уважением, и более того – она всегда была почетным гостем за их праздничным столом...
В 1957 году из Амурской области вернулась осиротевшая семья сестры. Вернулась с прибавлением семейства: родилась дочь Ирена – общительный, жизнерадостный ребенок... «Боже мой, как постарела моя Риташа! – сокрушалась Элза. – Но где жить?» Моя мама предложила «пока суть да дело» ночевать у нее в служебной комнатушке на Рижском взморье (мама работала в доме отдыха в Майори на улице Лиенас, дом 9).
Помню, как меня послали в детдом к Рите, чтобы сообщить о приезде матери. До этого сообщения я Риту такой никогда не видела. Молчаливая, сдержанная в эмоциях, она от радости смеялась и плакала, громко оповещая своих подруг: «Мама приехала... Моя мама приехала!»
А потом начались тяжелые будни. После получения реабилитации «со всеми правами на жизнь» Элзе не вернули ее прежней квартиры на улице Стабу и не предоставили взамен другой. Первое время она не получала даже пенсии. А в темной 16-метровой комнате на улице Райниса, где мы ютились втроем, да еще рыже-белый строптивый спаниель Ромео, о творческой работе трудно было думать. И все же Элза в этих условиях создала мой барельефный портрет «Девушка с косой» и начала второй в фарфоровой глине...
На бульваре Райниса Элзу посещали вернувшиеся из лагерей рериховцы: Катрина Драудзиня, Милда Риекстиня-Лицис, поэт Рихард Рудзитис. Сюда пришел и мой будущий муж Янис Карклиньш. В первом браке он был женат на двоюродной сестре Элзы – Ирме и проходил с Элзой по одному делу рериховского Общества, отбывая наказание в лагерях Средней Азии... Янис Янович пригласил нас в оперу на премьеру спектакля «Пиковая дама», объявив, что он «попал с корабля на бал»: то есть утром сошел с поезда, а вечером занял свое место среди контрабасистов – радовался, что коллеги сохранили ему инструмент... И профессор Леонид Вигнер позаботился о предоставлении ему жилой площади...

Георгий Матвеев. 1930-е годы
Жизнь налаживалась. Элзу Швалбе восстановили в Союзе художников, назначили маленькую, но персональную пенсию, появились и госзаказы на скульптуру малой формы. Только с квартирой и мастерской не повезло. После моего замужества в 1958 году она сменила ряд неблагоустроенных комнат в разных районах Риги, а творчески работать могла лишь в Юрмальском Доме творчества художников. Образовалась и жизнь семьи ее сестры Маргариты Карловны: она получила вызов от родственников покойного мужа из Германии. К этому времени Рита с отличием закончила среднее образование в Риге и, хотя с болью в сердце покидала родину и друзей, не пожелала расставаться с матерью... Приглашали с собой и Элзу Карловну, но она не поехала... Маргарита Карловна предполагала, что сестра осталась в Риге из-за меня, но я думаю, что это не совсем так... Правда, жизнь наша протекала в тесном содружестве. Элза вникала во все мои личные и творческие дела, была первым читателем и критиком моих искусствоведческих статей и книг, ездила со мной на творческие встречи с редакторами издательств Москвы и Киева. У нас появилось много общих друзей. А в 1988 году к 85-летию Швалбе в Киеве состоялась организованная мной выставка трех скульпторов Латвии: народного художника Александры Бриедис, Элзы Швалбе и медалиста-рисовальщика Яниса Струпулиса. Без преувеличения скажу, что произведениям Элзы Карловны, как станковой скульптуры, так и миниатюрам и медалям – витринному искусству, было уделено особое внимание. На вернисаж пришли выдающиеся деятели украинской культуры, редакторы многих журналов и газет... Я радовалась не меньше Элзы Карловны... Приехала она на открытие выставки на костылях, со сломанной ногой, поэтому и для ее устройства в гостинице и в транспорте было все сделано от «щирой украинской души». Потом эта выставка побывала в Житомире и во Львове, и всюду о ней писали прекрасные рецензии. Был также и видеофильм, не говоря уже о восторженных выставочных отзывах.
К слову, о нашем взаимовлиянии. Не всегда для моих книг требовалась помощь консультанта, но для меня лично было желательно и даже необходимо присутствие Швалбе. Оно вносило равновесие духа в общении с подчас капризными и избалованными почетными званиями художниками и писателями.
Думаю, что Элза Карловна это понимала, и откликалась на мои приглашения. Она продолжала жить в очень неподходящих условиях для творчества. Последняя ее выставка, посвященная 90-летию со дня рождения, состоялась в январе 1994 года в Риге в Мемориальном музее Густава Шкилтера... Экспозицию ее мы делали вместе с Янисом Струпулисом. На ней были представлены не только музейные экспонаты, но и произведения 30 – 40-х годов из частных коллекций. Из моей был приобретен Французским колледжем бюст Александра Пушкина, на который претендовал (и по праву) Русский театр драмы...
Вот, пожалуй, и все, что я могла сказать о своей подруге и наставнице в юности. Спасибо ей за все то, что она сделала для меня и тех, кто в ней нуждался. (Всегда ли она была справедлива в своих поступках с теми, кто ее любил, не мне судить – она сама лучше разберется в себе...)
Не претендуя на функции аналитика, исследователя человеческой души, но последовательно анализируя пройденный вместе длительный и негладкий жизненный путь, я сделала ряд выводов, пусть даже субъективных, а порой и противоречивых, которые дают мне основание на раскрытие ее «загадочного» образа.

Элза Швалбе и Инга Карклиня
Духовный мир Элзы Швалбе не лежит на поверхности. Немногословная, сдержанная в своих внутренних излияниях даже с самыми близкими людьми, Элза Швалбе лишь по крупицам одаривает нас откровением... Лишь пару лет тому назад, в год своего 90-летия, она впервые согласилась на магнитофонную запись родовой хроники. Там только вскользь упомянуто ее детское видение: «Близился рассвет. В детской комнате с зашторенным окном темно... Я проснулась от ощущения присутствия сидящей в белом одеянии женщины у моих ног... Я не испугалась, не закричала, и диалог с ней был молчаливым... О нем я никому не поведала... Это было сокровенной тайной...» Как знать, быть может, эта встреча была той путеводной звездой, которая на протяжении всей жизни давала ей силы и духовную энергию для преодоления тяжелейших жизненных испытаний!
Познание жизни у всех начинается с испытаний. У трехлетней Элзы-Елены оно началось с физической травмы...
«У меня с детства появилось стремление летать и падать, – пошутила Элза Карловна. – В первом «полете» я сломала нос, это было первым физическим страданием и беспокойством родителей о нарушении гармонии черт моего лица».
Но все обошлось, и красивая девочка с большими серо-голубыми глазами, окаймленными густыми ресницами, и тихой речью продолжала очаровывать окружающих...
При встрече со старшей сестрой Швалбе Маргаритой Карловной в 1957 – 1958 годах я спросила, как в детстве переносила боль и операции ее младшая сестра.
«Поразительно терпеливо, без плача и жалоб, – ответила она. – Такая подвижная и жизнерадостная, во время болезни она преображалась – становилась послушной и кроткой». Такая метаморфоза происходила с Элзой Карловной и в зрелые годы.
Вспоминаю 1952 год в Абезе. Весна. Круглосуточно ярко светит солнце, без светотеней, в упор, тает снег, оставляя под собой толстый покров льда. В лагере по всем баракам идет генеральная санчистка, выносят во двор нары, обливают кипятком и смазывают темной вонючей жидкостью от клопов. Элза больна, она слабеет с каждым днем. Немецкий хирург Штеер обнаруживает у нее опухоль шейной железы, необходима операция, без гарантии на выживание... И все же это шанс. Швалбе не возражает. Мне как медсестре разрешено присутствовать на операции... Операция длится несколько часов: заболевание железы дало уже метастазы в другие органы. Диагноз серьезный... Но у больной сильная психическая энергия, которая способствует выздоровлению... И оно происходит на глазах у удивленного врача... Думаю, что способствовали исцелению и наши совместные молитвы... После возвращения на родину начался новый период с переломом конечностей и сложными болезненными операциями. Швалбе по нескольку месяцев лежит в больнице, учится ходить с костылями. Именно теперь в ней преобладают высокие духовные качества самообладания, терпения при полном подчинении строгому медицинскому режиму... Но как только это тяжкое испытание преодолено, в ее характере остро выступают иные качества: исчезают чувство послушания и соблюдения режима, появляются тяга к перемене места жительства, встречам с друзьями, желание творческой работы... В отличие от своих коллег она занимается ваянием без пролития пота, замыслы рождаются спонтанно и осуществляются быстро, доставляя автору эстетическое наслаждение... Швалбе как в жизни, так и в искусстве верна принципам красоты форм и изысканности силуэтов. Названия ее бронзовых миниатюр 70 – 80-х годов: «Хранительница Огня», «Раздумья», «Ожидание», «Материнство»... И вновь «полеты и падения», физические страдания... Теперь, на 93-м году жизни, – перелом тазобедренной кости. Операция без жалоб и стонов... и вновь возрождение... Не каждому это дано... Тот же светлый ум, ясная память, которой не коснулся склероз, и рациональный, под стать времени, здравый, а порой и жесткий рассудок. Элза Швалбе уже давно, более двадцати лет, старалась избавиться от обременительных вещей, в том числе от книг и картин... Она безжалостно, откинув сантименты чувств, возвращала их авторам, а если таковых не оказывалось на месте – раздаривала... Все логично и оправдано: солидный возраст, нет рядом духовно близких людей, разбирающихся в ценности изобразительных средств искусства. Бетонные стены современных квартир не рассчитаны на вбивание гвоздей, но подвержены нападению тараканов и того хуже – клопов... Стоит ли рисковать?

Элза Швалбе. Хранительница Огня.
Посвящение Латвийскому Обществу имени Н.К. Рериха
Разгрузочная акция квартиры, естественно, проводилась не ею, а теми, кто приходит на помощь больным и старикам... Благодарная функция... Побольше бы было таких, которые это делают, продлевая физическую жизнь своих хозяев... А как на это реагируют те, кто с любовью и благодарностью одаривали художницу своими творениями, укрепляя духовные нити родственной связи?.. По-всякому... Рациональный образ жизни интеллигенции нашего времени многих приучил духовные ценности переводить на язык валюты... Хотя многие на это не способны, в том числе и я. Для меня вещи от духовно близких людей, даже при их уходе из жизни, представляют особую ценность и продлевают общение с ними... Поэтому, получив в свой адрес подаренные ей книги и картины, которые специально создавались для Швалбе в мои молодые годы и не без ее консультаций, я подверглась стрессовой реакции, что и заставило задуматься над своими обширными архивами, еще не реализованными в замыслах и изданиях.
Судьба швалбовских произведений уже во многом определилась. Они стали собственностью музеев в Риге, Руиене, Москве, Киеве, Житомире, Львове и Виннице.
Узнав о тяжелом заболевании художницы, ее почитатели, члены рериховских организаций устроили молебен... Хочется верить, что это оказало большую помощь в ее выздоровлении... «Посылки доброй мысли друзей мне всегда в жизни помогали выдержать испытания», – сказала Элза Карловна и просила сердечно поблагодарить коллег и наших общих друзей.
О репрессированных рериховцах Латвии следует поспешить сказать слова благодарности при жизни, а не в некрологах. К сожалению, сейчас из корифеев рериховского движения в нашей республике остались лишь единицы.
Среди них художница по росписи фарфора Ольга Александровна Катенева-Нейман. Человек она поистине замечательный, с необыкновенной судьбой. «Будучи русской по национальности, я родилась в Индии, а вся моя сознательная жизнь, за исключением кратких периодов, была связана с Латвией. Здесь определилось мое художественное призвание. Здесь я встретила своих духовных учителей, вступила в Общество им. Н.К. Рериха...» – вспоминает Ольга Александровна Катенева-Нейман. «... А у вас две прекрасные родины...» – так сказал мне при первом знакомстве в 1937 году Александр Иванович Клизовский».

Ольга Катенева-Нейман. 30-е годы
«Мои родители мать Елизавета Ивановна Лабутина и отец Александр Федорович Мычко – познакомились друг с другом в раннем возрасте в Риге. Отец жил в Москве, но имел родственников в Латвии. Мама – наоборот – постоянно жила в Риге, а ездила к своим в Москву...» Саша Мычко жил и воспитывался в бедной многодетной семье, рано осиротел, пошел работать посыльным в чайную фирму Губкина-Кузнецова. Образовывался в основном самоучкой. Был усерден и трудолюбив. На работе у него выявились редкие способности к дегустации. Когда юноше исполнилось 16 лет, хозяева отправили его учиться в Индию, предварительно спросив, может ли он объясняться по-английски... Предложение для него было настолько заманчивым, что пришлось солгать: языка он, конечно, не знал, но за два месяца до отъезда при большом желании и упорстве (с помощью частного учителя) овладел знанием разговорной речи... Пребывание в Индии, в Калькутте, оплачивала фирма. Он превысил все надежды своих московских хозяев и за сравнительно короткий срок стал крупным специалистом по дегустации. Ему приходилось много разъезжать: на Цейлон, Малайский архипелаг, в Китай... В это время письма в Ригу приходили редко... В 1906 году, когда Александру Федоровичу исполнилось 26 лет и материальное положение стало стабильным, он без всякого предупреждения приехал в Ригу и сделал предложение Лизе Лабутиной. Получив благословение ее родителей, по православному обычаю обвенчался в церкви и увез свою жену в Индию. Там 15 февраля 1908 года в семье Мычко родилась дочь Ольга.
«По рассказам родителей, в день моего рождения было землетрясение, – вспоминает Ольга Александровна. – В индийских мифах это связано с предсказаниями мятежной судьбы и тяжких испытаний... Думаю, что по отношению ко мне это сбылось... Испытание судьбы не замедлило сказаться. Здоровье Елизаветы Ивановны резко ухудшалось. Она уже с первых дней пребывания в Индии трудно переносила влажный тропический климат. Но так же, как и муж, очень полюбила этот райский уголок земли, его добросердечный трудовой народ... Надеялась, что со временем акклиматизируется, но, увы!..
Личных воспоминаний об Индии в моей памяти не сохранилось... Мне было четыре года, когда отец нас привез к бабушке в Латвию. Благодаря заботам родителей я и брат Володя закончили среднее образование в частных гимназиях Риги...»
Профессия дегустатора не была безвредной для здоровья и сказалась на сердце Александра Федоровича Мычко. Незадолго до своего шестидесятилетия он вынужден был вернуться в Латвию к семье.
«Для нас это были материально трудные годы, – вспоминает дочь, – пришлось подумать и мне о заработке. Здесь первым моим учителем и советчицей становится моя мать. Занятия в живописной мастерской проф. Вильгельма Пурвитиса оставили в ее жизни неизгладимый след... Она была одаренной пейзажисткой, превосходно писала цветы... И если бы не мы, дети, а нас уже было трое – две сестры и брат, она непременно бы стала профессиональным художником... До войны мы с любовью хранили ее произведения, а в трудные времена пришлось с ними расстаться... Что касается моих творческих начинаний, мать их одобряла всем сердцем... Однажды я осмелела и отнесла некоторые свои декоративные композиции с инкрустацией в антикварный магазин – и у меня их приняли... Затем один из магазинов, торгующий декоративными тканями, предложил мне попробовать расписывать платки, шали и даже платья... Это было в Старой Риге... Я вначале отказывалась, но познакомившись с технологией красок, согласилась... И кажется, получалось... Однако эти заказы были лишь временным переходным пунктом в поисках постоянного места работы... В 1932 году я вышла замуж за Владимира Ивановича Катенева-Неймана – ведущего актера Русской драмы. Пристрастилась к театру, поступила в студию Тихомирова, ученика Станиславского, небезуспешно пробовала свои силы в камерных концертах и мечтала о большой сцене».
У нее имеются положительные данные: привлекательная внешность, чуткое проникновение в сущность лирического образа, она музыкальна и обладает приятным голосом... Однажды Мария Андреевна Ведринская – звезда Русского театра Риги 20 – 30-х годов – предложила роль в одном из спектаклей... И неожиданно для себя Ольга Катенева-Нейман была отмечена положительными отзывами в печати... И все же для сценической карьеры у нее не хватает раскованности, она слишком застенчива, неуверенна в себе. Послушавшись совета мужа, Ольга Александровна отказывается от сцены... Однако творческая натура требует своего выражения...
— Я его нахожу в изобразительном искусстве, – рассказывает Катенева. – Не помню от кого, мне последовало предложение поступить на фабрику Кузнецова по росписи фарфора. Начинала работу, не доверяя своим способностям... Со временем этот барьер самокритичности был преодолен. Появились положительные результаты, а с ними и уверенность в своих возможностях. Это занятие приобрело творческий, экспериментальный характер и стало не только постоянным местом моей работы, но и моей истинной профессией... Откровенно говоря, профессионального уровня я достигла самоучкой... Естественно, в этом мне помогли унаследованные от матери наклонности к живописи, настойчивость характера в преодолении трудностей и желание внутренней независимости... Очевидно, последние качества я заимствовала от отца... Очень краткое время с нами на фабрике занимался художник по росписи латвийского фарфора Роман Сута. Он заметил в моих самостоятельных работах индивидуальность почерка... Со временем меня перевели в лабораторию, где я смогла проявить себя творчески...
К сказанному Ольгой Александровной хочу добавить, что я имела близкий творческий контакт с художницей Александрой Бельцовой-Сутой, которая вместе с супругом состояла в группе «Балтар», и слышала от нее высокую оценку профессионального мастерства Ольги Катеневой: «Она была не только исполнительницей, но и отличалась самобытностью композиционных и колористических решений в самостоятельных работах...»
Переломным в жизни и миропонимании для Ольги Александровны Катеневой становится 1937 год, торжественный для Латвийского Общества Рериха – время подготовки Общества к конгрессу трех прибалтийских стран. Помимо многочисленных мероприятий, конференций, издания «Золотой книги» была также организована обширная выставка работ Николая Рериха в музее Общества на улице Элизабетес.
«Об этом мы с мамой прочитали в газете «Яунакас Зиняс» («Последние новости»), – вспоминает Ольга Александровна, – и загорелись желанием посетить эту выставку. Мама уже с молодых лет интересовалась живописью, и имя Николая Рериха, его ранний период творчества, связанный с Россией, ей были знакомы... А теперь – Индия... Новая неизведанная страница творчества. Для моей матери каждое соприкосновение с этой чудесной страной ее молодости было дорого.
Выставка на нас произвела огромное, волнующее впечатление. Мы подолгу простаивали у картин, пытаясь проникнуться их глубоким философским смыслом... Вслух выражали наши суждения и сожалели, что так мало подготовлены к восприятию этой экспозиции... Очевидно, наши слова дошли до слуха вблизи стоящего господина. Молодой человек представился: «Я – Александр Марков, член Латвийского Общества Рериха, если желаете, могу прокомментировать некоторые произведения автора...» Когда обход экспозиции завершился, мы его пригласили в гости... Через несколько дней он нанес нам визит и, уходя, оставил для чтения книгу из трилогии Александра Клизовского «Основы миропонимания Новой Эпохи»... На заглавной странице было посвящение автора: «Своему Светлому Гуру Елене Ивановне Рерих, которая вдохновила на труд, направляла на мысль, будила познания из области высшего знания»... Стремление к познанию из области высшего знания рождалось с годами и у меня, много было раздумий о назначении человека на земле, о возможности духовной жизни после смерти... Я была по своей природе убежденная реалистка. В религии не получала ответа на волнующие меня вопросы бытия и смерти: в ней я не находила научного обоснования... И вот передо мной первая книга Живой Этики. В ней все было логично обосновано, конкретно и убедительно объяснено... Это был подлинный источник научного понимания Бытия: «Жизнь возможна лишь благодаря соединению двух извечных Начал: Духа и Материи...» Я читала книгу залпом, забывая о сне... Мне казалось, что ее автор заглянул в мою душу и ответил на неразрешенный до сего роковой вопрос: откуда мы, человеки, пришли и ради чего...
А вскоре состоялась встреча с Александром Ивановичем Клизовским.
Благословляя меня на встречу с ним, мама посоветовала быть предельно искренней и малословной... Как сейчас помню все подробности этой знаменательной в моей жизни встречи... Дверь открыл статный человек с высокой посадкой головы и военной выправкой. Во всем его облике, движениях, тихой краткой речи чувствовалось благородство. Темные волосы на висках и бородка слегка серебрились, но взгляд внимательных глаз выражал доброту сердца... Предложив мне кресло у письменного стола, Александр Иванович спросил:
— Что вас привело ко мне? – И внимательно выслушав ответ, заметил: – Вы москвичка?
— Нет, местная, но в Москве часто бываю – там родственники...
— А где родились?
— В Индии... вблизи Калькутты.
— Вот как? – Лицо его прояснилось. – Вот видите, какие у вас две прекрасные страны – две родины...
Разговор наш был непринужденным и дружественным. Относительно знакомства с Учением Живой Этики я могла ему сказать только, что оно началось с его трилогии...
Теперь вам представится возможность узнать много больше...
От Клизовского с его рекомендательным письмом я направилась к председателю Общества Рериха на улице Элизабетес. Поэт-философ Рихард Яковлевич Рудзитис произвел на меня впечатление человека очень учтивого, доброжелательно относящегося к молодому поколению друзей Общества.
— Я стала посещать младшую группу, которой руководил Борис Стипрайс, математик по профессии, – продолжает свой рассказ Ольга Александровна. – Эрудированный педагог, превосходно знающий труды Живой Этики. Требовательный к своим ученикам и пользующийся у них авторитетом... Среди них особенно близки по духу мне были врач Екатерина Яковлевна Драудзиня и актриса Национального театра драмы Милда Риекстиня-Лицис.
Многие из старших групп принимали молодежь у себя дома. Так было с Драудзиня, которая создала у себя в Юмправе Трудовую общину для рериховцев. Бывала я на даче у Капитолины Ренкуль и там познакомилась с балериной – примой оперного театра, балетмейстером Еленой Тангиевой-Бирзниеце. Мы с мужем видели ее во многих классических балетах: Л. Делиба «Коппелия», Н. Римского-Корсакова – «Шехерезада», Яниса Мединя – «Победа любви»... Она была неподражаема. Кое-кто из театральных соперниц считал ее высокомерной и капризной. Но я во время наших бесед узнала ее как человека чуткого, обаятельного и простого в общении... Через мужа я была знакома с актрисой Русской драмы Марией Андреевной Ведринской. Она часто выступала на вечерах в Обществе... Примерно тогда же я познакомилась с Фелицией Викентьевной Осташевой выдающимся педагогом, человеком светлой души. Она принадлежала к старшему поколению рериховцев 30-х годов. Всех нас объединял искренний интерес к Учению Живой Этики...».
Деятельность Латвийского Общества была многообразна и привлекала к себе многих деятелей культуры. В концертах выступали Зента Зариня, Мария Ведринская, пианист Бруно Якобсон, Милда Риекстиня и Элла Рудзите. Выступала с сольными номерами и Ольга Катенева.
Все это было и в памяти рериховцев 30-х годов осталось на всю жизнь...
«1944 год для меня и моего брата Владимира был особенно траурным, – вспоминала художница. – Я потеряла почти одновременно самых близких – отца, мать и мужа... А через пять лет – в 1949 году, перед самым Рождеством, меня арестовали по делу Общества Рериха. Допрашивали в Риге, а судили заочно Особым совещанием в Москве. Освободили меня по реабилитации на год позже, чем остальных рериховцев,– в 1956 году... Предварительно допрашивали приехавшие из Москвы следователи... Очевидно, это объяснялось моим рождением в Индии... Возвращение в Латвию было связано со многими проблемами жизнеустройства. Общение с коллегами по Обществу продолжалось нелегально».
Многое изменилось в нашей жизни. Затихла деятельность возобновленного Общества, нарушились связи с другими республиками, сузились личные контакты... Но немеркнущим духовным очагом Общества в Риге остался дом на ул. Висвалжу, где в скромной маленькой квартире Ольги Александровны Катеневой по-прежнему собираются те, кого интересует Живая Этика. Сюда приходит литература. Каждая новая книга – это радостное событие, которым члены этого малого кружка стремятся поделиться друг с другом... Естественно, годы, переживания и подорванное здоровье сказались на внешнем облике хозяйки. Но доброта ее сердца и лучистые, не подверженные старению глаза остаются по-прежнему символом веры в торжество Светлых сил над тьмой...
Это священное место рижского лесопарка, где воздвигнут уникальный пантеон скорби и народной славы – Братское кладбище из местного латвийского известняка (автор Карлис Залис). Здесь покоится прах первого народного поэта Латвии Яниса Плиекшана (Райниса), чьим именем и названо кладбище, и его супруги поэтессы Аспазии. На их могиле надгробие из финского гранита, изображающее фигуру юноши, просыпающегося навстречу грядущему дню (автор Карлис Земдега).
И не только кладбищенский архипелаг характеризует этот живописный лесопарк у Киш-озера... Здесь широкую магистраль проспекта пересекает множество коротких улиц с уютными частными усадьбами, увитыми диким виноградом, и цветущими палисадниками роз...
Именно здесь в конце 20 – 30-х годов поселились те, кому было суждено стать у колыбели создания Латвийского Общества имени Н.К. Рериха, а затем в годы репрессий возглавить движение за сохранение эпистолярного наследия Рерихов в Латвии. Мне хочется, как историческую справку, назвать адреса этих людей. Так, например, в Межапарке на улице Эмилиса Дарзиньша жил и работал доктор Харальд Лукин – сын первого председателя Общества. На проспекте Стокгольма жил с семьей поэт-философ, второй президент Общества Рихард Рудзитис и считал эту квартиру самой плодотворной для создания поэтических произведений. На улице Оловас, впоследствии переименованной в улицу Николая Островского, жила актриса Национального драматического театра Милда Риекстиня-Лицис. Это о ней в своих воспоминаниях сказал режиссер театра имени Райниса Эдуард Смилгис: «Как хороши, как свежи были розы у Милды Риекстиня...» Молодые рериховцы супруги Лидия и Сергей Осташевы, режиссеры оперы и драмы Ирина и Карлис Лиепа тоже жили поблизости друг от друга и обменивались литературой Живой Этики, устраивали совместные чтения...
Впервые у рериховцев я побывала в Межапарке в 1955 году, после возвращения из заполярного гулага. Туда привела меня скульптор Элза Швалбе, которая с ними встречалась и была дружна до ареста... Очень большое впечатление на меня произвела живописец – норвежка Ингрид Калнс-Зиле. Она жила на улице Аматас, дом 10, впоследствии переименованной в Гатартас. Белокурая с большими голубыми по-детски доверчивыми глазами и короткой тихой речью, она напоминала мне тургеневских одухотворенных девушек... А ведь Ингрид была замужем, имела сына лет пятнадцати и пережила большую личную драму: в 1948 году ее муж – юрист – был осужден по «рериховскому» делу и на вольном поселении в Воркуте обвенчался с ее подругой Лидией Осташевой. Кто знает, как бы на это отреагировали другие женщины, а Ингрид еще больше и тесней сдружилась с Лидией и ни единым словом не упрекнула мужа за подобный поступок. Мне она грустно призналась: «Они друг другу больше подходят...» и добавила: «у нашего сына Юрика теперь будут две любящие мамы». И так и было: две семьи Арвида Калнса объединились духовно.

У Ингрид Калнс. Инга и Ингрид. 1960-е годы
Мне как молодому искусствоведу встречи с Ингрид принесли двоякую пользу. С одной стороны, я наблюдала за ее творческим развитием, радовалась ее лирическому искреннему дарованию в жанрах натюрморта и пейзажа. С удовольствием приняла предложение попозировать для портрета. К разряду модных, экстравагантных мастеров кисти она не принадлежала, и в Латвии ее довольно долго не принимали в члены Союза художников... В 1940-х годах Ингрид не арестовали и на допросы не вызвали... Поэтому она не только сумела сохранить все книги мужа по Живой Этике, но и к его возвращению приобрела немало новых изданий. Вечера чтения, приуроченные ко дню Учителя, юбилейным датам семьи Рерихов, у Ингрид Калнс на улице Гатартас проходили многолюдно и задушевно. Там я познакомилась с Лидией Осташевой-Калнс, режиссером-актрисой Ириной Лиепа, художницей по росписи фарфора Ольгой Катеневой-Нейман и актрисой Лонией Андермане. Приходила на вечера чтения и Милда Риекстиня... Бывал у нее часто и Александр Дравниек – рериховец, отбывавший наказание в лагерях Средней Азии вместе с моим мужем. Он довольно успешно предсказывал судьбу... В доме Ингрид, который она унаследовала вместе с семьей своего покойного брата, была одна комната «сокровенных мыслей и исповедей души» – там Ингрид экспонировала свой творческий дневник на рериховские и мифологические темы. В этой комнате зажигались свечи, пахло ладаном и травами с Востока. Сюда обычно приходили только ее проверенные друзья и чаще поодиночке...

Ингрид Калнс. Автопортрет. 1959 год
Мой муж Янис Карклиньш, очень уважавший Ингрид, однако, опасался некоторого «сектантского духа ритуалов». У нас дома все было проще и на чтения никто не приглашался. «До всего нужно доходить самому, читая книги Учения». У меня на этот счет своего мнения не было, и я продолжала после кончины Яниса бывать у Ингрид. В конце 60 – 70-х годов Ингрид довольно часто ездила в Норвегию к своим двоюродным сестрам, а также посещала в Париже своих родственников. В 1980 году к 70-летию художницы состоялась в Юрмале ее персональная выставка. Она поразила меня своими творческими исканиями и веяниями заграничных поездок. Особенно она преуспела в портрете. Удачным решением в композиции и цвете были портреты Элзы Швалбе, Ирины Лиепы, Милды Риекстиня-Лицис и моей матери. Встречу последнего в жизни Ингрид нового 1984 года праздновали у нее в Межапарке и мы с мужем. С большой благодарностью вспоминаю нашу светлую дружбу с Ингрид, которая и в радостные свадебные дни, и в тяжелые часы болезни мужа была рядом с нами... Через семью Калнс я получила «Воспоминания» Лидии Петровны Осташевой-Калнс, которые привожу дословно:

Ингрид Калнс. 1980-е годы
«О семье моего первого мужа Сергея Осташева рассказ следует начинать с Фелиции Викентьевны, его матери, – пишет Лидия Петровна. – Она была прекрасным педагогом, воспитавшим не одно поколение достойных учеников. С Учением Живой Этики она была знакома много раньше нас всех – еще до создания Латвийского Общества им. Н.К. Рериха... Для меня и для моего первого мужа Сергея Осташева, умершего в 1945 году от туберкулеза на 37-м году жизни, Фелиция Викентьевна была истинной духовной матерью и наставницей в жизни. Она лично переписывалась с Еленой Ивановной Рерих и способствовала духовному развитию группы друзей Латвийского Общества в городе Даугавпилсе. В ее группу входили и старшие члены Рижского Общества: Е.М. Зильберсдорф, Ф.С. Барун, И. Вертинский (старший). Особое внимание Ф. Осташева уделяла молодежи, интересующейся Учением Живой Этики, среди которых учительница особенно выделяла А. Крупко, Вертинского-младшего... Когда для меня с мужем по ее совету пришла пора поступать в Рижское Общество Н.К. Рериха в конце 1938 года, она дала нам рекомендации».
К сказанному о Фелиции Викентьевне добавлю, что ее знали не только в Латвии, с ней в молодости встречалась учительница с Украины (город Житомир) Софья Мариановна Якубовская и назвала ее при встрече со мной и Элзой Швалбе в 1957 году «выдающимся психологом – воспитателем детской духовной морали».
О себе Лидия Петровна Осташева-Калнс рассказала очень кратко: «Родилась я 9 марта 1912 года в Варшаве. Отец мой – Петерис Изак, по национальности латыш, по специальности строитель, мать – полька. Вскоре после моего рождения они переехали в Петербург. Начальное образование я получила в польской школе, а затем, когда родители переехали на родину отца в Латвию, я поступила в Коммерческое училище. Мне было 19 лет, когда я вышла замуж за Сергея Осташева, тогда же вместе с ним начала посещать кружок Живой Этики в Риге, руководимый востоковедом Владимиром Анатольевичем Шибаевым. Тогда же я познакомилась с доктором Феликсом Денисовичем Лукиным... С благодарностью и любовью вспоминаю своего первого мужа Сергея Осташева, унаследовавшего от матери доброту и отзывчивость сердца, преданность Учению. Был он одаренным человеком, успешно занимался живописью.
Из старших членов Латвийского Общества 30-х годов на меня сильное впечатление произвел сын д-ра Феликса Лукина Харальд Феликсович – молодой врач, член-корреспондент научного исследовательского института «Урусвати». Это был энергичный, очень честный, прямой и откровенный человек... Хорошо помню Александра Ивановича Клизовского. Это человек высшего благородства души и обширных знаний... Ему шел 65-й год, но во всем была видна старая офицерская школа: всегда подтянутый, галантный, малословный. В памяти моей сохранился также образ необыкновенно мужественного человека, талантливого литератора-публициста и психолога Зенты Мауриня... Ее лекциями мы все восхищались: более эрудированного лектора я не встречала... Состояли мы с Сергеем в младшей группе Общества, которую возглавляла Ольга Никаноровна Краклис... Особенное внимание она уделяла самостоятельной работе членов группы, в частности письменным домашним заданиям на тему прочитанной литературы. После ареста и суда по делу рериховцев, уже вдовой, я находилась в одном лагере с Ольгой Александровной Катеневой-Нейман в Воркутинском районе. Когда нас в 50-х годах стали выпускать в зону вольного поселения, я встретилась там и сблизилась духовно с избранником сердца Арвидом-Михаилом Калнсом...»
Сохраните себя таким, какой вы есть.
Н.К. Рерих
На латышской земле осталось немало коллег и учеников Н.К. Рериха, которые долгие годы поддерживали с ним связь. Не являясь членами Общества, они не были репрессированы. Однако своим творческим трудом и поддержкой Пакта Мира в Латвии высоко несли Учение в жизни и оправдали надежды Николая Константиновича, внимательно следившего за их творчеством и радовавшегося их успехам.
Мне очень повезло в жизни, так как мое становление и развитие проходило через мастерские корифеев живописи и скульптуры. В тяжкие послевоенные годы сталинской диктатуры истосковавшиеся по красоте природы мирного времени, романтике созидательного труда художники, бурно радуясь и торжествуя победу над фашизмом, обратились к портретам и пейзажам своей родины. В Латвии началось стремительное развитие искусств и возрос контингент людей, увлеченных творчеством, и особенно из провинции. Я врастала в искусство Латвии с могучей когортой своих сверстников. Это были: Эдгард Илтнер, Джемма Скулме, Рита Валнере, Лео Кокле, Бирута Баумане... Все они были воспитанниками Латвийской академии художеств, учениками профессоров Карлиса Миесниека и последователя монументальных традиций школы гранита Карлиса Зале. Эти выдающиеся мастера латышской живописи и ваяния получили образование на заре своей юности в Императорской школе Общества поощрения художеств Петербурга, когда директором и преподавателем в ней был Николай Константинович Рерих.
Это о нем говорил при встречах со своими учениками в 50 – 60-х годах Карлис Миесниек: «Он не столько нас технически подковывал приемами и примерами классической живописи, сколько вдохновлял на поиски собственного «я» и своего личного проникновения в духовную суть образа, будь то пейзаж или портрет. Помнится, меня петербургские коллеги упрекали в том, что, живя в стольном граде Российской империи, я по памяти писал свои родные пиебалгские места... Меня многие русские соученики называли «латышским мужиком в европейском тесном костюме». И скажу почему. Потому что на мой рост и нестандартное телосложение, учитывая длину рук, нельзя было купить в Петербурге приличную верхнюю одежду. А Николай Константинович в моем внешнем облике усмотрел самобытность. И рассматривая мои этюды на пленэре, заметил: «Сохраните себя таким, какой вы есть, и не перешивайте своих костюмов, и не прячьте под шляпу волосы – пусть развеваются по ветру...» Тогда мне, будущему педагогу, трудно было воспринять Рериха в моем понятии педагогом. Он никогда никому ничего не навязывал. И даже тем, у кого нескладно получалась композиция, говорил интеллигентно, предупредительно: «Одно хорошо, что вы никому не подражаете». Первый раз я видел профессора Рериха в Риге летом 1903 года.. Он приезжал со своей молодой и очень красивой женой. На нем был светлый чесучовый костюм и соломенный бриль от солнца. Тогда я подумал, что когда стану профессиональным живописцем, непременно себе куплю такой...»
Карлис Миесниек был истинным сыном своего талантливого, могучего духом народа.
Чувство красоты и гармонии, склонность к образному характеру мышления испокон века считались врожденными свойствами духовной культуры латышей. Об их трудолюбии и золотых руках, способных исполнить любую работу с большим мастерством и вкусом, писалось не в одной древней летописи. Правда, семь столетий творческое дарование латышских племен подавлялось рыцарским мечом. На родном берегу они творили чужую славу и культуру, оставаясь безымянными авторами своих творений. Правнук крепостных из Пиебалги раньше, чем стать художником, был хлебопашцем, выкорчевывал деревья, спускал на воду плоты, ловил рыбу. В своей памяти он свято хранил сказание о кровавых расправах крестоносцев на латвийской земле, о том, как обагренное кровью Балтийское море выбрасывало на побережье алые слитки янтарной смолы.

Карлис Миесниек. Автопортрет
«Их бурые отсветы до сих пор бурлят в моей крови», – говорит Карлис Миесниек, человек непреклонной воли и детского наивного простодушия. Основой его искусства стали глубоко уходящие в века корни народного творчества.
Миесниек – один из первых создателей национальной школы на родной земле. Колоритная фигура, неповторимая индивидуальность. И внешность у него запоминающаяся – ни с кем не спутаешь: могучего сложения, статный, с волосами вороньего крыла. Недаром окрестили его «пиебалгским дубом». Лицо мужественное с крупными чертами, а глаза по-детски синие, словно васильки... Взгляд вопрошающий. Однако одевается с некоторой претензией на моду, летом ходит в белом чесучовом костюме, а осанка – «королевская» – горделиво-независимая, «не идет, а несет себя»: «знай, мол, наших – пиебалгских!..» И бороду носит клинышком. При всем этом манеры крестьянские, грубоватые много и широко размахивает руками. Говорит громко, в голосе преобладают низкие – басовые вибрации. Юмор тоже крестьянский, сочный, не рассчитанный на деликатное женское ухо. Нет-нет да закинет острый камушек в чужой огород, но в принципе Миесниек – человек добродушный, ученики его любят, высоко ценят как педагога, как художника и охотно прощают простоту нрава. На полотнах Миесниека краски поют, а природа и люди живут одной, неразрывной жизнью широкой, раскатистой, строго сохраняя народные традиции и суровый крестьянский уклад жизни. «Ничто меня так не волнует, как запах свежевспаханной земли и свежеиспеченного хлеба в сельской печи», – признается Миесниек.
...Но как неуверенно чувствует себя этот дуб на чужой почве, как растерянно-смущенно заглядывает он в подворотни берлинских улиц, разыскивая студию живописи и рисунка профессора Кампфа. Но, почувствовав себя в привычной творческой среде, подробно рассказал о цели своего приезда в Берлин.
— Это меня наш мэтр – ректор Академии художеств Вильгельм Пурвитис уговорил съездить и собственными глазами удостовериться в положительных и отрицательных сторонах студийной методики преподавания рисунка и живописи в Париже (и желательно в Берлине). На всякий случай упомянул фамилии профессоров Кампфа и Вольсфельда...
— Это мои непосредственные учителя в Высшей художественной школе, – объяснил замещающий профессора Кампфа его студент – Николай Глущенко.
— А разве вы тоже учились в России? – спросил Миесниек и рассказал, что в 1911 – 1915 годах (когда в Риге не было еще хороших студий и специальных художественных школ) он учился в Петербурге в школе барона Штиглица у профессора Василия Савинского. – Перед Савинским до сих пор снимаю шляпу... Отличнейший педагог и человек прекрасной души...
— Я тоже очень доволен своими учителями, – сказал Глущенко и пристально посмотрел в глаза гостю. Только сейчас он заметил, что глаза у Карлиса добрые и взгляд прямой, а вот голос грубоватый, даже суровый. «Такие люди всегда отличаются простотой нрава и искренностью», – подумал он, проникаясь симпатией к незнакомцу...
Не прошло и получаса, как латышский художник чувствовал себя в берлинской студии как дома. Первым предложил попозировать на «беглый рисунок», а когда условленное время истекло, попросил лист бумаги и с виртуозной быстротой и мастерством без участия резинки скупыми сочными линиями с предельно ограниченными деталями создал два блестящих портретных рисунка Николая Глущенко и Ганса Шульца. То же сделал в предельно короткое время Глущенко. Подписав рисунки, они вручили их своим моделям. Шульц же попросил Карлиса Миесниека оставить ему на память его портрет. Сам он был довольно слабым рисовальщиком – застревал на деталях и терялся в крупном...
— Вам необходимо в корне менять свое восприятие, – сказал Миесниек и посоветовал раньше молча и внимательно понаблюдать свою модель, уловить в ней две-три характерные для нее черты и, акцентируя их крупными линиями, не мельча и не дробя на штрихи, набросать контурный рисунок с минимальными подробностями, а потом уже, если требует душа, хоть «графическую карту разводите на лице»...
Заметив, что Ганс Шульц покраснел и опустил глаза, Глущенко, не позволявший себе резкого тона с коллегами, перевел разговор на другую тему.
— Вы, кажется, сказали, что приехали к нам из Парижа... Как понравился вам город, что видали?..
— И город понравился, и люди понравились... В Париже можно жить без знания французского языка... Люди приветливые, раскованные – на вещи смотрят много проще, чем мы: легко сближаются, легко расстаются... Ну, конечно, прежде всего Лувр – это чудо чудес. А относительно, экспрессионистов, которые теперь в моде на Западе, да и в частности и у нас... У нас даже существует группа экспрессионистов, правда, теперь она называется «Рижской группой художников». Сильная группа, и художники все как на подбор – кистью владеют, но я, как реалист от рождения, никаких отклонений от природы не признаю – ни в жизни, ни на холсте... Естественно, и в Париже, где столько соблазнов для молодого художника, мне ничто не смогло вскружить голову... На родину возвращусь трезвым, более того – еще убежденней в своих концепциях и в том, что любая, даже самая изысканная студия живописи не может собой заменить Академию художеств... Академия художеств – это наковальня для молодых талантов, она выковывает не только навыки в работе, дает всесторонние знания, но и своей дисциплиной, строго выработанной программой выковывает характер человека, его мировосприятие...
— А вы не думаете, господин Миесниек, что высшее художественное заведение имеет и свою отрицательную сторону: оно часто выхолащивает самобытное видение начинающего художника, навязывает ему определенные догмы, стрижет всех под одну гребенку?...
Так вы, Никола, будучи реалистом, отрицаете Академию?
— О нет! Но многие ее принципы уже устарели, больше свободы нужно давать студентам для проявления своей творческой индивидуальности...
— Все это так, мой молодой друг, но прежде всего нужен крепкий фундамент, чтобы построить на нем любое, даже очень оригинальное здание, а таким фундаментом являются профессиональная азбука плюс тщательное изучение богатого наследия мастеров разных эпох и направлений. Нужно пройти период копирования и подражания... Нужно избрать себе учителей, близких по духу, и следовать их концепциям, пока не выкристаллизуется своя собственная... И суметь вовремя вступить на свой самостоятельный путь, не соблазняясь преждевременно славой и не мечтая о лавровом венке... Сумел мыслить самостоятельно, будешь оригинален. Нет – списывай себя в ремесленники... Вот так, Никола.
— Я понял вас, мастер... Спасибо. Ваше посещение было для нас всех блестящим уроком...
Вторично в Париже Карлис Миесниек побывал с группой студентов Латвийской академии художеств летом в 1931 году. В то время в Париже состоялась обширная выставка французских колоний. Большой интерес также представляли собой выставки русских художников Малявина и Коровина, в организации которых принимал участие Николай Петрович Глущенко. В то время он был тесно связан с советским полпредством в Париже, по его просьбе оформлял выставки русских художников, а также павильоны советского искусства на международных выставках.
С Карлисом Миесниеком он повстречался на выставке французских колоний. Встрече оба художника были очень рады. В этот раз Глущенко показывал латышским друзьям свои работы: эскизы новых картин, наброски книжных иллюстраций. Показал и первый вариант портрета Ромена Роллана, сделанный во время одного из его публичных выступлений. Это был карандашный этюд, в котором автору удалось, по словам Миесниека, уловить «пуповину» – то есть существенные черты и непринужденность позы. Последнее, очевидно, было самое трудное в портретном изображении писателя, который в домашней обстановке, даже с близкими людьми держал себя очень сдержанно, а при специальном позировании даже натянуто.
— Кстати, мы можем пообедать на Монмартре, – любезно пригласил Николай Петрович. – Сейчас в «Ротонде» собираются мои друзья...
— Никола, я хотел бы повидать Коровина, которому уже давно симпатизирую, – пробасил Миесниек...
— Не исключено, что он тоже там, хотя последнее время все не в духе – ностальгия одолела, да и муза стала все чаще изменять... я тоже люблю Константина Коровина – блестящий мастер и человек широкой, раздольной натуры... в литературе у него есть свой прототип... Знаете кто? Куприн... А я как-то люблю не противопоставлять величины, а сопоставлять и паровать их, – сказал Глущенко. – Например, Сергей Рахманинов и Иван Бунин... я бы их в одной гамме писал... Или Пабло Пикассо и Илья Эренбург – тут же не внешнее сходство, а одинаковый вулканический темперамент.

Карлис Стараст. Вдохновение.
(Портрет Инги Карклиня). Красное вьетнамское дерево
О том, повстречались ли в этот раз в «Ротонде» Карлис Миесниек и Константин Коровин, неизвестно. В беседе с профессором Миесниеком этот вопрос не поднимался.
Дни «открытых дверей» художники называют «днями разговоров по душам». В таких встречах в одинаковой мере заинтересованы и художники, и зрители. Для любителей искусства это лучшая возможность разобраться в творчестве того или иного автора, в особенности его почерка, познакомиться с процессом труда художника, поговорить о проблемах. Художнику же непосредственный контакт со зрителем помогает разобраться в достоинствах и недостатках своих произведений, в большой мере стимулирует его творческий процесс.
В дни «открытых дверей» у народного художника Латвии Карла Миесниека было всегда многолюдно: приходили его ученики, коллеги, приезжали земляки из Пиебалги, гости из других республик, рижские школьники. Бывали: друг его юности Аугуст Шубин, по специальности точный механик, а в свободное время занимающийся живописью и ваянием; старейшая работница здравоохранения республики Ида Рогальская; скульптор Карлис Стараст; солисты хора театра оперы и балета и другие. Художник был радостно оживлен. Он говорил с пиебалгским диалектом, пересыпая речь народными поговорками, не скупился на рассказы и охотно делился своими воспоминаниями о художественной жизни Латвии 20-х годов, об учебе в Петрограде, о Н.К. Рерихе, о том, что он не учил живописи, а «вдыхал в нас ее», говорил, что это Божий дар, который надо открыть в себе самому, о встрече с Ильей Репиным в Пенатах, о Яне Розентале, о В. Пурвитисе, о Я. Валтере и других классиках латышского искусства.
Как всегда, с большим гостеприимством встречала гостей супруга профессора Ольга Миесниеце, которая за искусные ткани с орнаментами имела звание народного мастера прикладного искусства. В последние годы его жизни, когда у художника особенно ухудшилось зрение, Ольге Миесниеце приходилось исполнять обязанности домашнего секретаря: отвечать на многочисленные письма, показывать посетителям экспозицию картин.
На мольберте в мастерской стоит последняя картина – натюрморт Карла Миесниека «Ржаной хлеб». Это одна из самых полюбившихся художнику тем, с которой он обращается в разные периоды своего творчества то в жанровой композиции, то в пейзаже, но всегда с большим волнением...
Как-то в начале 70-х годов я навестила профессора в солнечный осенний день. Он сидел в саду в глубоком кресле. Перед ним был раскрыт мольберт с пейзажным этюдом. У мольберта с кистью в руках стояла его жена Ольга. Она писала картину по «грозному» повелению мужа. Профессор Миесниек всегда, когда волновался, говорил громко, повелительно, как бы «рубил сплеча». Уже давно он потерял зрение, но все еще не мог расстаться с живописью – страстью всей его жизни. Теперь он диктовал жене, какие цвета красок накладывать на холст по эскизному рисунку, сделанному кистью им самим.
Естественно, получалось все не так, как этого хотел. И первый вопрос ко мне, как к искусствоведу, был: «Ну что там моя женушка «наляпала»?.. Мне было больно смотреть на холст. Я не узнавала в нем руки нашего могучего «озола»[21]. Подошедший лечащий врач – друг художника пытался уговорить своего непокорного пациента оставить живопись и заняться мемуарами.
Непривычно тихо и даже кротко мастер сказал: «Книга ведь уже написана и издана... Чего более?.. Правда, в нее не вошло все, что у меня на душе...»
Со мной, когда мы остались наедине, он поговорил по душам и, узнав, что я была вместе с рериховцами в Интинском лагере, спросил: «А Вы верите в Учение Живой Этики?..»
Сейчас, спустя много лет, я сожалею, что мало знала профессора Миесниека как человека...
Если через пятьдесят, а может быть, сто лет кто-нибудь из историков латышского искусства вспомнит меня добрым словом, значит, я жил и творил недаром...
А. Филка. Из письма к сестре Иде в
Киев. 10 мая 1933 года
Путь к созданию этого очерка был сложен и длителен. Начала его писать в лагере по памяти. При жизни художника я не была с ним знакома. С 1919 года мои родители жили в Киеве. Поехав в Перекоп навестить в госпитале раненого брата матери Густава Филку, застряли на Украине более чем на два десятилетия, так как в 1920 году «железный занавес» опустился между Советской страной и Прибалтикой. В те годы всякое личное общение с «фашистской» Латвией преследовалось. А в 1937 – 1938 годах моя связь с родиной окончательно прервалась из-за ареста моих родителей. Последним известием из Риги был некролог о смерти члена правления Общества латышских художников изобразительного искусства Алберта Филки. Он скончался 18 сентября 1938 года на 47-м году жизни от рака легких.
Для нашей семьи это сообщение было большим ударом. Детство и юность моей матери, а также молодость отца были связаны узами родства и дружбы с семьей Яниса Филки – родного брата моего деда.
Жили братья Филки со своими многодетными семьями в Майори на смежных улицах за базаром у реки Лиелупе. У каждого из них были летние дачи, выстроенные собственными руками. Здесь 3 августа 1891 года по старому стилю у молодоженов Яниса и Илзе родился долгожданный сын Алберт. Как у всех Филков, потомственных рыбаков и ремесленников Юрмалы, у отца Алберта был острый ум, золотые руки и большая тяга к знаниям. Поэтому и сына он определил в школу, мечтая впоследствии выучить на фельдшера, а может быть, на строителя. Благо мальчик проявлял большие способности к учебе и среднее образование закончил с отличием. Внешне крепко сложенный, с горделивой осанкой и мужественными чертами лица, юноша, однако, не отличался здоровьем. Он часто жаловался на боли в груди, быстро утомлялся, но к любой работе относился ревностно. К планам родителей на его будущее Алберт не прислушивался. Уже в Рижском реальном училище ему поручалось оформление ученических спектаклей. Он много рисовал с детских лет, создав «Семейный альбом», в котором шаржевыми персонажами Юрмалы выступали и его кузины-близнецы – моя мать Ида-Отилия и ее сестра Лилия.
Мой дедушка Екаб, самоучкой выучив несколько языков, среди которых немецкий и русский, много читавший и посещавший концерты благотворительных обществ, придавал большое значение своей внешности и был вхож в дома местной буржуазии. Откладывая по копейке из своего скромного бюджета, он скопил солидную сумму, приобрел пару отменных рысаков – серых в «белых яблоках» и экипаж на мягких рессорах. Он стал привилегированным фурманом. Его часто ангажировал Фридрих Рерих, поэт Янис Райнис с супругой Аспазией и другие господа и почетные гости Латвии. Однажды в Риге во время поездки художника Юлиса Мадерниека на этюды Екаб замолвил слово о своем племяннике Алберте, который мечтал стать профессиональным художником. У Ю. Мадерниека была в Риге частная студия, которая пользовалась большим авторитетом. В ней можно было приобрести знания основ рисунка и живописи, научиться работать с живой моделью. В студии Ю. Мадерниека занимались такие видные впоследствии мастера искусства, как А. Цирулис, Я. Домбровский, Л. Либерт, Я. Лиепиньш, К. Миесниек, А. Пранде и другие. С 1909 по 1911 годы студию Мадерниека посещает и Алберт Филка.
В 1911 году он вместе с Карлисом Зале по совету учителя Юлиса Мадерниека отправился в Петербург и поступил в школу Общества поощрения художеств при Императорской академии. Тогда школу возглавлял Н.К. Рерих, преподававший композицию...
Начиная с 1913 года за свою короткую жизнь Алберт Филка участвовал более чем в 30 республиканских выставках не только в Латвии, но и в Литве. Он воспевал мир своей родины, изображая пейзажи с морскими заливами и дюнами, старинные улицы и окраины Риги, жизнь рыбаков Юрмалы. Он был не только станковым живописцем. В 1920-е годы делал декорации для Латгальского театра к постановкам произведений Рудольфа Блаумана «Индраны», Ибсена «Северные герои», Гоголя «Ревизор» и многим другим. Занимался он и преподаванием в школе.

Алберт Филка
Как преподавал Алберт Филка? Он был малословен, конкретен в объяснениях и примерах. Никогда не ссылался на себя, не расхваливал и не бранил своих коллег. Но глаз и чутье на художественные способности учеников у него были очень острыми. Любил ссылаться на метод Рериха и говорил, что «он не преподавал, а вдохновлял нас на самостоятельном пути поисков самовыражения в искусстве, и наставлял: «Учитесь у всех мастеров, но не копируйте никого из них...» Этот совет стал девизом творчества Филки. Он возил своих учеников в Ригу в музей Общества им. Н.К. Рериха и с разрешения поэта Рудзитиса вместе с ними копировал некоторые картины.
Мне припомнился также рассказ старшего брата матери Адольфа Филки: «Бедняга, жаль – мало прожил... А в детстве мы с ним очень дружили, и отец наш его любил, называл «наш будущий художник», прославит род Филков». Художником он стал, и неплохим. В выставочных рецензиях его имя часто упоминалось в положительном смысле. А в 1920 – 1930-х годах в иллюстрированных журналах «Руктас драпес», «Неделя» и «Атпута» начали появляться его гротески и карикатуры со стихотворными подтекстами. В нашем доме эти журналы выписывались и покупались. Отец этому придавал большое значение и как ценную реликвию хранил в своем секретере под ключом. Но однажды Алберт обидел отца. Не помню, в каком году это было. Он написал большую картину «Водопой на Лиелупе» и изобразил своего крестного – почетного фурмана Рижского взморья дедушку Екаба Филку, не как он представлял себя в смокинге и с массивной серебряной цепочкой от часов на жилете. В те далекие времена, как все благородные люди, знающие себе цену, он носил по моде длинные усы, кончики которых закручивал кверху. Так он себя запечатлел и на фотографии, которую разослал всем родственникам, такая хранится до сих пор и в нашем семейном альбоме. Этот снимок он подарил и Алберту с тайной надеждой, чтобы он им воспользовался когда-нибудь при создании портрета. Но, увы, демократ по натуре и убеждениям Алберт Филка не писал репрезентабельных портретов, считая это угодничанием перед высокими чинами. Не пощадил он и своего любимого дядю, изобразив его в рабочем костюме на водопое с рабочей рыжей лошадью Тони. Правда, изобразил со спины...»
Дядя Адольф откровенно признавался, что в роду Филков не было особого интереса к изобразительному искусству. «Женщины – наши сестры и жены – были отличными рукодельницами и хозяйками, – говорил он. – Мы, мужчины, – деловые люди, больше всего думали об устройстве своей семьи, воспитании детей. Алберт не обижался на это. Но каждому родственнику к юбилею или рождению ребенка дарил свою картину, в основном пейзажи».
Умер он в солнечный безветренный день. Янтарно-ржавая охра в лучах заходящего солнца то вспыхивала, то угасала, бросая бронзовый отсвет на стволы сосен, притихшую реку Лиелупе. За месяц до кончины он сказал своему другу и учителю Мадерниеку: «Я ухожу из жизни не с пустыми руками, моя выставка покажет много новых работ, которые открывают новый период моего творчества – более зрелый и монументальный... Это, я думаю, станет моим даром сердца для народа-труженика земли, с которой я пришел в искусство и куда ухожу...»
Его юбилейная выставка, состоявшаяся в декабре 1938 года, принесла ему посмертно широкое признание в искусствоведческих кругах. Среди его последних работ были «Корабли в гавани», «Рыбаки Юрмалы», «У моря...», вызвавшие высокую оценку критики... Теперь его имя увековечено историей искусств Латвии. Алберт Филка вошел в когорту самобытных мастеров живописи 1920 – 1930-х годов. Его картины украшают стены постоянной экспозиции музеев.
В моем скромном архиве находятся латышские журналы, газеты 1920 – 1930-х годов с рисунками дяди Алберта: «Лиго-праздник», «Иванов день», «На берегу Рижского залива», «Пейзаж с коровами» и единственный детский портрет его маленькой дочери... В общественной жизни Алберт Филка слыл демократом, поддерживал тружеников земли, дружен был с «поэтом извозчиков» Александром Чаком... Вместе с Карлисом Зале поставил свою подпись под письмом к Рериху в 1936 году, поздравив своего учителя с подписанием «Пакта Мира и защиты памятников культуры».
Я горжусь тобой, мой дядя Алберт Филка.
Не воздвигайте надо мной скалы, Не сооружайте памятника мне, Он сооружен уже из дайн, И народное золото это не заржавеет.
Кришьянис Барон
Самоотвержен и мужествен был путь этого человека – исследователя и собирателя латышских народных песен, составителя многотомного издания «Латышские дайны».
Неоценима и его роль в пробуждении национальной культуры латышского народа, находившегося семь веков под тяжким игом иностранных поработителей. Это они, перечеркнув огнем и мечом историю древнего Прибалтийского края, объявили латышей народом, не имеющим своей культуры. А следовательно, это народ неполноценный, живущий за счет других – высших наций – и в первую очередь арийской (из летописи немецких пасторов XVII – XVIII веков).
Только одинокие голоса извне иноземных исследователей литературы и историков XVII – XVIII столетий, зондировавших древние истоки индоевропейской поэзии, поднимались в защиту неоценимого клада песенной культуры латышей, следы которой восходят к архаической эпике. Так, например, профессор истории Дерптского университета Фридрих Мениус в 1632 году писал в своей книге «Происхождение жителей Ливонии» («Syntagma de Origine Livonorum») о редкой способности латышей к песенной импровизации. В конце XVIII века появляется в печати на немецком языке «Сборник песен разных народов», составленный известным ученым, занимавшимся эстетикой и философией, И.Г. Гердером. Им же впервые были опубликованы и латышские дайны. Комментируя последние, автор отмечает особую их поэтичность, насыщенность метафорами, синонимами и эпитетами. В 1830-х годах свыше 70 латышских дайн были опубликованы на английском языке в Лондоне. Первыми публикациями народных песен латышей в Прибалтике мы обязаны архивариусу Я. Спрогису, дружившему с дедушкой Н.К. Рериха Фридрихом Иоганесовичем Рерихом. Спрогис в 1857 году в Вильно обнародовал песни Кокнесесского края, затем в 1868 году выпустил сборник «Памятники латышского народного творчества» на русском языке. Иногда латышские песни публиковались одновременно на двух языках – латышском и русском или латышском и литовском. Это способствовало коммуникации между народами. И все же эти публикации носили в большинстве своем случайный характер.
60 – 70-е годы прошлого века, связанные с деятельностью «младолатышей» – народных просветителей – становятся годами пробуждения духовной культуры латышского народа. Разночинцы, имеющие высшее историко-филологическое образование, заручившись поддержкой русских обществ, занимавшихся изучением географии и этнографии, с огромным рвением занялись собиранием латышского фольклора и популяризацией его в печати. В авангарде этого движения стояли Кришьянис Валдемар, Юрис Алунан, Фрицис Бривземниек, Андрей Пумпур и Кришьянис Барон. Они понимали, что не что иное, как богатое народное наследие, может поднять престиж латышской нации, поставить ее в один ряд с другими.
О работе К. Барона над дайнами мы узнаем из его эпистолярного наследия – дневников, рассказов, писем, воспоминаний о нем современников, из монографий, написанных к его юбилею литературоведами.
С материнской колыбельной песней к К. Барону пришла дайна. Кто знает, может быть, специально для него она была сложена. Может быть, отец, любивший музыку и сам игравший на народном латышском инструменте кокле, придумал для нее мелодию. Только с самого раннего детства Кришьянис полюбил народную песню. Она сопровождала его во всем: когда ходил в пастухах, исполнял привычную для всех крестьянских детей работу в поле или по дому. и вечерами, когда после трудового дня семья Баронов собиралась у стола и при свете дымной лучины Кришьянис учился читать, мастерить пастолас. Одним словом, песня сопровождала крестьян от первого детского крика и до последнего вздоха.
Из восьми детей Кришьянис был самым трудолюбивым, самым способным и сообразительным в любом деле. Поэтому, умирая, отец завещал матери отдать его в учение. Вспоминая о своих школьных годах, Барон писал, что уже тогда он пришел к выводу, что «латыши, получившие образование, должны принимать активное участие в пробуждении самосознания народа, повышении его материального состояния».
Своими качествами логического мышления и последовательности К. Барон во многом обязан физико-математическому факультету Тербатского университета, который он начал посещать в 1856 году. Параллельно Барон слушал лекции по филологии, занимался астрономией. Большую роль в формировании его общественных устоев сыграла студенческая среда, сблизившая со своими соотечественниками Кришьянисом Валдемаром и Юрисом Алунаном, с которыми он участвовал в прогрессивном демократическом кружке, нареченном немецкой аристократией «младолатышами». Младолатыши остро выступали против феодально-помещичьего строя, за раскрепощение латышской нации, против обезличивания ее песенной культуры. В студенческие годы была опубликована первая статья К. Барона в газете «Маяс Виесис» («Гость дома») об эстонской народной песне. Несмотря на успешные занятия, К. Барон из-за материальных трудностей в 1860 году на последнем курсе прекращает учебу. Спустя два года по приглашению своих коллег К. Валдемара и Ю. Алунана, которые обосновались в столице Российской империи, Барон приезжает в Петербург и принимает активное участие в редактировании латышской газеты «Петербургас авизе».
В 1863 году в ней появилось стихотворение К. Барона «Наше достояние». В нем такие строки:
Привет друзьям, вперед идущим!
Богатство наше все в грядущем!
Оставим мертвых спать.
Для нас заколосятся нивы,
Их ширь заполнит все разливом, –
Нам сил не занимать.
Перевод Ю. Абызова
Направление газеты носит остро выраженный социальный характер. Авторы ее статей поднимают животрепещущие проблемы: выступают против антинародных действий правящих кругов, в частности немецких баронов, незаконно присвоивших себе безграничную власть в Прибалтийском крае. Уже первый номер газеты, цензором которого был К. Валдемар, вызвал недовольство высших государственных органов. Редакционный актив, в том числе и К. Барон, который впоследствии становится ответственным редактором газеты, были взяты под строжайший надзор полицейского управления. За три года существования газеты Барон, однако, успел опубликовать в ней около ста работ – научных статей, очерков и стихов. Песенная структура последних привлекла внимание студента Петербургской консерватории, в будущем выдающегося композитора Латвии, ректора Рижской консерватории Язепа Витола. Раннее стихотворение Барона «Река и жизнь человека» им была переложена на музыку для хора и до сих пор пользуется большим успехом в репертуаре народных латышских ансамблей. В 1865 году по политическим причинам газета «Петербургас авизе» была закрыта. К. Барон поступает на службу в министерство народного образования переводчиком. Одновременно по просьбе Русского географического общества работает над созданием справочника «Указатель сочинений о коренных жителях Прибалтийского края». Этот труд был опубликован в 1868 году на средства заказчика. Подобного рода научное исследование расширило круг познаний автором родного края, вплотную столкнуло с латышским песенным наследием.
Последующие годы в жизни Барона связаны с Москвой и Воронежской губернией, где он занимается частными уроками. Посещая в Москве вечера латышской поэзии, он вскоре становится их вдохновителем и душой. Наряду с именами К. Валдемара, Ю. Алунана и Ф. Бривземниека становится известным и имя Кришьяниса Барона. Его труд «Указатель сочинений о коренных жителях Прибалтийского края» член-корреспондент Петербургской академии наук, историк украинской филологии, профессор Харьковского университета, Александр Потебня назвал «ценным вкладом в науку».
Высоко ценя патриотическое чувство, К. Барон писал: «Я желал бы, чтобы латышский народ, как таковой, стоял бы рядом с немецким и другими народами. Для этого прежде всего необходимо, чтобы более образованные латыши не расставались со своим народом, а открыто заявляли о своей принадлежности к нему и отдавали бы ему все свои силы. Это означает принимать живое участие в поднятии его духа и материального положения».
Оснований для такого беспокойства у К. Барона было предостаточно. В своей жизни он встречался и с так называемой «бюргерской прослойкой» разбогатевшей латышской буржуазии, получившей в народе прозвище «серых баронов». Стыдясь своего «низкого» происхождения, они изменяли на немецкий лад свои фамилии, а на родном языке позволяли себе говорить только с прислугой. Отсюда и слепое преклонение перед Западом, его культурой, которая в псевдообразах стала появляться в архитектуре, искусстве и литературе Латвии.
Такова была эпоха К. Барона, когда он вначале совместно с Бривземниеком и другими коллегами начал заниматься собиранием и исследованием латышских дайн, а затем с 1878 года по просьбе Ф. Бривземниека и с согласия Русского географического общества самостоятельно готовил их издание. Переданное ему Бривземниеком количество собранных дайн достигало свыше 38 000 четверостиший. Большинство из них были выдержаны в силлабо-тоническом размере с определенным числом коротких и долгих слогов. За два десятилетия самостоятельной работы оно возросло во много раз, достигнув почти 218 000 дайн с вариантами, систематизированных по принципу возрастного развития человека и его многогранной деятельности. В них повествуется о времени и среде, в которой он рос и воспитывался с малолетства до старости, о верованиях и обычаях, отношениях между членами семьи, о традициях, передававшихся из поколения в поколение, о любви к труду и своей многострадальной отчизне, о нетерпимости к любому насилию и ненависти к помещикам-феодалам – «черным рыцарям», затмившим своими злодеяниями солнце и погрузившими латвийскую землю во тьму на много столетий...
Для этого потребовались многотомное издание и, естественно, большие материальные затраты. Помощь и поддержку исследователю оказывают Петербургская академия наук, меценаты народного искусства и фольклора. Родственное участие в судьбе латышского ученого, все это время находящегося под надзором полиции, принимает и семья придворного советника Ивана Станкевича, брат которого Николай Станкевич был известен как прогрессивный деятель русской культуры. В качестве домашнего учителя Барон был приглашен в имение Станкевичей в городе Острогожске Воронежской губернии. Демократический дух этой семьи способствовал успешной работе над классификацией дайн и их обработкой. Немалую роль в духовном подъеме К. Барона сыграло знакомство с творчеством «поэта от народа и для народа» Алексея Кольцова, уроженца Воронежа.
Только в 1893 году, спустя 30 лет, К. Барон возвращается на родину и до конца своей жизни живет и работает в Риге вначале на улице Дартас, затем в Мильгрависе в Доме Буртниека. Опыт в обработке дайн у Барона уже был достаточным. Он во многом основывался и на изучении опыта составителей народного эпоса, например, профессора Хельсинкского университета, врача и филолога Элиаса Ленрота, составителя и редактора карело-финской «Калевалы» (сказочной страны).

Янис Струпулис. Медаль
Очень скромный в личном быту, Барон и в работе ограничивался самым необходимым. По его проекту были созданы большой стол и шкафчик с множеством ящиков, куда могли помещаться листки маленького размера с записями дайн. К. Барону было без малого 60 лет, когда он подготовил к изданию первый том «Латышских дайн». Издан он был в Елгаве в 1894 году. Значительную сумму в это издание вложили ценители народного творчества и этнографии Аугуст Домбровский и X. Висоендорф, состоятельные люди, имевшие свои частные предприятия. Также был объявлен сбор пожертвований среди сельской и городской интеллигенции. Издание получилось репрезентабельным с обложкой, оформленной лучшим графиком Латвии Рихардом Заринем. На ней была изображена сцена из народной жизни, этнографически точно переданы национальные одеяния и орнамент. Это ценное издание произвело большое впечатление в Петербурге. В предисловии К. Барон писал: «От всего сердца желаю, чтобы собранное наследие народа нашло бы снова себе место в народной среде и чтобы оно доставило столько же радости и удовлетворенности сердцам, сколько получил составитель этого сборника во время работы...»

Янис Струпулис. Медаль
С 1908 года в старом Мильгрависе в Доме Буртниека был открыт первый в Латвии Дом творчества писателей и художников, создался своеобразный культурный центр. С 1909 года здесь поселился на постоянное жительство К. Барон с семьей – женой Дартой, сыном Карлисом, невесткой и внуками. Работа над дайнами, требовавшая большой концентрации внимания и одиночества, у Барона сочеталась с творческим общением с выдающимися литераторами того времени: Я. Яунсудрабинем, Я. Поруком, К. Скалбе, Л. Паэгле. Здесь подолгу гостили и работали скульпторы Густав Шкилтер и Артур Берниек. В эти же годы создаются мастерами скульптуры и живописи портреты К. Барона. Среди авторов – К. Шкилтер, Т. Залькалн, А. Бриедис, живописец Я. Розентал и другие.
В 1910 году, когда вышел в свет четвертый том «Латышских дайн», его составителю исполнилось 75 лет. В большинстве своем это были бытовые песни о труде, семейных отношениях, отношениях к большим господам, которые крестьян считали своими холопами. Работалось Барону легко и радостно: со всех концов Латвии потоком лилось в его бездонный сундук-пуру «народное золото».
Приближалась первая мировая война. Дом Буртниека в старом Мильгрависе опустел. Осиротел и Отец дайн, прозванный в народе Белым Отцом. В 1914 году ушел из жизни самый близкий его друг – жена Дарта. Сын Карлис, известный врач-стоматолог, жил с семьей в Риге. К. Барон отказался переехать к сыну. Он не мог подвергнуть опасности до выхода из печати последние тома дайн, хранившиеся в шкафу и надежно спрятанные в глубоком погребе. В 1915 году, когда военные события приближались к Риге и началась эвакуация населения в глубь России, вышли в свет такие долгожданные последние два тома «Латышских дайн» – пятый и шестой. В них вошли новые варианты обрядово-бытовых песен и песни развлекательные или озорные.
Тогда же К. Барон получил письмо от раненых латышских стрелков, датированное 19 октября 1915 года. Они писали из госпиталя: «...Рано вышел Ты трудиться на народную ниву, вынес на своих плечах все тяготы нелегкого труда. Пусть же Ты, наш духовный вождь, встретишь зарю новой жизни, взошедшей над столь любимым Тобою народом! Пусть же свершенный Тобою труд еще долго приносит Тебе радость!»[22]
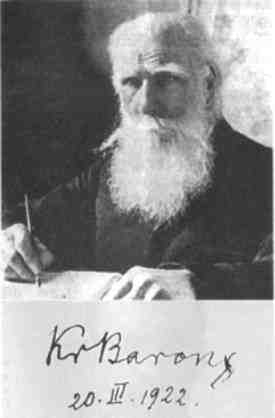
Кришьянис Барон
Спустя несколько месяцев из далекой Кастаньолы пришло письмо от поэтов Райниса и Аспазии, в котором они поздравляли любимого народом Отца дайн с завершением его бессмертного труда: «...Вы, дорогой Отец, являясь предтечей грядущих поколений, в той же мере, в какой Вы преемник прошедших, теперь как бы замыкаете их в одно бессмертное кольцо, ибо знаете, что народ этот, которому пришлось претерпеть семьсот лет жесточайшего рабства и бесчеловечнейшего гнета, теперь не может погибнуть. Нас можно заставить молчать или говорить на чужих языках, но в нас звучат, в наших сердцах отзываются собранные Вами песни»[23].
В своих лекциях в Обществе Рериха Зента Мауриня говорила: «Нет богаче, правдивей и живительней этого поэтического источника народной мудрости, который, поднимаясь с бездонных глубин, обогащает и поучает нас, внушает веру в победу добра над злом, правды над ложью, света над тьмой...»
«Латышские дайны» и сегодня не потеряли своей жизненной силы и научного значения. Они стали неисчерпаемым источником для успешного развития всех отраслей художественной культуры Латвии, предметом неустанного исследования для фольклористов, историков литературы, музыки, хореографии, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
История поставила этот неоценимый памятник народного творения в один ряд с жемчужинами мировой поэзии – «Илиадой», «Одиссеей», «Словом о полку Игореве», «Калевалой», русскими былинами... Он стал достоянием всего человечества, неотъемлемой частью многонациональной культуры. Это расширяет творческие контакты между народами, устанавливает исторические и духовные связи, обогащает сокровищницу мирового народного наследия, являющегося основой для развития культуры человечества.
Бога искали повсюду: на земле, на небе, на Солнце и в потустороннем мире... В древних верованиях Его символами были и животные, и деревья... Но реже находили Его там, где Он обитал, – в человеческом Сердце... Сердце имеет свой возвышенный образ...
Я. Райнис. Запись в дневнике. 1920 год
Особенно трудно писать о поэте и мыслителе Янисе Райнисе. Трудно потому, что о нем во все периоды его жизни писалось очень много и во благо политической конъюнктуре времени по-разному... Перечитывая свои суждения о Райнисе в печати, я их критически переосмыслила. Райнис открылся мне как символическая личность, зовущая свой народ в Будущее через тяжкие испытания к совершенствованию и обогащению духовной культуры. «Я с юности искал правду жизни в себе, – признается поэт в своих дневниковых записях 1908 – 1910 годов. – И исходя из этого, надо меня и понимать».
Действительно, он не приспосабливался к переломной эпохе, не шел на поводу у правящих судьбой народа классов. И этому «протестантскому действию» были подчинены его эстетические и духовные принципы: размышления о миссии человека на земле, о смерти и перевоплощении духа: «Мы приходим в жизнь не по своей воле и уходим из жизни не по своей воле... Сотни лет требуются для того, чтобы человек стал Человеком, воплотил бы жизнь в трудах... и использовал их на благо человечества...» (21.10.15. Кастаньола).
Янис Райнис прожил 64 года – с сентября 1865-го по сентябрь 1929-го. Жизненный путь его был мужественным, многострадальным, но и согретым любовью и признанием народа... Он был символом духовности и надежды на торжество правды в грядущих веках...

Янис Райнис, народный поэт Латвии
«Райнис» – это псевдоним поэта. Он его принял в 1895 году. Принял, как объяснял, случайно – в Латгаллии во время одной из прогулок прочел это имя на придорожном столбе. Кому оно до этого принадлежало, поэт не знал и не допытывался...
Истинное имя поэта Янис Плиекшан. Родился он в Верхней Земгале в имении Варслованы. Род Плиекшан древний, но мало исследованный. В церковных приходских книгах он прослеживается лишь до третьего поколения. Дед Андрей Плиекшан был почитаемым человеком в уезде, может быть, поэтому и сохранилась его могила до начала нашего века. Сохранилось в народе сказание о нем, как о земледельце, добром хозяине хутора и человеке отзывчивого сердца. Было у Андрея Плиекшана два сына, младшего звали Кришьянисом. Старший унаследовал отцовскую усадьбу, младший Кришьянис выучился на столяра и занимался самообразованием, читал книги на трех языках – латышском, немецком и русском. Все Плиекшаны по мужской линии были высокого богатырского сложения, обладали привлекательной внешностью и восприимчивым умом. Женился Кришьянис по любви на самой красивой и богатой девушке из уезда Бабелес Дарте Гриковской – дочери купца. Для того времени она считалась достаточно образованной, начитанной. Владела несколькими языками, была известной сказительницей в Земгале, куда приезжали записывать дайны Кришьянис Барон и поэт Фрицис Бривземниек. Она вместе с мужем вращалась в высших интеллигентных кругах провинциальных обществ. Хотя Кришьянис и Дарта были владельцами поместий, взгляды их были демократическими. Супруги за свой счет выпускали две газеты «Балтийский земледелец» и «Судебный вестник». Было у них трое детей: две дочери Элиза и Дора и сын Янис. Слабая здоровьем Элиза помогала матери в хозяйстве, в чем преуспела, став прекрасной рукоделицей и участницей выставок. Янис и Дора стремились получить образование. Вначале мальчик учился в местной школе, где преподавание шло на немецком языке. Писательские способности у него проявились с детства – об этом вспоминала впоследствии Дора: «Брат прятал от нас под матрацем свои стихи, а вот фантазию не мог упрятать, она проявлялась во всем: и в играх, и в рассказах...»
С 1880 по 1883 год Янис Плиекшан учится в рижской гимназии. Живет в пансионате баронессы фон Фолкен. Семья ее состоит из журналистов сыновей Бернхарда Дирика и Андрея Дирика. Последний, один из самых талантливых журналистов и ученых, получил образование в Петербурге, где приобщился к студентам-социалистам. Он получает издаваемый ими журнал «Земля и воля».
Янис Плиекшан в гимназические годы писал стихи и занимался переводами драматических произведений Пушкина «Борис Годунов» и «Моцарт и Сальери». В эти же юношеские годы Янис Плиекшан уже задумывается над вопросами человеческого бытия – жизни и смерти. До 15 лет он религиозен, читает Библию, посещает церковь и придерживается строго всех заповедей... И вдруг под влиянием революционной социалистической литературы становится атеистом. После успешного окончания гимназии Янис Плиекшан поступает на юридический факультет Петербургского университета.
В это время он сближается с редакторами латышской газеты нового течения «Диенас лапа» («Ежедневный листок») Фр. Бергманисом и Петерисом Стучкой. Вскоре он начинает принимать участие в работе этого журнала. Студент поднимает волнующую тему фольклорного наследия Латвии. В Дневнике Яниса Плиекшана есть запись: «Мне фольклорные произведения народного духа так близки, как детские воспоминания, в них много доброты...» У него устанавливаются тесные контакты с собирателями и популяризаторами дайн. Его статьи – лаконичные, проникающие в душу трудового человека, за права которого ратует это издание... 17 декабря 1891 года он становится ответственным редактором «Диенас лапа». В своем обращении к читателям пишет:
«Уважаемые читатели! Уже шесть лет «Диенас лапа» приходит к народу, чтобы помочь ему в его большом труде, принести своим братьям Свет, благополучие, вести народ к счастливому будущему. С приходом нового главного редактора (до Плиекшана им был Петерис Стучка. И. К.) никаких изменений в ее направленности не предвидится. «Диенас лапа» и в дальнейшем будет стремиться всеми силами проповедовать Свет духа. Путь к этому является главной высшей целью. С этим духовным оружием победимы любые жизненные испытания...»

Янис Райнис и Аспазия. Юрмала. 1920-е годы
В 1894 году Плиекшан встречается с избранницей своего сердца и соратницей по духу талантливой поэтессой Элзой Розенберг (1868-1943). В литературе она известна под псевдонимом Аспазия. Символично, что знакомство их происходит на премьере его драмы «Вайделоте», в которой поднимается животрепещущий вопрос женского бесправия.
Время было сложное, и отношения между сотрудниками газеты противоречивы по ряду политических вопросов. 1 декабря 1895 года Плиекшан самовольно уходит с поста главного редактора. К счастью, у него уже был в кармане диплом юриста, и он становится адвокатом-юрисконсультом в Вильнюсе...
В 1897 году Янис Плиекшан и Аспазия становятся супругами. Взаимная любовь и доверие сопровождают их всю жизнь. Аспазии первой поверяет он свои поэтические поиски, и она делает все возможное, чтобы донести их до читателя. Летом 1897 года были арестованы все активные деятели движения «Новое течение». Это был первый крупный политический судебный процесс в Латвии. Он грозил и Янису долголетним заключением за пределами родины. Но и в тюремных застенках, и на пересылках не засыхало перо поэта. Он завершил перевод «Фауста» Гете и написал около ста стихов. Их мужественное содержание определило стихотворение «Любимое Отечество» (1897):
Но тем, кто верен до конца Отчизне,
Чья грудь крепка, как сталь под молотом Судьбы...
Их обрекают на позор и муки,
К стене их ставят, связывая руки.
В Дневнике поэта появляются строки, подтверждающие непоколебимость его демократических взглядов: «Человек Будущего должен быть много утонченней современного. Ему придется выражать оттенки чувств, поэтому и следует наблюдать за собой более тщательно... Людям нужна не религиозная мистика, не старые суеверия, а чистая, истинная, ясная наука». Перевод гетевского «Фауста», который Райнис осуществлял вместе с Аспазией, был ею опубликован в ежемесячнике «Майяс Виесис» («Гость дома»).

Аспазия. 1920-е годы
«Когда мне было дано первое свидание с осужденным на высылку мужем, – вспоминала Аспазия, – я с болью в сердце увидела в его темных волосах серебряные нити седины». 1 июня 1899 года Райнис был отправлен на пять лет в ссылку в Вятскую губернию в город Слободск. Верный друг, Аспазия не оставляла его долго в одиночестве и не только приезжала в Слободск, но и вдохновляла мужа на творчество. При ее горячем участии о Райнисе не забывали на родине. Привезенные ею из ссылки стихи переписывались от руки, просачивались в периодику под разными псевдонимами. Готовился и выход в свет сборника стихов «Далекие отзвуки синего вечера». Выход книги совпадает с возвращением на родину в 1903 году. Эта книга предвестник больших грядущих событий. В ней боль тоски по родине, жажда жизни и творчества на благо своего народа. Одно из лучших произведений этого сборника – «Сломанные сосны» (1901).
Сгибаются сосны под бурей злой
На дюнах у моря в стране родной.
Их взоры летели до края земли,
Срываться и гнуться они не могли.
«Ты, злобная сила, сломила нас,
Но битвы с тобою не кончен час.
Томясь перед смертью по далям морским,
Мы каждою веткой о мщенье шумим».
И сосны, хоть ветром сломило их,
Плывут кораблями средь волн морских,
Всем бурям навстречу вздымая грудь,
Всем бурям навстречу направив путь.
«Враждебная сила, волну вздымай –
Еще мы увидим заветный край!
Пускай нас сломает, в щепы разобьет –
Достигнем мы дали, где Солнце встает!»
Перевод Вс. Рождественского
Еще до выхода книги в свет это стихотворение было положено на музыку великим латышским композитором, учеником Римского-Корсакова – Эмилем Дарзиньшем. Оно стало гимном народа Латвии... В письме сестра Дора – жена Петериса Стучки пишет: «Мы ждем тебя, Янис, в ряду активных защитников Родины; мы поем на слова твоих «Сосен...» гимн. Его строки на наших знаменах...» И вдохновленный доверием и любовью своего народа, Райнис берется за свое огненное перо и пишет крупную философско-эпическую драму «Огонь и ночь», тема которой борьба Света с тьмой. Сюжет, к которому уже обращался до него и поэт Андрей Пумпорис в поэме «Лачплесис», почерпнут из латышского народного эпоса и перенесен на современную канву событий. В этом произведении много ярких персонажей: народный герой, богатырь, победитель зла Лачплесис, сила которого заключается аллегорически в медвежьих ушах; его жена – Лаймдота, – счастье несущая для домашнего очага, и огненная, противодействующая мирной жизни Спидола (светило), призывающая Лачплесиса на смертный поединок с Черным рыцарем – Кангаром. Эта пьеса – олицетворение мужественного духа народа...
— Почему народ наш страдает и теряет веру в добро? Разве не пришла пора разбудить Лачплесиса от его длительного сна? Кто и как должен пробудить в смиренном терпении народа желание стать борцом за свою судьбу? – спрашивают Райниса его многочисленные читатели... В Райниса верят, и Райнис это должен сделать. И поэт отвечает:
На все смотрю без страха,
Тверда душа моя.
О нет, я не исчезну
Хотя бы умер я.
«В вечном звучании»
Из тьмы зловещей,
Из адских трещин
Заре навстречу
Встал Замок Света...
«Замок Света»
...После кровавых январских событий революции 1905 года начались репрессии. Жизнь Райниса и Аспазии в опасности... И в одну из темных декабрьских ночей поэты покидают любимую Латвию, для того чтобы бороться за свободу народа вдали от родины. Останавливаются они в тихом поэтическом селении Кастаньола на берегу озера Лугано. Начинается интенсивная творческая работа. Поддерживают дух Райниса вера, мужество и высокие духовные идеалы.
В 1909 году в Латвии был объявлен добровольный сбор средств для постановки на сцене нового драматического театра пьесы «Огонь и ночь». Режиссером-постановщиком был избран выдающийся мастер сценического искусства А. Миерлаук. Музыкальное оформление осуществили композитор Николай Алунан, декорации и костюмы создал художник-сценограф Янис Куга. 26 января 1911 года при полном аншлаге состоялась премьера.
Не меньший успех у зрителей вызвал и его сказочный фольклорный спектакль «Золотой конь». В одном сезоне он был показан с огромным успехом 44 раза. «А если бы вы знали, – рассказывала впоследствии Аспазия, – как легко, играя, написал Райнис эту рождественскую сказку... Заказали ему «радостную пьесу» за два месяца до Нового года. Он отказался, и пока дошел до почты в Лугано, чтобы отправить письмо с отказом, – сюжет был найден... Также быстро, за 40 дней, он создал на сюжет эстонской сказки пьесу «Вей, ветерок» (1913).
Глубоко философской, с тонкой психологической разработкой образов является трагедия «Иосиф и его братья». Иосиф – положительный герой, одинок и одержим осуществлением своих идеалов, своей правды и страдает от того, что его не понимают братья и любимая девушка Дина. Готовая ради него на любую жертву, она гибнет. А Иосифу суждено прожить длинную, полную тяжких испытаний жизнь. В результате он начинает понимать, что зло нельзя победить злом, а добро нельзя требовать...
В пьесе «Индулис и Ария» Райнис показывает светлое призвание женщины творить благо: «От женских рук струится власть ласково-светлая». И это автору напоминает его собственную спутницу жизни...
На родную землю в Латвию Райнис и Аспазия приехали в апреле 1920 года – их встретила весна бело-голубыми коврами подснежников и синим безоблачным небом. Радость встречи с народом была взаимной, триумфально величественной... Столько народа давно не бывало на вокзальной площади и окружающих ее улицах... В ответ на восторженный горячий прием Аспазия сказала: «Милые братья и сестры! Не хватает слов, чтобы высказать все чувства, которые переполняют наши сердца. Покидая родину, мы взяли с собой ее огненный факел, который освещал нам путь на чужбине и помог выдержать тяжкие испытания...»
Не менее проникновенной была и речь Райниса, в которой он сказал: «Кастаньола была лишь подготовкой, сейчас я должен быть готов к великому делу...»

Янис Струпулис. Медаль
И действительно, общественная жизнь нового самостоятельного государства требовала много сил. Райнис плодотворно сотрудничал в департаменте культуры – искусство и образование были для него главным делом жизни. В 1921 году поэт становится директором Национального театра, названного его именем. В Дневнике появилось две записи: «Душа художника растет вглубь и вширь, ее переполняют страдания и стремления его народа, всего человечества. Художник становится его Вождем, Совестью, Творцом и действующим лицом истории» (Юрмала, Майори. 15.04.28).

Карлис Земдега. Памятник Янису Райнису в Межапарке
В сентябре 1929 года, предчувствуя свою близкую кончину, поэт продиктовал Аспазии свое последнее сказание:
Я тихо расстаюсь со старой жизнью:
Цветы опали, вслед за ними листья.
Звенят, ломаясь, ветви на морозе...
Но в глубине таится жизнь живая –
И нет конца, за ним – начало жизни новой.
Янис Райнис умер 12 сентября от инфаркта. От священника отказался, просил лишь зажечь свечу... Похоронен он на кладбище, которое теперь носит его имя. Над могилой поэта стоит надгробие из финского гранита. Оно изображает юношу, просыпающегося навстречу солнцу. Автор надгробия скульптор Карлис Земдега, он же и автор памятника поэту, воздвигнутого на Экспланаде. Каждый год в сентябре здесь проходят праздники поэзии, на которые съезжаются литераторы из многих республик. Ведь Райнис принадлежит не только Латвии...
Артур Берниек пришел на родную латвийскую землю из сказаний и легенд... И как самобытный первозданный художник проложил свою тропу к сердцу народа...
Кришьянис Барон. Рига. 1911 год
Артур Берниек это человек-легенда, поэт-сказочник, одаренный небесным даром ясновидения, предсказывания людских судеб, умения понимать язык птиц и лесных зверей. Как доктор Айболит, лечил и кормил в зимнее время животных; умел «заговаривать» дурной глаз; знал гомеопатические средства. Любил музыку и сам обладал приятным баритоном. Его легенды рождались в дереве, янтаре, кости, в графике, живописи, в ожерельях из ракушек и камней...
Родился Артур Берниек 5 октября 1886 года на хуторе Пулкстени (Часы) Дунтской волости Валмиерского уезда. Здесь более трех столетий жили и трудились на крепостной земле предки художника – хлеборобы, рыбаки, сельские ремесленники. С малых лет он был мечтателем и страстно любил природу. Маленький пастушок знал птиц, каждый вид дерева, всегда умел разглядеть в природе чтото необычное. Артур, как и многие крестьянские дети, вырезал из коры деревьев фигурки животных, а из дерева липы – ложки и пивные кружки для «Лиго-праздника». Мечтал стать моряком и учителем, потому что очень любил детей. Позже задумывался о профессии юриста, ибо считал высшей миссией человека защищать бедный люд и справедливость. Большая семья Берниеков жила в мире и согласии, чтила патриархальные устои предков. Превосходной сказительницей была бабушка Артура, обладавшая уникальной памятью на дайны. А в приходской школе мальчик сам стал записывать сказания и песни для поэта Фрициса Бривземниека и Кришьяниса Барона, которые частенько наведывались в эти края. В своем наивном детском понимании мира Артур Берниек свято верил в сказания о священных рощах, к стволу которых нельзя было прикасаться ни ножом, ни топором...

Артур Берниек
Отец Артура, работая лесником графа Дунтена, заслужил своим преданным трудом его расположение к себе. и когда один из девяти детей Петериса Берниека пожелал заняться художественным ремеслом, Густав фон Дунтен вместе с разрешением дал ему и рекомендацию для поступления в Риге в мастерскую немецкого мастера резьбы по дереву Карла Зелефельда, где мальчик стал учеником, а позже подмастерьем. Здесь Артур не только овладел основами знаний резьбы по дереву, но и научился выполнять самостоятельно сложные работы. Способный юноша очень скоро обрел профессиональные навыки резьбы по дереву и прекрасно справлялся самостоятельно с заказами по псевдоклассическим образцам... Но его тянуло к творческой работе... Он поступил на работу как «краснодеревщик резной мебели» на фабрику. И вечерами посещал студии известных латышских живописцев: Волдемара Зелтыньша, Яниса Розентала и Александра Штрала. Он и там проявлял творческую независимость, склонность к примитивизации и обобщению формы. Брал уроки рисования в студии Юлиса Мадерниека и Яниса Яунсудрабиня.
Приезжая в родные леса Дунтена, ходил с младшими братьями на пастбища, резал из бузины «волшебные дудочки». С их помощью он созывал своих лесных друзей на поляну и раздавал дары, не забывая об орехах для белок. С каждым годом в его дневнике увеличивалось количество записей о дереве под названием «Хроника леса». В них говорилось, что древние верования в Латвии языческих времен запрещали в «тихую неделю», «великий четверг» и «страстную пятницу» рубить и ломать ветки деревьев, так как именно в эти дни деревья испытывали боль и плакали слезами в виде соков. И если такие нарушения случались, то их раны долго кровоточили белой кровью, а листва склонялась в скорби книзу... По древним сказаниям, в новогоднюю ночь «деревья обретали дар речи и перешептывались при малейшем дуновении ветерка. Кто понимал их язык, мог услышать пророческие вещания Судьбы». Артур Берниек уверял, что в одну из таких ночей он услышал предсказание стать художником. Вспоминая о раннем периоде жизни своего ученика, Юлис Мадерниек говорил: «Уже тогда Артур жил в своем обособленном мире фантазий и мифов».
Артур Берниек отнюдь не был баловнем судьбы. Вся его жизнь была связана с тяжкими испытаниями... События первой революции 1905 года и ранение во время рабочей демонстрации в плечо заставили Берниека покинуть фабрику. Он стал работать для частных заказчиков, а затем принял приглашение своего друга, мастера московской мебельной фабрики, где и работал под его руководством. В Москве Артур с большим удовольствием посещал музеи и занятия в вечерней студии Нестерова, беря частные уроки живописи и рисунка у Павла Корина..

А. Берниек. 1920-е годы
И все же, когда послереволюционные аресты в Риге утихли, молодой резчик вернулся на родину. В Рижском художественном музее в 1910 году готовилась первая профессиональная выставка художников Латвии: Янис Розентал, Вильгельм Пурвитис, Янис-Роберт Тильберг, Карлис Миесниек. Из скульпторов – Густав Шкилтер, Теодор Залькалн, Карлис Зале, Бурхард Дзенис и многие другие. И только один молодой резчик по дереву – нетитулованный художник. На выставке было представлено свыше 400 произведений, но именно он вызвал особое внимание критики и зрителей. О нем упоминалось, как об «открытии самобытного исконно латышского таланта из народных недр». С этого времени Артур Берниек стал считаться профессиональным мастером. Скупой на хвалебные оды академик Теодор Залькалн, вспоминая это время, рассказывал: «Работам Берниека были присущи первозданная сила природы, чистая детская наивность, хотя порой и не хватало единства художественного стиля». Берниек регулярно участвовал в выставках, удостаивался премий и медалей. В 1912 – 1913 годах он подружился со многими выдающимися деятелями латышской культуры того времени – Кришьянисом Бароном, Вигнером Эрнестом и другими. Тогда Кришьянис Барон назвал его произведения «дайнами в дереве».
Годы первой мировой войны увлекли Берниека вместе с семьей в Россию, в Костромскую губернию, позже – в Красноярский край, к берегам Енисея, где жило немало латышей. Работая учителем рисования, Артур Петрович активно участвовал в выставках сибирских художников. Здесь возникли замыслы и первые варианты таких работ, как рельеф «Злые мысли», «Война грибов», «Ледяной конь», «Легендарный лес», и других. В Сибири Артур Берниек пытается использовать в качестве материала для скульптур оленьи рога, создает свой автопортрет, ряд скульптурных миниатюр и декоративно-прикладных предметов. С помощью вырезанных из дерева клише он напечатал для детей азбуку на латышском языке, снабдив ее богатыми иллюстрациями.
Это уникальное, единичное авторское произведение хранится бережно в мастерской художника «Кекатас» на берегу Дунтского залива Видземского взморья, где на краю леса, у самого моря с давних времен стоит двухэтажный деревянный дом со скрипучими ступенями, с качающимися на ветру ставнями. Под крышей вьют гнезда птицы, в летние ночи с чердака вылетают летучие мыши... Старые рыбаки рассказывают, будто в лунную ночь с балкона видели выходящую из моря русалку. В этом старом доме в 1922 году, вернувшись на родину, поселился Артур Берниек с семьей: женой и тремя дочерьми.

Артур Берниек. Из старинных дайн
Одновременно в Риге были открыты его мастерские, в которых не только проводились занятия с учениками, но и принимались заказы на изготовление декоративных предметов быта в деревне. Особенно популярны были настенные рельефы с фантастическими сюжетами и народные притчи в дереве, например, «Жаба с буханкой хлеба» с дайной «Не ставь на стол свежеиспеченный хлеб, пока к нему не прикоснется жаба» (1925).
В 1935 году в Брюсселе и в 1937 году в Париже А. Берниеку за резные скульптуры были присуждены золотые медали. Имя скульптора становится широко известным. Многофигурные сказочные композиции, где круглая скульптура сочетается с резным декоративным орнаментом, – «Танец лягушек», «Война грибов» и др. имеют свой особый подтекст: «Если пляшут лягушки – быть дождю, а с дождем и хорошему урожаю грибов», «Война грибов – это напоминание о войнах и насилии, а может быть, и природных бедствиях – землетрясениях...»
Самыми благотворными в творчестве Берниека были последние два десятилетия – конец 40-х и начало 60-х годов. За это время он создал ряд значительных произведений, таких, как «Собирательница грибов», «Молодой рыбак», «Портрет старого рыбака», «Дровосеки», «Материнская любовь», «Семья», «Водяные птицы», «Подводные жители» – последние две композиции представляют собой оригинальные двухсторонние барельефы. Новую страницу в истории латышского декоративного искусства малых форм открыла серия уникальных скульптурных композиций из янтаря. Автор проявляет прекрасное ощущение специфики этого материала, открывает его декоративные качества. Берниек не размельчает янтарь. Выполненные им композиции отличаются целостностью, компактным силуэтом. Создание их относится к концу 50-х – началу 60-х годов.
Впервые в гости к Отцу дайн в дереве мы вместе с мужем по приглашению Берниека приехали в июне 1958 года, когда был подписан договор с рижским издательством о книге «Деревянная скульптура Советской Латвии», и прожили все лето. Там я познакомилась с процессом создания деревянных скульптур, со многими художниками, артистами и деятелями культуры Латвии и окунулась в подлинно народную среду с ее традиционными обычаями и празднествами. Артур Берниек был объединяющим, незыблемым звеном народного и профессионального творчества.

Артур Берниек. 1959 год
За несколько месяцев до кончины Артура Петровича Берниека, когда он был прикован к больничной койке и не мог уже писать, задыхаясь от тяжких грудных хрипов, он продиктовал мне свою последнюю дайну – «Духовное завещание о бессмертии»: «Вам поручаю написать обо мне все, что знаете, все, что видели и слышали обо мне из моих уст и уст тех, кто знал и понимал меня без слов... В моей жизни было много завистников, причислявших меня к числу самодеятельных малообразованных мастеров... А ведь учителей у меня среди великих художников было много, и все они вам известны... У всех я учился, не теряя Божьего дара самостоятельности видеть и чувствовать окружающий мир по-своему – не копировать природу, а воспринимать ее из Космоса как вселенную великих тайн и открытий... Мои видения позволяют мне переноситься в мир надземного и подводного царства... Оттуда пришли ко мне образы крестьянских богов милосердия • покровителя лошадей и пчел «Узиньша», «Матери душ», «Христа Спасителя в окружении лесных зверей...» Мои «Морские птицы» не придуманы мною, они пришли ко мне из подводного морского царства как символ добролюбия и содружества, которых нет среди нас, ровесников XX века... Им я посвятил свою многофигурную композицию в дереве «Война грибов»... Чем не метафора – века войн и репрессий?.. И еще: часы моей жизни на земле сокращаются с каждым дыханием... Но не думайте, что я ухожу навсегда от всего, что любил и чему посвятил свою жизнь... Мой «Огненный конь» будет по-прежнему носиться в небесных просторах, взывая к пощаде страждущих душ, гибнущих от насилия... Мой «Юный рыбак» из векового Видземского дуба, пораженного молнией, никогда не покинет своего сторожевого поста...
И не забудут кроткие лани в ветреные заснеженные ночи прийти к порогу моей хижины... Помните, Ина – дитя 40-х годов, что нами руководят высшие духовные силы и они определят нас по ступеням иерархии – кого выше, кого ниже по ступенчатой лестнице... Знайте и то, что Артур Берниек появился не случайно на вашем пути... И до того как прийти к вам и пригласить вас в свои попутчицы... он уже прошел не одну жизнь и побывал не в одной стране... Не верьте датам его рождения и смерти... Это лишь росчерк пера одной короткой жизни... Мои дайны, подаренные вам, разрешаю опубликовать в книге. Да благословит вас мой прощальный перст».

Слева направо: живописец и резчик по дереву И. Зебериньш,
художник Карл Миесниек, скульптор Артур Берниек. 1961 год
Умер художник 30 октября 1964 года. Незадолго до своей кончины, весной, на встрече мастеров деревянной скульптуры Артур Берниек сказал: «Вернусь через сто лет. Вернусь, чтобы убедиться, помнит ли меня мой народ... Сохранилось ли тепло моих следов на песчаных тропинках Дунтского побережья... Слышен ли мой тихий голос еще в песнях птиц родного края... Верю, что в этот неповторимый час возвращения меня, как в сказках Грина, будет ожидать на берегу моя синяя лодка «Чайка», которую умчали бурные воды моря в ветреную пору 1961 года – того самого года, когда я праздновал свое 75-летие... Надеюсь, что, как всегда, у моего «храма искусства» в Кекатас меня встретят мои любимые «дети» – скульптурные образы, которым я дал жизнь и которые мне принесли бессмертие. (Да, да, бессмертие, я позволю себе эту смелость!)...»
Сбылась его мечта о продолжении его жизни в искусстве. Об этом свидетельствуют его выставка и мемориальный дом-музей в Кекатас, который отреставрирован благодаря заботам дочери художника Руты Броки и в летние месяцы охотно посещается любителями искусства и друзьями художника.
— Интерес к этой чудесной и вместе с тем загадочной стране у меня появился в детстве, – вспоминал скульптор Игорь Викторович Васильев. – В этом неоспоримо большая заслуга моих родителей, которые увлекались восточной философией и культурой. Поэтому и я знал об Индии все, что было доступно моему возрасту и восприятию. А возможно, и немного больше того, так как имел доступ к каждой книге в нашей тщательно подобранной библиотеке. Помнится, что в довольно раннем возрасте я прочитал «Хождение за три моря» тверского купца Афанасьева, «Воспоминания» русского путешественника Герасима Лебедева, который в XVIII веке принимал участие в основании театра в Калькутте.
Игорь Васильев родился 26 мая 1940 года в Москве в семье спортивного тренера. Способности к ваянию у мальчика проявились очень рано. В работе с натурой ему помогали частые посещения зоопарка. Всевозможные звери стали первыми моделями будущего художника. Со школьной скамьи он принимал участие во всесоюзных конкурсах детского творчества. Его лепные фигурки животных и сказочных героев отмечались призами. Особый творческий настрой мальчик получал во время поездок в Ригу к бабушке Ольге Осиповне Пенерджи, скульптору-профессионалу. Благодаря ей он приобрел первые навыки работы с глиной.
Своим первым учителем по лепке Игорь Викторович считает академика Василия Ватагина – известного скульптора-анималиста. Стеснительный, замкнутый в себе мальчик робел в присутствии незнакомых людей и отказывался показывать им свои работы. Но с профессором Ватагиным сразу нашел общий язык – он касался Индии. Василий Александрович там побывал в начале 20-х годов и с большим наслаждением рассказывал об этом «райском уголке планеты».
— Я непременно побываю там, когда стану художником-профессионалом, – решил Игорь. Из всех работ анималиста ему больше всего понравился могучий, но миролюбивый гималайский медведь, вырубленный в дереве...
— Но ведь для поездки в Индию нужно быть хорошо подготовленным, – заметил профессор Ватагин. – Иначе она тебе «не откроется». И посоветовал своему ученику непременно побывать в Третьяковской галерее. – Там залы произведений Верещагина и Рериха познакомят тебя с архитектурой Индии и духовной жизнью Гималаев. Ты мысленно сможешь перенестись в горы, встретить там рассвет или заход солнца... Во многих картинах Николая Рериха заложен глубокий философский смысл, постарайся его разгадать. Мне очень хочется, чтобы когда-нибудь, когда повзрослеешь, тебе открылись бы буддийские легенды о Майтрейе – «грядущем Будде»... Игорь не любил откладывать в долгий ящик задуманных дел. И тут же в ближайшее воскресенье попросил родителей сходить с ним в Третьяковскую галерею, чтобы посмотреть картины Рериха. И вдруг совсем неожиданно заявил им, что смотреть их будет без всяких объяснений.

Игорь Васильев, студент академии художеств. 1959 год
— После этого похода в музей, – вспоминает отец Игоря – Виктор Зиновьевич, – мы с женой разрешили сыну по вечерам присутствовать на наших чтениях книг по восточной философии. А 26 мая – в день рождения Игоря (ему исполнилось 10 лет) я подарил ему редкую книгу из антиквариата на Сретенке монографию А. Кузьмина о Н.К. Рерихе, изданную в Москве в 1923 году (Записи бесед И. К. с отцом скульптора в конце 50-х годов).
В 1952 году семья Васильевых по приглашению бабушки переезжает на постоянное жительство в Ригу.
— В канун отъезда я с Игорем побывал у профессора Ватагина: за ним было решающее слово о выборе сыном профессии ваятеля. Василий Александрович одобрил наш переезд в Латвию. Он сказал: «Там, я знаю, есть прекрасные скульпторы и педагоги. К примеру, академик Теодор Эдуардович Залькалн, мой друг и коллега по Академии художеств... Что же касается Игоря, то у него имеются все основания стать скульптором-профессионалом. Уже сейчас он лепит с натуры. Наблюдателен. Настойчив и проявляет самостоятельность. Это много. Остальное образуется в стенах художественной школы (Запись автора в 1958–1960 годы).

Игорь Васильев. Концерт. (Ван Клайберн).
1961 год. Вьетнамский орех
Игорю исполнилось 13 лет, когда скульптор Ольга Пенерджи показала академику Залькалну несколько работ своего внука. Теодор Эдуардович, всегда чутко относившийся к молодым талантам, сказал: «Развитие таланта не прощает промедления». Вскоре, в виде исключения, юноша был допущен к посещению занятий на отделение скульптуры Латвийской академии художеств как вольнослушатель. Таким образом, учебный курс им был пройден дважды: до совершеннолетия – с 1953 года по 1957 год и с 1957 года по 1962 год, когда он стал полноправным студентом. Этого времени вполне хватило для того, чтобы Васильев получил не только профессиональную подготовку, но и определил свое основное амплуа как портретист.
«Считаю, что мне исключительно повезло с учителем, – признается Васильев. – Концепция Залькална – создателя национальной школы гранитной скульптуры основывалась на строгом конструктивном построении композиции. Профессор Эмиль Мелдерис научил не лепить, а строить скульптуру, как архитектурное сооружение – крепко, устойчиво, выверенно в пропорциях» (Запись автора в 1989 году).
С профессором Карлисом Земдегой, человеком необыкновенно ярким, многогранным, Васильева связывало особое духовное родство. Земдега прекрасно знал литературу, особенно любил поэзию и тонко чувствовал музыку. Он с молодости интересовался восточной этикой, тесными дружескими отношениями был связан с Райнисом и Аспазией. После смерти поэта в 1929 году он создал гранитное надгробие с вдохновенным образом юноши, устремленного к солнцу.
Путь Игоря Васильева в искусство был стремителен и целенаправлен. Будучи студентом третьего курса, он уже дебютирует на республиканской выставке профессионального искусства бюстом выдающегося американского пианиста Вана Клайберна (1960 год). ...Крутой взлет бровей. На лбу – трепетная складка. Глаза музыканта закрыты. Голова несколько откинута назад. Он испытывает момент глубокого творческого экстаза. Тонкая, гладкая моделировка лица. Образ воплощен в любимом материале автора – дереве. В это время юному автору незнакома еще технология этого «живого» материала. Он полагается на собственную интуицию. Образ Клайберна создавался на одном дыхании. Студент сделал лишь один беглый набросок во время концерта пианиста в Риге. Образное решение нашел сразу в рабочей модели портрета, которую выполнил в глине в натуральную величину. О выборе породы дерева начинающий скульптор тогда не задумывался. Не было бы только сучков и пятен. Процесс освоения этого далеко не простого материала предстоял в будущем. Путь к нему пришлось прокладывать самостоятельно, ибо учителей среди профессиональных мастеров, работающих в дереве, не было. Скульптурный портрет Вана Клайберна открыл автору путь в большое искусство.

Игорь Васильев. Живая вода. 1970 год Красное дерево
Первый успех, однако, не опьянил молодого автора. Он продолжает поиски новых средств образного выражения. Его уже не удовлетворяет первый портрет Клайберна, он кажется ему сентиментальным, экзальтированным, раздробленным деталями. Год спустя при личной встрече с Ваном Клайберном в Московской консерватории Васильев делает в воске набросок новой композиции, которую позднее назовет «Концерт». Теперь его интересует не портретное сходство, а духовное наполнение образа.
Начиная с дипломной работы «Молодость мира» (1962) в произведениях скульптора ведущее место занимает образ человека, сильного духом. Меняется и пластическая трактовка, она становится лаконичней. Творчество Васильева обогащается такими значительными работами, как «Андрей Рублев», «Гиппократ». Знакомство с Живой Этикой порождает философские размышления о цели жизни («Древо жизни», «Муки творчества Микеланджело», «Чаша Востока»).
Если в мужских образах Васильева привлекают сила воли и страстный темперамент, то серию женских портретов отличают одухотворенность, грация. Теперь для каждого образа выбирается своя порода дерева. Васильев охотно использует вьетнамское красное дерево, а из местных – березу, липу, грушевое дерево, изредка лимонное.
И вот, наконец, в 1975 году сбывается сокровенная мечта – побывать в Индии. Поездка была краткой, туристической, но впечатление от нее у скульптора осталось незабываемым и волнующим. «Меня в этой стране привлекало все, – писал в своих воспоминаниях Игорь Васильев, – каменные и бронзовые статуи древних божеств, скульптура пещерных храмов, настенные росписи монастырей, миниатюры, украшающие древние летописи...» Во время путешествия он делал зарисовки, вел дневник и много фотографировал. Вернувшись домой, сразу же начал работать. Основное место в цикле, посвященном Индии, заняли портреты выдающихся деятелей страны: Махатмы Ганди, Джавахарлала Неру, Рабиндраната Тагора, Николая Рериха.
Помимо портретов Васильев в 1975 – 1979 годах создал серию станковых произведений – скульптурный дневник «По дорогам Индии». Сюда вошел триптих «Индия», олицетворяющий связь современности с древностью. Для него характерен язык символики. В композициях «Медитация» и «Странник» автор стремится выразить пафос углубленных духовных исканий, свойственных индийской философии.
Впервые с индийским циклом Игоря Васильева мы познакомились на его персональной выставке в Риге в 1979 году. В 1981 году, пополненная рядом новых произведений, состоялась персональная выставка работ Васильева в Москве, посвященная 30-летию провозглашения Республики Индии. А через два года скульптор был приглашен в Дели.

Игорь Васильев. Джавахарлал Неру
Экспозиция его скульптурных работ разместилась в новом благоустроенном Доме советской науки и культуры. Небольшие уютные залы с белыми стенами и мраморными полами, у каждой скульптуры свой свет... И множество живых цветов. Это создавало особую атмосферу. Произведения оживали. Контакт со зрителем возникал мгновенно. И сомнения автора, что реалистические образы могут быть не восприняты в стране мифов и легенд, оказались напрасными. Уже в первые дни выставку посетили ведущие искусствоведы, художники, журналисты, ветераны борьбы за независимость Индии и широкий круг любителей искусства. Книга отзывов заполнилась восторженными оценками. Высоко оценил значение выставки профессор живописи и ваяния Веньяш Саньял, отметив «ценный вклад в латвийско-индийские отношения». Он выразил одобрение по поводу того, что наряду с индийским циклом в экспозиции представлены портреты выдающихся деятелей русской, латышской и всемирной культуры. Большой интерес вызвала пресс-конференция, устроенная для индийских и иностранных журналистов. Волнующим событием для автора стала личная встреча с премьер-министром Индии Индирой Ганди в ее резиденции. В те дни Индия готовилась к седьмой конференции неприсоединившихся стран, и рабочий график Ганди был расписан по минутам. И все же она нашла возможным принять посланника Латвии. Прием был краток, но задушевен. Васильев передал в дар индийскому народу скульптурный портрет Джавахарлала Неру. Декоративная скульптура в дереве с инкрустацией «Лотос» была преподнесена автором в знак благодарности за радушный прием. Во время пребывания в Индии Игорь Васильев встретился со Святославом Николаевичем Рерихом. Художник обрадовался этой встрече и сказал: «Как хорошо, что в Латвии есть люди, которым близка Индия».

Игорь Васильев передает Индире Ганди бюст Неру. Индия. 3 марта 1983 года

Игорь Васильев. Индира Ганди. 1986 год. Дерево
Вернувшись в Ригу, Васильев продолжил работу над циклом «Многоликая Индия». К выставке «Художники миру» в Москве он завершил полуфигурный портрет Николая Рериха, создал в дереве портрет президента Всемирного совета мира Ромеша Чандры. Под свежим впечатлением от встречи с Индирой Ганди художник приступил к созданию новой портретной композиции. «В этом образе мне хотелось передать светлое ощущение лучезарности, ей присущее. Поэтому течение скульптурных масс – несколько замедленное, плавное».
Когда же пришло горестное известие о трагической гибели великой дочери индийского народа, скульптор создал статую Индиры Ганди, предназначенную для отливки в бронзе. Духовный строй образа здесь более экспрессивный, стремительный. Автор подчеркнул черты мужества, величие духа государственного деятеля и страстного борца за мир. Свое произведение Васильев посвятил 35-летию Республики Индии и десятилетию индийского национального конгресса. К этой же дате приурочена и обширная серия бронзовых портретных медалей выдающихся деятелей Индии.
С октября 1988 года, когда возобновило свою деятельность Латвийское Общество им. Н.К. Рериха, он стал его достойным членом.
Творческая деятельность скульптора сочеталась с ответственной миссией члена Российского комитета солидарности стран Азии и Африки. Большое место в жизни профессора Васильева (звание присвоено в 1982 году) занимала педагогическая деятельность на кафедре скульптуры Латвийской академии художеств.
Игорь Викторович Васильев скончался от недолгой, но тяжелой болезни 21 июня 1997 года.
«На защиту памятников культуры под знаменем мира и содружества» – этой теме предан всем своим творчеством выдающийся мастер медальерного искусства Латвии Янис Струпулис. По его словам, именно в этом виде скульптуры малой формы он «нашел себя, свое истинное призвание и как пластик, и как портретист, страстный исследователь искусства и исторических памятников народов различных эпох начиная от древнего творчества Востока, Африки и Океании до высокого ренессанса профессионального искусства стран Западной Европы... Своей исконной миссией художника я считаю донести до наших дней бесценные духовные богатства предыдущих веков, сохранить память о замечательных ваятелях, иконописцах, мыслителях-поэтах, философах, ученых, борцах за мир и усовершенствование духовной сущности человека на путях тяжких житейских испытаний...»
Янис Струпулис родился 28 января в 1949 году в Вецпиебалге. Еще в студенческие годы (1967 – 1973) Янис Струпулис отличался многогранностью интересов. Помимо академической программы он неустанно пополнял свои знания в библиотеках, музеях. В каникулярное время выезжал за пределы республики, посещал Третьяковскую галерею, Эрмитаж, картинные экспозиции передвижных выставок... Тогда же в его руки попадают мемуарные труды латышского живописца-искусствоведа Волдемара Матвея (1877 – 1914), посвященные исследованию художественной культуры коренного населения Океании и древней Африки – «Искусство острова Пасхи» (1914), «Принципы творчества в пластических искусствах», «Искусство негров» (1919). Не случайно появляются образы индусской духовной иерархии: «Бхагаван Рамакришна», «Вивекананда Свами», «Йог», «Николай Рерих – художник и мыслитель»...
«Для меня эти личности и их труды были подлинными открытиями. Все мы искали новых самостоятельных путей». На скульптурном отделении, где он учился, Янис встретил настоящих учителей, которым остался благодарен на всю жизнь. Это профессор Эмиль Мелдерис, учивший своих воспитанников мыслить конструктивно. И не лепить скульптуру, а строить по всем требованиям архитектоники, рассчитывая на пленэрную среду и учитывая с самого начала – уже в эскизе – специфику материала, на какую рассчитана скульптура. Его ученик и последователь Валдис Алберг, который вел дипломную работу Струпулиса, направлял мышление своего воспитанника в том же русле.
В 1973 году в Риге была открыта первая выставка медалей. Она произвела на Яниса Струпулиса большое впечатление, и он, возвратившись со службы в Советской Армии, с 1975 года начал регулярно работать в отрасли медальерного искусства и принимать участие в выставках. Первой была медаль «Композитор Эмиль Дарзиньш». Медаль была большой и толстой...
В то время для медальерного искусства Латвии было уже свойственно нарушение традиционных границ этого уникального вида скульптуры: отход от принятой формы и толщины...
Однако и здесь Янис Струпулис проявил свою самостоятельность. Вопреки моде он остался верен традиционным принципам. Последнее не ограничивало возможностей эксперимента, поисков, творческих открытий. От односторонней – портретной – медали скульптор переходит к двусторонней. На аверсе – лицевой стороне – портретный образ, на реверсе – род его занятий. Ориентируясь на классические образцы медальерного искусства, автор для портретов выбирает выдающиеся личности разных эпох: художников, поэтов, ученых, спортсменов, посвящая медаль их юбилеям и открытиям.
Каждая медаль – это тщательный поиск документальных материалов, выбор фотографий, творческое осмысление образов.
В начале 80-х годов Янис Струпулис и скульптор Элза Швалбе разделили мои творческие поездки на Украину, где я родилась и очень любила этот старинный, полный сказаний и легенд песенный край древней Киевской Руси.
Здесь наш дебют был встречен украинскими коллегами с большой теплотой. Янис Струпулис открыл новую серию медалей, посвященную деятелям украинской культуры. Особенно многогранна была «Шевченковская галерея образов», параллельно возник совместный проект книги «Портреты без рам» (латышско-украинская творческая магистраль. Издательство «Днипро» предполагало выпустить мои очерки-диптихи с иллюстрациями, портретными медалями Яниса Струпулиса)... Скульптор набросал и макет книги, состоялась по этому поводу и специальная экспозиция в Литературном музее Киева, затем в Житомире и Львове...
Но, увы, резкий упадок издательских средств заставил отказаться от так желаемого издания с искренней поддержкой критиков и читателей. Каждый из нас последнее десятилетие продолжал свой творческий путь самостоятельно. У Яниса Струпулиса открылись новые зарубежные пути признания его творчества. Он расширяет свои познания в международном масштабе. Становится почетным членом Латвийской Академии художеств. К 800-летию Риги (1201 – 2001) он исполняет почетное правительственное задание – создает эталон пластического изображения национального герба Латвии... На Балтийских триенналес 1986 – 1989 Струпулис удостаивается высоких премий. В 1995 году ему присуждается Гран-при, а в 1996 году на XII Дантес биеннале – Золотая медаль. В настоящее время медали латышского скульптора принадлежат 56 музеям мира.
Накануне 50-летия выдающемуся мастеру медальерного искусства Латвии, получившему международное признание, хочется от души пожелать негасимого Света на пути духовного восхождения.
Родители моей мамы Анна Постниеце и Екаб Филка – потомственные латыши, и их родословная уходит своими корнями в глубокую древность... В своих далеких поколениях они были земледельцами, рыбаками... Все они жгли лучину в своих домах, разбросанных по хуторам на почтительном расстоянии друг от друга. Жили в Видземском краю на берегу залива. Мужчины выкорчевывали деревья, дробили гранитные валуны, чтобы вырвать свободные участки земли для посевов хлебных злаков и огородных культур. Они все держали на своих фермах коров и коз, разводили кур и уток. У каждого самого бедного хуторянина в конюшне стояла лошадь. Врожденной чертой латышского народа была тяга к красоте и труду. Мужчины сами строили свои избы из неотесанных бревен, многие на деревянных сваях и без единого гвоздя. Крыши обычно были односкатные, покрытые либо соломой, либо у более имущих – черепицей... Богатыми были и песенный фольклор, и устная хроника народа, построенная на дайнах. В конце XIX века появилась разночинная интеллигенция, получившая профессиональное образование за пределами Латвии – в основном в России.
Дедушка Екаб родился в начале 60-х годов прошлого века, учился разным ремеслам, работал на судостроительстве. Способный к учебе, в приходской юрмальской школе проявлял дарование к техническим предметам и овладел кроме родного латышского языка двумя иностранными, в том числе и русским. Но в душе был романтиком – пел в хоре, любил слушать орган в Домском соборе. Женился на 28-м году жизни на девушке из богатой семьи, которая жила в Риге и получила среднее образование в частной немецкой школе. Анна Постниеце принадлежала к богатому сословию местного фабриканта Постниека, владельца трех пятиэтажных домов в Риге на улице Миеру. Был у Постниека прибыльный по доходам завод хрустальных изделий, который конкурировал с одной крупной чехословацкой фирмой. Были у Постниека дочери и сыновья – судя по фотографиям, все на одно лицо. Свои сбережения капиталист Постниек держал в заграничных банках: у каждого члена семьи был свой счет. Постниеки имели свои дачи на Рижском взморье, содержали купальни и много разъезжали по свету. В Риге их принимали в высших кругах как членов благотворительных обществ...
С будущим мужем Анна познакомилась на одном из Лиго-вечеров в Юрмале. Бросая в реку А-а свой венок, задумала на широкоплечего красивого юношу, носившего в то время фамилию Филкус, что в переводе значило «много поцелуев». Родители были против замужества Анны с простым ремесленником Юрмалы, который зарабатывал на хлеб поденной работой на строительствах, ездил с рыбаками в море и копил деньги на покупку собственных лошадей...
После свадьбы, в 1885 году, фамилию изменили на более скромную – Филка. Анна Постниеце была прекрасной хозяйкой, умела шить и ткать полотно, но предпочитала одеваться по городской моде. В 1888 году у молодоженов родились две первые дочери-близнецы – Лилия и моя мать Ида-Отилия-Иоганна. Их крестили в Дубултской лютеранской церкви. В это время с братом Янисом Екаб построил три дачи и четвертую прикупил для двух старших дочерей-близнецов. Двухэтажный кирпичный дом в Майорингофе у реки А-а он в летний сезон сдавал приезжающим из России дачникам. В это время Екаб Филка уже приобрел двух рысаков и экипаж с мягкими рессорами для обслуживания знатных гостей Юрмалы. Его импозантная внешность сочеталась с хорошими манерами и знанием языков. Тогда Фридрих Иоганесович (дедушка Н.К. Рериха) ангажировал экипаж Екаба на все лето.
В семье прибавились братья Адольф, Арнольд и сестры Элза, Олите и Генриэта-Эмилия. Последним родился брат Густав, которому суждено было во время Великой Отечественной войны в возрасте 16 лет погибнуть в боях у Перекопа. Детство их было скромным, без особого баловства, но и без нищеты. «Воспитывались в строгом послушании родителям, старшие дети помогали растить младших, – вспоминала моя мама. – Все мы были непохожи друг на друга, даже с Лилией, внешностью и голосами почти не отличаясь друг от друга, характерами, вкусами и наклонностями были очень разные. Я была истинная горожанка и даже в летний сезон старалась исчезнуть в Ригу. Естественно, тянула за собой и покорную, любящую копаться в грядках, собирать грибы и варить обеды Лилию. Сообщение с Ригой было сложным, и мы брали напрокат велосипеды, посещали танцевальные вечера молодежи, ходили на киносеансы в Верманский парк».

Ида-Отилия-Иоганна Филка. Рига. 1896–1997 годы
Первой выскочила замуж самая красивая, средняя по возрасту дочь Элза за богатого латышского предпринимателя – владельца типографии и редактора «Женского календаря» – Людвига Аудзе. Венчание происходило в июле 1910 года в Домском соборе. Будучи намного старше своей красивой жены, он души не чаял в ней и предоставлял все возможности для безбедной жизни. Одаренная хозяйственными способностями, она прекрасно исполняла и роль дамы высшего общества. Единственное, в чем ее ограничивал Людвиг, – это в приемах у себя своих бедных родственников. Тетя Лилия вспоминала: «В дом Людвига Аудзе мы приглашались на третий день после семейных торжеств». Вскоре у них родилась дочь Зента.
Моя мать и тетя Лилия устроились в Риге в кинематографе «Мон Репо» кассирами. Кинематограф в Верманском парке принадлежал средней сестре моего отца Марии Рогале-Блащук. Там моя мама и познакомилась с папой, в те годы студентом Петербургского университета. Как мне стало известно по рассказам матери, отец был сиротой от рождения, воспитывался вместе с братом в знатной дворянской семье, получил хорошее образование, стал студентом Петербургского университета филолого-философского факультета, пополнял свои знания за границей в Варшаве и Женеве, владел многими языками, в том числе русским, польским и украинским... По окончании учебы молодой филолог устроился в Митаве (Елгаве) в казначействе столоначальником, получил прекрасную квартиру и денщика, обслуживающего его нужды. Мои родители обвенчались в Александро-Невской церкви в Риге... Отец посещал в Риге дворянские собрания, и его миниатюрная жена, изящная, как статуэтка, с правильными красивыми чертами лица и жизнерадостным характером, сразу же очаровала всех. Ида прекрасно танцевала бальные танцы, особенно мазурку. В ее честь поднимались бокалы русскими и немецкими генералами. И никому не мешало то, что она почти не знала русского языка и объяснялась со всеми на немецком с примесью французского.

Ида-Отилия-Иоганна Филка. Рига. 1903 год
Мама вспоминала: «Из родственников отца особенно близок был ему брат Янис Филка – а мы, дети, были почти одногодками его сына Алберта – впоследствии талантливого живописца, преданного своему взморскому краю. Алберт любил писать морские пейзажи и делал гротескные рисунки для латвийских журналов. В эту серию «Юрмальские зарисовки» попал и гротеск «Мои кузины».

Ида Рогальская и Николай Рогальский (слева),
Лилия Филка и Волдемар Аниксе. Рига. 1912 год
«Однажды он нарисовал меня с Лилией так, вспоминала моя мама, – что мы его избегали целый месяц». Но больше всего огорчался своим крестником Албертом дедушка Екаб. Узнав, что Алберт собирается писать его портрет маслом для выставки, он прихорошился: одел свой лучший костюм с жилетом и большой золотой цепочкой для карманных часов, тщательно выбрился и надушился дорогим английским одеколоном – мол, знай, что Филки лицом в грязь не упадут и знают, что к чему... В искусстве тоже немного разбираются... Вспомнил крестнику Алберту, что именно он, дядя Екаб, его рекомендовал во время одной из поездок по взморью известному живописцу Юлию Мадерниеку, в студии которого он занимается сейчас.
Одним словом, у дедушки Екаба были все основания, чтобы его портрет носил репрезентабельный характер... Однажды Алберт пригласил нас всех на выставку студийцев, заметив, что на ней будет представлено более десяти его работ из юрмальского цикла...
— А нашего папы тоже? поинтересовалась я, самая смелая из детей.
— Будет, конечно, но только в жанровом плане... На фоне реки...
Что такое жанровое раскрытие образа, естественно, никто из нас не знал, но отец больше предпочитал в кресле...
В результате на стене среди других работ Алберта мы увидели знакомую фигуру отца со спины с лошадью. Он был в рабочем одеянии с закатанными до колен брюками. Картина называлась «Водопой на реке А-а». После этого разочарования папа с мамой решили пойти и сфотографироваться в лучшей рижской фотографии... Это произошло в канун Нового 1900 года... Больше такого репрезентабельного фотоснимка Анны и Екаба Филков не было в семейном альбоме».
Первая мировая война разрушила старинное потомственное гнездо Екаба Филки. В 1914 – 1916 годах начались эвакуации учреждений Латвии в Россию. В 1916 году молодожены Рогальские очутились в Туле. Вместе с ними выехали две младшие сестры матери Олите и Генриэта-Эмилия (Геня). Олите было 19 лет, когда она, заболев скоротечной чахоткой, умерла.
Лилия, мечтавшая о спокойной жизни на хуторе, замуж вышла позднее всех сестер за инженера эстонца Волдемара Аникса. Это была моя единственная тетя по матери, которую я застала в Риге в 1945 году. Все остальные родственники в 1941 году были вывезены в Сибирь или Среднюю Азию... Тетя Элза находилась на поселении в Красноярском крае в поселке Николаевка. С мужем ее разлучили во время отправки эшелона, и о его судьбе она так и не знала ничего...

Екаб Филка
О судьбе моих предков со стороны отца помню немного. В семейном архиве старших сестер отца Александры и Марии сохранилось письмо, написанное мне Марией Рогале-Блащук.
«У наших младших братьев – Никлава (Николая) и Волдемара (Владимира) – была светлая, преисполненная тяжких испытаний жизнь сирот. Но при этом они за свою сравнительно короткую жизнь сделали много добра людям и оставили о себе благодарную память...
Недавно перебирала наши семейные архивы. Нашла дневник твоего папы студенческих лет, когда он учился в Петербурге на филологическом факультете и часто приезжал к нам в Ригу или в Торнякалнс, поближе к Юрмале и заливу. Несмотря на застенчивый, робкий нрав, мы его очень любили и помогали ему. Ты, наверное, мало что знаешь о нем, поэтому и пишу тебе это письмо, цитируя свою дневниковую запись 1905 года.
Родился Никлав в канун Рождества 1899 года. Он стал последним ребенком наших родителей, ибо после появления его на свет произошла большая семейная трагедия... Спустя три дня твою бабушку Анну в тяжелом состоянии привезли из Валмиерской больницы домой в наше селение, где твой дедушка Кристап был священником. Поскольку роды у нашей мамы были связаны с операционным вмешательством и наложением швов, ей в нашей усадьбе была выделена самая лучшая светлая комната, которую мы называли залом. В нем была старинная резная мебель с мягкими плюшевыми сиденьями, рояль и большая елка со свечами и рождественскими игрушками. В праздник младшие сестрички-близнецы – Ольга и Амалия – вместе с братом Волдемаром кружились вокруг елки и пели новогодние песни. Одеты девочки были в нарядные белые платья с воланами, а Волдемар в синем бархатном костюме с короткими штанишками и белыми длинными чулочками. И вдруг елка накренилась и упала. Возник пожар. Роженица поднялась с постели и тут же скончалась, а девочки сгорели. Только чудом уцелел пятилетний брат Волдемар, выкативший коляску с младенцем.

Анна Филка
После похорон 2 января 1900 года Александра, бывшая замужем за Стефаном Осташевским – украинским помещиком-священником и этнографом Волынской округи (селение Галюнки), увезла на Украину младших братьев, став кормилицей Никлава. У нее самой в то время родилась младшая дочь Нина. Детей она воспитывала в традиционном дворянском духе. Они учились говорить по-французски и по-польски, брали частные уроки по музыке на рояле и скрипке. Волдемар и Никлав окончили духовную семинарию, овладели там античными языками. Особенно талантлив был Володя. Уже в школьные годы он сочинял стихи, интересовался восточной философией и ботаникой, мечтал стать врачом.
Наш отец умер спустя три года после того происшествия. Сестра Жения долгое время жила у меня на вилле «Марина» в Торнякалнсе. Потом переехала в Курляндию, там стала сельской учительницей младших классов, вела почти аскетический образ жизни и замуж не вышла. Однажды она раньше времени закрыла задвижку печи в спальне и заснула навсегда. Не повезло и нашему среднему, очень красивому по внешности, брату Георгу, который, блестяще окончив Политехнический институт в Риге, стажировался в Германии, имел невесту – дочь архитектора Ирену, но, приехав к нам в Юрмалу, решил в один из ветреных дней выкупаться в реке А-а и утонул.
Обо всем остальном жизненном пути твоего папы ты, наверное, узнаешь, когда вырастешь, и от него, и из его дневников. Он был не похож на своих братьев: был скромен и робок до щепетильности, много учился, много знал, обладал каллиграфическим почерком, у него были высокая статная фигура, длинные музыкальные пальцы и по-детски ярко-синие глаза, но всегда полуприкрытые веками, потому что в раннем детстве он болел трахомой.

Николай и Ида Рогальские. Тула. 1916 год
Хочу тебе сообщить, что твой отец был сыном двух народов – латышского и украинского. Вместе с сестрой Александрой он посещал шевченковские вечера и бывал на чтениях Леси Украинки – его самой любимой поэтессы, после Аспазии.
Береги, Инуците, своего папу. Он у тебя не только добрый, но и другим несущий добро. Прислушивайся к его советам. От него узнала, что ты тоже сочиняешь стихи и что твою ногу, назначенную на ампутацию до колена, дядя Волдемар вылечил за один день. А, знаешь, почему? Потому, что он лечит не только лекарствами, но и сердцем. Тебе есть чем гордиться в своей родословной по линии отца. Обнимаю тебя.
Твоя тетя Мария».
Старший брат отца Волдемар Рогальский был в полном смысле гениальный человек. Уже в духовной семинарии он владел более чем десятью языками (в том числе и античными), писал стихи гекзаметром, читал в оригиналах Гомера, Эврипида, Шекспира, Петрарку. В студенческие годы увлекался гомеопатией, ездил в горы восточных стран, где собирал лечебные травы, и даже придумал средство для лечения проказы... Одно время в 20-х годах он был священником в селении Крыворудка, там и женился, там в лесу устраивал исповеди верующих, бесплатно лечил травами тяжелобольных, которых привозили даже издалека... В годы Великой Отечественной войны его арестовали за то, что он отказался лечить больного Сталина. Он вылечил конвоиров своей колонны арестантов, и те отпустили его. Какое-то время он скрывался в житомирских лесах, а затем сам постучался в двери киевской тюрьмы. В застенках он изучил еще и древнееврейский язык, назвав его одним из прекраснейших языков, созвучных песнопению, написал справочник рецептов из лечебных трав, который передал своей младшей дочери Алле. Умер он в тюрьме в годы немецкой оккупации.
В своем детстве я лишь однажды видела дядю Волдемара, тогда, когда гангренозное воспаление угрожало ампутацией правой ноги. А дядя вылечил меня за сутки. Делал собственноручно компрессы из листьев чистотела... И к утру опухоль спала, гнойная рана на колене очистилась... Больше я не встречала своего целителя. В моей детской памяти он остался хилым стариком с бородой и длинными волосами до плеч. По воспоминаниям отца, Волдемар всю жизнь занимался другими, жил сверхскромно, в деревянном одноэтажном доме у леса. У его жены Елены было три незамужние сестры – сельские учительницы. Были две дочери Ирина и Алла. Они с мужьями и детьми жили в Киеве... Младшая Алла увлекалась ботаникой, и ее прозвали «доктором деревьев»...
Дневников папы в детстве я не читала, и не только из-за малолетнего возраста, но и потому, что они были написаны на французском и латышском языках. Папа держал их в потайном ящике старинного секретера, перешедшего к нему по наследству от тети Александры, которая умерла в 1919 году от холеры. Моя мама – реалистка по своим взглядам – была постоянно занята хлопотами по дому, борьбой с нищетой и хроническим заболеванием отца, требовавшим особой диеты, считала отца не от мира сего. Однажды во время войны, незадолго до смерти, он пришел с рынка без пиджака, но окрыленный сбывшейся мечтой, и радостно заявил: «Я, наконец-то, нашел последнее издание Леси Украинки».
— А где же твой френч? – спросила мама.
— Я его выменял вот на эту книгу...
— А в чем же ты, неисправимый романтик, будешь теперь ходить? Ведь другого у нас нет, и купить не на что...
— А мне он больше и не пригодится, – робко отвечал папа. – Вот пригреет солнышко, появятся подснежники, и прилягу в Мариинском парке у ограды и освобожу тебя, милая женушка, от непосильных забот обо мне. А вот этот избранный томик Леси Украинки будет достойным завещанием нашей дочке. Пусть учится мужеству и честности от этой великой поэтессы с мировым признанием.
Так оно и произошло...
Опечалил нас трогательный конец любящей четы Блащуков в 1942 году. Они были уже старые и слабые здоровьем. Лишившись в советское время своего имущества, они долго голодали в оккупационные годы. Накануне задуманного ухода из жизни они прибрали свой опустевший, холодный в зимнюю пору дом. Помылись, оделись в чистое белье, помолились Богу и заснули навсегда. Окоченел на пороге их дома и преданный четвероногий Дружок. В краткой записке, написанной дрожащей рукой, тетя Мария писала: «Дорогая Лиля! Сообщите Иде и Коле о нашей кончине. Пусть поставят нам во Владимирском соборе в Киеве свечу...»
И быша три братья: единому имя Кий, а другому Щек, а третьему Хорив, и сестра их Лыбедь. Седяше Кий на горе, где же ныне увоз Боричев, а Щек седяше на горе, где же ныне зовется Щековица. А Хорив на третьей горе, от него же прозвася Хоревица. И створиша град во имя брата своего старейшаго и нарекоша имя ему КИЕВ.
Повесть временных лет
Киев для меня не только город, в котором я родилась на пороге Великой Отечественной войны, не только земля, на которой покоится прах моего отца, но и колыбель моего творчества. Первой моей колыбельной песней была украинская песня, которую мне – латышской девочке пела няня-украинка. Первые сказания о граде Киеве я услышала из уст своего крестного отца – драматурга Ивана Антоновича Кочерги. Уже в IX веке, когда начали развиваться ремесла и торговые связи с другими странами, когда шли войны, положившие путь из «варяг в греки», и могучая река Днепр носила название Гористэн, Киев стал центром могущественной феодальной державы – Киевской Руси. Тогда же летописец древности Нестор начал писать «Повесть временных лет». Она открывает всем народам, «откуда пошла русская земля и кто в Киеве нача первее княжити».
С 1919 года мои родители жили на Украине. Поехали в Перекоп навестить в госпитале тяжело раненного брата мамы Густава Филку, ушедшего добровольцем воевать за свободу своей родины с красными латышскими стрелками, и застряли на Украине более чем на два десятилетия. В 1920 году «железный занавес» опустился между советской страной и Прибалтикой. В 30-е годы всякое личное общение с «фашистской» Латвией преследовалось. Я родилась далеко от этнической родины моих предков в стольном граде древней Киевской Руси – Киеве.
Мой отец – филолог со знанием многих языков – считал святой обязанностью каждого знать не только язык, но и историю страны, в которой ты живешь. Поэтому он до конца своих дней изучал историю и культуру украинского народа, посещал лекции просвещения.
Мама, хоть и не возражала, но думала иначе. Для нее существовали только ее родина и только два языка, которыми она владела с -детства. Это латышский и немецкий языки. Много комических казусов происходило с ней при сдаче государственного украинского языка. Работая в Госбанке на улице Банковой в немецком отделении контролером, от нее требовалось знать названия месяцев на украинском языке. К экзамену она готовилась долго и тщательно, борясь за правильное произношение. Папа присутствовал в зале при сдаче экзаменов, и, когда она на одном дыхании выпалила правильно название одиннадцати месяцев и запнулась на двенадцатом, он показал ей на грудь, что означало «грудень» (декабрь). Но бедная мама произнесла другое близкое ей слово «бюстен». Под смех присутствующих она покинула зал. Был и другой случай. С занятий по изучению украинского языка, обязательного для банковских работников, мама пришла веселой и заявила нам с папой, что она усвоила очень важное правило: там, где в русском говорится «о» либо «е», там в украинском «i». Примеров было много: «ночь» – «нiчь», «печь» – «пiчь», «нож» – «нiж». Папа, улыбнувшись, спросил «А как бы ты сказала по-украински «дочь»?» Мама, не задумываясь, ответила – «дiч». И поняв свою ошибку, печально призналась: «Нет, этого языка мне не усвоить до смерти...»
Папе-лингвисту трудно было понять маму. Ведь латышский для славян много труднее усвоить и по произношению, и по правописанию.
По воскресным дням мы с папой ходили на прогулки по историческим местам Киева. Как-то он сказал мне: «Это ничего, что мы ютимся в мансарде малоизвестного Виноградного переулка. Мы живем в прекрасном аристократическом районе Липки с царскими дворцами и парками. Здесь граф Вутулин написал известный русский романс «Не искушай меня без нужды». В XIX веке здесь гостил со своей женой княгиней Ганской великий французский романист Оноре де Бальзак. В Киеве в 1847 году в актовом зале давал концерт Ф. Лист. На улице Садовой останавливался Петр Чайковский. Проходя мимо дома декабристов с мраморной доской и барельефом, папа всегда останавливался, снимал головной убор и говорил: «Таких рыцарей Справедливости я не знаю в нашем веке». А вот о том, что в келий Киевско-Печерской лавры отбывал свое наказание убийца Лермонтова Мартынов, я уже узнала много позже – в 70-х годах от друга Константина Паустовского – писателя Юрия Корнеевича Смолича. Уже в детстве, со слов отца, а затем Ивана Антоновича Кочерги, я узнала, что здесь долго в разные периоды своей жизни жил мой будущий учитель и наставник Константин Георгиевич Паустовский. Он здесь оканчивал гимназию, а затем исторический и филологический факультеты университета, начал печататься в местных журналах и газетах. Однажды с Иваном Антоновичем я побывала в Кирилловской церкви, которую расписал фресками живописец Врубель. Особенно помню глаза, устремленные прямо на зрителя, такие печальные и проницательные... Ночью они мне снились, и я плакала...
Детство в Киеве у меня связано с цветением каштанов и акации. Нигде больше я не встречала таких огромных и таких пахучих фиалок, как на склонах Днепровских гор. Помню, в детском саду 8 Марта мы, дети, собрали их для своих мам. Помню, совсем ранний период своей жизни, когда мы жили у Петровского моста над Подолом. Там у дяди Арнольда, брата мамы, были ферма и большой фруктовый сад. Там было много коров и свиней, и мама не разрешила мне туда заходить в красном платье. Помню что у нас на ферме была рыжая собака Пальма, у которой родились щенята, и их хотели утопить, а я с ними спряталась на сеновале и плакала, пока папа не дал мне слово, что их отдадут в хорошие, добрые руки...
В 1956 году, после возвращения из Заполярья, я приехала в Киев со своей лагерной подругой Элзой Швалбе. Приехали по приглашению друзей папы (родственников у нас там нет) – семьи Соколовских. Глава семьи зоотехник-администратор Антон Иванович был знаком с папой до революции. Он также работал в казначействе Елгавы. Папа ему помогал материально, и свой долг Антон Соколовский не успел отдать до эвакуации в Россию и на Украину. От первого брака у Соколовского было двое детей – сын Георгий и дочь Ксения. Когда в 1917 – 1918 годах папа с мамой очутились в Киеве, молодожены Рогальские встретили там Антона Ивановича Соколовского, который разошелся с первой женой и готовился ко второму браку, у него уже был сын-подросток Юра, и мои родители, у которых не было детей, взяли мальчика на воспитание. Так наша семья породнилась с Соколовскими.
Красивый, нежный душой Юра, искренне любивший свою мать, всей душой привязался к моему отцу и называл его «мой папа». Ксения жила с матерью и тайком от Антона Ивановича посещала брата. Вскоре Антон Иванович женился на дочери бывшего купца – Полине Степановне, и в семье Соколовских родились два сына: Сергей и Вадим. Сергей умер в трехлетнем возрасте, а Вадим жив по сей день, уже имеет внуков. Романтическая и до боли трагическая судьба постигла Соколовских во время второй мировой войны. Георгий, с отличием окончивший Московскую военную академию имени Фрунзе, получил звание капитана танковых войск. Последний раз перед началом войны я видела его в Киеве. Жил он во время своего краткого отпуска у Соколовских, которые были владельцами родового особняка родителей Полины Степановны на улице Предславинской в районе Байкова кладбища. У Юры тогда созрело не по возрасту и положению уникальное решение. Он решил жениться на мне, вернувшись с войны. И, уезжая, одел на первый, самый толстый палец моей левой руки колечко с двумя голубыми камушками опала: «Жди меня, моя единственная невеста!» И в 1943 – 1944 году в адрес Антона Ивановича для меня пришел его почерневший от крови серебряный медальон.
Старики Соколовские приняли нас с Элзой Карловной как родных. Много бед они пережили в годы войны. В немецком гетто погибла дочь Антона Ивановича Ксения, которая была замужем за евреем и превосходно говорила на его родном языке. Из немецких лагерей психически травмированным вернулся сын Вадим, блестящий мастер по оптическим приборам, не менее профессионален он был и в фотографии. Благодаря ему у нас сохранилось много фотоснимков «по местам детства Инги-Ины». Экскурсоводом был Антон Иванович Соколовский – преданный друг нашей семьи. Могилка моего отца была в полной сохранности, любовно ухоженная, только на кресте из водопроводных труб не было таблички. Ее сделала Элза Карловна из обожженной керамической глины.
Чувствуя приближение своей кончины, Антон Иванович рассказал мне о своем пребывании в Латвии: «Я вместе с твоим папой был приглашен на бал в Дворянское собрание Риги на улице Меркеля (теперь это Латвийское Общество). Он познакомил меня со своей невестой Идой Екабовной Филкой. Красивей этой женщины я не встречал в жизни. Миниатюрная по росту, она была королевой бальных танцев, имела призы от русских генералов, за нее поднимали тосты за столом. Я осмелился пригласить ее на вальс, а потом и на мазурку и полонез. Представь себе, твой папа был этому рад, ибо не любил танцевать, и твоя мама не настаивала. «Мой Никлавс – самый прекрасный человек, благородный и преданный, – говорила юная Ида, – но он далек от молодежных развлечений...» Я несколько раз по поручению Николая Каллистовича (так его называли потом на Украине) заходил в Верманский парк в кинематограф «Мон Репо» и приглашал ее на состязания в конных бегах. Я в них принимал участие. Первый раз в жизни она сказала мне комплимент: «Вы прекрасный наездник и красиво держитесь». Пару раз мы втроем – Николай, я и барышня Ида в костюме амазонки – катались на лошадях на Рижском взморье. Да, она была моей несбыточной мечтой в жизни...»
В 1958 году весной на гастролях с оркестром оперы был в Киеве мой будущий муж Янис Карклиньш. Я познакомила его с Антоном Ивановичем и Полиной Степановной. Но они не нашли общего языка. Он показался им угрюмым, малословным и наотрез отказался на обеде от украинских блюд – фирменного борща и вареников с вишней и сметаной. Подобная неконтактность объяснялась двумя причинами: плохим владением русского языка и сентиментальностью нравов украинцев, умеющих раскрывать свою душу посторонним. Кроме того, вернувшись из лагеря политзаключенных в Средней Азии, он выглядел много старше своих лет. Было и другое: добрая, отзывчивая семья Соколовских была далека от оперной музыки. Побывав на гастролях латышской оперы, они непрофессионально-обывательски выразили свое мнение о «Богеме» и «Пиковой даме»: «Очень скромны костюмы у дам, у нас они в этих операх намного нарядней». Несколько смягчилось мнение о моем избраннике, когда они лично услышали о нем лестные отзывы от украинской оперной примадонны Бэлы Руденко. Из Киева Янис привез нам с Элзой украинские керамические сувениры и восхищался народными хорами.
После Киева мы на пару недель были приглашены племянницей моего папы Ниной Степановной Осташевской в Житомир. После войны она осиротела, погиб в тюремных застенках ее муж – священник, умерла старшая сестра Лидия, преподавательница французского языка.
Тетя Нина и ее дочь Тамара – учительница математики жили на окраине города у реки Тетерев. Приняли они нас радушно. Тетя Нина – однолетка моей мамы, много рассказывала о своих поездках в молодости к своей тете, сестре папы, Марии Рогале-Блащук. Нина Степановна в Риге училась в консерватории на вокальном отделении, обладала прекрасным высоким сопрано, имела жениха-латыша, человека хороших манер и больших дарований. Он объяснился тете Нине в любви на французском языке. В дни, когда шилось подвенечное платье, Октябрьская революция лишила его жизни. А Нина Осташевская, мечтавшая стать профессиональной певицей рижского театра, покинула Латвию и навсегда рассталась со своей мечтой. Она вернулась на Украину к овдовевшему после смерти матери отцу и вышла замуж без любви за сельского священника с академическим образованием Александра Хотовицкого.
Волна беженцев вынесла на берег Днепра в стольный град Киев среднего из братьев матери Арнольда-Яниса Филку. Он занялся животноводством, возглавил ферму и очень неудачно женился на бывшей дочери фабриканта Валентине. Она родила ему дочь Леониду и сына Игоря. В 1924 году он скончался от рака поджелудочной железы. Похоронили его на Байковом кладбище. Но во время весенних оползней приднепровских гор его могила исчезла. Когда мама сообщила дедушке Екабу о кончине его молодого и любимого больше других сына, он написал гневное письмо: «Я не дал ему благословения на этот брак с чужестранкой».
В Киеве я приобрела много друзей и коллег по перу. Особенно мне повезло с моей первой книгой «Художники Латвии», которую переводил с латышского языка на украинский уникальный переводчик античных гениальных произведений «Одиссеи» и «Илиады» Борис Тэн (Николай Васильевич Хомичевский). С ним меня познакомила Тамара Антоновна Хотовицкая – дочь тети Нины. Поэт Борис Тэн пользовался большой популярностью как переводчик далеко за пределами Украины. Ему понравилась моя книга очерков о латышских художниках «Собеседования и образы», которая вышла в свет в издательстве «Лиесма» в 1969 году. В Киеве в издательстве «Мистецтво» («Искусство») она открыла в 1977 году новую серию «Мастера братских республик». В 1987 году в Киеве в издательстве «Радьянский письменник» («Советский писатель») вышла в свет моя вторая, уже «украинская» книга «Вiдлуння близьких i далеких дорiг» («Отзвуки близких и далеких дорог»), посвященная творчеству и дружеским связям латышских и украинских писателей и художников. Перевел ее на украинский язык латвийский журналист Анатолий Павленко.
В украинском Музее-архиве литературы и искусств открыт довольно обширный фонд моих трудов-книг, журналов, газет на русском, украинском и даже латышском языках. Моя персональная выставка, с 1990 года ставшая собственностью Фонда культуры, путешествует по Украине и пополняется новыми работами. В Киеве, Житомире состоялись неоднократные встречи-беседы с рериховцами Украины.
Понимаю, что не все вспомнила и рассказала в этом кратком очерке о Киеве-городе, в котором я родилась и встретила своих первых читателей и зрителей.
По служебной командировке мой отец в мае 1934 года находился в Москве и побывал на выставке современного искусства Латвии. «Экспозиция блестящая, – рассказывал он маме с волнением. – Будто на родной земле побывал, вдохнул аромат наших ржаных полей с примесью хвои, побывал на Рижском взморье, побродил вместе с тобой по Старой Риге». Потом в дневниковых записях отца я прочитала об этом посещении: «Если бы я был поэтом, – писал отец, – я воспел бы синие весны Пурвитиса, хлеб Миесниека, марины Калныньша... Одно меня поразило: на выставке не было представлено работ трех выдающихся мастеров – портретиста Яниса Тильберга, активного участника монументальной пропаганды в Петрограде – Карлиса Залитиса и кузена моей жены Отилии-Иоганны – Алберта Филки...» Там отец узнал, что дядя Алберт Филка тяжело болен, но передал один из своих взморских этюдов для мамы, которая тогда ожидала ребенка. Этим ребенком была я...
С этой картины, пожалуй, и началась моя причастность к изобразительному искусству, вылившаяся впоследствии в профессиональный интерес. Помню ее с трех лет. Просыпаясь, я видела пейзаж весеннего утра: подернутое золотистой дымкой небо, полоску из сине-черной воды, охристо-ржавые дюны, переходящие в лесную поляну. Озаренная лучами восходящего солнца, картина как бы размывалась в перламутровом свете. Каждый день моя детская фантазия дорисовывала в пейзаже все новые детали. На небе вдруг слева проявилось прозрачное, как мыльный пузырь, сиренево-розовое облачко, а вокруг него едва уловимый глазом золотой диск. То видела на воде очертания лодки, а на прибрежных деревьях – разноцветных, невиданных птиц. Они шевелились, и, чем дольше я смотрела не мигая, тем рельефней они становились. То песчаный берег вдруг превращался в огромное рыжее чудовище, поглощающее воду... Но чаще всего я видела в нем знакомый берег Днепра, поляну, усеянную фиалками и одуванчиками. Однажды я заявила родителям, что изображенный дядей пейзаж я видела в действительности и могу показать это место. Папа выслушал мое заявление с большим интересом и согласился в воскресный день совершить эту интересную прогулку совместно. Мама же, по натуре строгая реалистка, считавшая любую выдумку родной сестрой лжи, решила «открыть» мне глаза на правду.
— Да будет тебе известно, маленькая фантазерка, что автор этой картины живет очень далеко отсюда на берегу Рижского залива. Весна там наступает позже, чем здесь, и в марте цветут лишь подснежники. Я хорошо знаю то место, которое изображено в пейзаже. Оно находится недалеко от нашей дачи в Майори у реки Лиелупе. Луга там болотистые, и на них много цветов, но фиалок нет...
Для меня мамин рассказ оказался трагичным. Все мои мечты были разрушены, я потеряла возможность творить свой мир фантазий. Больше картина меня не интересовала... Однако история этого произведения на этом не завершилась...
Наступил 1937 год, памятный для многих киевлян. Однажды ночью раздался звонок и у нашей двери. Мама закрыла меня в детской комнате и очень долго и тихо с кем-то беседовала. Когда дверь за ночным гостем затворилась, я вбежала в столовую. Мама плакала...
— Где картина? – спросила я.
— О ней ты должна забыть, – сказала грустно мама. – И никому не рассказывать, что у тебя в Латвии есть дядя Алберт. Больше от него мы никогда не получим картины, никогда не напишем ему письма... Теперь мы дома никогда не будем говорить по-латышски...
Несмотря на запреты родителей, особенно мамы, я не могла не фантазировать. Эта страсть была неотъемлемой частью меня и проявлялась довольно многогранно. Я придумывала сценки со сказочной фабулой, в которых сама играла главную роль, на ходу меняя текст и коллизии. Как обычно, участниками этих представлений являлись сверстники – дети нашего двора. Но больше всего я любила рассказывать страшные истории с конкретными действующими лицами. Часто ими бывали соседи по квартире или знакомые. Конкретным было и место действия – склон горы с обрывом. Этот романтический пейзаж открывался с нашей крыши, которая одновременно служила нам и балконом. Жили мы тогда на Печерске, в Липках, некогда аристократическом районе Киева, где сохранились красивые особняки, дом, в котором собирались декабристы. Но как мало был похож на них Виноградный переулок с десятью маленькими частными домиками, утопающими в фруктовых садах, переходящих на склоне горы в такие же миниатюрные огородики. И всюду обилие цветов, кусты роз, сирень, клумбы с маттиолами, удобные широкие скамьи со спинками. Жильцы нашего дома преимущественно были интеллигентными людьми творческих профессий: артисты балета, композиторы, пианисты, архитекторы. Жива еще была и домовладелица – почетная дама из старшего поколения – Прасковья Борисовна. Строгая блюстительница порядка, она пользовалась большим уважением у квартиросъемщиков. Мне запомнились вечерние посиделки в саду под развесистым орехом, плоды которого, как и груши-падалки, являлись достоянием всех и в первую очередь детворы. Помню, как пряный аромат разливался по всему саду, когда хозяйка дома – бабушка Прасковья – варила на своей половине малину и угощала малышей белоснежно-розовой густой пенкой... Таковы незабываемые воспоминания короткого предвоенного детства...
И все же не эти безоблачные эпизоды предсказали зарождение моих творческих наклонностей. По наследству от родителей я не была сентиментальной. И пересказывая своим подругам прочитанные сказки, всегда приближала их к действительности. В чудеса я не верила с самых ранних лет. Не любила кукол, особенно говорящих, и непременно производила над ними операцию, извлекая из корпуса говорящий таинственный аппарат-обманщик... Самостоятельно сочинять рассказы начала еще до того, как научилась писать. Слушание их происходило в вечерние часы, перед сном, когда крыша остывала от зноя жаркого летнего солнца, а игра света и тени от деревьев создавала причудливо-таинственные силуэты на белой стене соседнего дома.
Мое сочинительство приносило много огорчений моим родителям. После страшных историй с разбойниками и коварными людьми маленькие слушатели по ночам всхлипывали, звали на помощь и переставали здороваться с соседями, причисленными мной к числу действующих лиц... Одним словом, на следующее утро к моей маме приходили жаловаться родители и бабушки маленьких дворовых слушателей, угрожая запретить своим детям общаться со мной... Были упреки и в адрес моих родителей, «вселивших в душу ребенка латвийскую ненависть к людям славянской крови»... Плохо владея русским языком, мама оправдывалась и плакала... А я клялась и раскаивалась в «причиненном всем зле»... А вечером повторялось то же: мама уходила на ночное дежурство в Октябрьскую больницу к больному отцу... А дворовые ребята, заинтригованные моими остросюжетными коллизиями, упрашивали досказать их концовку...

Оля Петрусенко, Инга Рогальская, Валя и Тамара. Киев
После одной из таких «историй» мама повела меня к врачу на консультацию. Тщательно обследовав, врач заявил, что я здорова, и посоветовал занять меня музыкой, лепкой или рисованием. Мама тотчас приступила к реализации совета. Я была загружена до предела различными кружками, брала частные уроки немецкого и французского языков. И все же ко дню рождения мамы умудрилась сочинить ей стишок. Мама была искренне огорчена таким «подарком» и обрушила свой гнев на брата отца – Волдемара, который якобы по наследству передал мне пагубный порок фантазерства. Тогда же я услышала, что писательская работа способствует легочным заболеваниям. Примеры тому – Горький, Чехов, Порук. И в нашем роду живописец дядя Алберт Филка умер от чахотки. Со всеми подробностями мама рассказала о смерти младшей сестры Ольги, на которую, по ее мнению, я внешне похожа. Тетя Оля, оказывается, любила поэзию и сама сочиняла. Умирала же она очень тяжело и по частям: вначале отказали конечности, затем была потеряна речь, а «полные слез глаза молили о жизни»...
Рассказ мамы произвел на меня глубокое впечатление, более того – трагическое... Я почувствовала себя обреченной. Потеряла интерес к жизни, стала дичиться своих подруг, по ночам плохо спала и плакала... В одну из таких ночей я написала завещание. Приехал из-под Чернигова по вызову мамы обеспокоенный и похудевший отец. Прочитав мою грустную, наивную прощальную исповедь, он расстроился: «Зачем же, дочка, так трагично все воспринимать?..»
Вспоминаю сейчас об этой сентиментальной истории с теплой иронией и благодарностью, ведь она, как ни странно, сыграла решающую роль во всей моей последующей жизни.
В один из воскресных дней мама нарядила меня в лучшее белое платье с воланчиками и завязала на макушке такой же бант.
— Папа с тобой приглашен в гости к Ивану Антоновичу Кочерге, – сообщила она торжественно и тут же добавила, – на консультацию...
Перед выходом мне был дан целый ряд строгих наставлений, как держать себя в благородном доме, и главное, если предложат что-нибудь прочитать, то коротко, «не захлебываясь».
Стоял теплый летний день. Цвели липы. До Дома писателей на улице Ленина, дом 68 мы шли пешком. Папа рассказывал мне о своем знакомстве с Иваном Антоновичем:
— Твоя тетя Саша, которая жила в одном из селений вблизи Житомира и славилась прекрасными вареньями и пасхальными куличами, и ее муж Стефан, увлекавшийся ботаникой и разведением пчел, еще в молодости познакомились где-то под Нежином с Параской Михайловной – Пашенькой Поповой и подружились. Семья Поповых отличалась художественными способностями. Отец Параски Михайловны любил поэзию и сам писал стихи. Дочь Поповых Парася музицировала на домашних вечерах поэзии и имела приятный низкий голос. Впоследствии она вышла замуж за штабс-капитана Антона Петровича Кочергу и стала матерью Ивана. Впервые в их дом меня вместе с сестрой Александрой пригласили в 1906 году на крестины Михаила – сына Ивана.
— Расскажи мне, пожалуйста, папа, как Иван Антонович стал писателем? – вдруг попросила я.
— Далеко не сразу, – объяснил папа. – Прежде чем заняться литературой, Кочерга окончил юридический факультет Киевского университета, затем работал мелким чиновником и писал театральные отзывы – рецензии. Много переводил. Кочерга ведь владеет свободно несколькими иностранными языками, особенно французским... Иван Антонович – человек тонкой души, эстет.
— А Ивану Антоновичу в детстве не запрещали фантазировать? – задала я свой давно наболевший вопрос.
— Думаю, что нет. Литературные наклонности сына родители поддерживали...
— Папа, а что это у тебя в сумке такое тяжелое, книга? – поинтересовалась я.
— Я хочу нашему другу подарить самую ценную книгу, – ответил отец.
— Я ее видела?
— Нет, она была спрятана даже от мамы... Но эта книга очень нужна Ивану Антоновичу как писателю и как человеку... Ты ведь слышала, какие он пишет пьесы... Например, «Песня о свечке», «Фаустина»...
— Мама сказала, что это сказки, и в жизни такого не бывает.
— Бывает, Ина, бывает... Ты помнишь, как рассказывала нам с мамой после болезни, что у твоего изголовья сидел дедушка с длинной бородой. И гладил твою голову. Потом жар у тебя спал...
— Да, конечно, я выздоровела тогда... Но мама говорила, что я его видела в бреду... Но когда мне плохо, я хочу, чтобы он пришел ко мне и помог...
— Вот видишь... И эта книга, которую я несу в подарок Ивану Антоновичу, о том, как нам помогают такие светлые личности. Поэтому ты должна к ним обращаться в молитвах...
— Но я не знаю молитв, и детей, которых водят в церковь, выгоняют из детского сада...
— А тебе не надо ходить в церковь. Ты мысленно молись, лежа в кровати перед сном... И проси, чтобы исполнилось твое самое сокровенное...
Ну вот мы и пришли. Дверь нам открыла полная пожилая женщина с мелкими кудряшками – жена писателя – Аделаида Степановна. Увидев нас, она радостно заулыбалась и принялась меня целовать.
Дорогой Николай Криптопович, – так она называла моего отца. – Мы с Иваном Антоновичем так хотели девочку, а у нас два сына...
Иван Антонович появился в двери своего кабинета тщательно выбритый и, несмотря на жаркий день, в костюме, из-под которого выглядывал белоснежный ворот рубашки, стянутый тугим узлом галстука.
— Кого-нибудь ждете, Иван? – насторожился папа.
— Никого, Ника, только вас с Иночкой. Пока будут накрывать стол к обеду, мы посидим у меня в кабинете и побеседуем, – пригласил писатель. Голос у него был низкий, бархатный, со скрипом на верхних регистрах.
Усадив меня в большое кожаное кресло, писатель предложил мне посмотреть прекрасно иллюстрированное издание сказок Андерсена и начал подробно расспрашивать папу о здоровье, о работе.
Отец поздравил драматурга с премьерой его «Часовщика и курицы», сожалея, что из-за болезни не смог посмотреть этой оригинальной пьесы. «А отзывы читал: ее считают «новой страницей» в современной драматургии... От души поздравляю вас», – сказал он Кочерге, и они обнялись...
— Ни о каком самоуспокоении и думать не приходится, – сказал Иван Антонович. – Теперь только и начинается претворение моих мыслей в образы. – Голос его звучал взволнованно. – Представьте себе, Ника, теперь я вырвался окончательно из «кельи затворника»: выступаю на публичных диспутах, спорю... Вот бы удивилась моя матушка!.. Я протестую против пьес с примитивным героем-простачком, не умеющим мыслить и страдать... Юмор и остроумие – отличительные свойства нашего народа, и желательно, чтобы они обрели свою национальную форму в современной литературе и искусстве...
— Не находите ли вы, что следует познакомить украинского зрителя и с европейской водевильной классикой?
— Об этом я уже подумал и перевел с французского на украинский водевиль «Соломенная шляпка». Удивительно изящная вещица!
Разговор взрослых стал мне малопонятен, но я поняла, что мой обычно молчаливый папа очень умный человек.
— Кстати, что это за книга, которую вы мне принесли?.. На столе лежала толстая в синем переплете книга.
— Боже мой! Ника, да это целое состояние – «Община»! (Название ее я уточнила уже в 40-х годах, читая дневник папы) Откуда это?..
— Из Риги, представьте себе... Моя сестра Мария, которая увлекается восточной философией, приобрела эту книгу в Латвийском Обществе имени Н.К. Рериха...
И вдруг они заговорили на французском, мне не понятном языке... Иван Антонович показал папе ряд книг, изданных в Париже. (Одну из них в 1947 году мне подарил Иван Антонович при последней встрече, это была первая книга «Листы сада Мории» издания 1924 года). О моем присутствии на некоторое время забыли. И чтобы чем-нибудь развлечься, я начала изучать кабинет писателя. Кочерги были эстетами. Их окружали гравюры фламандских мастеров, саксонский фарфор. У окна стоял большой письменный стол с многочисленными папками, со старинной чернильницей, с часами в серебряной оправе и белым черепом.
У древних римлян было такое изречение, – объяснил Иван Антонович, – «мементо мори» – «помни о смерти». Это я понимаю так: свершай при жизни хорошие деяния, чтобы было, чем тебя вспомнить после смерти...
Иван Антонович показал нам коллекцию аметистов цветом от нежно-сиреневых до темно-фиолетовых, которые собирала его матушка. (Его отец коллекционировал трубки, хотя сам не курил). «Действительно, ни у одного драгоценного камня нет столько цветов и оттенков, как у аметиста, – объяснил Иван Антонович и, понизив голос, сообщил, – у каждого человека имеется свой счастливый камень, оказывающий положительное влияние на его судьбу... Но, увы, как мало кто это знает...»
Заглянув в гороскоп, он тут же определил, что по данным моего отца ему следует носить аквамарин. Сам же Иван Кочерга носил на указательном пальце перстень с сапфиром – синим камнем. Мой отец вспомнил, что на свадьбу он подарил моей маме колечко с тремя камушками опала...
— О, это, Николя, вы опрометчиво сделали, – огорчился писатель. – Опал – это камень-диагност... Он определяет состояние духа и здоровья человека. Присутствие этого камня в доме вселяет постоянную тревогу. На пальце здорового человека он голубой, искрящийся красными огоньками, а у больного становится белесым, а у мертвого – совсем тускло-серым... Опасный камень. В Латвии нужно носить свой камень – янтарь из морской смолы...
Слушая рассказ папы, я поняла, почему мама во время моей болезни часто надевала мне на большой палец свое колечко с голубым камнем, а потом долго и внимательно его разглядывала у окна.
После обеда отец, смущаясь, наконец-то, заговорил о цели нашего прихода и рассказал писателю о моих фантазиях и завещании. Иван Антонович, прочитав листок, написанный крупными печатными буквами, спросил: «А при чем здесь туберкулез? К чему было так травмировать ребенка?» Папа старался оправдать поступок мамы...
Иван Антонович предложил мне прочесть что-нибудь из моих стихов. Его желание исполнила с большим удовольствием и читала очень громко.
Папа сказал: «Не закрыли мы дверь,
И, узнав о проказах твоих,
К маме подкрался рассерженный зверь
И унес ее в лапах своих».
Я молила: «О звери!
Обещаю послушною быть...
Только маму прошу отпустить!»
Иван Антонович похвалил стишок, но сказал: «Передайте, пожалуйста, Ника, своей супруге, что запрещать фантазировать девочке ни в коем случае не следует, хотя делать какие-либо выводы преждевременно – время покажет. Но запрет может плохо отразиться на дальнейшей судьбе Ины...»
Беспокоило Ивана Антоновича и другое. По его мнению, я плохо владела русским языком.
Вы правы, – согласился папа. – Причина в том, что жена не справляется с русским. Я же в постоянных отъездах. Правда, была мысль отдать Ину в немецкую школу...
— Ни в коем случае! – запротестовал писатель. – Живя на Украине, девочке прежде всего следует овладеть двумя основными языками – русским и украинским... Советую Ине некоторое время пожить отдельно от матери с женщиной, которая бы вполне владела этими языками... Хорошо бы и вам побыть подольше вместе с дочерью...
Вскоре мама уехала из Киева, куда я не знала... Со мной была подруга мамы Нина Степановна, которая добросовестно следила за моим выговором и построением фраз...
Мое детство оборвалось внезапно и болезненно в 1937–1938 годах, когда арестовали моих родителей за то, что они были латышами и поддерживали связь со своей «фашистской родиной». Меня спас Иван Антонович Кочерга, ставший моим крестным отцом. Когда меня в житомирском полесье перекрестили в Галину, в церковной книге записали, что отец русский и православный...
Началась война. Родители уже были на свободе. Накануне эвакуации семьи Ивана Антоновича мы с мамой зашли к ним попрощаться (папа лежал в больнице). Уютной квартиры Кочерги я не узнала... Писатель был растерян, опустошен.
— Все так вдруг, неожиданно, – сказал он грустно. – Я уверен, конечно, что мы скоро вернемся, но... – Иван Антонович развел руками и сказал, обращаясь к моей маме: – Я с детства не люблю переездов, перемены места жительства, хотя какое противоречие (!) • – всегда внутренне куда-то рвусь... Правда, я сейчас переезжаю вместе с писательской организацией и Академией наук, с коллегами и все же... А как же вы?
— Ника очень болен, – объяснила мама. – Мы не можем его оставить одного...
— Но ведь он советский активист, беспартийный коммунист, не терпит фашистов, – заволновался вдруг Иван Антонович. – Да и у вас, Ида Екабовна, в роду красные латышские стрелки!.. Даже не знаю, что вам посоветовать...
Мы расстались с Кочергой в большой тревоге перед неизвестностью...
Вновь встретилась я с Иваном Антоновичем Кочергой после окончания войны незадолго до его кончины – в конце 40-х годов. Он был очень рад своему возвращению домой, много творчески работал. Рассказал о постановке своей пьесы «Ярослав Мудрый» в Харьковском театре имени Т. Шевченко (премьера состоялась в конце 1946 года), подарил мне декабрьский номер журнала «Украинская литература» за 1944 год, в котором пьеса была напечатана в первом варианте.
— Зритель, режиссеры и актеры пьесу встретили отлично, – рассказывал Кочерга, – некоторые даже предлагали поставить «Ярослава Мудрого» в оперном театре, а историки и критики до сих пор спорят... Вот отзыв о драме, который мне особенно дорог...
Иван Антонович протянул мне газету «Радяньске мистецтво» от 13 августа 1947 года со статьей Рильского. В ней поэт писал: «Коли я думаю про «Ярослава Мудрого», я згадую найвищи зразки поетичнои драматургии Пушкина, Шекспира, Олексия Толстого, Шиллера, Леси Украинки».
— А над чем вы сейчас работаете, Иван Антонович? – спросила я, с грустью разглядывая его осунувшееся лицо с подпухшими глазами.
Работаю над шевченковской темой, – оживился вдруг писатель, и его щеки порозовели от волнения. – Преинтереснейшая штука, великолепный сюжет для драмы, жаль, что я на него не натолкнулся раньше!.. Ведь все мы до сих пор думаем, что Шевченко только борец за счастливую долю своего народа, пожертвовавший ради этой борьбы своим личным счастьем... Нет, он глубоко страдал от одиночества, особенно в последние годы своей жизни, и мечтал о семье, взаимопонимании... О, как я его понимаю!.. Жаль только, что сил у меня становится все меньше...
В последнем письме ко мне в 1948 году он писал: «Чувствую свой близкий уход из жизни... Принимаю его как должное и даже радостное избавление от немощной оболочки, которая вот уже много лет в тягость моей душе... Я мало оставил своему народу. Не всегда был им понят... Меня считали чудаком XX века. А я мыслил другими категориями. Милая Ина, не угнетайся моим письмом... Когда-нибудь и ты поймешь и своего отца, и меня. Но до наших будущих встреч лежат большие испытания».
В 1942 году на одной из улиц Киева погиб, возвращаясь из больницы, мой отец. Нас с мамой вывезли в германские лагеря. Там меня отделили от мамы в сиротский пансионат. Маму из лагеря в Элау купил в Берлин, вернее в Крумеланке-Потсдам, какой-то предприниматель, содержащий казино. Купил потому, что мама была очень красивая, хорошо воспитана и, главное, знала немецкий язык. Конечно мама обо мне заботилась, навещала в свободные часы, привозила вкусные вещи, ездила со мной в Потсдам, Ванзее, водила в зоологический сад... Вскоре меня определили в школу для детей «ауслендеров» (иностранцев). Я была рослой, серьезной и очень робкой девочкой, и при поступлении мне увеличили возраст на три года, ведь документов не было – их отобрали, когда вывозили с Украины. После окончания войны по вызову тети Лилии мы вернулись из германских лагерей (я, еще не оправившаяся после бомбардировок Берлина от контузии, у мамы была парализована правая кисть). Приехали мы в декабре 1945 года перед Рождеством... Для мамы встреча с родиной через 30 лет была связана с большим переживанием. Навстречу нам выбежали молодые девушки – дочь сестры Элзы Зента и дочь тети Лилии Вера... Они рассказали, что в июне 1941 года, когда дети были на учебе, вывезли под охраной в товарном вагоне отца и мать Зенты, дядю Адольфа, военного фельдшера, стариков Постниек... Муж тети Лилии – дядя Волдемар скончался от рака пищевода... Нет в живых уже давно дедушки Екаба и бабушки Анны. Мама плакала... Через три дня мы все пережили еще одну очень трогательную сцену. Мама встретилась с тетей Лилией... Как они похожи были, только тетя Лилия была немножко полней и горбилась. Подумать только, более четверти века они прожили в разлуке, обе овдовели...

Зента Аудзе. 1931 год
В Латвию мы с мамой приехали через фильтрационный пункт, и после нового 1946 года должны были явиться с документами в органы НКВД на регистрацию... Документов у нас с собой никаких не было – они сгорели во время одной из бомбардировок Западного Берлина... Уладить вопрос своей личности маме было легче – рядом с ней была ее сестра-близнец, а вот со мной все было много сложней. Меня привезли после контузии с подтеками под глазами. Врачебная комиссия по просьбе матери и родственников установила возраст моей покойной сестры Лины (она умерла от голода в 1933 году), «чтобы могла зарабатывать, учиться и помогать матери-инвалиду»...

Вера Строжинская
И так мы, очень разные по характеру, своему жизненному укладу и призваниям, жили в одной большой квартире старого добротного дома начала XX века, стоявшего на одном из самых красивых бульваров Риги у канала с парком и Бастионной горой... Кроме Зенты в квартире жили тетя Лилия с дочерьми Верой, студенткой медицинского института, и Олитэ, которая была калекой-инвалидом первой группы после перенесенного в детстве паралича... Умная, одаренная девочка, она рано проявила большие способности к математике, мечтала стать экономистом... Без труда поступила в университет... Но, увы, очень скоро пришлось прервать учебу – некому было ее возить и носить по лестницам в аудитории... Вначале мы с Верой это делали, опаздывая на свои занятия...

Инга Рогальская. Студентка Латвийского университета. 1948 год
У каждого из нас была своя отдельная комната, а все остальное общее... Уборкой занимались по очереди, но иногда я заменяла, как младшая по возрасту, свою маму и тетю Лилию, сестру Зенту, как гостеприимную хозяйку, и Олитэ. Это нелегко – в германских лагерях я перенесла воспаление легких и мокрый плеврит. Я не владела латышским языком и объяснялась с кузинами на немецком. Русского языка они не признавали. Для них русские были оккупантами, ведь они разорили Латвию, вывезли их родных на вечное поселение в Сибирь... Я же приехала из советской Украины и была воспитана в «интернациональном» духе... Понять ли мне их, родившихся и выросших в условиях независимой республики, имеющих пусть небольшую, но частную собственность – дома, дачи, магазины. А теперь это все отнято. У меня иная идеология, иное мышление. Все это настроило кузин против меня... Назревал «политический» конфликт, я становилась чужой в семье Филков, мое присутствие за общим столом шокировало их, и мама стала кормить меня отдельно в нашей полутемной комнате с видом из окна на дворовый «колодец».
Я смогла поступить в университет на филологический факультет. Вначале училась заочно, параллельно сдавая экзамены на аттестат среднего образования. Потом стала посещать русское отделение журналистики и начала печататься в местной русской периодике. Затем поступила в Литературный институт Союза писателей СССР на заочное отделение по рекомендации Ивана Кочерги и декана филологического факультета Латвийского университета профессора Роберта Пелше. В комиссии состоял и консультировавший мои первые пробы пера Константин Паустовский. По представленным мной работам трудно было определить, к какому виду литературного творчества у меня было больше наклонностей. В конечном счете определили на одно из, пожалуй, самых трудных отделений – драматургии. Я была рада: пойду по стопам Ивана Антоновича Кочерги – моего крестного отца, который меня поддерживал своими консультациями, посылками и деньгами... (На мою стипендию не прожить!) Во время зачетов у меня возникла вспышка туберкулеза, и через диспансер я попала в Цесисский туберкулезный санаторий...
Там я встретила избранника своего сердца – двадцатилетнего юношу Алфреда Зеберга. Нежный, деликатный, обладающий приятным тембром голоса, он очаровал меня исполнением латышских и русских романсов... Мы решили обручиться. Его мать – очень интеллигентная женщина, желающая своему единственному сыну счастья, одобряя мои писательские начинания, благословила нас. Весна 1948 года была для нас самая счастливая. Из Петербурга на наше обручение приехала тетя Алфреда, пережившая тяжелую блокаду, но сохранившая в себе большую доброжелательность. К этому торжественному дню моя мама сшила мне платье из дедушкиного флага 30-х годов... Шерстяное вишневое платье, отороченное белым воротником и манжетами, показалось мне очень элегантным... и кто знал, что именно этот материнский подарок сыграет такую роковую роль в моей судьбе...
Как сейчас помню этот день – солнечный, напоенный пряным запахом сирени майский день 1948 года... Я нахожусь в аудитории университета на лекции профессора Роберта Андреевича Пелше (он читал филологам «Введение в искусствознание»)... Неожиданно лекция прерывается приходом трех мужчин в штатской одежде... Спрашивают, кто дежурит из студентов и что означает появление в аудитории националистического флага ульманских времен?.. Отвечаю, что дежурная я, но о флаге ничего не знаю и никогда раньше его не видела... В притихшем зале слышна реплика: «Но ведь у тебя из этого флага сшито платье...» Доказательство неопровержимо...

Инга Рогальская и Алфред Зеберг. Рига. 1948 год
Лекция продолжается, но на душе тревожно: «Что бы это могло означать?» После окончания занятий меня у входной двери университета ожидает Адик с букетом сирени: «Разве ты забыла, у нас сегодня семейное торжество... Приглашена твоя мама... Я принес из мастерской кольца»...
— Значит, обручение? – от волнения у меня голос срывается на шепот... Рассказываю об инциденте с флагом... Адик успокаивает: теперь всюду студенческие заговоры, арестован редактор газеты «Советская Латвия» Андропов... – Но ведь мы с тобой к нему непричастны...
На следующий день мама позвонила с бульвара Райниса и сказала, что у нас в квартире проверяли паспорта и расспрашивали у родственников: что я собой представляю и не торгую ли продуктовыми карточками? Последний, неуклюже придуманный, вопрос наводил на подозрение, что проявленный интерес ко мне неспроста...
23 мая, когда в парках Риги цвела сирень, на Даугаве шли состязания парусного спорта, и мы собирались отдохнуть на лоне природы, раздался долгий пронзительный звонок. Мне предъявили ордер на арест, и начался обыск. Я объяснила, что здесь еще не живу, и назвала свой адрес. Машина с занавешенными окнами ждала внизу. Алфред упросил разрешения проводить меня. Мы приехали на бульвар Райниса, где нам сделали «генеральный обыск»: выворотили ящики комода, сбросили на пол книги с полок, конфисковали портативную пишущую машинку, которую на время я попросила у своей подруги... Мама растерянно улыбалась сквозь слезы и повторяла одну и ту же фразу: «У нас ничего запретного нет, мы вернулись из немецких лагерей без вещей...» А когда меня уводили, заплакала: «За что ее?.. Она одна моя дочь... одна...»

Инга Рогальская. Май 1948 года
В Центральную тюрьму меня сразу не повезли. Предварительное следствие проводилось тут же, на бульваре Райниса. Поместили в подвале с зарешеченным окном, выходящим на Инженерную улицу. Алфред провел возле всю ночь, уверяя меня в своей любви и верности, обещая следовать за мной хоть на край света, и не сомневался, что наша разлука будет краткой – ведь я ни в чем не виновата... Напомнил, что через два дня, 25 мая, у него день рождения, и он, как и мама, будет ждать моего возвращения... Но все оказалось много сложней. Меня арестовали, предъявив обвинение – участие в студенческом националистическом заговоре. Более нелепого предлога для моей изоляции трудно было себе представить – ведь, приехав на этническую родину своих предков из немецких лагерей, я даже не владела латышской речью и воочию не видела своих латышских родственников, вывезенных в 1941 году на вольное поселение в Сибирь и Среднюю Азию. В сырой камере я заболела воспалением легких, и меня отправили в тюремную больницу. Допросы велись по ночам, но корректно, без оскорблений и физического насилия. А в конце августа в сопровождении двух конвоиров отправили по месту рождения на Украину. Одной из причин был арест моих родителей в 1938 году в латышском клубе Киева. Адик поехал вслед за мной, и уже на следующий день я получила от него передачу и записку... Он доехал по всем пересылкам до Инты, откуда его под конвоем вернули в Ригу... Осенью 1948 года Киевским военным трибуналом был вынесен приговор: высшая мера наказания расстрел... Но по обжалованию матери он был заменен 25 годами отбытия наказания в трудовых лагерях строгого режима Коми АССР...
Теперь я знаю, что это самые страшные, самые жестокие страницы моей жизни – страницы пребывания в лагерях. Им бы сгореть в пламени времени. Развеять бы их пепел по безымянным тропам гулагов так, чтобы его поглотила белая безмолвность погостов. Но это не подвластно человеческой памяти, да и напоминают о них сохранившиеся в архивах многочисленные анкеты. До сих пор не дают мне покоя воспоминания о следственной тюрьме, где под ногти вставляли иголки, били затылком о бетонную стену, и этот голос: «Подпиши все, если хочешь остаться живой! Сохрани свою жизнь! Это главное! Подпиши, иначе смерть». И удары, удары...
Многое изменила встреча в Юрмале с писателем В. А. Кавериным. Он предложил проверенный им рецепт избавления от этого, казалось бы, навсегда вбитого страха. «Возьмите в руку свечу, – говорил он. – Живой огонь целителен, его зажигают верующие у икон, с ним провожают в последний путь покидающих нашу землю... Зажгите свечу. Разве физические и духовные шрамы не зовут вас к исповеди?..» Вот так возник мой «Автопортрет со свечой».
А тогда после настоятельных писем в лагерь Ивана Антоновича Кочерги я начала писать дневник. Обычно ночью, когда врач уходила спать в барак, а сестра дремала на стуле... Для чего я это делала?! Разве узник с 25-летним сроком заключения может мечтать о свободе, встрече с матерью, любимым женихом?! Какой абсурд! Но писать и мечтать было потребностью моей души. Писала на клочках материи, старых простынях, которые выдавались при кровохарканье, и прятала под подкладку бушлата. Была договоренность с малосрочниками, досиживающими свой срок, о передаче моего бушлата маме, а может быть, самому Ивану Антоновичу (он ведь в курсе дела и поймет цену моего подарка)... Итак, лагерные страницы моего дневника.
25 декабря 1950 года. Помню, белая, хмурая, нескончаемая ночь без луны и звезд. День без дневного света. Колючая проволока на много километров и сторожевые вышки, бросающие тусклый синий отсвет на снег, на дорогу, утоптанную тысячами, а может быть, и миллионами ног заключенных со всех концов света – из всех республик созвездия СССР... Медленно двигается женская колонна, охраняемая вооруженным конвоем и собаками. Больно сечет иголками лицо пятидесятиградусная заполярная пурга. Лопаются и рассыпаются на ходу галоши, скользят валенки по оледеневшей коре тропы. Нестерпимо больно врезаются в спину острые ремни рюкзака... Многим непосильна такая ноша – они бросают ее на пути... А я несу... Мне все это необходимо и дорого, напоминает о родном доме, о маме, Латвии, первой девичьей любви... Вдруг блеснула железнодорожная колея. Свисток известил о прибытии товарного эшелона... Повелительный голос прокричал: «Молодежь, на разгрузку угля стано-о-вись!».
И больше ничего не помню... Нет, все же помню: синий скрипучий снег, и на нем горячее лиловое пятно крови... Моей крови... Я еще слышала голос провожавшего меня Алфреда: «Инынь, милая, держись... Я здесь, я с тобой...»
Дальнейшее знаю по рассказам друзей: смена маршрута «Инта – Воркута» на промежуточный поселок Абезь. Инвалидный лагерь... Кое-кто даже позавидовал: «Это спасло тебе жизнь...»
Канун нового – 1951 года. Лежу в лазарете со льдом на груди. Решетчатое маленькое окно над землей. Беспросветная тьма. Правда, если прижмурить один глаз и долго, напряженно всматриваться в нее, то можно разглядеть изгородь из толстой проволоки с острыми зубьями... Она напоминает оскалившегося шакала... Над ней четырехугольная вышка. Она «органически» вписывается в заполярный пейзаж. От сильного порывистого ветра оборвались провода и погас свет во всех бараках. Только в лазарете горит одна свеча на всю палату. Врач-заключенная ушла на ночь в свой барак. Сестра прилегла на пару часов на освободившуюся постель, на которой умерла златокосая с голубыми глазами девушка из Вильнюса. Она в бреду звала любимого: «Витаутас! Витаутас, какое жаркое лето, открой, милый, дверь на балкон!»
Больных в лечебном бараке более ста пятидесяти. Большинство из них неходячие. Потому нары только нижние. Рядом со мной на матраце из песка девушка из Полтавы – Таня. Она лежит в лазарете с перебитым на следствии позвоночником уже второй год. К ней на свидание приезжал жених. Парень горько плакал и клялся ожидать свою любимую всю жизнь... А уехал, как в воду канул... Судьбы, судьбы... Какие они разные даже здесь, в безмолвии гулага... Старушка Марта из Латвии уже второй срок без перерыва отбывает. Здесь и постарела, потеряла здоровье на непосильной работе в шахтах... А вот доброе, отзывчивое сердце сохранила... Со мной она говорит по-латышски и молитвы тоже читает на нашем языке... А горе здесь общее – человеческое, не зависимое от нации и происхождения. Совсем недавно ее навестил в Абези сын с невесткой. Ждут домой внуков растить. Марта угощает меня домашним медом. Говорит, что это первое лекарство от туберкулеза, если к нему добавить еще алоэ и бальзам...
16 января 1951 года. Это день рождения моей мамы и тети Лилии. Представляю, как ей горько и одиноко без меня... Конечно, тетя Лилия и ее дочери пригласят маму к своему столу, сделают ей подарок какой-нибудь (хоть бы дошло мое письмо к ней). Жаль, что многосрочникам не разрешают часто писать, а посылки получать можно лишь два раза в год. Безусловно, мой жених Фреди будет в этот день с мамой. Но что с ним сейчас? Почему мама молчит о нем? На груди ношу его талисман – колечко с двумя рубинами и на нем выгравированная надпись: «Любимая навек». Но сегодня я думаю только о маме... Представляю, как ей горько сейчас... Какая у нее все же сложная и тяжкая судьба... Она немногословна, как большинство латышских женщин, и все трудности переносит мужественно, без жалоб... Но были и счастливые годы жизни в Латвии...
В тот вечер, в ту бесконечно долгую ночь я написала маме «Письмо в стихах»:
Не зову я тебя в Заполярье
Жить средь снежных сугробов и льда.
Здесь морозный туман, словно марля,
Не увидишь людского следа...
А когда поднимается вьюга,
Ветер рвет и ломает кусты,
На веревке мы тащим друг друга,
Чтоб вслепую пройти полверсты...
Я в далекой заснеженной Коми
Свои боли и горе делю...
Все мечтаю о встрече, о доме
И ночами, тоскуя, не сплю...

Инга и Алфред. Рига. 1948 год
1 марта 1951 года. Сегодня утром меня выписали из лазарета. Кровохарканье прекратилось, но температура все еще держится. В истории болезни сделана запись: «За зону не выводить. Использовать в лагерных работах». Это значит, в многочасовом ночном дежурстве у дровяных складов или на переноске на носилках больных в изолятор... Заключенные прибывают почти каждый день целыми колоннами. Вчера прибыла колонна из прибалтийских республик – для них выделили целый барак... За время пребывания в лазарете я потеряла свое место на нарах, хожу из барака в барак, ищу, где бы приткнуться. Всюду отказ. Наконец, раздается с верхних нар тихий голос женщины с заплетенными вокруг головы косами: «Идите, девушка, сюда, разделим место на двоих», – это значит каждой по одной доске! Я с радостью соглашаюсь, а кругом раздаются недовольные голоса: «Бесстыдница, забирать у пожилой женщины доску!» Так я познакомилась с Элзой Карловной Швалбе-Матвеевой. И не только познакомилась, но и сдружилась... Она оказалась латышским скульптором, человеком высокой духовной культуры... И я благодарна судьбе за эту встречу...
10 марта 1951 года. Пришла из Киева запоздалая посылка ко Дню женщин! Узнаю почерк драматурга Ивана Антоновича Кочерги, а обратный адрес моей матери – рижский!
Иван Антонович верит в вещие сны и предсказания. Он убеждает меня в том, что мой гороскоп предвещает мне скорое возвращение и занятие любимым трудом. В свою очередь он помог матери написать жалобу и просьбу о пересмотре моего дела. Сделал упор на мое несовершеннолетие – дети не могут быть политическими преступниками!
28 декабря 1951 года. «Милая мама! Не присылай мне ничего дорогого и вкусного. Посылки тщательно просматриваются. И ожидающих их содержимого немало. Не огорчайся. Мне помогает своими посылками из дому Элза Карловна – самый большой мой друг и наставник. Да, в лагере появилась эпидемия дизентерии и многие другие заболевания. Врачей среди заключенных много по всем специальностям. Поэтому идет стройка надземных бараков и изоляторов. Требуется медперсонал. Начала посещать занятия. Руководит кружками московский искусствовед, редактор многих книг по искусству Ирина Цигарелли. Свой день рождения отпраздновала вместе с Элзой Карловной присланными из Латвии витаминами. У нас цинга и пилагра. Она не миновала и меня. Спасаюсь присланным тобой луком. Прошу прислать еще...»
27 мая 1952 года. Солнце не заходит ни днем, ни ночью. Это непривычно и сильно действует на психику. Добавляется ужасный запах с ближайших погостов, куч с картошкой и рыбой... Сегодня у нас санобработка барака от клопов и блох. Выносим нары и матрацы на двор, обливаем их кипятком и вонючей жидкостью. Я уже стала санинструктором своего барака .
Узнаю страшное. Уголовники меня проиграли в карты. И если я в течение трех дней не исчезну, со мной «сыграют в мокрую», то есть отправят к предкам. Прячусь в инфекционном изоляторе...
Это Элза и ее сподвижники спасли меня от «проволоки», когда в момент отчаяния и страха перед безысходностью готова была оборвать свою бесплодную жизнь, подчинившись коварному внутреннему голосу: «Ведь до проволоки только три шага и только один выстрел...»
«А что станется с твоей душой? – спросила меня доктор Драудзиня. – Ведь она бессмертна?.. Разве по ночам в бараках мы не слышим стоны душ самоубийц?» И тогда мне приоткрылась великая тайна Учения Живой Этики, законов перевоплощения и кармы... Тогда я поняла, что каждому из нас даются испытания силы воли, мужества и духовного равновесия как плата за совершенные порочные деяния в прошедшей жизни (а сколько их выпало на долю каждого – не нам судить!). «Мы лишь можем укоротить свой список задолженности, избавившись за короткий срок пребывания на земле от двух-трех недостатков и то при осознании их и усиленной, неустанной борьбе с ними... И никто, кроме самого тебя, не сможет это сделать... Трудиться над самоусовершенствованием своей духовной структуры тебе поможет твоя целенаправленная психическая энергия – концентрация мысли с действиями... Прежде всего изгони из себя страх перед смертью и мысли о безысходности... Для этого здесь очень благодатная почва... Испытания обогащают твой опыт мудростью... Научись контролировать в молитве каждый пройденный день, научись посылать в пространство добрые мысли, прояви сочувствие к окружающим и окажи помощь тем, кто в этом нуждается больше, чем ты, и делай это бескорыстно, не ожидая вознаграждения и благодарности...»
30 мая 1952 года. Боже мой, как больно и как жаль!.. Из жизни ушел И.А. Кочерга. Мама побывала у него незадолго до смерти. Драматург был очень болен, одинок и находился в опале. Его похоронили там же, где моего отца, – на Байковом кладбище. Надпись на памятнике была очень скромной.
13 апреля 1953 года. ...Маме долго не писала – работала в дизентерийном изоляторе, куда положили Элзу Карловну. Удивительное, однако, свойство у моего организма – я не заражаюсь от больных, а с виду совсем тощая, дохленькая. «В чем только душа держится», – говорит монашка Прасковья. Она учит меня молиться на ночь: «Слова неважно какие, а главное, чтобы они были с добрым пожеланием и меньше тревожили Господа личными просьбами»... Я не религиозная и по всем правилам молиться не умею, хотя мысленно и обращаюсь к Высшему началу с просьбой благословить меня на доброе дело, помочь избавиться от страха и любого высокомерия...
10 сентября 1954 года. Я выдержала еще одно нелегкое испытание силы воли. По собственному желанию пошла работать в инфекционный изолятор. Здесь мало кто выздоравливает. Изолятор в нескольких километрах от лагеря. Пищу и лекарства сюда «выстреливали» из большой деревянной «пушки», иногда медикаменты сбрасывались с вертолета.
20 октября 1954 года. Снег. Метель. И все-таки, уходя по своей воле работать в изолятор энцефалитников (инфекционный энцефалит – заболевание от укуса клеща), я не представляла себе, что значит это страшное смертельное заболевание... Больные были в бессознательном состоянии, их тело сводили судороги со страшной болью. Они кричали, стонали. Кормить приходилось искусственным образом. Смерть не уходила из барака. Но самое страшное было их хоронить... Вначале мне помогала санитарка Маша, круглая сирота, которую дома никто не ждал. И она призналась мне, что хочет умереть до освобождения, ей осталась пара лет в лагере... Потом слегла и умерла без стона, на лице была улыбка. Освободилась от страданий...
Кончались свечи... Ночь наступала быстро, а когда забрезжил рассвет, я находила на койках уже застывшие трупы... Сама не помню, откуда брались у меня силы хоронить их... Хоронила в бушлатах, покрывая простыней, наваливая на трупы снежную глыбу. Потом в каком-то неосознанном трансе садилась за стол и отписывала по оставленным адресам похоронки. Это было тяжело... Вскоре прислали новую партию свечей. И я, дежуря круглосуточно, засела за свой дневник. Теперь это уже были не краткие записи. Они выливались в стихи и обширные воспоминания о моем детстве, о том, что я знала и помнила о своих близких, учителях... При обыске в Риге у меня забрали незаконченный очерк о моем дяде. А ведь он заслуживает памяти. Итак, вспоминаю, восстанавливаю и пишу, пишу на одном дыхании, чтобы забыться... Пишу очерки, которые наверное назову «жестокие, но правдивые рассказы». Об их дальнейшей судьбе сейчас не знаю, не думаю... Ложась спать на холодную, твердую койку, я не снимаю бушлат. Здесь все богатство моей души... Думаю, как его передать моему другу Элзе Швалбе в барак, чтобы довезла до дому и передала матери. Молюсь... Посылаю добрые мысли...
28 октября 1954 года. После смерти Сталина в лагерной жизни произошли большие перемены. Стали лучше кормить, появился стоматологический протезный кабинет. Я попросила маму прислать мне из Риги протезы. Впервые в лагере возникли библиотека, клуб. Была организована выставка рукоделий, в которой Швалбе участвовала со своей скульптурной работой «Милосердие», а я с вышитой ришелье скатертью. Стали чаще приходить письма и посылки из дома. Начался усиленный поток жалоб и просьб о помиловании. Я в них принимала самое деятельное участие, помогая людям изложить свое дело и отстоять невиновность. Со сколькими жестокими судьбами я столкнулась!.. Сколько неповторимых трагических исповедей выслушала!.. Особенно меня тронула история одной прекрасной, романтической любви двух юных сердец, которая была предана и растоптана. Пришло сообщение из Москвы, что мое дело пересматривается...
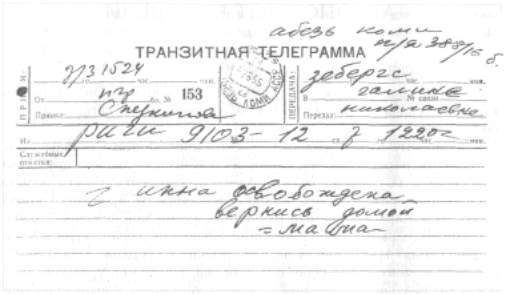
9 марта 1955 года. На сегодня мне назначена операция. Будет делать профессор Штеер, немец, известный хирург из Берлина. Я верю ему: он спас жизнь Элзе Швалбе. И все же волнуюсь – а вдруг опухоль злокачественная... А так хочется жить!.. Сижу в предоперационной в белой рубашке. Косы туго заплетены вокруг головы и спрятаны под косынку. И вдруг неожиданность: экстренная телеграмма из Латвии на мое имя... Неужели что-нибудь с мамой? Холодный пот выступает на лбу... Но почему улыбается профессор Штеер, передавая мне телеграммный листок: «Инна освобождена, вернись домой. Мама».
На этом запись в моем дневнике заканчивается.
Чудо свершилось – еду домой!
Какой, право, чудак этот заключенный-новичок! Он верит, что вдруг железная дверь отворится, и он свободно и легко зашагает без конвоя...
Но почему вместо радости – смятение? Почему, оглядываясь, со страхом переступаю через порог? Не потому ли, что привыкла чувствовать за спиной стражу? А может быть, оттого, что больно расставаться с теми, с кем породнилась душа... У проволоки молча стоит Элза Карловна, самый близкий, дорогой мне человек. Улыбаясь, кивает головой доктор Драудзиня. Но почему плачет актриса Милда Риекстиня? Наверное, от радости и доброты сердца. Элза Швалбе и в этот момент верна себе: она собрана, внутренне уравновешена и мыслит реально: «В бушлате тебе неудобно ехать. Я вынула из каптерки свое серое пальто. На, возьми... Это ничего, что для тебя длинновато и широко в плечах... Носа не вешай. Встретимся в Риге...»
А дальше мало что помню... Подгоняемые ветром, мы мчались по белому безмолвию. Где-то совсем близко, посвистывая, промчался поезд. Пробежал мимо нас олень – грациозный, словно нарисованный, и исчез за снежной пеленой. Вдали дымятся пирамидальные юрты. Все как во сне... Мысли путаются. А вдруг все начнется сначала: пересылки, прожарки, грубые оскорбительные шмоны?! Вспомнила, что везу с собой статуэтку Элзы Швалбе, вылепленную из хлеба, и деньги на дорогу. Вот и все, не считая нескольких кусков сахара от друзей и их адресов с просьбой навестить родных. Остальное как во сне. Все машинально, бездумно: как все, так и я. Хорошо, что со мной из Абезя едет в Ригу медсестра Илга Хелштейн. Она человек трезвый, успокаивает: «У нас на руках справка об освобождении, и нечего дрожать от ветра, как кролик. Пойми, мы теперь свободные люди...»
Хорошо говорить «свободные», если, например, я с ограничением места жительства. Значит, и к маме в Ригу не пропишут... Или придется прятаться... Но до Риги еще далекий путь, не одни сутки езды. Впереди остановки в Котласе, Вологде. Едем: с машины – на машину, с поезда – на поезд. В Вологде застреваем на несколько часов, ожидая московский поезд.
— Пора нам с тобой сходить поесть, – напоминает Илга, принимая на себя обязанности старшей.
— Это в столовую? – пугаюсь я. – Нет-нет! Там же будут ножи и вилки... И много людей...
Ну и что? – не сдается она, – Теперь нас за это никто не посадит в карцер... И вообще веди себя свободней, а то наводишь тень на божий день. Советую где-нибудь купить туфли, в чунях привлекаешь внимание. Посмотри, как жалостливо на тебя смотрит старушка: «Бедный ребенок! За что же тебя?!»
Туфли и носки для меня мы купили в детском магазине по дешевке, но немного меньше размером – вместо 36 – 35 с половиной.
Илга продолжала командовать: «Зачем взяла с собой рюкзак? Не хватало тебе деревянного чемодана? (Его для меня смастерил из фанеры лагерный столяр и попросил за него выданный на дорогу сухой паек).
— Выбросить рюкзак нельзя, – оправдывалась я. – Там мой бушлат.
— Какой бушлат? – возмущается Илга. – У тебя ведь есть пальто. Я свой оставила в лагере, чтобы не напоминал.
— А я везу маме, – говорю я тихо и чуть было не проговорилась, что под его подкладкой мой дневник... Вспомнила предупреждение Элзы: «Лишнего не болтай!»
И размечталась: как приеду, непременно прочитаю маме мой дневник. Мы закроемся в нашей комнате, затем над диваном зажжем лампу под зеленым абажуром, и я прочитаю все записи. Пусть знает, как я жила, о чем думала и что никогда о ней не забывала... Да ведь там имелись и мои стихи, посвященные ей и Элзе. Об Элзе расскажу отдельно. Мама с ней знакома по письмам.
Наконец-то прибыл поезд на Ригу. Вагоны старые, плохо отапливаемые, зато в плацкартном, у каждого своя нара. Господи! Разучилась совсем думать. Полка, конечно... Как давно я не ездила в Москву! Лежу на верхней полке, закрыв глаза, и вспоминаю... Из Риги в Москву я ездила на сессии в Литературный институт. В нем я была самой маленькой. Так меня и прозвали – «маленькая латышка». А ведь я, чтобы не выдавать свой малолетний возраст (не было и шестнадцати!), косы укладывала на затылке в тугой узел так, как у мамы. И старалась не улыбаться (говорят, улыбка молодит человека). И так в полусне, в мечтах и воспоминаниях я доехала до Риги.
— Вставай, готовься! – скомандовала Илга. – И не подумай расслабляться и плакать. Матери о лагере не рассказывай всего да и вообще имей в виду – за нами еще несколько месяцев до амнистии будут следить. Так что – язык на замке...
Глянула в окно: поезд шел по мосту, показались готические башни церквей. Они приняли на себя первые лучи восходящего мартовского солнца...
Почувствовала, как к горлу подступает комок, и кажется, что слышу биение своего сердца... И снова где-то внутри знакомый голос Элзы: «Не впадай в истерику... Дыши глубже...»
Стоп! Приехали. На перроне много встречающих. У моего вагона старик с букетом подснежников. Улыбается. Слезы на глазах... Кто он? Неужели профессор Роберт Андреевич Пелше?.. Как постарел! И почему снял шляпу? За его спиной – знакомые лица родственников, двоюродных сестер со стороны матери... Мысленно проверяю свою память: Зента – дочь тети Элзы, Вера – дочь тети Лилии... Велта и Бирута – дочери дяди Адольфа... Но где же моя мама? И забыв о приличии, бегу по перрону к ней навстречу... Она идет медленно. Ее поддерживает под руку тетя Лиля... А собственно, которая из них моя мама? Та, наверное, что плачет.
— Мама, мамочка!..
— Доченька, мое дитя!.. Но это же не моя дочь... Темные косы, ввалившиеся щеки... Господи, что они сделали с тобой!..
И вот мы на бульваре Райниса... В нашей комнате накрыт длинный парадный стол. Собрались все родственники, все Филки. Многих из них я даже не помню или совсем не знаю. Они, наверное, не живут в Риге. Мое возвращение с того света – это событие, равное по значимости свадьбе или похоронам... Сегодня в мою честь... Трудно поверить... Ведь до этого особого теплого отношения они не питали ко мне... Как-никак я не местная уроженка, вместе не росла. Но именно сегодня, в день своего возвращения, я поняла, что я им стала ближе, что они признали меня своей – пострадавшей, как и их родители, от оккупационных властей.
Каждый на встречу со мной пришел с подарком. Мама радуется: в кои века в ее комнате собрались все родственники... Об этом она давно мечтала, и, главное, они, наконец, признали ее дочь своей кровной родственницей.
О чем говорили, за что поднимали тосты? И что им рассказывала я – уже не помню. Да это и несущественно. Скажу одно: меня очень утомила эта встреча после долгой лагерной жизни... Все время находилась в напряженном положении: думала о том, как держать нож и вилку... Все порывалась брать рукой, а к сладкому не прикасалась.
Когда все разошлись, я сказала маме: «Теперь закроемся у себя, и я тебе прочитаю что-то. Но это пока секретно, и прошу тебя об этом никому ни слова, а то меня могут снова вернуть назад...»
Мама насторожилась: «Что такое? Что ты привезла с собой недозволенное ? »...
А когда я ей объяснила, она категорически заявила:
— Никакого бушлата, никакого чтения я не хочу знать... Довольно мы с тобой настрадались...
И действительно, вскоре, когда представился удобный случай, мама, не спросив у меня разрешения (на то она и мама!), подарила мой рыжий бушлат одному старому художнику – резчику по дереву и, как все живущие у моря, естественно, рыбаку...
Мне было очень больно... Но вскоре начались для меня тревожные будни. Оказалось, действительно, что я еще числюсь на учете, как поднадзорная... Обнаружив меня у матери, причем в постели (я продолжала болеть туберкулезом), маму оштрафовали на значительную сумму и строго предупредили, что я должна находиться там, где прописана, то есть на Видземском взморье в Юмправе. В милиции мне вместо паспорта выдали временную справку, потребовав, чтобы каждую неделю я являлась в милицию на регистрацию. Так продолжалось несколько месяцев до получения амнистии. В это время, естественно, я нигде не работала и находилась на полном иждивении матери.
Вскоре, после освобождения, к нам приехала Элза Карловна.

Элза Швалбе, Ида Рогальская и Инга
Моя мать в летний сезон работала в доме отдыха «Майори» заведующей санузлом. Там же у нее была комнатушка со скошенными углами и низким потолком. Окно ее выходило на крышу кочегарки. Веселый приветливый нрав матери, ее отзывчивость вызывали к ней всеобщее уважение. Маленькая изящная женщина с красивыми серо-голубыми глазами стала любимицей дома отдыха на улице Йомас, дом 35. Поскольку отдыхающие были приезжими, то соответственно русскому обычаю ее называли по имени и отчеству в русском варианте Ида Яковлевна вместо Ида Екабовна. По-русски мать говорила очень неправильно, выпуская все предлоги, например, «я иду скола»... Но это даже придавало ее тихой речи свой шарм. и так мы с Элзой Карловной летом ютились в ее комнатушке, плотно закрывая окно от проникновения света. Полученного в столовой пайка нам вполне хватало. Но мы чувствовали, что постоянно, где бы мы ни находились, за нашей спиной кто-то стоял. Это были трудные месяцы 1955 года. С осени мы жили в Риге на бульваре Райниса в окружении моих родственников, вернее двоюродных сестер. Каждый занимал по одной комнате. Самая старшая двоюродная сестра Зента Манголе, урожденная Аудзе, после вывоза своих родителей в июне 1941 года (раньше вся эта квартира принадлежала им) жила очень обособленно, работая секретарем-машинисткой в Латвийском университете. Травмированная пережитым, она жила в постоянном страхе и даже матери боялась писать под своим именем письма в Красноярский край. Единственная дочь в семье, она очень любила своих родителей и переживала, что после репрессий 1941 года ее отец, занимавший видное место среди предпринимателей ульмановского времени (имел свою типографию), пропал без вести. Посылки матери Элзе Екабовне в Красноярский край посылались от имени моей мамы. К моему возвращению из лагеря моя двоюродная сестра Вера Аниксе, уже закончив высшее медицинское образование, вышла замуж за агронома Стражинского, имела малолетнюю дочь Рамону и проживала на улице Миера, дом 17. Только ее младшая сестра Ольга Аниксе – инвалид первой группы – жила рядом с нами в комнате и работала секретарем-машинисткой в вечерней латышской школе на улице Кр. Валдемара (тогда она носила имя Горького). Все комнаты, выходящие окнами во двор (в колодец), были сумрачными, и даже днем приходилось зажигать свет. В одной из таких комнат размером в 14 кв. метров мы жили втроем: мама, я, Элза Карловна и очень эмоционального нрава пес – рыже-белый Ромео. Впоследствии за озорство он был переименован в Ромку. С ним у нас было много бед и приключений. Пришлось не раз платить детям за прокушенные мячи, отобранные рукавицы либо вытянутый из кармана ученический завтрак. Жизнь свою он кончил трагично – под машиной возле эспланады. Так мы прожили три года. В это время Элзу Швалбе уже навестили ее духовные друзья: Рихард Яковлевич Рудзитис, Катрина Драудзиня, Милда Риекстиня-Лицис и мой будущий супруг, оперный музыкант Янис Карклиньш... Судя по их беседам, они возвращались к своим трудам. Поэт Рихард Рудзитис продолжал свой незавершенный труд «Братство Грааля». Этой работе он посвятил более двух десятилетий. Этот труд «сжигал его душу» в лагерях Коми АССР. Как самый драгоценный талисман он носил с собой сохранившееся к нему письмо Елены Ивановны Рерих, датированное второй половиной 30-х годов. Она писала:
«Считаю, что книга эта не только полезна, но именно необходима... Ваше чувство красоты и присущая северным народам чистота восприятия уловит тончайшие тона и звучание Разума Света, окружающего Обитель Всеобъемлющего Сердца»... (Трудно было поверить, что хрупкое сложение и ясные, кротко глядящие, немного увеличенные оптическими стеклами очков глаза этого невысокого человека принадлежат такому гиганту духа...) Своим творческим энтузиазмом Рихард Рудзитис заражал и других. И пусть официально общество уже не существовало, его твердый стержень сохранился. Вокруг него объединились все те, кому было суждено еще раз вернуться на свою родную землю, чтобы на ней умереть. После Рихарда Рудзитиса Элзу Швалбе навестила Катрина Драудзиня. Трогательная старушка в платке... Она уже в лагере потеряла свое острое зрение, да и руки уже не так ловки, так что со стоматологией пришлось расстаться. Но ведь была другая работа, которой она посвятила свою жизнь. Это «Словник Живой Этики». Шестой раз она его восстанавливала, прибавлялись страницы, превращаясь в тома. «Это поможет всем, кто интересуется Этикой, найти любую книгу и страницу в ней, интересующую каждого». Помнится, что в этот период она уже побывала в Москве у Юрия Николаевича Рериха. И он ее поддержал, более того – предложил первичное название книги-справочника «индексы» сменить на «Словник Живой Этики».
Помнится, заглянула к нам на Райниса и Милда Яновна Риекстиня-Лицис. Кротко улыбающаяся, но грустная. В своем доме на улице Островского в Межапарке она уже не чувствует себя хозяйкой. Верхний этаж с телефоном пришлось за бесценок продать не близким по духу людям. Ее угнетала мысль, что в доме, по словам родственников, имеются подслушивающие аппараты...
Поэтому, приглашая нас с Элзой на свои именины, она просит не поднимать запретных вопросов (имела в виду, естественно, беседы на тему Учения). С этих пор Милда Яновна стала частым посетителем нашей квартиры. И не только на бульваре Райниса, но и тогда, когда я в 1958 году вышла замуж за Яниса Карклиньша и жила на улице Таллинской, дом 35, а затем, после смерти мужа, на улице Киевас, дом 29. Незабываемые были прогулки с Милдой Риекстиня на Рижском взморье и Дубулты по местам Райниса. В них принимали участие Элза Швалбе, а затем художница из Межапарка Ингрид Калнс.

Элза Швалбе и Инга
При всей своей стеснительности Милда Риекстиня была актрисой большой сцены и с райнисовской темой не разлучалась. Она выступала с его стихами уже в середине 20-х годов в школах, а затем в 30-х годах на концертных вечерах в Латвийском Обществе имени Н.К. Рериха. И на моей свадьбе с Янисом Карклиньшем Милда Риекстиня очень впечатляюще, проникновенно прочитала одно из стихотворений поэта, имеющее напутственное значение. Я запомнила его навсегда и взяла своим девизом жизни:
Я знаю слово, что тверже всех руд:
Коль духом ты надломился в борьбе,
Коль сам себе в тягость, коль оробел,
Тогда лишь поможет тебе – труд.
Первое и последнее слово. 4 сентября 1906 года
Не входя в Дом-музей Райниса в Майори, Милда Яновна у бюста поэта прочитала отрывок из его раннего стихотворения «Что я знаю»:
Я знаю голод, знаю и хлад,
Бессилие, слабость, усталость.
Всего не расскажешь, что знаю я, брат,
Все отдано, мало осталось.
Но это не все, что я изучил.
Здесь только лишь сказа начало,
Пусть голос страданья силен и уныл –
Душа его перекричала...
Очень глубоко актриса переживала свой отрыв от театра. Старые друзья о ней пытались замолвить слово в администрации театра. Но оказалось, что в советском бодром репертуаре для победителей войны для нее не находилось роли. Одним словом, отставка. Выступать на концертах тоже не было возможности. Кто-то из коллег по-дружески откровенно заметил: «У вас, милая, после пережитого в глазах на всю жизнь уже запечатлелись страх и удивление. Ушла девственная радость сердца...» «Да, конечно,– соглашалась Милда Яновна. – Все это ушло... И, наверное, безвозвратно...» Кроме встреч с Милдой Риекстиня, во второй половине 50-х годов был и ряд других незабываемых встреч. Все они проходили при участии Элзы Швалбе и, говоря правду, ради нее. Ее разыскивали старые коллеги и друзья. А она, естественно, знакомила их со мной. Как проходили эти встречи? В моем понятии очень празднично, гармонично и светло. У каждого было, что сказать, чем поделиться. Еще не у всех сложилась нормальная жизнь. Даже реабилитация рериховцев не давала им права заниматься идеологическим трудом. Так, например, Арвид-Михаил Калнс не мог больше работать юристом, Милда Риекстиня не смогла вернуться на сцену. Для Рихарда Рудзитиса не нашлось места в Госбиблиотеке, не печатали его стихов и книг. Он лишь официально работал над переводами (в чем ему не было равных в республике). Харальд Лукин, не имея возможности принимать у себя на дому пациентов, принимал больных в квартире Мэты Яновны Лукиной. У Калнсов бывали во время чтения также супруги Лиепа – Ирина и Карлис, оба режиссеры. Карлис – главный режиссер театра оперы и балета. В это время Ирина позировала для портрета Ингрид Калнс. После нее была назначена очередь Элзы Швалбе и моя (по секрету портрет заказал ей мой будущий супруг Янис). Вскоре я вошла в свою творческую колею и бывала у Ингрид Калнс как искусствовед с группой портретистов (работала над книгой «Латышская портретная живопись»).
В доме Калнсов я познакомилась и с Лонией (Леонтиной) Андерман – бывшей актрисой Рижского молодежного театра. До ареста она была дружна с моим мужем Янисом Карклиньшем и Элзой. Она так же, как Швалбе, не была членом Латвийского Общества имени Н.К. Рериха 30-х годов, но была арестована по делу Общества, так как интересовалась Учением Живой Этики, читала соответствующую литературу и делилась ею с другими. По натуре восторженная, эмоциональная, часто впадающая в пафос, Лонна, однако, была добрейшая из людей, готовая помочь своим коллегам в беде. Когда нас с Элзой освободили, то, естественно, материально мы жили очень скромно. Элзу Швалбе после реабилитации восстановили в члены Союза художников. Выделили ей минимальную, но персональную пенсию. Я же время от времени замещала научных сотрудников, уходящих в отпуск, в Государственном музее латышского и русского искусства на улице Горького. Лонна Андерман принимала участие в киносъемках нового фильма и пригласила мою мать, Элзу и меня принимать участие в массовых сценах. С благодарностью вспоминаю этот факт, облегчивший наше материальное положение. Мой муж вспоминал, что Лонна Андерман, плохо владевшая русским языком, прилагала большие усилия выучить язык, чтобы читать в оригинале произведения Елены и Николая Рерих, а также книги Живой Этики, которые поступали в магазины Риги в основном на русском языке.
На этом, пожалуй, я оборву свои краткие воспоминания о возвращении в Латвию после ареста.
Моя Любимая, второе «Я»,
Незаменимая подруга и жена.
В труде сообщник, в невзгодах друг
И врач-целитель, когда недуг.
Янис Карклиньш. Письмо из больницы.
Рига. Май 1960 года
Так нелепо получилось. Прожили вместе неполных два года. Не успели узнать друг друга, или, как ты говоришь, «притереться друг к другу»... Ты – такой сильный, такой величественный – сын своего народа или, как говорят латыши, озолс – могучее дерево – дуб... И вдруг тяжелая болезнь подточила твои корни. И тебя не стало. Трудно в это поверить и примириться с этим... Твои коллеги сохранили твой контрабас и даже фрак... Ты вернулся после заключения в Ригу и, как Онегин «с корабля на бал», занял свое место в оперном оркестре. Первым тебя приветствовал твой наставник и друг проф. Леонид Вигнер. Первое время ты жил у одного из своих коллег, а потом очень скоро получил комнату на Таллинской, дом 35. Одну комнату в двухкомнатной квартире с очень неспокойным семейством, глава которого, работавший в органах НКВД, знал о каждом человеке его «подноготную». Естественно, знал и о нас с тобой – бывших заключенных с ярлычком «сектанты»... То, что мы оба были освобождены из-под стражи раньше срока... Я по амнистии и была не рериховцем, а «изменницей советской Родины». Ты в рериховцы попал по провокации, не состоя в Латвийском Обществе, а лишь державший в руках книги Живой Этики... Одним словом, на свободе мы оказались тоже под надзором с розеткой подслушивания в стене под обоями... Говорили мы с тобой полушепотом... Уступали строптивой соседке место в кухне у газовой плиты... Я каждую пылинку сметала с кухонного стола и ежедневно с утра перед выходом из дома мыла с мылом пол в коридоре. Когда после завтрака ты готовился к репетиции и проигрывал свою партию на контрабасе, в дверь нашей комнаты стучали соседи и обещали потребовать, чтобы нас выселили... Не дай Бог, кто-нибудь из твоих коллег или лагерных друзей заглядывал к тебе на беседу по душам... Однажды юношу, с которым ты сидел в одной камере на следствии, вызвали в Органы государственной бдительности на бульваре Райниса и допрашивали о нас... И чего хуже: в твой роковой год кончины 1960-й, перед госпитализацией в мае месяце, вернувшись из оперы, ты обнаружил исчезновение двух книг Живой Этики, «Общины» и «Иерархии», которые тебе подарила на свадьбу д-р Катрина Драудзиня – твоя посажёная мать...

Янис Карклиньш
Каждый вечер, возвращаясь из оперы, ты перед сном подробно расспрашивал, как я провела день и что написала. С огорчением заглядывал в пустой лист машинки... «Почему? Почему! Ты до нашей свадьбы не могла прожить дня без написанной строчки! Твои очерки «Из мастерской художника» часто появлялись на страницах молодежной газеты и «Советской Латвии»... И вдруг твоя муза замолчала?.. Почему ты ни к чему не прикасаешься в нашей комнате, не берешь из письменного ящика деньги на расходы, не переставляешь по-своему мебель и тайком от меня посещаешь мать и свою подругу Элзу? Право, я не узнаю ту радостно-удивлённую и доверчиво-откровенную девушку, которую я встретил на бульваре Райниса. Что случилось? Может быть, ты жалеешь о нашем браке? Я, конечно, заметно старше тебя, и первое время ты несколько месяцев продолжала называть меня на «вы». А ведь я свято исполнил обещанное перед свадьбой: я остался твоим отцом, любящим другом и гордился, что ты считаешь меня своим учителем в жизни и наставником в Учении... Мне не в чем тебя упрекнуть: ты способная ученица и кротко-послушная спутница моей жизни. Но почему покинула тебя радость? Понимаю, для тебя моя программа нашей супружеской жизни это перестройка не только быта, но и духовного строя жизни... Может, она слишком рациональна • исключает праздное времяпровождение (сон, работа и отдых по режиму с пользой для здоровья и духовного пополнения)... То, чего у тебя, мое маленькое Солнышко, явно не хватает... Ты еще молода, но уже следует рассчитывать свое время. Жизнь коротка, и можно не успеть в себе разобраться, изжить недостатки – тормоза духовного становления... Мы ведь с тобой уже читаем «Письма Елены Ивановны». В них имеются ценные наставления: первое из них – это познание самого себя и своих недостатков, избавление от них путем испытаний и осмысления, считая, что последнее возможно лишь путем осознания Истины и нелегкой борьбы с собой... Я так редко и мало говорю о своей любви к тебе, о своем преклонении перед твоей безграничной добротой не только к людям, но и к животным... У меня даже появляется чувство ревности к твоему спаниелю Ромке... Ты так нежна и ласкова с ним... Я специально купил тебе пластинку И. Альбениса «Песня любви» – она соответствует моим чувствам больше, чем слова. Проигрывай её в моё отсутствие... Ты знаешь, у меня появилось впервые в жизни желание писать тебе письма и даже оставлять на столе записки... Вот и сегодня: ты пошла на работу в Художественный музей, наверное, ведешь одну из экскурсий – ты это делаешь очень проникновенно и нестандартно, как беседу... А я забежал в перерыве домой и приготовил тебе обед. (Я умею, по твоим же словам, делать вкусные обеды. Спасибо на добром слове...) Если тебе не вырваться домой к трём часам, я занесу в музей сумки с едой, только ешь сама, ведь знаю, что поделишься ими с мамой... Вот видишь, какой я деспот – собственная жена боится меня... А разве ты моя жена? Нет, ты дочь с паспортом жены... Прости меня. Твой Янис... 25 сентября 1958 года 2 часа дня».

Инга Карклиня. Юрмала. 1957 год
А вскоре на письменном столе следующая записка: «Тебе – Инуцит! Сегодня я сделал «преступление» по отношению к тебе, но уверен – на пользу... Я перебрал полку с твоими пластинками и выбросил без жалости всю обывательщину и цыганщину... Ты должна слушать другую – истинную музыку... Теперь у меня появились мои любимые «Четыре Б»: Бетховен, Берлиоз, Брамс и король всех симфоний – Бах... Будем слушать до завтрака их вместе... Ты должна врастать в серьезную музыку. Это обязательно для писателя и серьезного искусствоведа. Прости, что пока я тебе их навязываю... Говорил по этому поводу с д-ром Драудзиня, она одобрила мою идею, но сказала, что следует быть более деликатным и ни в коем случае не ультимативным. Постараюсь... А в Кекатас к отцу Берниеку мы непременно с тобой приедем на его день рождения 5 октября... Там, в этом романтическом гнезде, отведем душу, я возьму с собой виолончель, будут композитор Лаума Ренхольд и её сестра-пианистка... Из твоих коллег, наверное, приедут живописец Ульдис Земзарис с невестой Илзите. Одним словом, я тебя не подведу и буду обходительным в женском обществе. Только ты не бойся ночных летучих мышей – это ведь своего рода экзотика... Мы с Ульдисом договорились, что следующим летом починим Берниеку крышу в большой мастерской... не сердись, пожалуйста, мой Инчук! Я так много думаю о том, как тебя, не переделывая, направить на правильный путь... Только не потеряй руки Учителя, он поможет нам преодолеть дистанцию.
Твой Янчук (почему так по-китайски мы называем друг друга, а может быть, в этой стране мы оба когда-то жили...). Элзу не приглашай, она этого приволья, как эстет, не воспримет и на соломе с котами и собаками спать не станет...»
Опять Янис на гастролях с Латвийской оперой в России. На сей раз в Ленинграде. Письма идут почти ежедневно, и в каждом из них столько заботы, столько беспокойства обо мне, о моём здоровье... В одном из них, кроме цитат из книг восточной философии, его собственные, проверенные на себе выводы: «Как важно человеку уметь организовать свою жизнь и направить труд в правильное русло... Главное, все свои силы направить к осуществлению своей сокровенной Мечты... А её я знаю – ты стремишься стать профессиональным литератором и искусствоведом... У тебя есть крылья и сила воли, но на твоих ногах ещё не сняты кандалы, они тебя приковывают к месту, старым привычкам и окружающим, не созвучным твоей душе... Я тебя охраню... Воскресенье, 16.11.58».
С 27 ноября по 9 декабря я побывала у Яниса в Ленинграде. Отделившись от своих коллег, живших в гостинице, Янис снял для нас отдельную комнату в центре у Невского проспекта. Выработал творческую программу для меня по изучению архитектуры и изобразительного искусства этого неповторимого по своей красоте Петровского творения. В нашем семейном альбоме много фотографий, посвященных этой поездке. Было холодно, шёл мокрый ледяной снег, но я не жаловалась и старалась подавить свой кашель, который волновал Яниса, знавшего, что у меня был очаговый туберкулёз лёгких... Муж, ставший моим гидом, был на профессиональной высоте, и обращаться к экскурсоводам мне не пришлось... Естественно, побывали на кладбище, где похоронены замечательные люди последних двух столетий... Останавливались у могил Ф. Достоевского, Чайковского, Бородина... О каждом из них Янис говорил как их почитатель и профессиональный музыковед. Мы вместе оценивали памятники с художественной точки зрения. Например, памятник П. Чайковскому был композиционно не слаженным, окружающие портретный бюст композитора ангелы с раскрытыми крыльями нарушали силуэтную выразительность в пространстве... У могилы Куинджи Янис снял шляпу и почтил его память молчанием. Потом сказал: «Он был учителем Николая Константиновича Рериха». У обелиска на месте дуэли Пушкина Янис сказал: «Каждый из нас должен стараться, чтобы к памяти о нас не заросла народная тропа...» И сказал мне незабываемое, самое главное для нашего взаимопонимания: «Ты знаешь, чтобы твоя душа открылась для меня всецело, я решил, что должен войти в твою творческую жизнь как твой сотрудник и твой помощник... Я хочу принять участие в твоём творческом дебюте – твоей книге «Деревянная скульптура» и как фотограф, и как переводчик на латышский язык, и как твой первый читатель и критик... С этого момента мы вместе будем ходить и ездить в мастерские художников, записывать беседы с ними, наблюдать за процессом работы каждого из них... Начнём, пожалуй, с Артура Берниека».

Лилия Филка и Ида Рогальская. 1962 год
И этот монолог Яниса открыл мне его благородную душу, внес уверенность в том, что с его помощью и верой в меня я смогу стать на свой путь, оправдать свое призвание служить людям во имя Красоты...
И мы начали сотрудничество: от сердца к сердцу. Вместе работать было радостно, исчезла скованность. Музыка «четырёх великих Б» вселяла в меня мужество борьбы за осуществление своей мечты... Правда, рукопись книги была незавершена, когда Янис в июле 1960 года ушел из жизни. За пару недель до этого в Юрмалу к нему стали съезжаться коллеги по опере и рериховцы 30-х годов: Катрина Драудзиня, Милда Риекстиня-Лицис, супруги Янсон – Карлис и Каролина, актриса Лония Андермане и, естественно, Элза Швалбе...
Янис уже знал, что это прощальные визиты, и просил: «Не оставляйте мою Инуцит, помогите ей определиться в своём таланте». А моему будущему мужу – певцу хора оперы Арнольду Аузиньшу завещал «своё кресло переводчика и друга»... И желание Яниса было исполнено: Арнольд Петрович, старый холостяк, не думавший о браке, стал не только моим переводчиком, но и спутником жизни... В его прекрасных, музыкально-чутких переводах вышли помимо «Деревянной скульптуры» ряд книг: «Собеседования и образы» (25 художников моего поколения), «Портретная живопись Латвии», монография «Александра Бриедис», «Лео Кокле» и многие очерки и статьи. Мои творческие вечера на Кавказе, в России и Украине проходили совместно с его концертами, пользовавшимися большим успехом...
И теперь, вспоминая о Янисе, мне хочется выразить благодарность за то, что он был и направил меня на путь истинный.
Милый мой Арнольд, незаменимый друг жизни и творчества... Мы прожили с тобой почти три десятилетия – такие разные и такие близкие по духу. Встретились мы через несколько месяцев после кончины Яниса в доме отдыха «Дурбе»... Туда меня поместила администрация оперного театра по ходатайству коллег покойного мужа. Последние два месяца предсмертных страданий мужа измучили и меня. От слез и бессонных ночей я почти потеряла зрение и совсем аппетит... Мне никогда не был так дорог и необходим строгий, но по-отцовски добрый и заботливый Янис, как теперь. Я только вступила на искусствоведческий путь. Рижское издательство заключило со мной договор на книгу «Деревянная скульптура Латвии» – первый договор в моей жизни. Янис этим гордился и помогал от всего сердца. Он был переводчиком текста на латышский язык. Приобрел фотоаппарат «Зенит» специально для скульптуры. Быстро прогрессирующая болезнь лишила его возможности помогать мне. Работа была оборвана на полпути, это беспокоило больше всего больного... Когда к нему стали приходить прощаться коллеги, он каждого из них просил не оставлять меня без помощи и найти переводчика для книги... С этой просьбой он обратился и к хористу Арнольду Аузиньшу... Аузиньш не пообещал ему ничего, но сам не забыл этой просьбы...
Сблизил же нас один незабываемый эпизод... Арнольд Аузиньш давал сольный концерт в Дурбе на открытой сцене... Его чудесный тенор и прекрасный репертуар романсов на слова Райниса, Мирдзы Кемпе, неаполитанские песни взволновали меня, и, вынув из вазы привезенные мне из Риги розы, преподнесла ему. А потом все было словно в тумане: принимая цветы, Аузиньш поцеловал мне руку и сказал, что этот концерт он посвятил памяти Яниса, который не раз ему аккомпанировал на сольных выступлениях...

Арнольд Аузиньш. Конец 30-х годов
Слово за слово, оперный репертуар и скорая поездка в Ленинград, где нашу оперу особенно любят... Поделилась и я своими заботами: до сих пор Янис переводил мои статьи и очерки для периодики, а теперь проблема с книгой и выездом в провинции к мастерам деревянной скульптуры, например, такому уникальному скульптору, как Арнольд Стуцис из Бренулей Валмиерской области, создающему свои произведения из корней. Но как поеду одна и кто сделает фотоснимки в мастерской? Арнольд Петрович предлагает проводить меня, а вот с переводом книги он не решается помочь, откровенно говоря, что изобразительным искусством и скульптурой он не интересовался... С трудом нашли сестер-переводчиц – бывших учительниц... Но, увы, они запросили такую цену за одну страницу, что пришлось сразу отказаться, да и язык Арнольду показался старомодным... В результате робко предложил попробовать... И все сразу стало на место – лучшего переводчика с прекрасной образной речью я и представить не могла... Работа пошла в быстром темпе. Однако наше появление вместе в мастерских художников и редакции издательства вызвали разные, подчас превратные толки... О брачных узах мы вначале совсем не думали -до того ли было: боль утраты Яниса была еще очень сильна, к тому же и Арнольд Аузиньш, увлеченный своей театральной жизнью, не представлял себя в качестве мужа, главы семьи.
«Я не способен к семейной жизни, – говорил он. – Артист, как и художник, писатель, должен быть свободной птицей – семья связывает крылья творчества...» Так думала и я... Но моя мать и его дедушка Петерис Рункис думали иначе. Дед не раз проводил беседу на эту тему с внуком Арнольдом, которого воспитывал в Риге с ученических лет, когда тот посещал музыкальную школу им. Язепа Медины. Мать Арнольда Амалия Аузиня жила в местечке Берзавне вблизи города Мадоны. Для крестьянской дочери хозяина хутора она была достаточно образована, начитана, обладала музыкальными способностями и приятным голосом. По характеру она была ласковой, общительной и, в отличие от сына, очень разговорчивой...
В декабре 1961 года состоялась наша свадьба. К нам на постоянное жительство приехала мать Арнольда. Жили мы дружно, хотя материально стало туговато. Арнольд при большой нагрузке в опере и дополнительных концертах по приглашению зарабатывал мало, моя мама в летние сезоны продолжала работать в юрмальском доме отдыха в Майори. А мать Арнольда – инвалид и дедушка Петерис – бывший владелец хутора, которому шел 92-й год, по советскому кодексу были лишены пенсии. Я же наверстывала упущенные при шестилетней репрессии годы для получения высшего образования и усиленно занималась журналистской работой, сочетая ее с искусствоведческой. Диапазон творчества все расширялся -я начала печататься в московской и киевской периодике. После удачного дебюта – выхода двойным тиражом латышской книги «Деревянная скульптура» появились издательские заказы в Латвии, на Украине и в России. Арнольд полностью врос в мое творчество как прекрасный переводчик и участник совместных творческих вечеров. Нагрузка физическая и умственная у него все возрастала. Возвращаясь поздно вечером с оперных спектаклей, он садился за стол, и мы работали допоздна, а рано утром будильник звал на репетиции... В выходные дни в опере – вторники у нас на улице Киевской, дом 29 (бывшая квартира дедушки Арнольда) устраивались вечера художников и артистов. Я становилась популярной среди художников 60 – 70-х годов. Одновременно назревали конфликты с секцией искусствоведов, в которую официально я была принята членом лишь в 1975 году, имея уже авторский фонд – около 15 тиражных изданий... Морально это удручало нашу семью... Но были и отрадные недели отдыха на Кавказе, в Киеве, Москве и Ленинграде, где нас встречали по-родственному радушно и обильно раскармливали национальными блюдами, особенно украинскими варениками и борщами... Во время гастролей оперы в России и на Украине я приезжала по просьбе Арнольда и с радостью посещала наши латвийские спектакли, пользовавшиеся большим успехом...

Арнольд Аузиньш и Инга Карклиня. Дзинтари. 1962 год
«...Арнольд Аузиньш был единственным моим учеником, которого я слушала заслушавшись и не поправляла, – говорила концертмейстер Алида Ване. – Итальянская школа, считаю, к нему пришла сама в лучшем ее проявлении. Он настолько владел дыханием и вибрациями голоса, что без всякого принуждения мелодия лилась подобно арфе... Абсолютный слух и память, одухотворенный, трепетный облик неземного лица... Но, увы, физический недостаток болезнь позвоночника не только укоротила его рост, но лишила возможности быть оперным солистом в высоком понимании этого значения...»
Хотя Арнольд по-прежнему говорил, что его не привлекают выставки современных художников, тем не менее их посещал и со мной и без меня. Концертмейстер Латвийской оперы Алида Ване как-то сказала: «Так летели на крыльях творческой музы наши годы и десятилетия».
И вдруг совсем неожиданно во время поездки в родное селение Берзавне на могилу отца Арнольда, умершего в 1941 году, обрушился первый приступ инсульта муж потерял сознание во время прогулки по местам детства, в руках у него был фотоаппарат, а в кармане пиджака – туристическая путевка на двоих в Италию – наша общая мечта, поскольку муж владел итальянским языком и исполнял на нем оперные арии и романсы.
Душевно уравновешенный, малословный Аузиньш никогда не жаловался на здоровье, безотказно выполнял любые поручения и охотно замещал на работе своих коллег. Своими личными переживаниями он не делился ни с кем, даже со мной... Поездка была сорвана повторным и очень сильным кровоизлиянием мозга с потерей речи... Но и тут в нашей беде пришла помощь свыше... Моя поездка в Берлин с выставкой народного художника Александры Бриедис помогла достать для излечения от этого страшного недуга прекрасные лекарства... На удивление местных врачей он не только стал на ноги, но и запел и даже на некоторое время вернулся в оперный хор... Правда, уже больше он не принимал участия в моем творческом процессе. Да, собственно говоря, и из-за материальных трудностей прекратились издательские договоры на искусствоведческую литературу. Последние мои работы – книги и альбомы в 1980 – 1990 годах вышли в Москве и Киеве небольшими тиражами (как убыточные издания, хотя их и расхватали за несколько дней).
Последнее десятилетие я жила в постоянной тревоге за состояние здоровья мужа. Уезжая на сессии Академии художеств в Москву или в Киев, на открытие своей выставки живописных миниатюр, на рериховские встречи, я ежедневно звонила по телефону домой и каждый раз слышала один и тот же ответ: «Чувствую себя отлично. Береги себя...» После долгих мытарств с квартирой мы наконец получили малогабаритную, но уютную квартиру в живописном микрорайоне Риги – Югле. Правда, от многих дорогих сердцу вещей пришлось отказаться: от рояля, мягких кресел, большого размера картин, банкетного стола... Жили в более строгом режиме, не исключая посещения театров, концертов. В обязательном порядке Арнольд смотрел по телевизору спортивные программы (до женитьбы он был заядлым волейболистом, состоял в клубе «Динамо»). Думаю, что он в этом отношении ради меня принес себя в жертву. Отказаться пришлось и от садового участка...
Умер Арнольд от инфаркта 12 августа 1990 года. А в октябре этого же года состоялась моя персональная выставка, посвященная 60-летию Латвийского Общества имени Н.К. Рериха, один стенд миниатюр был посвящен памяти Арнольда Аузиньша: «Пустое кресло...», «Автопортрет со свечой», «Цветы памяти сердца», «Портрет певца», «Я слышу твой голос...», «Есть прощанье, но не расставанье»...

Арнольд Аузиньш. 1988 год
И сейчас в моем полном одиночестве я чувствую во всем твое присутствие: в книгах, любимых вещах, в бое настольных часов и в прикосновении к клавишам пишущих машинок, к которым прикасались твои пальцы. Все твои ноты и пластинки я сдала в музей и подарила твоим коллегам и ученикам... Ты продолжаешь жить...
Я слышу твой умолкший голос,
Твои затихшие шаги...
О моих наклонностях к художеству никто из родителей не подозревал... В раннем детстве, посещая детский сад в Киеве, я однажды вылепила «Ласточкино гнездышко с птенцами». Вылепила из глины во время одной из прогулок по склонам Днепровских гор... Воспитательница группы Галина Ивановна обратила внимание на мою работу и просила ее повторить в пластилине для детской выставки... Я исполнила ее просьбу, и моя композиция была представлена на республиканском смотре детского творчества города Киева... На этом мои занятия лепкой закончились... Рисовала, как рисуют все дети в свободное время от занятий... Но ходить с родителями, особенно с папой, в музеи и выставочные залы доставляло удовольствие. Больше всего нравились натюрморты с цветами и лирические пейзажи... Думаю, что этот интерес привил мне сын моего крестного – драматурга Ивана Антоновича Кочерги – Роман. Он учился в Харьковском художественном институте и много выставлялся. Был Роман живописцем-модернистом, и не только я, но и его родители, особенно отец, не принимали этой «аляповатой мазни». Картины сына смотрелись лишь на расстоянии...
Думаю, что интерес к изобразительному искусству во мне пробудила уже в лагере Элза Карловна Швалбе-Матвеева... Помнится, в подарок мне она из белой булки, присланной ей в посылке свекровью, вылепила обнаженную миниатюрную девочку... Я очень берегла этот необычный подарок и была расстроена, когда в статуэтке образовались иголочные дырочки (ее поедали насекомые)... Становясь искусствоведом в конце 50 – 60-х годов, я посещала регулярно мастерские художников. Наблюдала за процессом работы, не стесняясь, расспрашивала о технологии красок, приготовления холстов и левкасов для досок... Одновременно позировала.... Поэтому за 60 – 70-е годы было создано более 50 моих портретов... Одной из первых меня писала Александра Бельцова-Сута (маслом и пастелью), в интерьере и на фоне весенней Риги. Три портрета – два репрезентабельные, собственность Художественного музея республики создал известный портретист Хари Бобинский. Долго у меня в квартире находились мои портреты работы ученика Вильгельма Пурвитиса Паула Главдана, старейшего мастера живописи Латвии Аугуста Зауэра, Яниса Рикманиса, с меня написал портрет-икону украинский талантливый живописец Петро Яковенко... Пришлось мне позировать академику Сергею Григорьеву, Лео Кокле, Алфею Бромулту и многим другим. Но в эти годы я не прикасалась к живописи... И совсем нежданно-негаданно это «озарение» ко мне пришло в Восточном музее Москвы, в экспозиции японской росписи по шелку... Помнится, вернувшись в Ригу, я акварелью попробовала писать цветы, причем не с натуры, а по памяти и чаще весенние зимой, а летние осенью... Впервые меня «сложившейся художницей миниатюр» назвал в 1982 году в Берлине ректор отделения изобразительного искусства Берлинской академии Вернер Клемке... Помню этот решающий в моей жизни эпизод.
Находясь в Берлине с выставкой скульптурных работ художника Латвии Александры Бриедис, совершила поездку в Дрезден на выставку, где была представлена «Сикстинская мадонна» Рафаэля...
Венский поезд из Берлина отходил рано утром. В купе находилось нас четверо. Спали все на нижних полках «валетами». Светало. За окном бурно цвела сирень, опьяняя пряным ароматом наше купе. Солнечные лучи пробуждающегося утра пятнали сиреневой краской лица трех лежащих передо мной: девочки с челкой до бровей и пухлыми губками, ее матери, цветущей женщины лет тридцати с ярким румянцем на щеках и старушки с высоким белым воротом. Седые волосы были тщательно собраны на затылке в узел, и только одна короткая прядь спадала на ее высокий, исчерченный тонкими морщинами лоб... В голове моей промелькнула мысль: «Была бы я живописцем, непременно бы написала с них портретный триптих»...
В Дрезденской галерее уже знали о моем приезде и преподнесли мне прекрасный набор водяных красок: акварели и темперы, а также несколько рулонов прекрасной тонированной бумаги... Очевидно, приняли меня ошибочно за художницу...
Вернувшись в апартаменты Берлинской академии, я принялась писать триптих «Три возраста». Суть своего замысла я передала не портретно, а сиреневой гаммой цветов, начиная от нежно-розоватой, в центральной части – насыщенно яркой с лилово-бордовыми акцентами и кончая спокойным серебряно-белым букетом в старинной кобальтовой вазе...
В те далекие годы приезжающих из Латвии, даже таких известных людей, как скульптор – член-корреспондент АХ СССР Александра Бриедис, во всех походах и поездках по Демократической Германии сопровождал переводчик-экскурсовод. Хотя она и я в этом не нуждались...
На приеме в доме профессора Вернера Клемке в Берлине на улице Тасу меня сопровождала «переводчица», которая, кстати, засветила фотопленку моей встречи с д-ром Вернером Клемке и его семьей (все его дети и внуки были художниками)... Именно она показала мой триптих «Три возраста» («Сирень») без моего разрешения профессору В. Клемке... К счастью, моя первая работа (дебют в живописи) понравилась профессору, он попросил поставить на триптихе мой автограф, посоветовал продолжать в таком духе... В октябре 1990 года я дебютировала на персональной выставке в Риге со своими миниатюрами в темпере и акварели из цикла «Рериховцы 30-х годов». Пополненная серией «Дорогами дружбы» выставка демонстрировалась в Киеве – Житомире – Львове и некоторых селениях Украины. Она и по сей день где-то в пути. Часть этих работ, проходившая под лозунгом «Мир через культуру и содружество народов», была приобретена Фондом культуры Украины, музеями и принесена мною в дар Обществу имени Н.К. Рериха и частным коллекционерам... Так я стала художницей...
____________

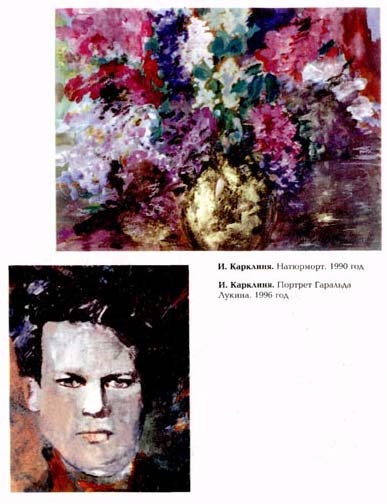






Карклиня И.-Г.Н.
КАПЛИ ЖИВОЙ ВОДЫ
Главный редактор Е.П. Никитина
Редактор О.Н. Прокофьева
Художник В.А. Панидов
Корректор О.Н. Зызлаева
Оригинал-макет подготовлен издательством «АГНИ»
Издательство «АГНИ»
Для писем: 443086, г. Самара, а/я 10329
Телефон (8462) 35-68-21, факс 35-86-08
Лицензия ЛР № 063081
Формат 70 х 90 1/16. Гарнитура «Балтика».
Печать офсетная. Печатных листов 17,5.
Тираж 3000 экз. Заказ № 6400.
Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии
издательства «Самарский Дом печати»
443086, г. Самара, пр. К. Маркса, 201
[1] Этот очерк-воспоминание под названием «Латвия» был опубликован в 1938 г. в Риге в сборнике «Золотая книга».
[2] Факты и высказывания почерпнуты из рукописного отдела Государственной Третьяковской галереи, фонд Н.К. Рериха, 44/44.
[3] По материалам дневника Г. Шкилтера и рассказам его супруги в 1955– 1956 гг.
[4] Архитектор С. Енсен. XVIII в.
[5] Сборник научно-исследовательского института Академии художеств СССР, Москва, 1978 г.
[6] «Золотая книга», 1938 г.
[7] Я.М. Богословский «Международная охрана культурных ценностей», 1919 г.
[8] Роман вышел в свет в 1913 г. и наделал много шума. Против него выступил А. Упит.
[9] Запись беседы с ней на магнитофонной ленте 24 апреля 1996 г
[10] Запись воспоминания В. Зосс сделана 5 марта 1996 г.
[11] Энциклопедический справочник «Латышские деятели литературы», АН ЛССР, Рига, 1965 г.
[12] «Страницы дневника». Инта – Абезь, 1949–1950 гг.
[13] Перевод И. Карклиня.
[14] В Музее литературы и искусства им. Я. Райниса имеется обширный фонд семьи Рудзитиса. Там хранятся и «Воспоминания Эллы Рудзите о себе, о театре, о муже и дочерях».
[15] Теперь это Художественный музей и улица переименована в улицу Кришьяниса Валдемара.
[16] Пастолас – лапти из кожи.
[17] Доротеяс – фамилия директора, владелицы частной гимназии.
[18] «Свет Сердца», Рига, «Угунс», с. 64-67.
[19] Автор Элза Швалбе.
[20] Исполнительница ролей наивных девушек.
[21] Озол – латвийский дуб.
[22] Из книги С. Виеси «Рисунок жизни», Рига, «Лиесма», 1985 г.
[23] Из книги С. Виеси «Рисунок жизни», Рига, «Лиесма», 1985 г.
Внимание! Сайт является помещением библиотеки. Копирование, сохранение (скачать и сохранить) на жестком диске или иной способ сохранения произведений осуществляются пользователями на свой риск. Все книги в электронном варианте, содержащиеся на сайте «Библиотека svitk.ru», принадлежат своим законным владельцам (авторам, переводчикам, издательствам). Все книги и статьи взяты из открытых источников и размещаются здесь только для ознакомительных целей.
Обязательно покупайте бумажные версии книг, этим вы поддерживаете авторов и издательства, тем самым, помогая выходу новых книг.
Публикация данного документа не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Но такие документы способствуют быстрейшему профессиональному и духовному росту читателей и являются рекламой бумажных изданий таких документов.
Все авторские права сохраняются за правообладателем. Если Вы являетесь автором данного документа и хотите дополнить его или изменить, уточнить реквизиты автора, опубликовать другие документы или возможно вы не желаете, чтобы какой-то из ваших материалов находился в библиотеке, пожалуйста, свяжитесь со мной по e-mail: ktivsvitk@yandex.ru