

|
|
|
Косоруков А. А.
Строитель вечного пути России Сергий Радонежский
Автор сердечно благодарит за помощь в издании книги
А. А. Андриевскую, В. М. Дириева и А. Е. Литвинова
Косоруков А. А.
Строитель вечного пути России Сергий Радонежский. — М.: НПЦТ «Беловодье», 2004. — 576 с.
ISBN 5–93454-051–3
Биограф Сергия Радонежского оказывается перед комплексом противоречивых интерпретаций его жизни и деятельности (1314–1392), обусловленных, прежде всего, двумя загадочными исчезновениями: 1) «Жития Сергия Радонежского», написанного его преданным учеником Епифанием Премудрым, пожалуй, лучшим писателем того времени; 2) документов о канонизации преподобного Сергия как общерусского святого. Тем самым задается цель исследования – восстановить в конкретной полноте и истине образ Сергия Радонежского – жизнестроителя, духовного вождя Руси. Автор стремится приблизиться к истине путем комплексного анализа ранних письменных источников сведений о Сергии Радонежском и его времени, прежде всего, анализа наиболее информативных переделок исчезнувшего епифаниевского «Жития», осуществленных агиографом Пахомием Сербом (середина XV в. ) и Анонимом (первая треть XVI в. )
В центре внимания исследователя подвиги великого Сергия, ясно понимавшего настоятельную необходимость возрождения и утверждения истинно христианских основ сознания русского народа, укрепления его веры в реальность освобождения Руси от татаро-монгольского ига и построения сильного, независимого, централизованного государства. При рассмотрении узловых вопросов жизни и деятельности Сергия Радонежского, в котором воплотился дух Великого Учителя, давшего человечеству Новое Учение Живая Этика (Агни Йога), руководящее значение имели для автора те ее фрагменты и определения, которые относятся непосредственно к величайшему подвижнику Руси и к судьбе ее народа. Настоящее исследование вообще стало возможным благодаря Живой Этике, которая дала автору философски и научно обоснованную систему понимания беспредельного процесса совершенствования духа и материи, истории, закономерностей эволюции Космоса, Земли, человека.
Все права сохранены. Полная или частичная перепечатка возможна только с разрешения издательства.
© НПЦТ «Беловодье», 2004
© Косоруков А. А., 2004

2.2. История протографа Жития Сергия
2.3. О переделках Жития Сергия
2.4. Похвальное слово Сергию Радонежскому
3.1. Первые чудеса и первые их истолкования
3.3. Место, время рождения и выбор крестильного имени Варфоломей
5.1. Постническая аскеза и врожденные грехи Варфоломея
6. СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ ПЕРЕКРЕСТОК СУДЬБЫ
6.1. Кармическая кара и ее искупление
6.3. Долг и жертва или долг и духовное обогащение?.
7.1. Церквица и келья в глубоком лесу
7.2. Малая и большая правда русского монашества
8. СВЯТО-ТРОИЦКАЯ ОБЩИНА МОНАХОВ
8.1. О хронологии событий в жизни Сергия с 1342 по 1354 гг.
8.2. Основание лесного монастыря
8.5. Быть или не быть игуменом?
8.6. Подвиг архимандрита Симона
8.10. Целесообразный компромисс
9.1. Перемены без изменения сути
9.2. Возвращение Стефана, или Троянский конь
9.5. Человек смотрит на лицо, Бог – в сердце
10.2. Духовная трудовая община монахов
10.3. Жертва – власть над умами
11.1. Обитель в честь Богородицы-Владычицы
11.2. Хроника жизни и Жития преподобного Сергия (1354–1361 гг.)
11.3. Возвращение в дом Святой Троицы
12.1. Образы русского духовного пастыря
13. ИГУМЕН СЕРГИЙ – СЫН РОДИНЫ
13.2. Единение народа – дело Богоугодное
13.3. Мудрость прекращает междоусобицы
13.5. На чаше весов судьба Руси
14.2. Сергий Радонежский и стригольники
14.4. Светоносец, а не золотоносец
14.5. Киприан: «Моя митрополия!»
14.6. Если бы вас убили, то вы – святые
15.3. Поединок: победительная ничья
15.5. На поклонение к великому Пророку
16. КОЛИ В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ...
16.1. Дмитрий Донской выбирает из двух зол... большее
16.3. Сергий Радонежский и Киприан в Твери
16.4. Второе изгнание Киприана из Москвы
16.5. Предвидение определяет поведение
16.6. Штрихи к автопортрету Киприана
17.1 Игумен Сергий во главе княжеского посольства.
17.3. О чудесах мнимых и подлинных
17.4. Причащение небесным огнем
18.3. В последний путь – с народом, без священноначалия
19. ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА И ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
20.1. В одном слове – целое мировоззрение
ХРОНИКА ЖИЗНИ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Мы советуем во всем реально научное мышление. Даже самое возвышенное вдохновение должно быть укреплено наблюдением научным. Не нужно думать, что такой подход может что-либо умалить. Не нужно забывать, что многие прекрасные идеи распадаются от беспочвенного разумения. Такую необоснованную веру следует заменить светом познания... Познание должно быть свободно от предрассудков.
Живая Этика
Никогда в русской истории не было проявлено столь широкого и устойчивого интереса ученых и общественности к жизнедеятельности величайшего святого Руси Сергия Радонежского, как в 90-е годы XX в. Библиография книг и научных статей о нем насчитывает десятки наименований, не считая множества популярных публикаций в периодике по случаю празднования 600-летия со дня его смерти.
Три особенности отличают литературу, вышедшую в России в связи с 500-летием кончины Сергия Радонежского (1892 г. ) от литературы, изданной в нашей стране 100 лет спустя.
Если в конце XIX – начале XX вв. господствовал православно-богословский подход и сравнительно-исторический метод исследования жизненного подвига Святого Сергия, то через 100 лет положение существенно изменилось. Вместо преобладания одного подхода и одного метода, что также было присуще советскому периоду Российской истории (с 20-х по 80-е гг. XX века включительно), наблюдается множественность мировоззренческих установок (православно-богословская, позитивистская, марксистская, живоэтическая и др. ) и исследовательских методов (сравнительно-исторический, диалектико-материалистический, историко-культурный, семиотический, текстологический, нумерологический и др. ). В. М. Топоров впервые в истории русской медиевистики применил метод под названием «уступление себя миру». Наш подход к изучению литературных источников о Сергии Радонежском также во многом нов. Мировоззренчески мы опираемся на Учение Живая Этика. И хотя наш метод исследования в целом можно определить как семиотический, но он расширен в соответствии с принципами Живой Этики. Разнообразие идейно-творческих установок исследователей – первая особенность новейших работ о Сергии Радонежском. Конечно, истина одна, но действительность беспредельно многообразна, и, значит, пути и способы поиска истины должны быть адекватны предмету исследования.
Вторая особенность работ о Святом Сергии – отражение в некоторых нового воззрения на его личность и подвиг, на само понимание святости, воззрения, ясно изложенного в Новом Учении Живая Этика, или Агни Йога [1]*. В начале 30-х гг. XX в. за рубежом появились первые публикации, в которых жизнь Сергия Радонежского осмысливалась в духе Живой Этики. В России они стали известны лишь в начале 90-х гг. XX в., когда отмечалось 600-летие со дня смерти величайшего святого Руси. Тогда же появились и первые публикации о нем, написанные рериховцами – именно тогда появилось это слово, обозначавшее как приверженцев Нового Учения, продолжателей дела Рерихов, так и тех, кто были членами новых, «перестроечных» общественных организаций сторонников Живой Этики.
Третья особенность литературы 90-х гг. XX века о Святом Сергии: ее главные направления – позитивистское и марксистское (представлены, в основном, учеными, традиционно работающими в вузах и академических институтах), христианское (возродилось в 90-е гг. и получило поддержку Русской православной церкви) и живоэтическое (или агни-йогическое, самое молодое, примыкает к движению рериховцев) – развиваются без должного взаимного общения, а порой в отрыве друг от друга. Такое положение, на наш взгляд, наносит ущерб изучению жизни Сергия Радонежского. Последователи Живой Этики, принимая действительность во всей широте и полноте, считают целесообразным и продуктивным изучение всей литературы, относящейся к жизни и подвигу Святого Сергия. Терпимое, уважительное отношение к любой точке зрения, как и безусловное признание свободы мысли и слова – один из основополагающих принципов Нового Учения.
Великий, целожизненный подвиг Святого Сергия, учителя и охранителя земли Русской, жизнестроителя, пророка, чудотворца, пока изучается все же недостаточно широко и глубоко. На наш взгляд, его подвиг заслуживает организации комплексных исследований, например, таких, как исследования «Слова о полку Игореве». Сергий Радонежский, будучи воплощением Великого Планетарного Духа, закладывал в России основы будущего устроения мира, соответствующего эволюции Космоса. Он, как Христос, есть Путь и Истина, и изучение его жизни и его деяний философами, богословами, историками, филологами, психологами, футурологами принесет пользу и развитию науки, и жизни людей. Острый интерес к феномену Сергия Радонежского возникает ныне еще и потому, что Тот, чьим воплощением он был, есть Строитель судеб человечества, Великий Учитель, заблаговременно давший людям Учение – Живую Этику. Это Учение – развитие и синтез прежних великих религиозных, философских Учений человечества применительно к новому витку эволюционной спирали. Оно – милосердный дар людям, их последняя возможность стать на путь спасения при предстоящем крутом переходе к Шестой расе человечества. Каждый трудящийся человек, творящий добро и чтущий Иерархию Света, может, не отстраняясь от жизни и своего дела, взяться за освоение Учения и приложение его лично к себе и к жизни. Для этого оно и дано людям.
Наше исследование – попытка применить Живую Этику к осмыслению жизни и деятельности Сергия Радонежского. Предмет исследования – разнообразные тексты о нем, имеющиеся в распоряжении ученого. Задача исследования – восстановить истинный образ Сергия Радонежского, очистив его от наслоений времени. Но где критерий? На что опереться при отсутствии епифаниевского протографа «Жития Сергия Радонежского»? Основные принципы его жизни сформулированы в суждениях о нем и других Великих Учителях, имеющихся в Живой Этике, в «Похвальном слове» о нем, написанном, в основном, Епифанием Премудрым, в очерке Е. И. Рерих «Знамя Преподобного Сергия Радонежского» и в ее письмах, в статьях Н. К. Рериха. Следует особо подчеркнуть, что нет сколько-нибудь существенных расхождений между вышеназванными текстами – ни в общем взгляде на подвиг Преподобного Сергия, ни в оценке его деяний.
Остановимся на основных особенностях нашего подхода и нашего метода. Понятие «действительность» мы распространяем на все Сущее, как физическое, так и психическое, и все Сущее считаем живым, одушевленным. Мы признаем и почитаем беспредельную Космическую Иерархию Света в качестве Совершенного Разума и Совершенного Сердца Вселенной, направляющего ее эволюцию и созидающего все Миры, обитаемые и необитаемые. Следовательно, история этих Миров, включая, разумеется, и Землю, творится не только их обитателями, но и их космическими Руководителями, Теми, Кто несет высочайшую ответственность за эволюцию Космоса. Высшие светлые Силы Космоса находятся в постоянном противоборстве с силами Хаоса. На Земле оно с давних пор осложнено и обострено борьбой с силами тьмы, возглавлявшимися до 17 октября 1949 года Князем тьмы, Сатаной [2].
Сергию Радонежскому было присуще широкое понимание психофизической действительности Плотного и Тонкого миров. Освоение его подхода к Миру и человеку помогает исследователю освободиться от умаления подвига жизни Преподобного, от недооценки той стороны его жизни, которая связана с проявлением так называемых сверхъестественных сил, с помощью, оказывавшейся ему Свыше.
История науки доказывает, что сфера познания действительности неуклонно расширяется – как по горизонтали, так и по вертикали. Вчерашняя мистика и метафизика становятся каждодневной реальностью. «Знанию все открыто» [3]. Пришло время заменить понятия «мистический», «метафизический», «сверхъестественный» и т. п. понятиями «непознанный», «неоткрытый», а научный изоляционизм, чурающийся всего неземного, необычного, сдать в архив. «Ничего нет отвлеченного, и жизнь впитывает каждую мысль. Потому будьте реалистами истинной реальности» [4].
Понимание Сущего возможно лишь как познание энергийного единства и борьбы вечно движущихся и развивающихся пар противоположностей – материи и духа, тьмы и света, зла и добра и т. д. Бинарная подвижная оппозиция тончайших энергий означает невозможность их абсолютно независимого, самодовлеющего бытия. Означает их относительность и взаимозависимость. Представьте себе, что в Космосе перестала действовать центростремительная или центробежная сила – Вселенная тут же разрушилась бы. Поэтому сохранение единства пар противоположностей и управление их взаимодействием есть обеспечение равновесия (гармонии) любой системы любого уровня.
Широта и диалектичность подхода избавят исследователя от пут, налагаемых на его сознание малоподвижной традицией, философскими, научными, религиозными и политическими замкнутыми системами. «Знание должно быть безусловно... Кто может заставить историка или философа не касаться исторических фактов... Единственным преимуществом в областях знаний будет большая убедительность и привлекательность» [5]. На путь творческой свободы направляет и вдохновитель нашего исследования Преподобный Сергий, который сам, идя навстречу неотложным запросам жизни, на деле обогащал Учение Христа.
Наш подход требует расширения методов исследования. Семиотический метод мы намерены сочетать, в меру потребности, с текстологическим, и не только применительно к семантике, но и к синтактике, чтобы по возможности осветить предмет исследования с разных сторон. В этой связи мы придаем особое значение действиям, поступкам Преподобного Сергия – их смыслу, сущности и целенаправленности. Тут мы принимаем во внимание, что при отсутствии протографа и после многократных переделок «Жития Сергия» легче восстановить в их истинности его действия, чем его высказывания. Анализ действий с неизбежностью распространяется на анализ их причин и последствий, что побуждает исследователя прибегать к историко-культурному методу. Анализ причин и следствий приводит к углублению в сознание героев, а следовательно, и авторов житийных редакций, что, в свою очередь, вызывает привлечение психоаналитических методов. Сочетая различные методы исследования, мы стремились к высвечиванию разных граней Великой Индивидуальности Святого Сергия, к проникновению в назначение и смысл его земной миссии на Руси.

Ни один памятник не дошел без искалечения.
Живая Этика
Применительно к древнерусской литературе понятие «первоисточник» получает иногда расширительное значение. К первоисточникам относят не только произведения автора или сочинения (высказывания) о нем его современников, но и переделки (редакции) произведений автора. Однако ни сочинения о нем, ни переделки не являются безусловно истинным свидетельством об авторе и его творении. Они имеют цену сведений из вторых рук, цену дополнительных источников. Опосредованные временем и личностью другого литератора, эти источники обладают меньшей достоверностью, хотя и имеют с в о ю ценность, порой – значительную. Однако они не могут заменить подлинный первоисточник. Исследователь, мы полагаем, обязан постоянно помнить это, чтобы не допустить невольной подмены точки зрения автора суждениями его интерпретаторов и переделывателей. С такой подменой нам приходилось и приходится встречаться.
Все это, несомненно, затрудняет и осложняет работу современного исследователя древностей. Однако временная дистанция, скрывающая древнего автора и его творения, не отнимает у исследователя надежды на постижение истины. Он даже получает от времени в дар некоторое преимущество: лучшую изученность исторического материала; разумеется, этот дар ценен лишь при непредвзятом подходе к предмету исследования.
Литературное отображение жизни величайшего русского святого, одного из самых великих деятелей нашей планеты, – показательный пример многослойного загромождения пути к истине. Сам Преподобный Сергий не оставил потомкам никаких записей, словно бы хотел сказать: судите меня по делам моим, которые запечатлены как в памяти народной, так и в писаной истории России. Оригинал (протограф) «Жития Сергия»* – творение его современника, Епифания Премудрого, много лет прожившего с Сергием в монастыре Святой Троицы – каким-то образом исчез. Когда исчез и почему – тайна, все еще не раскрытая. Возможно, потерялся, возможно, был уничтожен – Бог весть.
До нас дошло несколько вариантов (редакций) «Жития Сергия», созданных Пахомием Логофетом (Сербом) спустя 18 и более лет после смерти Епифания Премудрого (о нем Пахомий упоминает), а также анонимным автором в 20-х гг. XVI в. (по разысканиям современных ученых), то есть примерно через сто лет после кончины Епифания. Его перу принадлежит пространное «Похвальное слово Сергию Радонежскому»**. Кроме названных текстов, к первоисточникам обычно относятся летописные записи о Преподобном, а также соответствующие фрагменты из «Задонщины», «Повести» и «Сказания о Мамаевом побоище». Мы относимся к ним избирательно, критически.
Упомянем здесь также о многочисленных проложных редакциях «Жития» и о его вольных переложениях – пересказах, принадлежащих видным церковным деятелям; однако исследователи не относят эти тексты к первоисточникам.
Девяностые годы XX в. принесли много ошеломляющих новостей. Главная из них – Учение для наступающей Новой Эпохи человечества, впервые изданное в России под названием Агни Йога, или Живая Этика, – было воспринято по-разному: многие приняли Учение с энтузиазмом, государственная власть разрешила издание книг Учения и создание организаций его последователей, но священноначалие Русской православной церкви осудило Учение как инакомыслие. Для исследователей «Жития Сергия» Учение имеет ценность незамутненного первоисточника, так как все высказывания о Святом Сергии... принадлежат ему самому, то есть той же самой Великой Индивидуальности, одним из воплощений которой и был Сергий Радонежский. Этот Великий Планетарный Дух и есть Учитель, давший людям «Живую Этику». Таков потрясающий факт, который надо осознать. Одновременно с томами Учения была впервые издана в России тоненькая книжечка под названием «Криптограммы Востока», полученная из того же Высокого Источника [6]. В ней есть несколько высказываний Преподобного Сергия. Но главное ее значение для исследования в другом: в «Криптограммах Востока» в полном виде опубликовано Провозвестие Владычицы, сказанное Сергию Радонежскому в конце его жизни и лишь кратко (и различно) охарактеризованное в редакциях его «Жития».
2.2. История протографа Жития Сергия
«Житие Сергия», описывающее его жизнь и деяния от рождения до смерти – самый информативный источник сведений о нем. Но достоверность сохранившихся текстов «Жития» – трудная и во многом не решенная проблема.
Оригинал «Жития» принадлежит Епифанию Премудрому, который с 1374 г. до самой кончины Сергия Радонежского жил под его началом в монастыре Святой Троицы. Исследователи почти все единодушны в определении времени пребывания Епифания в Свято-Троицком монастыре. Спорным, однако, остается вопрос о том, когда Епифаний начал создавать «Житие Сергия», и о том, в какой последовательности, по каким этапам шла эта работа. Новое усложнение и обострение в спор внес Б. М. Клосс, отрицающий подготовительную стадию работы Епифания над «Житием» в период своего пребывания в монастыре Святой Троицы, игуменом которого был Сергий Радонежский.
На наш взгляд, утверждение Б. М. Клосса основано на ошибочном истолковании следующего рассказа Епифания: «Дивлю же ся о семь, како толико лет минуло, а житие его (Сергия. – А. К.) не писано. О семь съжалихся зело, како убо таковый святый старецъ, пречюдный и предобрый, отнеле же преставися 26 лет преиде, никто же не дръзняше писати о немъ, ни далнии, ни ближнии, ни болшие, ни меншие: болшие убо яко не изволяху, а меншии яко не смеяху. По лете убо единемь или по двою по преставлении старцеве азъ, окаанный и вседръзый, дерьзнухъ на сие. Въздохнувъ къ Богу и старца призвавъ на молитву, начяхъ подробну мало нечто писати от жития старцева, и к себе въ тайне глаголя: «Аз не хватаю ни пред кым же, но себе пишу, а запаса ради, и памяти ради, и плъзы ради». Имеяхъ же у себе за 20 лет приготованы таковаго списания свитки, въ них же беаху написаны некыа главизны еже о житии старцеве памяти ради: ова убо въ свитцехъ, ова же в тетратех, аще и не по ряду, но предняа назади, а задняа напреди» (с. 286)*.
Как следует из цитаты, вся работа Епифания над «Житием Сергия» продолжалась 44-45 лет, из которых 19-20 лет приходится на собирание и записывание «для памяти», «запаса» и «плъзы ради», а из них 18 лет – на годы совместного пребывания игумена Сергия и инока Епифания в монастыре Святой Троицы. Литературный текст «Жития Сергия» создавался на основе предварительных записей примерно 25 лет, начиная с 1393 или 1394 года («по лете или по двою по преставлении старцеве») по 1418 год. Епифаний ясно говорит, что между двумя периодами (подготовительным и литературным, писательским) работы над «Житием Сергия» был промежуток в один-два года, когда он собирал в душе решимость взяться за ответственный литературный труд и, наконец, «дерзнул». Из вышеприведенной цитаты видно также, что Епифаний, закончив «Житие Сергия», пишет предисловие к нему и в это время (в 1418 году) вспоминает, что именно и когда он начинал и заканчивал в длительном процессе работы над жизнеописанием Сергия. Епифаний начинает с констатации того, что 26 лет спустя после кончины «старца», т. е. в 1418 году никто, кроме Епифания (это ясно из дальнейшего текста), никто не дерзнул писать житие Сергия. Далее Епифаний уточняет, что сам он приступил к описанию жития Сергия год или два спустя после его смерти, а затем вспоминает, что к этому моменту, т. е. к началу литературной работы, имел уже много сведений и записей, накопленных за прошедшие 20 лет (1394 – 1374 = 20 лет). Поводом для воспоминания стало завершение всей работы над «Житием Сергия» в 1418 году. Этот год вычисляется просто: 1392 г. (смерть Сергия) плюс 26 лет, указанных Епифанием, дают 1418 год.
Б. М. Клосс более чем вдвое сокращает общий срок работы Епифания над «Житием Сергия». Ученый считает, что Епифаний только в 1393 или 1394 году внес в свою тетрадь первую черновую запись о Сергии (с. 69). Цитата, приведенная выше, понимается Б. М. Клоссом в том смысле, что, начиная с 1393 – 1394 гг., Епифаний в течение 20 лет делал предварительные заготовки к «Житию Сергия», а затем создавал литературный текст этого жития. На наш взгляд, Б. М. Клосс не прав. Он допускает две ошибки. Во-первых, произвольно, без опоры на текст вводит с в о е деление указанных Епифанием 26 лет на два периода: предварительный (20 лет) и завершающий (6 лет). Такого разграничения у Епифания нет.
Во-вторых, ученый упускает из виду, что два глагола («име-яхъ приготованы» и «беаху написаны») даны в прошедшем совершенном времени и что, следовательно, Епифаний выражает здесь такую мысль: к написанию связного текста «Жития» он приступил то ли в 1393-м, то ли 1394-м году, имея уже заготовки, сделанные за 20 прошедших лет («таковаго списания свитки», т. е. «этого сочинения записи»). Что же было создано за 20 лет «памяти ради»? Отдельные части (главы) «жития старца», причем как на цельных листах бумаги («в свитках»), так и на листах «в четверть», сшитых вместе, т. е. «в тетрадках»; все написанное не было еще выстроено «по ряду».
Епифаний с удовлетворением пишет о том, что он приступил к написанию литературного текста «Жития» (1393 – 1394 гг. ) не с пустыми руками, что он ранее, при жизни Сергия, предусмотрительно сделал много записей о нем «памяти ради», т. е. чтобы сохранить в памяти, не забыть что-либо из деяний и жизни Сергия. И нигде не высказывает Епифаний сожаления о том, что он, мол, при жизни Сергия ничего не записал о нем, а теперь вот, 20 лет спустя, так неясно многое вспоминается и т. п. Подтверждением правильности нашего прочтения предисловия к «Житию» может быть также совпадение времени начала черновых записей о Сергии (1373 – 1374 гг., то есть 1393 – 1394 гг. минус 20 лет) со временем прихода Епифания в монастырь Св. Троицы (1374 г. ), высчитанным Б. М. Клоссом на основе иных данных (с. 96). Следовательно, Епифаний приступил к записям о Сергии вскоре после прихода к нему в монастырь. Видимо, уже тогда молодой инок лелеял мечту о написании «Жития Сергия». И, кто знает, может, ради этого Епифаний и перешел из ростовского монастыря в Свято-Троицкий.
При одном условии аргументация Б. М. Клосса была бы более убедительной: если бы точкой отсчета времени в предисловии был для Епифания не 1418 г., а 1413 или 1414 г. Тогда предложение («имеяхъ же у себе за 20 лет» и т. д. ) могло бы получить смысл, который вложил в него ученый.
Что же знаем мы ныне о процессе создания «Жития» Епифанием, о том, как он работал? На подготовительном этапе (1373 – 1374 и до 1393 – 1394 гг. ) он вел свои записи о Сергии, имеющие цену очевидных свидетельств. У Епифания были также написаны вчерне отдельные главы к «Житию Сергия», которые находились в композиционном беспорядке, или, по его словам, «начальные – в конце, а последние – в начале». Приступив к созданию целостной биографии Преподобного, писатель остро ощутил неполноту сведений с 1314 по 1374 гг., когда инок Епифаний не знал Сергия. И потому Епифаний особо отмечает, что он стал беседовать со старцами, родственниками Сергия и близкими ему людьми, чтобы пополнить свои знания о Преподобном. Понятно, что наиболее достоверной должна быть та часть «Жития Сергия», которая написана Епифанием на основе личных знаний о Сергии Радонежском. К глубокому сожалению, можно констатировать, что как раз эта часть ныне предстает перед исследователем в самом хаотичном виде, наверно, потому, что на ней было сосредочено основное внимание переделывателей «Жития Сергия».
По предисловию к «Житию» видно, что работа Епифания над его литературным текстом шла необычайно трудно: он сетует, что им часто овладевали сомнения, колебания и даже отчаяние.
После того, как Епифаний кратко поведал о своей подготовительной и литературной работе над «Житием Сергия», он перешел к рассказу о своих переживаниях и о своем умонастроении в годы создания литературного текста «Жития». Этот рассказ – редкий случай психологического самоанализа агиографа, и потому мы полагаем целесообразным внимательно рассмотреть размышления автора о самом себе. «И сице ожидающу ми в таковая времена и лета, и жадающу ми того, дабы кто паче мене и разумнее мене описалъ, яко да и аз шед поклонюся ему, да и мене поучит и вразумит. Но распытавъ, и услышавъ и уведах известно, яко никто же нигде же, яко же речеся, не писаше о немъ, и се убо егда воспомяну или услышю, помышляю и размышляю: како тихое, и чюдное, и добродетелное житие его пребысть без писаниа по многа времена? Пребых убо неколико лет, акы безделенъ в размышлении, недумениемъ погружаася, и печалиу оскорбляася, и умом удивляася, и желаниемъ побеждаася. И наиде ми желание несыто еже како и коим образом начата писати, акы от многа мало, еже о житии преподобнаго старца» (с. 286). Эта цитата – вступление к рассказу Епифания о трудностях и препятствиях на его творческом пути. Исследователь может теперь с несомненностью констатировать, что Епифаний еще несколько лет после того, как дерзнул взяться за перо и начал писать «Житие Сергия», то есть после 1394 г., пребывал почти в бездействии («акы безделенъ»), потому что находился во власти противоречивых побуждений и чувств. Самая общая характеристика его настроения в эти годы размышлений, глубоких недоумений, горестных страданий, душевных возмущений и растущего победного желания писать житие старца – ожидание, сильное, как жажда, напряженное ожидание того, чтобы кто-нибудь из больших мира сего, превосходящих Епифания знанием, начал описывать житие преподобного Сергия. Если бы нашелся кто-либо такой, то Епифаний отправился бы к нему, учителю, за вразумлением, как же надо описывать жизнь Сергия. В этих словах («да и мене поучит и вразумит») явлена причина ожидания, бездеятельного состояния души Епифания: он не знал, как «в таковая времена и лета» надлежит писать о преподобном Сергии. В то время «никто и нигде не писал» о нем – этот факт Епифаний путем расспросов установил достоверно. Именно этот факт в контрастном сопоставлении с «тихим, чудным, добродетельным» житием Сергия и поверг Епифания в бездеятельное душевное состояние.
В чем же были сложности и трудности того времени, приостановившие на несколько лет литературную работу Епифания? Он сам рассказывает о них.
Прежде всего агиограф отмечает, что не сразу возобновил писание «Жития Сергия» даже после того, как все его сомнения были побеждены силой ненасытного желания писать житие и как он уяснил себе основной творческий принцип – писать так, чтобы за малым виделось многое, т. е. отбирать характерное, типичное. Епифаний отмечает новые борения в своей душе. Чтобы получить твердую уверенность в необходимости и полезности создания «Жития Сергия», Епифаний «обретох некыа старца премудры въ ответех, разсудны и разумны, и рех има, аще достоит писати» (с. 286). И мудрые старцы, и Василий Великий, к сочинениям которого обратился Епифаний – все убеждало его в том, что будет польза для людей, особенно для «ревнителей праведной жизни» (с. 287) от создания «Жития Сергия».
Утвердившись окончательно в необходимости написать «Житие», Епифаний энергично взялся пополнять и уточнять свои личные знания о преподобном Сергии, «... распытовати и въпрошати древних старцевъ, прилежно сведущих, въистинну известно о житии его,... достоверных бывших самовидцевъ рожеству его, и въспитанию, и книговычению, възрасту его и юности, даже и до пострижения его; друзии же старци самовидци суще и сведетели неложнии постризанию его, и начятку пустынножительству его, и поставлению его еже на игуменство; и по ряду прочим прочии възвестители же и сказатели бываху» (с. 287). Мы видим, что собирательские усилия Епифания были сосредоточены на той части жизни Сергия, которая не была известна Епифанию по его личному опыту, то есть на жизни до 1373 – 1374 гг. Ценно упоминание Епифания о том, что он собрал сведения от людей, по-разному относившихся к преподобному Сергию: и от его келейника, любившего Преподобного, и от его племянника Феодора, архиепископа Ростовского, и от Стефана, старшего брата и открытого противника Сергия.
Когда Епифаний собрал и узнал все, что можно было, о «множестве трудов» и «о великих свершениях» (с. 287) Сергия, когда Епифаний все это охватил мысленным взором, он испытал новый приступ неуверенности в себе: «Ино къ множьству трудовъ старчихъ и къ великым исправлениемъ его взирая, акы безгласен и безделень в недоумении от ужасти бываа, не обретаа словес потребных, подобных деянию его» (с. 287). И дело тут не только и не столько в том, что Епифаний засомневался, как принято считать, в своих литературных способностях. Он обращает наше внимание на препятствие, которое находится не внутри, а вне его, и заставляет писателя усомниться в самой возможности «Сергиево все по ряду житие исписати», то есть без пропусков. Это была, действительно, труднейшая проблема, так как многие свершения Сергия, например, такие его великие дела, как борьба за единство Руси и ее освобождение от татаро-монгольского ига, нарушали постановления наивысших церковных инстанций о неучастии монаха в государственных и вообще в мирских делах. Думается, что именно подобные проблемы и имеет в виду Епифаний, когда задает следующий риторический вопрос: «Како убо таковую, и толикую, и не удобь исповедимую повем повесть?.. » (с. 287. Выделено мною. – А. К.). Как понять сокрушенное, прикровенное определение («неудобь исповедимая») повести о жизни Сергия? О чем в Сергиевом жизнеописании было тогда несвободно или даже невозможно (и это значение также имеет слово «неудобь») рассказывать? Таких тем было немало: дипломатическая, по сути, общественно-политическая деятельность монаха Сергия по умиротворению враждующих русских князей; устройство духовно-трудовой, принципиально нестяжательной киновии; сам образ жизни Сергия-игумена, работающего на братию, как «купленный раб», и одетого, словно простой монах; благословение монахов Пересвета и Осляби на битву с Мамаем; отказ от поста митрополита всея Руси; неуставное поведение во время бунта против общежительных порядков в монастыре Святой Троицы; взаимоотношения Сергия и Киприана. В то время нельзя было монаху Епифанию даже просто похвалить необычнейшего Сергия за многие дела и свершения; этим и объясняем мы мучительный вопрос Епифания: «Или котораа довлеет беседа к похвалениемъ его?» (с. 287). Конечно, Епифаний понимал, что мог бы, если бы захотел, исключить из «Жития», замолчать все «не удобь исповедимые» деяния Сергия, что митрополит Киприан одобрил бы подобные умолчания и «повесть» о Сергии могла бы быть создана и переписана еще при Киприане. Но в том-то и дело, что этот путь Епифаний отвергал, и потому мысль его билась над решением труднейшего вопроса, как по достоинству рассказать о всех деяниях Сергия: «... яже по достоинству деяниа того и подвизы послушателем слышаны вся сътворити?» (с. 287. Выделено мною. – А. К.).
О препятствиях для полноценного, правдивого освещения жизни Сергия в то время, когда Епифаний приступил к систематической литературной работе над «Житием», есть еще одно лаконичное, но многозначительное упоминание в предисловии к «Житию». Оно, мы полагаем, вполне объясняет, почему Епифаний так долго и так страдательно создавал «Житие». Упоминание-объяснение дано Епифанием в чеканной формуле: «... болшие убо яко не изволяху, а меншии яко не смеяху» (с. 286). Кто эти «болшие»? Ныне нам известен лишь один агиограф того времени «из болших» – сам митрополит Киприан, автор переработанного им «Жития митрополита Петра». Думается, именно Киприана, прежде всего, имеет в виду Епифаний. И словом, и делом митрополит показал свое недоброжелательное, высокомерно-неуважительное отношение к игумену Свято-Троицкой обители. Мы знаем несколько фактов, подтверждающих это. Современники Сергия знали, конечно, больше. Эти факты мы рассмотрим позднее, а здесь их только назовем:
1) второе послание Киприана игуменам Сергию и Феодору, в котором он обрушивается на них с гневными обвинениями за то, что они (будто бы) струсили и не возмутились открыто действиями великого князя Дмитрия Ивановича, решительно воспрепятствовавшего тайному (!) приезду Киприана в Москву летом 1378 г.;
2) когда Киприан после смерти Дмитрия Донского твердо «сел» на митрополичий престол в Москве, он не сделал ни единого благожелательного жеста по отношению к Сергию Радонежскому: не пригласил его к себе, не посетил Свято-Троицкую обитель, не пришел на его похороны;
3) Киприан нарушил предсмертную волю преподобного Сергия о месте его погребения;
4) можно привести и еще один не столь уж прикровенный намек. Среди тех, кто убеждал Епифания писать «Житие Сергия» не названы высшие церковные сановники – ни епископы, ни митрополит. Мы не можем допустить мысль, что Епифаний просто забыл упомянуть в своем перечне митрополита и епископов: по другим поводам, иногда менее значительным, он не забывал называть митрополитов Феогноста, Алексия, Киприана и даже архимандритов Герасима и Павла. Отметим и то, что пока Киприанбыл жив, никто из сановников, зная его нрав, не посмел бы противего воли поддержать прославление Сергия.
Бездействие там, где логически ожидается позитивное действие, бездействие в диагностически значимых ситуациях есть, на наш взгляд, красноречивое действие отрицания, неприятия или скрытого противления, есть убедительное свидетельство неявных форм противодействия митрополита и послушной ему церковной верхушки Руси прославлению Преподобного Сергия. Вот что, мы думаем, означает первая часть формулы Епифания «болшие яко не изволяху», вот какой скрытый ледяной массив находится под этой еле видимой надводной частью епифаниевской фразы! Воздержание от действий, имеющее значение фактического противления, не есть особенность лишь церковной или светской дипломатии; оно хорошо знакомо людям по жизни. Но такое бездействие в соединении со второй частью епифаниевской формулы («меншие яко не смеяху») говорит о том, что в бездействии «болших» была некая опасность для «менших», которая и порождала их страх («не смеяху»). Длительное бездействие священноначальников ясно говорило современникам, что оно было не случайным проявлением, не временным капризом того или иного сановитого лица, а частью церковно-политической идеологии. Потому оно и не зависело от смены митрополита Киприана Фотием, а Фотия – Григорием.
Хвала Епифанию Премудрому за то, что он в своем спокойно-фактографическом описании бездействия властей, умолчании об их отрицательных, скрытых действиях мудро нашел неподцензурную форму сообщения правды об истинном отношении верхушки тогдашней православной церкви к прославлению подвига Преподобного, а значит, и к его канонизации как общерусского святого. Воздержание от действия в политике не подобно ли воздержанию от слова в дипломатии и в подцензурной литературе? Другими словами, молчание Епифания есть стилистическая фигура умолчания, известная в старой русской поэтике под названием «апосиопеза» (с греч. – сокрытие, утаивание)? Вполне возможно именно так квалифицировать молчание Епифания в тех случаях, когда он ни в какой другой форме, кроме апосиопезы, не мог донести свою мысль до читателя. Таким образом, умолчание становится частью епифаниевского стиля.
На нынешнем уровне осведомленности о древнерусских писателях, творивших в период с 1392 по 1418 г., мы не знаем никого из «болших», кроме Киприана, но это не означает, что и в самом деле был лишь он один. Мы склонны (вслед за Епифанием) сохранить множественное число в формуле «болшие убо яко не изволяху, меншие яко не смеяху». Себя Епифаний явно относит к «меншим», и потому мы получаем право приложить епифаниевскую психоаналитическую самохарактеристику к другим литераторам того времени, не занимавшим высоких постов в Церкви.
Мы полагаем, что именно прохладное отношение священно-начальников Русской православной церкви к посмертному прославлению Сергия Радонежского было главной причиной того, что Епифаний Премудрый медлил с окончательным решением о написании «Жития Сергия», что он так долго писал его, надеясь на наступление лучшего времени и на справедливое повышение церковной оценки деяний Преподобного Сергия.
Епифаний не дождался наступления такого времени. Он умер, по различным изысканиям в период 1420 – 1422 гг., но во всяком случае до открытия мощей преподобного Сергия, состоявшегося в 1422 г. и нигде не упомянутого Епифанием. «Воскресным днем 5 июля 1422 г. состоялось «обретение мощей» Сергия Радонежского, после чего было принято решение о строительстве мемориального каменного Троицкого собора. На празднество собрались вельможи и князья, но главную роль играли брат великого князя, звенигородский и галичский князь Юрий Дмитриевич (крестник Сергия), и сеньер Радонежа, князь Андрей Владимирович. Ни одного представителя центральной власти (великого князя и митрополита) на празднестве не было, и состоявшаяся канонизация носила местный характер» (с. 69). Б. М. Клосс не дает оценки этому событию. Меж тем ясно, что отношение церкви и великого князя к прославлению Сергия не изменилось: ни митрополит, ни великий князь не пришли на похороны Сергия, не пришли и 30 лет спустя на его малую канонизацию (митрополитом был уже Фотий). Это мы теперь (и то не все) считаем Сергия Радонежского величайшим святым Руси, но совсем иначе думали о нем тогдашние церковные и светские правители Руси. Местночтимый святой по рангам святости есть ее низший уровень. Значит, до этого уровня и обязан был низвести Преподобного Епифаний. Однако сам Епифаний еще в «Похвальном слове» поднял Сергия на уровень первого святого в православном мире. В столь контрастном расхождении оценок святости Сергия – корень всех трудностей и препятствий в работе Епифания над «Житием Сергия Радонежского» и ответ на вопрос, почему «болшие» агиографы не изъявили желания лично приняться за написание его жития.
Писатель сознавал дилемму, перед которой он оказался: либо принизить Сергия Радонежского до нормы святости, определяемой его местным почитанием, и в этом случае получить поддержку своего труда высшим церковным начальством, либо остаться при своем убеждении об исключительно высоком уровне святости Сергия со всеми вытекающими отсюда последствиями для судьбы своего литературного творения.
Возникает вопрос: если Епифаний отчетливо понимал, что его «Житие Сергия» не будет одобрено руководством Церкви, то на что же он надеялся? Послушаем самого Епифания. Он, закончив рассказ о своих внешних и внутренних проблемах и противоречиях (заметим в скобках, что Епифаний пытается завуалировать внешние препятствия сетованиями о своем неразумии, о своих слабых литературных способностях), дает такой ответ на поставленный выше вопрос: «Яко же не мощно есть малей лодии велико и тяжъко бремя налагаемо понести, сице и превосходить нашу немощь и ум подлежащая беседа. Аще бо и побежает нашу худость, но обаче молимся всемилостивому и всесилному Богу и Пречистей Его Матери, яко да уразумит и помилует мене грубаго и неразумнаго, яко да подасть ми слово въ отвръзение усть моихъ, не моего ради недостоиньства, но молитвъ ради святыхъ старецъ. И самого того призываю Сергия на помощь и съосеняющую его благодать духовную, яко да поспешникъ ми будет и слову пособникъ, еще же и его стадо богозванное, благо събрание, съборъ честных старецъ» (с. 288). Во-первых, надежда возлагается на Бога и Пречистую Богородицу, и надежда есть также в молитве о том, чтобы Свыше были милосердно даны Епифанию дары разумения и владения словом. Характерно для сознания Епифания и вообще средневекового сознания верующего, что оно не переоценивает силу лишь своей единоличной молитвы, а присоединяет к ней, умножая ее мощь, коллективную молитву «святых старцев». Во-вторых, надежда возлагается на самого Сергия, и к нему, осененному духовной благодатью, Епифаний обращается за прямой помощью, которая мыслится, прежде всего, как содействие, поспешение Епифанию во всем без ограничения, и лишь затем – как усиление литературных способностей. Моление к Сергию состоит из двух частей, и на первое место, как главнейшее, поставлено моление об общей, широкой помощи, которая видится (и это ясно следует из предыдущего рассказа о проблемах, мучающих Епифания) как помощь в преодолении внешних препятствий. Если бы это было не так, если бы дело сводилось к литературной «худости» Епифания, он не стал бы даже упоминать об общей помощи, ограничившись «пособничеством» в слове. Обращает на себя внимание, что Епифаний исключает из числа своих помощников земных предстателей перед Высшим: Церковь и ее главу, митрополита Киприана, вообще «забывает» о них, будто бы их нет в жизни. Тут Епифаний явно отклоняется от оцерковленного средневекового менталитета монаха-агиографа, и этого нельзя не заметить. Понятна и причина такого поведения Епифания: он знал о недоброжелательном отношении к преп. Сергию и к восхвалению его подвига в «Житии» митрополита Киприана, а значит, и руководства церкви.
Опять и опять, как бы всякий раз на новом витке мысленной спирали, возвращается удрученный Епифаний к своему главному душевному борению – писать или не писать «Житие Сергия». На этот раз Епифаний особенно подчеркивает побуждающую силу любви к нему Сергия и свой долг перед людьми: «И да никто же ми зазиратель на сие дръзающу будет: ни бо аз сам възможне имам, или доволен к таковому начинанию (жития. – А. К. ), аще не любовь и молитва преподобнаго того старца привлачит и томит (!) мой помыслъ и принужает глаголати же и писати» (с. 288). По нашему мнению, нет преувеличения в том, что Епифаний чувствует любовь Сергия к себе как «принуждение», как неодолимое побуждение рассказывать о Сергии словом устным и писаным. Если бы проблема «писать – не писать» о подвиге Сергия сводилась для Епифания к его личным мотивам, то он в сложившейся ситуации предпочел бы отмолчаться: «Достоит же яснее рещи, яко аще бо ми мощно было по моему недостоиньству, то подобаше ми отинудь съ страхомъ удобь (снова мысль Епифания бьется между тем что «удобь» и что «неудобь». – А. К.) млъчати и на устех своих пръстъ положити, сведущу свою немощь, а не износити от усть глаголъ, еже не по подобию, ни же продръзати на сицевое начинание, еже чрезъ свое достоание» (с. 288). И снова Епифаний ясно обозначает как внешние, так и внутренние, чисто творческие трудности, причем теперь он характеризует внешние эмоциональным словом «продръзати», которое показывает, что Епифаний осознавал свое стремление создать «Житие Сергия» как предерзостное, как заранее обреченное на осуждение. Однако Епифаний осознанно выбирает именно это предерзостное решение, понимая, что он таким путем исполняет свой долг и перед Сергием, и перед читателем, и таким образом избегает нарушения заветов Христа: «Непъщевах сиа (житие Сергия. – А. К.) млъчанию предати, яко въ глубине забвениа погрузити. Аще бо не писано будет старцево житие, но оставлено купно без въспоминания, то се убо никако же повредит святого того старьца, еже не получити ему от нас въспоминания же и писаниа: их же бо имена на небесех Богь написа, сим никаа же потреба еже от человекъ требовати писаниа же и въспоминаниа. Но мы сами от сего не пльзуемся, оставляюще толикую и таковую пльзу. И того ради сиа вся сьбравъше, начинаем писати, яко да и прочии мниси, яже не суть видали старца, да и те прочтут и поревнують старцеве добродетели и его житию веруют; «Блажени бо, – рече, – не видевше вероваша» (сс. 288-289). Забота о пользе для людей и особенно для монахов от чтения «Жития Сергия» и долг перед ними поставлены Епифанием на первое место как главные его побудительные мотивы, перевесившие все душевные колебания (писать – не писать). И только после христианского долга перед ближним следует озабоченность Епифания выполнением следующего совета Христа: «Пакы же другая печаль приемлет мя и обдержит мя: аще бо аз не пишу, а ин никто же не пишет, боюся осужения притчи оного раба лениваго, скрывшаго талант и обленившагося» (с. 289).
Епифаний начал свой рассказ об истории создания «Жития Сергия» с благодарности и хвалы Богу и закончил его обращением к Богу за помощью в работе над «Житием». Тем самым наглядно, убедительно выявилась доминанта сознания агиографа: в Боге соединились начало и конец, отчаяние и надежда, разрешение всех жизненных и творческих проблем.
В 1418 г., а может, и 1419 г. Епифаний Премудрый закончил главный труд своей жизни – «Житие Сергия Радонежского». Мы не знаем ничего о том, отдал ли Епифаний свою рукопись церковным властям или рукопись лишь после его смерти стала церковной собственностью. В науке существуют две версии, лишь намеченные, но не исследованные. Академик Н. С. Тихонравов опубликовал в 1892 г. две епифаниевские (!) редакции «Жития», но проблему их атрибуции Епифанию он не исследовал, и вопрос остался открытым. Если бы Н. С. Тихонравов оказался прав, то это означало бы, что Епифаний, отдав свою рукопись «Жития Сергия» священноначальникам, получил «сверху» критические замечания и с их учетом сделал первую редакцию «Жития». Но и она не «устроила» руководство Церкви, и Епифанию было поручено составить вторую редакцию «Жития».
Современный исследователь «Жития Сергия» Б. М. Клосс, проведя археологический и отчасти лексический разбор вышеназванных фрагментов из редакций «Жития Сергия», пришел к убеждению, что они обе принадлежат перу агиографа Пахомия Логофета. Мы согласны с наблюдениями и выводом Б. М. Клосса, хотя, в отличие от него, исходим, прежде всего, из соображений смысловых, из резкого несоответствия образа Сергия в «Похвальном слове» с его образом в пахомиевских переделках «Жития». Следовательно, ныне мы не знаем ни одной редакции «Жития», выполненной самим Епифанием. Следовательно, остается тайной, каким образом протограф «Жития» стал церковной собственностью.
Читая рассказ Епифания об истории создания «Жития Сергия», трудно отделаться от мысли, что в его тревожном лейтмотиве звучит предчувствие драматической судьбы своего творения. Протограф «Жития Сергия» исчез – как и когда исчез, неизвестно. Канул в Лету, погрузился в «глубину забвения» (выражение Епифания) главный труд, видимо, лучшего агиографа Руси, над которым он работал 45 лет. Но труд не пропал совсем бесследно: сохранилось множество его переработок, о которых речь пойдет в следующей главке.
Исчезновение протографа «Жития Сергия» при наличии его многочисленных переделок, переложений, пересказов создало научную проблему выделения текста Епифания в списках «Жития Сергия».
Мы затрудняемся точно определить, кто первый заметил, что ни один из известных списков «Жития Сергия» не является оригиналом, принадлежащим Епифанию Премудрому. На наш взгляд, этот факт установил священник В. Яблонский, автор исследования «Пахомий Серб и его агиографические творения» (1908 г. ). Ныне все исследователи «Жития Сергия» признают, что его протограф до нас не дошел. К сожалению, не увенчались успехом и многолетние поиски Б. М. Клосса, просмотревшего и изучившего около 400 списков «Жития Сергия» XV-XVII вв., что раз в 20 превышает количество списков, известных ранее. Результаты своих разысканий ученый опубликовал в книге «Житие Сергия Радонежского». Следуя по пути, проложенному в науке давно, Б. М. Клосс стремится отыскать среди списков «Жития» такой, в котором полностью или частично сохранился протограф. Ученый полагает, что тут ему удалось добиться определенных успехов. Б. М. Клосс уверен в своих доказательствах того, что предисловие к Пространной редакции «Жития Сергия» и первая ее часть до главы «О изведении источника», а также «Похвальное слово Сергию Радонежскому» сохранились в некоторых списках «Жития» такими, какими они были при жизни их автора, без всяких изменений (с. 145-160). Мы не согласны с Б. М. Клоссом и попробуем доказать неубедительность его логических построений.
Начнем с предисловия к Пространной редакции, с того именно списка «Жития», который опубликован в книге Б. М. Клосса. Это, конечно, лучшее из предисловий. Оно дает точное и яркое представление о ходе работы Епифания над «Житием Сергия», а также о его умонастроении и душевных борениях. Изложение мыслей и чувств автора отличается логической стройностью и эмоциональной напряженностью. В предисловии нет дублирующих предложений или фраз, чужеродных по мысли и слогу.
Вместе с тем, в предисловии сохранились некоторые следы постороннего вмешательства в епифаниевский текст, которое, думается, выразилось в сокращении, в изъятии из оригинала отдельных «кусков».
Начнем с заглавия «Жития»: «Житие преподобного и богоносного отца нашего игумена Сергия чюдотворца. Списано бысть от премудрейшаго Епифания» (с. 285).
Читатель, внимательно прочитавший лишь предисловие и «Похвальное слово», заметит явное несоответствие душевного склада Епифания с таким сверхпохвальным самоопределением, как «премудрейший», ведь Епифаний не увенчивает столь высокой оценкой преп. Сергия – и вдруг тот же Епифаний выносит в заглавие «Жития», то есть предельно броско, нарочито подчеркнуто славит самого себя как «премудрейшего». Такую характеристику мог дать Епифанию только анонимный агиограф, составивший Пространную редакцию, потому что этот агиограф – и мы подтвердим наше мнение многими примерами по ходу данного исследования – особенно недружелюбно, предвзято относился и к преп. Сергию, и к Епифанию. Предлагаем читателю самому сравнить и оценить рассматриваемое заглавие с заглавием к другому епифаниевскому сочинению, которое многими исследователями, в том числе и Б. М. Клоссом, признается близким к протографу или тождественным ему: «Слово похвально преподобному отцу нашему Сергию. Сътворено бысть учеником его священноинокомъ Епифаниемъ. Благослови, отче».
В заглавии «Жития Сергия», в хвастливом самоопределении Епифания заявлен один из методов критики преп. Сергия и автора его жития – метод самодискредитации, прикрытый (иногда и не прикрытый) преувеличенной лестью или хвалой.
Показательно нарушение правила употребления в предисловии личных местоимений, глаголов первого лица единственного числа и первого лица множественного числа, а также притяжательного местоимения «наш». Когда автор говорит о своих мыслях или чувствах, свойственных также другим верующим (например, о любви к Богу), то в тексте логично употребляется множественное число и местоимение «нашь»: «...еже есть упование наше, светь и животь н а ш ь, въ Него же веруемь, вън же крестихомся...» и т. д. Как только автор переходит к рассказу о себе, о своей работе над «Житием Сергия», он тут же меняет модальность изложения и вполне оправданно говорит только от первого лица, употребляя в единственном числе соответствующие местоимения и глаголы: «Дивлю же ся о семь, ...О семь съжалихся зело, ...азъ ...дерьзнухъ на сие... Азъ не хватаю ни пред кым же» и т. д., и т. п. В предисловии соблюдается этот принцип употребления личных и притяжательных местоимений, единственного и множественного числа глаголов, кроме нескольких случаев, которые мы сейчас рассмотрим в порядке их следования. В конце фрагмента, насыщенного искренним излиянием личных чувств (с. 287), автор вдруг от «я» переходит к «мы»: «Откуда ли приобрящу хитрость да възможна будеть к таковому сказанию? Како убо таковую и толикую, и не удобь исповедимую п о в е м повесть, не веде, елма же чрез есть нашу силу творимое? Яко же не мощьно есть малей лодии велико и тяшъко бремя налагаемо понести, сице и превосходить нашу немощь и умъ подлежащая беседа. Аще бо и побежает нашу худость, но обаче молимся всемилостивому и всесилному Богу и Пречистей Его Матери, яко да уразумит и помилует мене грубаго и неразумнаго, яко да подасть ми слово въ отврзение усть... моихъ…» и далее без нарушений идет повествование от первого лица, вплоть до середины следующего абзаца. Здесь мы находим второй показательный случай нарушения грамматических форм: «Непъщевах сиа млъчанию предати, яко въ глубине забвения погрузити. Аще бо не писано будет старцево житие, но оставлено купно без въспоминаниа, то се убо никако же повредит святого того старца, еже не получити ему от нас въспоминаниа же и писаниа: их же бо имена на небесех Бог написа, сим никаа же потреба еже от человекъ требовати писаниа же въспоминаниа. Но мы сами от сего не пльзуемся, оставляюще толикую и таковую пльзу. И того ради сиа все събравше, начинаем писати, яко да и прочий мниси, яже не суть видали старца, да и те прочтут и поревнуютъ старцеве добродетели и его житию веруют; «блажени бо, – рече, – не видевше, вероваша». Пакы же другойци другая печаль приемлет мя и обдержит мя: аще бо аз не пишу, а инъ никто же не пишет, боюся осужениа притчи оного раба лениваго...» (с. 288-289). Далее снова «мы» и «я» употребляются без нарушений логики и грамматики, вплоть до окончания предисловия, где мы читаем: «До зде убо окончавше предъсловие, и тако Бога помянувше и на помощь призвавше Его: добро бо есть о Бозе начяти и о Бозе кончяти, и къ Божиим рабам беседовати, о Божий угодници повести чинити. Начнем же уже основу слова, имемся по беседу, еже положити начяло повести; и тако прочее житие старцево о Бозе начинаемъ писати сице» (с. 289-290. Выделено мной. – А. К.).
Таковы примеры, которые, на наш взгляд, могут пролить дополнительный свет на вопрос о признаках постороннего вмешательства в епифаниевский текст. Как показать, что замены «я» на «мы» не могли быть сделаны самим Епифанием? Попробуем вникнуть в смысл замен. Текст писал один Епифаний – это бесспорно; спрашивается, на кого же он, кроме себя, переносит чувство бессилия написать «неудобь исповедимую повесть» и пишет вместо «мою силу» «нашу силу»? Помощника или соавтора мы не находим, и вопрос повисает в воздухе, и замена представляется вроде бы ничем не оправданной. Одну замену можно было бы объяснить случайностью, но их ведь 13. Видимо, анонимный редактор (правщик), работавший над «Житием Сергия» в начале XVI в., считал творцом текста также и себя, а не только Епифания, и тогда он мог не заметить невольной подмены именно в тех местах, над которыми особенно долго трудился. Наше предположение не противоречит средневековому авторскому сознанию, допускавшему дословное повторение чужого текста без отсылки к его автору и ценившему содержание текста выше авторства: самоутверждение личности еще находилось в процессе становления. Хорошо известно, что Пахомий Логофет подписал только своим именем некоторые редакции «Жития Сергия». Кроме того, мы должны допустить и другое предположение, что замены были (частично или полностью) произведены еще в XV в.: ведь никто не видел действительного оригинала, который перерабатывал Аноним, возможно, что оригинала у него и не было, что Аноним просто переписал более ранний список, пришедший в ветхость. Или вот еще замена: как объяснить, с кем молился («молимся») автор, чтобы ему лично («мене») Бог послал «уразумление» и помиловал его «грубаго и неразумного»)? Из текста не видно «сомолящихся» с Епифанием. Как разумно можно понять следующее место «...их же бо имена на небесех Бог написа» – ведь перед этим речь идет только о Сергии, «святом том старце». Мы думаем, что здесь возможно такое объяснение: «перед «их же бо...» был ранее какой-то текст, в котором речь шла о многих или нескольких людях (старцах), но этот текст был правщиком изъят, и в результате возникла грамматическая рассогласованность.
Весьма интересно в психологическом отношении сходство двух разных «мы», из которых одно вполне оправдано смыслом текста и творческой психологией автора, а второе не поддается разумному оправданию: 1) «Но мы сами от того не пльзуемся, оставляюще толикую и таковую пльзу» – «мы» здесь и «нас» в предыдущем предложении поставлены верно, потому что тут речь идет не только о том, кто пишет «Житие», но также и о тех, кто вспоминает о святом старце, и о тех, кто извлекает для себя пользу из воспоминаний о старце или из писаных рассказов о нем; 2) иного объяснения требует множественное число во втором предложении, следующем непосредственно за первым: «И того ради сиа все събравше, начинаем писати». Все сие собрал и начал писать один только Епифаний, что отчетливо видно по дальнейшему «аще бо аз не пишу...» и т. д. Перед нами примеры соседства двух содержательно разных «мы», и взятые вместе, они помогают понять, как мог написать «мы» (второе «мы» маркируется первым) невнимательный или утомленный правщик «Жития», или считающий себя соавтором.
Особенный интерес представляет заключительный абзац предисловия, начиная от «До зде убо окончивше предъсловие...» и заканчивая словами «...о Бозе начинаем писати сице». Здесь последовательно «мы» употреблено вместо «я», причем должно бы было быть, с нашей нынешней точки зрения, только «я»; здесь нет никакого камуфляжа, и, значит, иключается предположение о том, что правщик мог не заметить замены «я» на «мы». И потому можно говорить о том, что «мы» тут употреблено осознанно, с полным правом. Одно дело, когда в предисловии речь ранее шла о внутреннем творческом процессе и личных чувствах Епифания и когда поэтому замена «я» на «мы» ощущалась бы как посягательство на душевный мир Епифания, что было недопустимо, ибо и тогда, и много раньше христианская душа мыслилась и понималась как вместилище индивидуального, личного и притом божественного дара. Осознано употребление «мы» в окончании предисловия, где речь идет лишь о переходе от одного, очень личного текста, к другому тексту, к самому «Житию» святого, которое почиталось как культовый текст, в котором личное начало в средние века все еще пробивалось весьма слабо [7]. Осознанное употребление «мы» в этом месте предисловия доказывает, на наш взгляд, что и в начале XVI в. ни священноначалие, ни агиографы, ни образованное общество не осуждали авторизацию-переделывание житийных текстов прежних агиографов. Пахомия Логофета, например, в середине XV в. за переработку «Жития Сергия», а еще раньше Киприана за переделывание «Жития митрополита Петра» уважали и прославляли; возможно, и в начале XVI в. переделанные тексты воспринимались культурным обществом как тексты более совершенные, чем первоначальные. Правда, одно различие в авторском самосознании обращает на себя внимание: автор Пространной редакции пожелал остаться анонимным. Видно все же, что он почему-то опасался гласности. Конечно, могли быть разные причины, побудившие его пребыть в безвестности. Но среди них не было личной скромности: в этом мы твердо убедились, изучив его многочисленные попытки умалить образ Святого Сергия (о них речь впереди). Скорее всего, агиограф, скрывая свое имя, был уверен в предосудительности своей лукавой критики Святого Сергия и потому хотел избежать бумерангового удара от защитников Святого. Мог быть и такой вариант: переделыватель принадлежал к лицам, близким тогдашнему митрополиту Даниилу, или выполнял свою работу под его неафишируемым руководством, и потому сам митрополит не пожелал огласки. Но и в этом случае на прикровенном авторском самосознании остается печать ущербности, заданной предвзятости суждений о Святом.
Наиболее глубокий и наиболее убедительный слой доказательств неоригинальности предисловия, его продуманной, тщательной редактуры открывается только тогда, когда исследователь вникнет в самохарактеристику автора и в его отношение к Святому и сравнит ее с самохарактеристикой Епифания и его отношением к преподобному Сергию в «Похвальном слове». Основное различие между образами Сергия в этих произведениях состоит в том, что в предисловии он сведен с высоты первого святого «в нынешнее время» до уровня обыкновенного святого и даже просто старца. Об этом красноречиво говорят определения Сергия. В «Похвальном слове» он почтен Божьей благодатью, а в предисловии этого нет; в «Похвальном слове» Сергий – «отцамь отецъ, учителям учитель, наказатель вождемь, пастырям пастырь», а в предисловии – либо «свять старец» (10 раз), либо просто «старецъ» без всякого определения (8 раз). Более того, в предисловии выведены еще и другие, безымянные старцы («некие», «древние», «святые» и даже «съборъ честных старець»), и к ним автор относится с таким пиететом («К ним же смирениемъ припадаю и самех тех подножию касаюся» – с. 288), которого у него нет к Святому Сергию. Об определениях святости Сергия в предисловии можно сказать, что они часто встречаются в житиях многих святых и поэтому стали общим местом («преподобный, пречюдный, предобрый, тихий, добродетельный, пресловущий, многословущий, именитый, добрый, богоугодный»); но главное отличие все же в том, что среди этих определений нет ни одного, которое поднимало бы Святого Сергия на высоту, утвержденную Епифанием в «Похвальном слове». Это – принципиальный вопрос, и потому редактура протографа была тут, как видно, скрупулезно тщательной. Тем самым автор предисловия говорит читателю, что в «Житии Сергия» речь пойдет не об исключительно великом святом, а о типичном святом старце, каких много, целый «събор» в одном лишь Свято-Троицком монастыре.
Весомым доказательством того, что предисловие к Пространной редакции невозможно считать протографом, служит отстраненность редактора от Святого Сергия, порой переходящая в отчужденность. В предисловии нет ни единого примера теплого, почтительно-дружелюбного тона в отношении автора к Святому Сергию, такого, как в «Похвальном слове» («Нъ ты сам, отче, съдействуй ми», «сиа пишущу ми, ты вразуми и настави», «нъ обаче сподоби мя принести похвалы тебе» и т. д.). В предисловии нет также ни одного случая обращения к Святому Сергию на «ты», а, напротив, о нем пишется только в третьем лице, причем нередко весьма суховато, отчужденно («глаголю же господина преподобнаго Сергиа», «по преставлении старцеве», «и старца призвавъ на молитву», «о житии старцеве», «и прочий мниси, яже не суть видали старца», «то все убо никако же повредит святого того старца» и т. п. – местоимение «того» особенно выразительно характеризует внутреннюю далекость автора от Святого). В предисловии нет малейшего знака, по которому можно было бы судить, что оно написано человеком, не только благоговейно почитавшим Святого, но и в течение 18 лет жившим с ним под единой монастырской крышей, делившим с ним хлеб-соль и даже, как полагают некоторые ученые, бывшим одно время духовником монастырской братии.
Весьма примечательно также и то, что автор предисловия не только свел Святого Сергия с духовной высоты на средний уровень, но и оторвал его от народных низов, от мирян вообще – как от князей, так и от «сирот» и вдовиц. Святой Сергий оставлен только с монахами, и именно для них, оказывается, пишет «Житие Сергия» автор: «И того ради сиа вся събравше, начинаем писати, яко да и прочим мниси, яже не суть видали старца, да и же прочтут и поревнуют старцеве добродетели и его житию веруют» (сс. 288-289). Монахи – единственный конкретный адресат в предисловии. В других случаях о назначении «Жития» пишется неопределенно «...утешение (от жития. – А. К.) вкупе списателем, сказателем, послушателем», «Аще ли будет писано (житие. – А. К.), и сие некто слышавъ, поревнует въслед жития его ходити и от сего приимет плъзу», «деяния того (Сергия. – А. К.) и подвига послушателем слышаны вся сътворити»). Совсем иным мыслится адресат «Жития Сергия» в Епифаниевом «Похвальном слове»: «Сиа же подробну писах не к тем, иже известно сведущим и добре знающим благочестное житие его: ти бо не требують сего възвещение. Нъ понудихся възвестити сиа и въспомянути новорожденым младенцемь и младоумнымъ отрочатом, и детский смыслъ еще имущимь, да и те некогда възрастуть, и възмужають, и преуспеють, и достигнут в меру връсты исполнениа мужества, и достигнуть в разумь свершень, и другь друга въспросят о семь, и почетше разумеють и инемь възвестять, яко же въ Святом писании речеся: «Въпроси, – рече, – отца твоего, и възвестить тебе, старца твоя, и рекуть тебе. Елико видеша, и слышаша, и разумеша отци наши, поведаша намъ, да не утаится от чад ихь в род инъ сказати я сыновомъ своимъ, да познает родъ инъ, сынове родящеися, да въстануть и поведять я сыномь своимь и не забудуть делъ Божиих» (с. 275). Епифаний, как это видно из цитаты, особенно из отсылки к Библии, был убежден, что он пишет «Житие Сергия» для всех людей, живущих где бы то ни было, и для потомков; при этом дела Сергия агиограф оценивает высочайше, как «дела Божий». И такая оценка согласуется с самими деяниями преп. Сергия, деяниями духовными, теснейше увязанными с реальной жизнью народа Руси (сс. 273 и 277). Потому и старается Епифаний, и мечтает, и молит Бога, чтобы он сохранил в памяти людей эти деяния и посодействовал создать «Житие Сергия».
Мы полагаем, что предисловие к Пространной редакции «Жития Сергия» ясно и с разных сторон свидетельствует о том, что оно тщательно отредактировано анонимым агиографом, жившим в 20-х гг. XVI в. Понятно, что Аноним не создавал новый текст предисловия, а перерабатвал старый (протограф или не протограф – неизвестно), и что Аноним преследовал при этом ясную цель – усреднить образ Святого Сергия, представив его таким святым, каких много. Вместе с тем он не был заинтересован в изменении того, что в исходном тексте было нейтрально к определению уровня святости, например, рассказов о хронологии и этапах работы Епифания над «Житием Сергия», о творческих трудах Епифания (работа над словом «по подобию»), о расспросах старцев-самовидцев жизни преп. Сергия. Можно предположить, что эти части предисловия дошли до нас без принципиальных искажений. Но все остальное было переделано и приспособлено Анонимом (и, надо признать, весьма умело) к главной цели его редакторской правки «Жития Сергия», начавшейся с предисловия. Исследователь ныне может судить только о цели и направлении переделки текста, но не о масштабах вмешательства (сокращениях, дополнениях и мелких конъектурах), потому что он не располагает протографом «Жития».
Мы рассмотрели работу Анонима над предисловием к Пространной редакции в данной главке, а не в следующей, где речь пойдет о переделках основного текста «Жития», потому, что ныне некоторые исследователи считают предисловие адекватным протографу.
2.3. О переделках Жития Сергия
Именно знание руководящего принципа осветит искалеченные символы.
Живая Этика
В освещении жизни Сергия Радонежского Епифаний избрал «узкий» путь правды. Именно поэтому ему, как видно по «Похвальному слову», еще при жизни пришлось испить первую чашу горечи. Но если бы он мог после своей смерти проследить историю «Жития», его изумление было бы велико. Новый владелец «Жития», церковь, 20 лет продержала рукопись Епифания в архиве, а затем дала ее на искалечение византийскому (!) книжнику, который то ли сам приехал на Русь в поисках лучшей жизни, то ли был приглашен для переделки «Жития» и написания других агиографических сочинений. Один только он, Пахомий Логофет, пять раз перерабатывал «Житие Сергия». Но и после Пахомия переделывание этого «Жития» продолжалось еще несколько веков. В известном смысле оно продолжается до сих пор. Мы надеемся, что поучительнейшая история переделок-перетолкований будет когда-нибудь исследована с исчерпывающей полнотой.
Все, что известно ныне о работе Епифания над «Житием Сергия», содержится в двух предисловиях к нему: в предисловии к Первой пахомиевской редакции (1438 г.) и в предисловии к Пространной редакции (1520-е гг.), которое мы рассмотрели в предыдущей главке. Принято считать, что Пахомий Логофет сам написал предисловие к своей Первой редакции «Жития Сергия», а предисловие к Пространной редакции ее анонимный автор взял полностью (или почти полностью) у самого Епифания, то есть из протографа, значительная начальная часть которого вошла без переделок (или почти без переделок) в состав Пространной редакции. Мы хотим подчеркнуть, что не существует убедительных доказательств для отождествления начальной части этой редакции (до главы «О изведении источника») с соответствующей частью протографа.
Б. М. Клосс, приступая к рассмотрению «Жития», многообещающе заявляет: «Памятник не сохранился в отдельном виде, а реконструируется на основе позднейших редакций...» (с. 18). В том-то и дело, что до сих пор никто не создал научной реконструкции «Жития Сергия» с должным обоснованием, с полноценными текстологическим анализом, со всесторонним (идейным, образным, стилистическим) сопоставлением с другими сочинениями Епифания, а также с сочинениями Пахомия, основного переделывателя епифаниевского оригинала. Думается, ученым предстоит еще трудная и длительная работа, прежде чем можно будет приступить к научной реконструкции «Жития».
Прежде чем перейти к вопросу о переделках епифаниевского оригинала, мы хотим обратить внимание на одну странность. Историкам известно, кто заказывал Пахомию написание его агиографических сочинений [8], но за исключением переделок «Жития». Невозможно согласиться с Б. М. Клоссом, что первую редакцию Пахомию заказал Троицкий игумен Зиновий: житие подвижника является важной частью обоснования его канонизации (святости), которая относится к компетенции церковного собора и митрополита, а не игумена. Менее значительные агиографические сочинения, чем переделка «Жития», Пахомию заказывали архиепископы и митрополиты. Игумен Зиновий был, наверное, исполнителем чьей-то высокой воли, а не полновластным заказчиком.
В ученой среде установилась традиция выявлять причины, побудившие церковь заказывать переделки епифаниевского «Жития Сергия». Чаще других называется необходимость традиционного приспособления жития к практике богослужения. Но так можно объяснить лишь сокращение объема текста, а не переделку содержания житий. Б. М. Клосс, в отличие от других современных исследователей «Жития Сергия», уделил немало внимания его переделкам. Ученый рассматривает три причины.
Первая: сокращение текста преследовало цель «более удобного использования в богослужебной практике» (с. 18). Но в таком случае наилучшим решением было бы поручение этой работы самому Епифанию. Этого, однако, сделано не было. Допустим, что по уважительной причине (Епифаний был болен, не захотел сокращать и т. д.). Но неужели для подобной работы не нашлось на Руси образованного книжника? Неужели надо было ждать 20 лет, ждать случая, позволившего поручить сокращение «Жития» византийскому монаху, приехавшему на Русь искать своего счастья? Мы полагаем, что логичнее представить себе все иначе.
Текст Епифания не получил принципиального одобрения церкви. На это указывал еще Е. Е. Голубинский [9]. Однако проблема осталась неисследованной. По нашим наблюдениям, расхождение в оценках образа Сергия церковью и Епифанием было весьма значительным, принципиальным. Концептуальный характер расхождений может отчасти объяснить, почему церковь 20 лет не поручала переделку «Жития» никому из русских книжников, а терпеливо ждала (может, не совсем пассивно) приезда византийского литератора: ему легче было продиктовать, что и как следовало исправить в «Житии».
Вторая причина переделки «Жития Сергия», рассмотренная Б. М. Клоссом, – «...введение новой концепции о преемнике Сергия, при этом преемником Сергия объявлялся не Савва Сторожевский (как это было на самом деле), а Никон Радонежский» (с. 18)*.
Разумеется, русского книжника уговорить подменить факты в «Житии Сергия» было труднее, чем книжника византийского, который, вероятно, и не догадывался об этой подмене. Но зачем Б. М. Клосс подмену называет концепцией?
Третья причина: «Пахомий... вынужден был учитывать политические нюансы, возникавшие в ходе острого соперничества между двумя кланами в великокняжеском семействе» (с. 129). Кем был «вынужден» Пахомий, ясно: руководством Церкви; и, может, неслучайно Б. М. Клосс не отмечает этого. К сожалению, ученый также оставляет за скобками подлинно важный вопрос – что и как «учитывал» Пахомий при переделке редакций «Жития Сергия»
Неустанная работа Б. М. Клосса по изучению списков «Жития Сергия» принесла науке немало пользы. Самым ценным его достижением мы считаем четкое описание и типологическую классификацию списков «Жития Сергия» – результат тщательных разысканий исследователя. Мы принимаем его классифиацию. Однако по другим разделам книги Б. М. Клосса у нас есть возражения разного характера – и принципиальные, и частные, конкретные.
В научной литературе о «Житии Сергия» пока остается без исследования, как мы уже отмечали, история его переделок, образовавших в итоге многослойный текст – своеобразный житийный палимпсест. Поэтому мы посчитали целесообразным в дальнейшем конкретно проанализировать (по ходу нашего исследования) основные переделки, которые мы обнаружили в Первой пахомиевской и в Пространной редакциях «Жития Сергия».
2.4. Похвальное слово Сергию Радонежскому
Ныне многие исследователи считают, что дошедшее до нас полное «Похвальное слово» принадлежит перу Епифания Премудрого. Самый ранний список этого произведения датируется 50-ми годами XV века [10]; к этому времени после смерти Епифания прошло не менее 30 лет. И потому оправдан вопрос, нет ли в списке неепифаниевских вставок. Тем более, что в конце 30-х годов XV в. «засел» за переделку «Жития» Пахомий Логофет – и кто может поручиться, что он не получил от своего заказчика задание кое-что отредактировать и в «Похвальном слове», тесно связанном с «Житием»? На наш взгляд, в «Похвальном слове» есть немало фрагментов, порождающих мысль о том, что они написаны не Епифанием. В конце этой главки мы попробуем доказать нашу точку зрения. Заранее скажем лишь то, что наши сомнения касаются сравнительно небольшой части «Похвального слова», и потому оно сохраняет значение оригинала, значение критерия суждений о Сергии Радонежском и его первом агиографе, Епифании Премудром. Каким же предстает перед нашим мысленным взором образ Сергия Радонежского в концепции Епифания?
Начало «Похвального слова» задает тон всему повествованию, ясно обозначая его лейтмотив: первый источник силы, главная опора жизненного пути преп. Сергия (и Епифания) – Священное Писание, великий пример святых отцов. Из их числа Епифании выделяет пророка Давида: «От заповедей Твоих разумех, и сего ради възненавидехъ всякъ путь неправды» (с. 272). Эта цитата из 118 псалма поставлена на такое место, что она и подытоживает размышления автора о своем сочинении, и открывает его Похвалу преп. Сергию. Подчеркивая силу заповеданного духовного слова для человека и лично для себя, Епифаний находит в этом творческую опору. Из многих заповедей, укрепляющих его разум, писатель ставит на первое место заповедь о ненависти к пути неправды. И не случайно. Епифаний убежден, что так поступали «...и древние отцы наши и прочие вси, иже в посте провосиаша» (с. 272). Такое же великое практическое значение эта заповедь, по убеждению Епифания, имела и для преп. Сергия, который внес в нее важное уточнение: «Сих же стопамь последуя и житию их ревнуя, всякъ путь неправды възненавиде и истину възлюби...» (с. 272). Такой заповеди, в которой были бы соединены уравновешенно ненависть и любовь к истине, Епифаний не нашел ни в псалмах Давида, ни в Писании вообще, и поэтому он, надо думать, и не закавычил ее. Но и не высказал ее от себя, а отнес ее к святому Сергию. Руководящий жизненный принцип преп. Сергия ясен и прост. Держась его, нельзя сбиться с правого пути, нельзя впасть в односторонность. Этот принцип определяет также путь святого Сергия как путь борьбы. Начинается она с борьбы против своих страстей, с самовоспитания: «...зане и онъ (Сергий. – А. К.), человек подобострастенъ намъ бывъ (такова, говорит Епифаний, природа человека, страстная, чувственная. – А. К.), но паче нас Бога възлюби, и вся краснаа мира сего, яко уметы, вмени и презре, и усръдно Христу последова, и Бог възлюби его» (с. 272). Дисциплиной духа проверяется одна из главных заповедей Христа о единстве веры и дела. Именно ее последовательное применение Сергием к себе, редко встречающееся в жизни, вызывает восхищение Епифания. Выражение «вся краснаа мира сего» мы не должны понимать слишком расширительно, отождествляя «красное» с «прекрасным». И здесь, и в других житиях святых (напр., в «Житии Феодосия Печерского») оно имеет значение «прелести». Любовь к Богу «паче нас», т. е. более совершенная, чем у других людей, – вот та сила души Сергия, которая предопределила его победу над собой и вызвала ответную любовь Бога, согласно евангельскому изречению: «славящаа Мя бо, – рече, – Азъ прославлю», (с. 272). Эта мысль о взаимном прославлении, часто повторяющаяся в житиях, способна нагнать тоску, если ее понимать, как непрестанное славословие Бога в молитвах, обрядах, шествиях и т. п. действиях. Однако Епифаний сразу дает понять, что он имеет в виду прославление Бога делами, подвижничеством, всей чистой, безупречной жизнью Преподобного. Добродетельная жизнь, по мысли Епифания, обладает силой, приближающей человека к Богу. Благодаря этому Сергий «...приведе къ Богу многих душа» (с. 273) – таково первое благо, которое Сергий давал людям одним лишь излучением добра, исходившим от него и оказывавшим глубокое влияние на их души.
Для характеристики его труда и деятельности, поразительной по широте и разнообразию, агиограф избирает давно известную в древнерусской литературе форму перечислений. В их последовательности обнаруживается логика, позволяющая разделить их на три группы:
1) духовно-нравственные свойства;
2) конкретные умения-деяния;
3) итоговое выражение и свойств, и дел, раскрывающееся в общей оценке личности Преподобного, его образа в целом.
Все группы вместе составляют единство качеств его индивидуальности, внутренне – внешний портрет святого Сергия. Можно попытаться определить магнитный стержень качеств, к которому притягивается все богатство способностей и сил святого Сергия. Это позволит нам не рассматривать по отдельности многие его добродетели.
Понятно, что духовно-нравственные качества преп. Сергия должны быть соизмеримы с его деяниями. Однако вначале создается впечатление, что Епифаний перехваливает своего героя. Оно возникает потому, что после перечисления свойств его души и характера, вполне обычных, встречающихся в житиях других святых, следует его возведение на исключительную высоту: «он – отец отцов и учитель учителей, советник вождей, пастырь пастырей, наставник игуменов, ...учитель православию христолюбивых великих князей Руси, ...собеседник и испытатель, душеполезный и благоразумный, архиепископов, епископов, архимандритов и других священных особ» (с. 273). Чей итог земной жизни может быть выше и почетнее? Это почти недосягаемая духовная высота. Это не национальный, а всемирный уровень почитания.
Возникает вопрос, не слишком ли высоко поднял Епифаний планку святости Сергия? Не оторвался ли он от действительности? Нисколько. Приведем пример. В период религиозной смуты на Руси (1378 – 1390 гг.) Сергий Радонежский на деле выполнял роль высшего духовного пастыря Великой Руси, авторитет и пророческую силу которого признавали великий князь и все христианское население. Но кто отвел Сергию эту историческую роль? Константинопольский патриарх? Великий князь Дмитрий Иванович? Патриарх, как известно, назначил в 1375 г. митрополитом всея Руси Киприана, который, однако, еще долго не смог занять свой престол. Великий князь продвигал на этот престол Митяя, но скороспелый кандидат не достиг желанной цели, скончавшись загадочно, как и предсказал Сергий Радонежский. Выходит, высокая роль «пастыря пастыремь и наказателя вождемь» была предопределена Преподобному от Вышнего Престола, теми самыми Силами, целесообразным «попущением» которых произошла церковная Смута на Руси, разразилась Куликовская битва и свершилась великая Куликовская победа. Как сами эти события, так и активное, плодотворное участие в них Святого Сергия имели международное значение. Епифаний так прямо эту крамольную мысль высказать не мог, он выразил ее по-другому, на языке, вполне понятном его читателю. Для Епифания преп. Сергий был святым по благодати, а не по церковному закону о канонизации, другими словами, Сергий был определен в святые Богом, а не церковью: «...сподобленъ бысть божественыя благодати» (сс. 276-277), «...свет благодатной възсиал въ сердци его и просветися помыслъ его благодатию духовною» (с. 277), «...дасть бо ему Господь разум о всемь, и слово утешения даровася ему» (с. 277), «...съвръшен въ всяко дело благо», и потому: «Кого же из других святых так возлюбил Бог, как преподобного Сергия?» (с. 278). Благодатью и объясняются исключительные силы и способности Сергия, высочайший уровень его святости и вся широта его деятельности.
Вторая группа перечислений, характеризующих деятельность Святого Сергия, – и самая обширная, и самая конкретная. Она начинается с князей и заканчивается кающимися грешниками. Тут представлены все слои русского народа: князья и вельможи, воинство, духовенство, трудящиеся, не исключая находящихся «в темницах, в узах» и даже пьяниц. И все эти люди получали пользу от участия Святого Сергия в их жизни и судьбе – «как от источника благопотребного» (с. 274). С уровня мирового значения святого Сергия автор спустился на уровень «земли Русстей», где Святой «воссия... акы звезда пресветлаа» (с. 273). Тут его деяния показываются в конкретном многообразии – как в «радостотворящей» человечности, так и в любви к истине: «Сиротамь акы отець милосердъ, вдовицамь яко заступникъ теплъ; печальным утешение, скръбящимь и сетующимь радостотворець, ...нищим же и маломощнымь сокровище неоскудное, убогимь, не имущимь повседневныя пища великое утешение, болящимь въ мнозех недузех посетитель, и изнемогающимь укрепление, малодушьным утвръжение, безвременнымь печальникъ, обидимымь помощникь, ...сущимь въ пленении отпущение, в работах сущимь свобождение; въ темницах, в узах, дръжимым избавление, длъжным искупление, всемь просящим подаание, пианицам истрезвение...» (сс. 273-274). Защита истины, любовь к ней здесь проявляются не в проповеди, не в силе слова, а в силе сострадании, в практической помощи угнетенным, попавшим в беду. На наш взгляд, именно в этом была насущная необходимость, так как слово, даже христианское, обесценивалось в тогдашней Руси ежедневными молитвами в храмах за здравие хана, постоянными раздорами между князьями... Многоточием в цитате мы отметили двоякого рода пропуски. Во-первых, следующие проявления ненависти Сергия к неправде: «насильствующим и хыщником крепокъ обличитель, ...чюжаа грабящимь въстягновение, лихоимцемь възбранникъ» (там же). В трех предложениях очерчено широкое поле борьбы святого Сергия с угнетением людей. В «Житии Сергия» сохранился лишь один рассказ, образно показывающий эту борьбу («О лихоимце»). Видимо, в протографе были также и рассказы о «грабящих чужое» и о «насильствующих и хыщницех», отголоски которых сохранились в «Похвальном слове». Однако потом, в ходе многих переделок «Жития» они были, вероятно, кем-то изъяты. Второй пропуск в вышеприведенной цитате таков: «ратующимся и гневающимся миротворец». Эти три слова – единственное упоминание, не исключая и «Жития Сергия», об участии преп. Сергия в государственной политике прекращения княжеских междоусобиц, объединения Руси. Тогдашний читатель, думается, понимал, что конкретно имел в виду Епифаний, и потому он, монах, не мог сказать яснее и полнее об активном, сознательном участии Сергия, тоже монаха, в строительстве русской государственности: церковная цензура не пропустила бы такой крамолы. Истинное величие Сергия нашло свое яркое выражение в том, что он презрел запреты соборных уложений о мироотречении монаха и отважно предпочел соблюдению их мертвой буквы активную борьбу за объединение Руси и ее освобождение от иноземного ига. Сам Епифаний не только отчетливо сознавал, но и сердечно переживал невозможность в полной мере рассказать о некоторых одобренных Богом, но не одобряемых церковью деяниях Сергия. «Аз же убояхся (выделено мною. – А. К.), яко немощенъ есмь, груб же и умовреденъ сый; нъ обаче подробну глаголя, невозможно бо есть постигнута до конечнаго споведания, яко же бы кто моглъ исповедати доволно о преподобном семь отци нашем и великом старци, иже бысть в дни наша, и времена, и лета, и въ стране и въ языце нашем...» (с. 276). Епифаний прикрыл свои сетования ссылкой на личные недостатки, но, думается, читатели понимали, что ему хватило бы способностей прямо сказать о громадной роли Сергия в укреплении единства Руси и в обеспечении Куликовской победы, что дело все не в мнимой «умовредности» Епифания, так смиренно и охотно демонстрируемой им, а в запрете церковных властей на «неудобь исповедимые» (с. 287) темы, к которым относилось и участие преп. Сергия в важнейших военно-политических делах. Не себя же самого (в самом деле) «убоялся» Епифаний?
Отдельно рассматривается в «Похвальном слове» вопрос о земной славе Сергия. К тому, что было ранее сказано, добавлено два новых мотива: широта распространения славы (от Царьграда и Иерусалима до мусульманских стран) и ее божественный источник. Сам Сергий о славе не думал и не стремился к ней, а заботился лишь о полезности своих дел для ближнего, для народа, но «Бог прославил его» (с. 272), чтобы свет от его деяний распространялся как можно шире, подобно свету от светильника, установленного на горе. В одном из епифаниевских высказываний и сегодня ощущается направленность против тех, кто старается воспрепятствовать прославлению Сергия: «И его же Богь прослави, кто может похвалу его съкрыти?» (с. 272). Вопрос риторический, ибо Епифаний уверен, что нет силы, способной противостоять Богу. В этом убеждении Епифаний находит для себя и утешение, и побуждение к созданию «Похвального слова».
В духовно-нравственном облике Сергия особенно поражает Епифания полное, без малейшего зазора, единство слова и дела, гармоничная цельность всей его жизни, от юности до скончания дней: «иже убо словом учаше, то же и сам делом творяше», «...еже наченъ от юности зело, то же и съврши въ старости глубоце, ...не инако нача, и инако оконча: но елико убо жестоко и свято начя, толико же изрядно и чюдно скончя; съ благоизволениемь убо нача, съ святынею же съвръши въ страсе Божий...» и так далее, в различных вариациях утверждает Епифаний целожизненную верность преп. Сергия Учению Христа, неколебимую преданность Ему в мыслях, словах и делах.
Чрезвычайно острым социальным вопросом, затрагивавшим коренные материальные интересы церковной власти и ее духовно-нравственные устои, был вопрос о монастырской недвижимой собственности, о нетрудовых источниках дохода церкви и монастырей, духовенства в целом, или, как тогда говорили, о стяжании и нестяжании богатства. Епифаний пишет, что в этом вопросе святой Сергий занимал строго нестяжательную позицию, отчетливо понимая, что накопление личного богатства несовместимо с духовно-нравственным совершенствованием служителя Бога: «Сице же бе тщание его, да не прилпнет умъ его ни кацех же вещех земных и житейскыхь печалехь; и ничто же не стяжа себе притяжаниа на земли, ни имениа от тленнаго богатства, ни злата или сребра, ни съкровищь, ни храмовъ светлых и превысоких, ни домовъ, ни сель красных, ни ризь многоценных» (с. 277). Не пробежим невнимательным глазом этот красноречивый перечень: он, во-первых, говорит (от противного), какие именно тленные богатства тогда стяжали монастыри и церковь, во-вторых, поясняет, что в понятие «стяжание» включалось и движимое имущество, а в-третьих, указывает на одну прочно забытую позднее особенность нестяжания – на отказ от возведения «храмовъ светлых и превысоких», т. е. храмов дорогостоящих. По «Житию» мы знаем, что преп. Сергий строго соблюдал все принципы нестяжания – и не только в личной жизни. При нем Свято-Троицкий монастырь не принял в дар и не купил никакого недвижимого доходного имущества. Из вышеприведенных слов Епифания можно заключить, что церковь в Свято-Троицком монастыре, построенная на средства смоленского архимандрита Симона, добровольно пришедшего «под руку» Сергия году в 1346-ом, не была ни светлой, ни превысокой. И это было – вот что необходимо осознать – следствием не бедности, а принципиально нестяжательной, духовно-нравственной позиции игумена. Зная его исключительную заботу о странноприимных домах, можно с уверенностью предположить, что свободные монастырские средства направлялись на обеспечение жизни сирот и вдовиц, больных и увечных, вообще на добрые дела. Что же касается мнения, будто светлые и превысокие храмы возводятся во славу Божию, а не во славу земного священноначальства, то, по Епифанию, слава Божия укрепляется лишь добрыми делами человеческими и «нелицемерной любовью» к Богу и ближнему.
Епифаний не ограничивается критикой «стяжания», но раскрывает и позитивное содержание «нестяжания» Сергия: «Но сице стяжа себе паче всех истинное нестяжание и безъименство, и богатство-нищету духовную, смерение безмерное и любовь нелицемерную равну къ всемь человеком. И всех вкупе равно любляше и равно чтяше, не избираа, ни судя, ни зря на лица человеком, и ни на кого же возносяся...» (с. 277) Здесь кратко изложены заветы Христа об отношении к земным богатствам и о любви к ближнему. Мы видим, как ясно понимали Сергий Радонежский и Епифаний Премудрый неразрывную взаимосвязь этих заветов; в самом деле, сердце и любовь человека там, где его сокровища, и если сердце любит стяжательство, то оно не может любить ближнего, а если оно любит ближнего, то оно не будет любить накопление тленных богатств. Церковные власти, увы, не осознали и не воплотили в жизнь этих судьбоносных заветов Христа, убедительно подтвержденных Сергием Радонежским, конкретно воплощенных им в принципах жизнедеятельности духовной, трудовой, нестяжательной общины монахов. И когда мы ищем причины различных религиозных ересей или бед, постигших Русскую церковь, то мы не должны забывать о главной: церковь избрала стяжательный, нехристианский путь, и плата за такое отступничество от Учения Христа была тяжкой – и для священноначалия, и для многих верующих.
Редкую и трудную для осмысления стилистическую фигуру (оксюморон) избрал Епифаний, чтобы выразить основное позитивное содержание «нестяжания»: «стяжа... нестяжание» и «богатство – нищета духовная». Кто-то скажет: следует ли хвалить монаха Сергия за нестяжание? Сергию (мы уверены в этом) не раз даром предлагались «красные села» и прочие тленные богатства: ведь он был «великий пророк», как сказано в «Житии». Но Преподобный отклонял дары, несмотря на то что игумены многих и многих монастырей охотно их принимали, и нам ныне, кроме Свято-Троицкой обители, не известен ни один монастырь, который в Сергиево время строго держался бы нестяжательного пути. Уж не потому ли перо Епифания написало о Преподобном, что он «стяжа себе паче всех истинное нестяжание и безъименство?» Трудное, труднейшее это дело – идти не со всеми, идти своим путем, даже если путь этот освящен именем и заветами самого Христа. Однако и такое «иго» легко, когда есть помощь от Бога; преподобный Сергий помнил, конечно, и этот ободряющий завет Христа.
Рядом со словом «нестяжание» стоит «безъименство», которое тоже, оказывается, достигается упорной волей и целеустремленностью. Но как понять «безъименство»? В словаре И. И. Срезневского это слово переводится как «бедность»; так же переведено оно и в ПЛДР. Однако это значение плохо вписывается в контекст и «Похвального слова» в целом, и фрагмента, в котором находится «безъименство». Странно было бы хвалить преп. Сергия за бедность как за достижение, и такой похвалы действительно нет ни в «Житии», ни в «Похвальном слове». Кроме того, в рассматриваемом фрагменте раньше, до «безъименства», уже выражена мысль об отношении преп. Сергия к богатству, к личной собственности, (с. 277) После того как Епифаний раскрыл истинный смысл «стяжания», он переходит к истолкованию истинного смысла «нестяжания»: «Но сице стяжа себе паче всех истинное нестяжание: и безъименство, и богатство – нищету духовную, смерение безмерное и любовь нелицемерную равну къ всемь человеком» (с. 277). В этой цитате двоеточие после слова «нестяжание» принадлежит нам; мы поставили его по смыслу, исходя из того, что следующие за ним перечисления конкретизируют содержание истинного нестяжания. Оно не само по себе, не легко далось преп. Сергию, но потребовало от него постоянного труда и большой воли; поэтому Епифаний и употребил тут слово «стяжа», то именно слово, которое характеризует усилия накопителей богатства. Очень важно понять, почему Епифаний на первое место поставил «безъименство», а не другие духовные «стяжания» преп. Сергия. «Безъименство» – это, мы полагаем, «неименитость», и такое толкование не противоречит семантике этого слова. На возможность подобного истолкования натолкнули нас слова апостола Павла, который во Втором послании к коринфянам размышляет о своеобразной безвестности своей и других апостолов: «нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают...; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем» [11]. Примечательна и оксюморонная форма мысли: у апостола Павла – верные обманщики, неизвестные знакомые, нищие богачи, у Епифания – накапливание истинного ненакопительства, («стяжа истинное нестяжание»), безмерного смирения («смерение безмерное»). Чтобы разрешить мнимую тупиковость оксюморона, надо взглянуть на предмет шире, выйти за рамки привычных представлений. Слава апостолов и слава преп. Сергия распространялась неудержимой волной, шла понизу, без поддержки именитых верхов. Они были известны в низах, и там их имена были в почете. Но власти апостолов не признавали, и к именитым гражданам их не причисляли. Такой же логике, на наш взгляд, следует мысль Епифания, когда он, сообщив читателю о прославлении преп. Сергия самим Богом, тут же как бы спохватывается и задает риторический вопрос, в котором сквозит неуверенность в прославлении преп. Сергия земными властями, прежде всего, конечно, церковью. Вопрос возник не на пустом месте. Епифаний знал о недоброжелательном отношении к преп. Сергию митрополита Киприана, понимал, что не без причины игумен Сергий не получил почетного сана архимандрита, понимал, что отказ Сергия от митрополитства породил отрицательный резонанс в церковных кругах. У преп. Сергия, как у апостолов, имени в церковных верхах не было, но зато была слава в народе и даже за пределами Руси. Если в этом смысле понимать слово «безъименство», то оно окажется вполне уместным рядом со словом «нестяжание», к которому церковная власть тоже испытывала неприязнь. При этом надо отметить, что сам Сергий к официальным, внешним, не духовным отличиям вовсе не устремлялся.
Многих вводит в смущение оксюморон «богатство–нищета духовная», восходящий к знаменитому изречению Христа «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». На наш взгляд, Епифаний Премудрый впервые в истории русской мысли сделал попытку раскрыть внутренний смысл загадочного изречения Христа, исходя из общего смысла Его Учения. Приведем оксюморон Епифания в контексте его похвалы св. Сергию: «И въздржание велие стяжа въ себе, смереномудрие, целомудрие и къ всемь любовь нелицемерну. Слава же и слышание пронесеся о немь повсюде, и вси слышащей издалеча притекааху к нему, и великь успех, и многу пълзу, и спасение приимаху от него: дасть бо ему Господь разум о всемь, и слово утешениа даровася ему, могый утешити печалныя; ...и ничто же не стяжа себе притяжаниа на земли, ни имениа от тленного богатства, ни злата или сребра, ни скровищь, ни храмовъ светлых и превысокых, ни домовъ, ни селъ красных, ни ризь многоценных. Но аще стяжа себе паче всех истинное нестяжание и безъименство, и богатство – нищету духовную, смерение безмерное и любовь нелицемерную равну къ всемь человеком» (с. 277). В соответствии с текстом Нагорной проповеди Христа Епифаний назвал нищету духовную богатством, но не пояснил своего определения. Он, мы полагаем, как бы продолжил здесь (без отсылки к источнику) словесную игру с оксюмороном («блаженны нищие духом» или «нищие блаженны духом»), которая есть во Втором послании апостола Павла к коринфянам: 1) «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2) «Мы нищи, но многих обогащаем». Ясно, что тут речь идет о духовном богатстве бедного Христа и бедных апостолов и о духовном обогащении желающих освоить Учение Христа.
Если отказаться от оксюморонной игры, красивой, выразительной, но многих сбивающей с толку, то можно предложить не буквальное, а смысловое прочтение соответствующего места в Нагорной проповеди: «Нищие блаженны духом, ибо их есть Царствие Небесное» и т. д. В живой речи Иисус Христос одним лишь ударением и паузой мог передать (и мы думаем, что так это и было) тот же самый смысл: «Блаженны нищие духом», и потому «их есть Царствие Небесное». Однако в русском тексте сбивает на неверное прочтение (блаженны те, кто не имеют в себе ничего духовного) порядок слов и соответствующая ему интонация. Это место из Нагорной проповеди, видимо, давно уже порождало недоумение у читателей, что нашло отражение в переводах Евангелия на другие языки. Вот некоторые примеры:
1) в берлинском издании 1876 г., в краковском издании 1917 г., в Кралицком издании (чешский язык) 1613 года Христос говорит не о нищих духом, а просто о нищих [12];
2) в упомянутом краковском издании дан комментарий к этому месту в евангелии от Матфея, заканчивающийся уверением в том, что выражение «нищие духом» надо распространять на каждого христианина, «ktory sie do bogactwa ne przywionzuje», т. е. который не связывает себя богатством. Понятие «блаженный» в глубинном смысле означает «носящий благо в себе», и потому всегда счастливый, и это благо есть дух, искра Божья, зерно Божественной сущности, заложенное в каждого человека. И это великое богатство надо, как учит Христос, не закапывать в землю, не держать под спудом, а приумножать своим трудом, совершенствованием своего духовного потенциала. «Дух должен быть образован и образован истинным познанием» [13]. Подводя итоги жизни святого Сергия, Епифаний написал знаменательные слова: «И легко переплыв многомутное житейское море, он без вреда причалил душевный корабль, исполненный богатства духовного» (с. 280. Выделено мною. – Л. К.). Точный, емкий образ нашел агиограф для характеристики своего героя. Похороны святого Сергия подтвердили силу ответной любви к нему всех слоев народа, веру в его благодатные дары и связанную с ними надежду на посмертную помощь людям от Сергия, принятого Богом в число своих праведников. Слово «праведникъ» не сходит с уст Епифания. Оказывается, что именно оно более других подходит для оценки жизни преп. Сергия с точки зрения Высшей Справедливости. Круг замкнулся. Преп. Сергий прожил всю жизнь по правде – и именно это выше всех иных добродетелей оценивается на Небесных весах.
Заметим попутно, что, по нашему мнению, жить по правде и жить не по лжи – вовсе не одно и тоже. Формула Епифания, обобщающая жизненный опыт преп. Сергия, – возлюбить истину и возненавидеть всякий путь неправды – более четко ориентирует человека в плавании по «многомутному житейскому морю». Между ложью и истиной есть много неверных путей; все эти искривления у Епифания объединены в понятии «всякий путь неправды». Жить не по лжи – это весьма полезный нравственный ликбез, но ориентация на ограниченную цель уже недостаточна, ибо не может породить великой энергии и творческого подъема, без которых в современном мире невозможно восхождение духа и развитие своей индивидуальности. Русская литература традиционно возвышала образ праведника, который искал и защищал правду, лишенную личного начала, правду для всех. «Посмотри кругом – везде рознь, везде свара; никто не может настоящим образом определить, куда и зачем он идет... Оттого каждый и ссылается на свою личную правду. Но придет время, когда всякому дыханию сделаются ясными пределы, в которых жизнь его совершаться должна... Объявится настоящая, единая для всех обязательная Правда; придет и весь мир осияет. И будем мы жить все вкупе и влюбе» [14]. Правда – истина дана каждому в его зерне духа, но открывается она только людям, избравшим узкий, серединный путь совершенствования, путь любви к Богу и ближнему во имя Общего Блага. Так учил Христос. Так учит ныне Живая Этика.
До сих пор мы не написали ни одного критического слова о епифаниевском образе Сергия Радонежского в «Похвальном слове», так как во всем были согласны с автором. Но мы не можем согласиться с Епифанием, когда он абсолютизирует силу преображающего воздействия преп. Сергия на всех, кто вступал с ним в контакт: «Или кто, видя святое его житие, и не покаялся?.. Или кто бысть блудник, видя чистоту его, и не пременися от блуда? Или кто гневлив и напрасен, беседуаи с нимь, на кротость не преложися?» (с. 277) Может, эти строки написаны не Епифанием, а кем-либо из переделывателей его текста? Ведь Епифаний хорошо знал, что не всегда было неотразимым влияние Сергия Радонежского на своих собеседников и даже на тех, кто жил с ним в одном монастыре и кто поднял бунт против него после введения общежития. Что же говорить о тех, для кого игумен Сергий был не учителем, а лишь «душеполезным собеседником», т. е. об архиепископах, епископах и архимандритах. Они, а также и великий князь Василий Дмитриевич, не пришли даже на похороны преп. Сергия. Разумеется, мы не можем определенно утверждать, что вышеприведенная цитата из «Похвального слова» принадлежит не Епифанию, а кому-то из переделывателей его оригинала: преувеличенная вера в воздействие на читателя образа положительного (идеального) героя жива еще до сих пор. Конечно, верующий человек, как показал прекрасно Епифаний, связывает эту веру еще и с верой в посмертную активную деятельность праведника, приближенного к престолу Вседержителя и потому могущего своими молитвами за оставшихся на земле улучшить их участь: «Помяни нас, недостойных, у престола Вседръжителева. Не престай моляся о нас къ Христу Богу, тебе бо дана бысть благодать за ны молитися» (с. 281). Епифаний убежден, что жизнь, «процветание» после смерти «въ дворех дому Бога нашего» (с. 282) достойно продолжила земную, чистую, безукоризненную жизнь Сергия.
Есть все же, мы полагаем, в «Похвальном слове» фрагменты, о которых с большой уверенностью можно говорить как о вставных. Но прежде чем перейти к рассмотрению одного из них, мы хотим обратить внимание читателя на беглое замечание Епифания, свидетельствующее, что данное «Похвальное слово» не единственное, что до него было написано другое: «Сих же стопамь последуя и житию ихъ ревнуя, всякъ путь неправды възненавиде и истину възлюби, его же и прежде над писаниемь слова вменихомь и от нас днесь ныне похваляемь есть Сергие» (с. 272, выделено мною. – А. К.). Перевод из ПДДР: «По их стопам следуя и жизни их подражая, всякий путь неправды возненавидел и истину возлюбил тот, о котором мы в написанном раньше слове вспоминали и которого мы сейчас здесь хвалим» (с. 409). Соглашаясь с доводами Б. М. Клосса, что данное «Похвальное слово» читалось Епифанием на открытии в 1412 г. новой, светлой церкви в Свято-Троицком монастыре [15], мы вместе с тем полагаем, что первое «Похвальное слово» было написано им к первой годовщине смерти Преподобного, ибо эта годовщина имела и имеет на Руси особое, неповторимое значение в череде поминовений усопшего. Именно в этом смысле мы и понимаем беглое, но совершенно определенное высказывание Епифания. Следовательно, должен существовать еще один, первоначальный текст «Похвального слова», и его надо искать.
Приведем фрагмент, который мы считаем вставным полностью: «Успе же старець о Господе въ старости глубоце, добре поживъ в преподобии, и правде, и целомудрии, въ смиреномудрии, въ всякой чистоте и святыни, исплънь дний духовных. Преставися от жития сего лет седмидесять. Чернечьствова же лет 50 съ всякимъ прилежаниемъ и въздержаниемъ, не леностию когда съдръжим, нъ съ бодростию и со мноземь трезвениемь, и всех инокъ предуспе в роде нашемь труды своими и трезвениемь, и многых превзыде добродетелми и исправлении своими. Что же наше житие или что наше пребывание противу святого подвигомь и прочимь добродетелем? Ничто же есть наше чернечество, и наша молитва яко стень есть. Колико растоание имать востокъ от запада, сице намь неудобь есть постигнути житиа блаженаго и предивнаго мужа. Сице ти есть житие его и сицевы труды его, и исправления, и подвизи, и потове, и мнози болезни, еже от многа мало нечто понудихомся, аще и не по чину положихом, ни по достоанию написахом» (с. 278). Фрагмент дублирует по смыслу и по информативному содержанию, но дублирует бледно, вяло и неточно то, что сказано пространнее, лиричнее и энергичнее в следующих фрагментах: 1) в том, который начинается так: «Поболевъ убо старець неколико время и тако преставися ко Господу...» и заканчивается словами: «...и преиде от смрти в живот, от труда в покой, от маловременнаго века в векы бесконечныя, от тля в нетление, от силы в силу, и от славы в славу» (с. 280); 2) в абзаце, начинающемся со слов «Егда же приспе время преставлениа его...» и заканчивающемся так: «...иде же многолетное и многострадалное течение свое препроводи и укрепи, не исходя от места своего во иныя пределы, развенужда некыя» (с. 279).
В текстологии худший дублирующий фрагмент считается признаком чужеродности. Вторая причина, усугубляющая первую, в том, что вставной фрагмент находится не на должном месте, раньше двух других, приведенных нами, хотя по смыслу и последовательности хода событий логичнее было бы поместить его после них. Третья причина – для нас наиболее убедительная, состоит в том, что вставной фрагмент искажает епифаниевский образ Святого, умаляя и противопоставляя его другим монахам. Епифаний поднял святость Преподобного до всемирного уровня, но автор вставного фрагмента опустил его с этого уровня до уровня месточтимого святого, который «...многых (выделено мною. – Л. К.) превзыде добродетелми и исправлении своими». Перечисление добродетелей своей небрежностью, сумбурностью и малочисленностью резко контрастирует с епифаниевскими перечислениями. Автор вставки так оценивает добродетели Сергия: «...сицевы труды его, и исправлениа, и подвизи, и потове (!), и мнози (!) болезни...» и т. д. Неуместная и, видимо, намеренная заземленность («потове»), явная ошибочность (мнози болезни) – все это совершенно чуждо епифаниевскому образу Сергия. Неоправданное и у Епифания не встречающееся унижение всего монашества в противопоставление Сергию лишь по внешне смиренной позе уважительно, а по внутреннему смыслу насыщено чрезмерным, нарочитым самоуничижением, которое паче гордости: «что же наше житие или что же наше пребывание противу святого подвигом и прочим добродетелем? Ничто же есть наше чернечство, и наша молитва яко стень есть» (с. 278). Епифаний, сопоставляя свою жизнь с Сергиевой, принижает только себя и никогда – других монахов, а в процитированном, контрастном сравнении подчеркнуто унижается все «наше» монашество и даже молитва (!) всех «наших» монахов. Чрезмерная выделенность, обособленность Сергия безосновательно поставлена на место его каждодневного и всестороннего сотрудничества с монахами самых различных духовных уровней. Под прикрытием самоунижения агиографа и «наших» монахов создается ложный образ Преподобного, величие которого было неотделимо от его простоты и задушевности. Для сравнения приведем епифаниевскую характеристику взаимоотношений Св. Сергия с монахами: «Но аще стяжа себе... смерение безмерное и любовь нелицемерную, равну къ всемь человеком. И всех вкупе равно любляше и равно чтяше, не избираа, ни судя, ни зря на лица человеком, и ни на кого же возносяся, ни осужаа, ни клевеща, ни гневом, ни яростию, ни жестокостию, ни лютостию, ни же злобы дръжа на кого» (с. 277, выделено мною. – А. К.)
Четвертая причина относится к стилю вставного фрагмента, и потому для доказательства чуждости этого стиля Епифанию целесообразно привести весь фрагмент, написанный им на ту же тему, что и вставка. «Поболевъ убо старець неколико время, и тако преставися ко Господу, к вечным обителемъ, изсушивъ тело свое постом и молитвами, истончивъ плоть и умертвивъ уды сущаа на земли, страсти телесныя покорив духови, победивъ вреды душевныя, поправъ сласти житейскыя, отвръгь земнаа попечения, одолев страстнымь стремлениемъ, презревъ мирскую красоту, злато, и сребро, и прочая имениа прелестнаа света сего яко худаа вменивъ и презре. И легьце преплувъ многомутное житейское море, и без вреда препроводи душевный корабль, исплънь богатства духовного, беспакостно доиде в тихое пристанище, и достиже, и крилома духовныма въскрылися на высоту разумную, и венцемь бестрастия украсися, преставися къ Господу и преиде от смерти в живот, от труда в покой, от печали в радость, от подвига въ утешение, от скръби въ веселие, от суетнаго житиа въ вечную жизнь, от маловременнаго века в векы бесконечныя, от тля въ нетление, от силы в силу, и от славы в славу» (с. 280). Кто не заметит поразительного стилистического различия между двумя описаниями кончины святого, из которых, конечно, должно быть только одно? Прилагательное «вьсякыи» (любой, каждый), употребленное правщиком в словосочетаниях «добре поживъ... въ всякои чистоте и святыни» и «чернечьствова же лет 50 съ всяким прилежаниемъ и въздержанием», (см. предыдущую цитату) заключает в себе (особенно в сочетании со словом «святыни») смысловой оттенок небрежно-снисходительного отношения к добродетелям Сергия. Эта же особенность сознания правщика проявилась снова в сравнительной оценке жизни Преподобного и монахов: «...что наше пребывание противу святого подвигомь и прочимь добродетелей?» Жизнь монахов (и агиографа в том числе) самоуничижительно названа им «пребыванием», которому противопоставлена жизнь Сергия. Однако его праведная жизнь охарактеризована без внимания к ее достоинствам: многие добродетели (напомним, что к ним относится и забытая здесь «любовь нелицемерная» к Богу и ближнему) принижены небрежным определением «прочие», и, кроме того, вопреки здравому смыслу и логике, отделены от подвигов как их малозначимая часть. У Епифания нет такого деления. Разве неясно, что подвиги есть следствие редких душевных качеств Сергия, особенно его неустанного самосовершенствования и бесстрашия в борьбе с темными силами?
Ярко выраженная ритмичность прозы Епифания, со свойственным ей широким дыханием, пропала во вставном фрагменте. Исчезло и чувство искреннего восхищения своим героем. Оно подменено рассудочными суждениями. Наиболее характерным из них мы считаем следующее: «Колико растоание имать востокъ от запада, аще нам неудобь есть постигнута житиа блаженого и предивнаго мужа». У Епифания, напротив, мысль вырастает из чувства, и это насыщает лиризмом интонационный строй его сочинений. Примеров несть числа, и потому мы воздержимся от их цитирования. И последнее замечание. От епифаниевского текста исходит ощутимое излучение преклонения перед высочайшим подвигом святого Сергия. От вставного фрагмента веет холодом заданного старания проникнуть в непонятный феномен «предивнаго мужа».
Кто автор вставки в «Похвальное слово»? Не Пахомий Логофет, хотя список «Похвального слова», который мы рассматриваем, изготовлен в годы активной работы Пахомия над переделками «Жития Сергия». Пахомий, как известно, считал, что преподобный Сергий прожил не 70, а 78 лет. Имя автора вставки пока остается вне предположений.
В «Похвальном слове», особенно в его заключительной части, есть еще несколько инкрустаций различного объема – от одного слова до фрагмента. Мы рассмотрим их – в соответствии с ходом и логикой нашего изложения «Жития» – в последней главке исследования или в специальном комментарии к ней. Наличие немногих инкрустаций в целом не изменяет нашей оценки рассматриваемого списка «Похвального слова» как копии епифаниевского протографа, испорченной лишь в некоторых местах. Несмотря на отдельные искажения текста, епифаниевский образ Сергия дан ярко, выпукло и может служить критерием оценки образов Сергия, созданных другими агиографами.
Они были кратко охарактеризованы во Введении. Здесь целесообразно дать дополнительные сведения.
Суждения о Сергии Радонежском из «Живой Этики» и писем Е. И. Рерих будут привлекаться по мере развертывания нашего исследования. Все, что относится к Преподобному в «Повести о Мамаевом побоище» и «Сказании о Мамаевом побоище» будет проанализировано в заключительных главах исследования.
До сих пор среди сторонников Учения Живая Этика нет единого мнения о том, кто является автором «Криптограмм Востока». Мы хотим внести ясность в этот вопрос. В письме к А. М. Асееву от 8 сентября 1934 года [16] Е. И. Рерих писала о «Криптограммах Востока»: «Книга эта из того же источника, что и Учение, но пришлось ей дать имя, ибо издательство не принимает анонимных трудов». Следующая цитата из другого письма Е. И. Рерих от 18 ноября 1935 г. раскрывает имя настоящего автора Учения, а значит, и «Криптограмм Востока»: «Конечно. Автор книг сам Великий Владыка М. Я слышу и записываю, так же и Н. К. (Николай Константинович Рерих. – А. К.)... Ибо, истинно океан мысли Учения непрестанно дается, и третья часть Мира Огненного заканчивается теперь» [17].
Из «Криптограмм Востока» мы внимательно рассмотрим в отдельной главе «Провозвестие Владычицы», данное Преподобному Сергию.
Очерк Е. И. Рерих «Преподобный Сергий Радонежский» впервые под псевдонимом Н. Яровская был опубликован рижским издательством «Алтаир» в 1934 г. в составе сборника под названием «Знамя Преподобного Сергия Радонежского». Начиная с 90-х гг. XX века, очерк многократно переиздавался в нашей стране под фамилией Е. И. Рерих. Ее авторство подтверждено ею самой и не вызывает сомнений ни у читателей, ни у издателей. Очерк во многих отношениях представляет значительный интерес для исследователей «Жития Сергия» и потому будет привлекаться нами при рассмотрении важнейших событий в жизни Преподобного, хотя сам очерк не будет предметом нашего разбора.

Рассказы о чудесах не могут подтверждать истину. Если бы не то, что рассказы, но на моих глазах человек воскрес из гроба и улетел на небо и оттуда уверял бы меня, что 2x2=5, я все-таки не поверил бы ему.
Лев Толстой
Всякое начало знаменательно, тем более начало человеческой жизни. Люди особенные, щедро одаренные способностями, в житиях часто отмечаются при рождении каким-либо необычным знаком, чудесным явлением, имеющим предсказательный смысл.
Христианство, новое Откровение Свыше, родилось под поражающим воображение символическим знамением: Христос появился на свет от девы Марии путем непорочного зачатия, путем отчасти божественным, отчасти человеческим. Великая тайна зачатия Христа, ставшая широко известной отнюдь не сразу, а лишь по мере распространения христианства и особенно после церковного одобрения Четвероевангелия, то есть спустя... века после рождения Христа, эта тайна – чудо положила начало длинному ряду разнообразных чудесных знамений, сопровождавших рождение святых, которые после смерти удостоивались быть в окружении Христа.
Описание рождения Сергия Радонежского в его «Житии» в целом находится в русле отмеченной традиции. В нашем исследовании мы анализируем две самые известные и самые интересные редакции «Жития» – Первую пахомиевскую (середина XV в.) и Пространную (20-е гг. XVI в.). Различия между ними весьма существенны, и мы постараемся их рассмотреть, начав с первых чудес, случившихся в жизни Сергия Радонежского.
3.1. Первые чудеса и первые их истолкования
Миллиарды лет за девять месяцев ежемгновенного возрастания – таков путь человеческого эмбриона в лучшей из всех, материнской колыбели, путь из немой тьмы веков к свету. Люди недооценивают значение предпутья для жизни человека (в противном случае они вели бы отсчет возраста не от рождения, а от зарождения), хотя порой фантазия народа или воображение духовных писателей рисуют яркие поучительные картины, смысл которых един: первоначало, зародыш жизни предопределяет судьбу человека. Вот и агиографы Сергия Радонежского, пытаясь разгадать тайну «чистой», «чудной» жизни Преподобного Сергия, то ли сами придумали, то ли услышали в народе чудесный вымысел о сознательной жизни Сергия еще во чреве матери.
Мы начнем рассмотрение описания этого чуда с Первой пахомиевской редакции. «Чудо несказанное» (с. 345) случилось в церкви одного из сельских приходов Ростовского княжества: во время литургии, перед чтением святого Евангелия, в установившейся тишине «...внезапно дитя начало голосить в животе матери, так что голос слышали все, кто тут были»* (с. 344). Слышали все, но Пахомий не пишет о том, как они восприняли услышанное. Он рассказал лишь о переживаниях Марии, матери ожидаемого ребенка: ею овладели «страх, трепет и недоумение, она дивилась этому и думала про себя, что же это означает» (с. 344). Во второй раз младенец подал голос, «когда начали петь Херувимскую песнь», а в третий раз, «когда возгласили: «Святое – святым!» – оба раза он «возвысил голос» выше, чем в первый раз. Само чудо в церкви уподобляется евангельскому чуду, описанному евангелистом Лукой: «Случи бо ся, яко же о Иоанне Предтечи, познавшаго владыку своего и въ чреве матерне взыгравшеся. Тако же и сего мати...» (с. 344)
Напомним евангельский рассказ. Когда беременная Мария, побуждаемая Святым Духом, пришла к Елисавете, беременной Иоанном Крестителем, Предтечей Христа, то произошло такое чудо: «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем» (Лк., 2:42, 43, 44). Значит, чудо в том, что младенец во чреве Елисаветы (будущий Иоанн Креститель) «взыграл», узнав другого младенца (будущего Иисуса Христа) во чреве его матери, Марии, и это распознавание чудесным образом осознала Елисавета и, безмерно счастливая, сообщила радостную весть Марии. По подобию с евангельским чудом произошло и чудо с «проглаголанием младенца» (будущего святого Сергия) во чреве его матери, Марии. Он трижды громко подал голос, распознав наиболее важные моменты в богослужении и тем самым приобщившись к ним: к Учению Христа (вынос Евангелия из алтаря), к прославлению небесного величия Христа (Херувимская песня), и Святой Троицы, и других святых (вместе с возглашением священника в третьей части литургии). Уподобление одного чуда другому основано на проявлении сверхранней способности богопознания, формы которого в Евангелии и «Житии», правда, различны, но это самого уподобления не отменяет, а учит отличать сущность от ее многообразных проявлений.
Значение уподобления ростовского чуда евангельскому велико: Сергий Радонежский поднимался на высоту одного из самых знаменитых святых христианства. Такая оценка святого Сергия находится в соответствии с оценкой Епифания в «Похвальном слове». В этом мы видим аргумент за то, что чудо в церкви могло быть и в епифаниевском оригинале, несмотря на то что в «Похвальном слове» нет даже малейшего намека на него. После рассказа о чуде, Пахомий дал ему свою оценку: «Дивно же ми есть, любимици, умом внимаа, чюдо несказанное, еще бо въ утробе материи младенцу проглаголати, но и слава единому чудотворящему Богу» (с. 345). Для Пахомия смысловое содержание этого необъяснимого чуда исчерпывается тем, что младенец подал голос из чрева матери. Он, как видно, не замечает или обходит другие особенности чуда – троекратность «проглаголания» и сверхраннее богоразумение Сергия. И не случайно: Пахомий исключает какое-либо участие младенца в совершении чуда, категорически утверждая Бога его единственным Творцом. Такая оценка чуда расходится с самим рассказом о том, как оно совершалось, и это дает нам основание атрибутировать оценку не Епифанию, а Пахомию.
После свершения чуда первый комментарий сделал священник, крестивший младенца и давший ему имя Варфоломей. Когда родители рассказали священнику о троекратном «проглаголании святого отрока» (с. 345), священник, рассуждая в духе «божественного писания», сказал так «Радостию радуитеся и веселием веселитеся, иже же хощет съсуд избранъ быти Богу и служитель Святыа Троица, еже и бысть» (с. 345). Перевод: «Радуйтесь весело и веселитесь радостно, ибо он будет избран вместилищем Бога и служителем Святой Троицы, что и произошло» (Перевод наш; другие переводы будут особо отмечаться. – А. К.). Комментарий священника выгодно отличается от оценки Пахомия тем, что не обходит, а, напротив, четко определяет характерные особенности чуда: сверхраннее богоразумение истолковывается как богоизбранничество Сергия, а троекратность проглаголания и его совпадение с прославлением Святой Троицы – как предсказание ее особого почитания будущим святым. Такой комментарий, сделанный в ключе прообразовательной логики, соответствует оценке жизни святого Сергия в «Похвальном слове», и потому мы полагаем, что автором комментария был Епифаний.
Чудо с Иоанном Крестителем имеет в евангелии от Луки важное продолжение, характерное для евангельских чудес вообще. Отец Иоанна (Захарий) был немым до тех пор, пока его сына не принесли на восьмой день после рождения «обрезать и хотели назвать его по имени отца, Захариею. На это мать сказала: нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них... Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: что будет младенец сей? И рука Господня была с ним» [18]. Любое евангельское чудо имеет полезное следствие; в рассматриваемом случае их два – избавление Захарий от немоты и обретение им пророческого дара. Чудо в ростовской церкви тоже дало свой росток.
Некоторое время спустя после крещения младенец «по средам и пятницам не сосал материнскую грудь и не принимал никакого молока» (с. 345). Но это чудо не имело (по описанию Пахомия) полезных следствий; его смысл состоял только в том, чтобы символизировать «будущее воздержание» (там же) святого Сергия. Так в форме чуда проявилось, по мнению Пахомия, пророчество Святого Духа (там же). Предсказаний в Новом Завете немало, но они не смешиваются с чудесами, как у Пахомия. Такое контаминированное чудо действительно «странно и неудобь сказуемо» (с. 345). Отклонение от евангельского образца обесценивает чудо, хотя по видимости будто бы возвышает, усиливает его. На деле же и чудо в церкви, (сверхраннее богоразумение) и чудо сверхраннего пощения по своим следствиям маломощны и почти бесполезны, и в этом отношении далеко уступают евангельским чудесам, связанным с рождением Иоанна Крестителя. Так, в Евангелии чудотворение Святого Духа поражающе мощно и практически очень полезно; здесь же, в «Житии Сергия», оба чуда поражают только своей странностью. Именно эту особенность обоих чудес подчеркивает Пахомий. Особенно настойчиво во втором случае: «Еда бо, рече, книгы учися или от некоего учителя велика навыкну таковаго въздръжаниа образу, ни, рече, но Святым Духом действоваше...» (с. 345) Не слишком ли мелко такое чудо для Святого Духа? Пахомий сам охотно помогает читателю осознать, что ни в каких книгах (значит, и в Евангелии тоже), ни у какого великого учителя (не намек ли на самого Христа?) не найти подобия постническому чуду, и остается только признать его исключительно великим, совершенным самим Святым Духом. Эта преувеличенная похвала есть на деле не похвала, а критика под прикрытием похвалы. Но критика не себя самого, как может подумать наш читатель, а «священноинока Епифания», именем которого подписано «Житие Сергия», переделанное Пахомием.
Мы решительно отказываемся признать епифаниевской и саму критику, и ее особенную форму. Епифаний, известный нам по его другим сочинениям и по «Похвальному слову», не мог создавать образ Сергия в несоответствии с евангельскими образцами. Конечно, Епифаний мог поставить святого Сергия на один уровень с Иоанном Крестителем, но совершенно всерьез, без последующего прикровенного разрушения изнутри уподобления образа Сергия образу Иоанна Предтечи. Несомненно для нас, что само уподобление и чудо в церкви были иначе поданы и интерпретированы Епифанием. Как иначе? Безо всякого несоответствия с Евангелием, безо всякого ненужного, критического преувеличения чудесности, словом, безо всякого ущерба для авторитета святого Сергия, безо всего, что могло посеять недоумение и сомнение в чуде. Огромный, семилетний провал в описании детства Варфоломея (от раннего младенчества до исполнения ему семи лет), зияющий в «Житии Сергия», не есть ли свидетельство того, что Пахомий изъял из епифаниевского оригинала какие-то фрагменты?
Уже в начале нашего исследования обозначился тот угол зрения, под которым Пахомий перерабатывал епифаниевское «Житие Сергия Радонежского» – умаление и героя, и автора «Жития».
Перейдем к «Житию Сергия» в Пространной редакции, рассматриваемый список которой датируется 20-ми годами XVI века, [19]. Этот список интересен во многих отношениях. Заглавие «Жития» вообще уникально: «Житие преподобного и богоносного отца нашего игумена Сергия чюдотворца. Списано бысть от премудрейшаго Епифаниа» (с. 287). Кажется невероятной самохарактеристика автора как «премудрейшего». Мы не встречали подобной ни в агиографии, ни в святоотеческой литературе, ни в самой Библии. Ведь даже Творец величается просто Премудрым. Как же мог Епифаний осмелиться и назвать себя столь преувеличенно и несмиренно? Он тут ни при чем. Так назвал его составитель Пространной редакции «Жития», скрывший себя за «премудрейшим Епифанием». Составитель не мог не понимать, что столь неумеренное превозношение Епифания равносильно его дискредитации (вернее, само дискредитации) и как автора, и как христианина, и как человека. Читатель, образованный читатель «Жития», еще не раскрывая его, вполне мог задать себе вопрос: «А вполне ли психически здоров этот Епифаний, столь возносящий самого себя?» Образованный читатель, который «Житие» уже прочитал и понял, что определение «премудрейший» принадлежит не Епифанию, а редактору его «Жития», должен был понять и другое: редактор одним удачным словом указал основную форму критики Епифания, и его «Жития», форму, которая единственно возможна для критики жизнеописания знаменитого святого – форму преувеличенной похвалы, прикровенной иронии. В необыкновенно емком и остром определении «премудрейший» задан и метод критики: метод внесения в исходный текст небольших изменений, подобных изменению слова «премудрый» на «премудрейший», однако, способных менять заряд слова с положительного на отрицательный. Понятно, что уловить и оценить изменения такого рода, к тому же очень часто основанные на библейских цитатах или аллюзиях, мог только читатель, знающий Священное Писание. Для него-то и ему подобных и был предназначен тот вариант «Жития», за которым утвердилось наименование «Пространная редакция».
В отличие от Пахомия анонимный агиограф описывает не два, а четыре младенческих чуда, случившихся с Варфоломеем, описывает их во многом иначе и гораздо пространнее (раз в девять), чем Пахомий.
В центре внимания Анонима – чудо в церкви. Начнем мы с того общего, что есть в описании этого чуда у Пахомия и Анонима: 1) в ряду младенческих чудес оно идет первым; 2) младенец во чреве матери трижды подает голос и каждый раз во время литургии; 3) чудо повергает Марию, мать младенца, в трепет и недоумение.
Совпадения говорят о том, что, пожалуй, агиографы шли тут след в след за Епифанием, что в оригинале был рассказ об этом чуде.
В описании первого чуда Пахомием и анонимным агиографом гораздо больше различного, чем общего. Если Пахомий начинает описание с уподобления чуда в церкви евангельскому чуду с будущим Иоанном Крестителем, то Аноним опускает это уподобление. Однако он опускает его не из-за несогласия, а потому, что принципиально иначе подходит к анализу уподобления, рассматривая потом это и другие чудеса и уподобления на широком библейском фоне как самостоятельную теоретическую проблему. Мы последуем за Анонимом, и потому сейчас обратим внимание, что в рассказе о чуде в церкви он сфокусировал внимание на отношении прихожан к троекратному крику младенца. В отличие от Пахомия Аноним описывает динамику психологических переживаний верующих, разделяя их на женщин и мужчин. Страх Марии возводится до степени ужаса, так что она начинает плакать и еле держится на ногах. В таком смятенном душевном состоянии она говорит обступившей ее группе женщин (в ответ на их вопросы: «Есть ли у тебя в пазухе запеленутый младенец?»), что, мол, у меня нет, спрашивайте у других. Читатель, понимая ее настроение, оправдывает ее уклончивый, полуправдивый ответ. Из-за этого возникает напряжение ожидания. И когда женщины, обойдя других верующих и ни у кого не найдя младенца, снова подступили к Марии с тем же, но более настойчиво заданным вопросом, то Мария ответила им так: «У меня нет в пазухе младенца, как вы думаете, он у меня во чреве, и ему еще не пришло время родиться. Это он проглаголал» (с. 291). Ответ вызвал всеобщее замешательство, и женщины вслух засомневались в самой возможности такого проглаголания. Затем они разошлись по своим местам, и «каждая говорила только самой себе» (т. е. искренне вполне. – А. К.): «Что же будет младенец сей? Да свершится воля Господня» (с. 291). Здесь мы ясно видим аллюзию со следующими стихами из евангелия Луки (1:65-66): «И был страх на всех живущих вогруг них (вокруг родителей Иоанна Крестителя. – А. К.)... Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: что будет младенец сей? И рука Господня была с ним». Мужчины, которые были в церкви и все слышали, от страха не проронили ни слова. Таким образом, показано, что страх охватил всех прихожан, «слышащих сиа» (с. 291), точно так же, как и в евангельское время.
Глубокое впечатление чудо в церкви произвело на Марию. Ее отношение к ребенку в корне изменилось. Она увидела в нем избранника Бога (с. 291), стала соблюдать строжайший пост (хлеб, овощи, вода) и оберегаться от «всякой скверны» (там же), начала усиленно молиться Богу о спасении младенца и себя самой. Описание полезных последствий чуда находится в соответствии с евангельской «подачей» чудес; оно отсутствует у Пахомия, и потому возникает вопрос, кому же оно принадлежит, Анониму или Епифанию. Мы склоняемся к тому, что в основном этот фрагмент написан Епифанием, так как образ Марии соответствует ее характеристике в «Похвальном слове» и в Предисловии к «Житию» («угодница Божия», «украшена всякими добродетелями» – с. 290). Только одно предложение (утверждение о том, что Мария соблюдала пост недолго, до рождения ребенка) вызывает сомнение в его принадлежности Епифанию: 1) оно противоречит ее прежней характеристике и психологически входит в противоречие с ее обетом поститься после глубокого потрясения от чуда; 2) в дальнейшем Аноним именно на нарушении поста строит следующее чудо, отсутствующее у Пахомия.
Все же в основном мы признаем епифаниевским рассказ об обете Марии держать пост; тем самым мы признаем и то, что, помимо текстов Пахомия, Аноним располагал каким-то текстом, непосредственно восходящим к оригиналу или самим оригиналом.
Добродетельность родителей Варфоломея весомо подтверждается также рассказом о том, как они, посовещавшись, решили, что если родится мальчик, то они отдадут его «благодетелю всех, Богу», иначе говоря, они предопределили его будущий путь как служение Богу. Агиограф (снова, видимо, Епифаний) умиляется этим решением и сравнивает его с решением «Анны – пророчицы, матери Самуила – пророка» (с. 292).
Мария, как и предупреждал Аноним, не выдержала до конца испытания строгим постом; повеселившись вместе «с родственниками, друзьями и соседями» по случаю рождения такого ребенка, она стала иногда вкушать «и мясную пищу» (с. 292). Тут-то и произошло второе чудо, ставшее для Марии новым испытанием: малыш временами отказывался питаться ее молоком. И так случалось не раз и не два. И тогда «ужас и печаль охватывали родительницу и ее родственников» (там же). Наконец, они догадались, в чем причина отказа. Мария снова стала держать строгий пост, и малыш стал сосать ее грудь. Так он всем преподал урок благочестия. У Пахомия нет этого чуда, и мы сомневаемся, чтобы оно было у Епифания: постничество доведено здесь до такого абсурда, что у любой матери, у любой семьи, способно вызвать только протест. Мы сомневаемся и в том, чтобы церковь поощряла постоянное постничество кормящих матерей, хотя конкретными сведениями об этом не располагаем.
После крещения младенец Варфоломей совершил еще одно «чудесное знамение», многократно повторявшееся, «странное и неизвестное»: «в среду и в пятницу он не вкушал ни материнского, ни коровьего молока» (с. 293). Среда и пятница – постные дни у православных, и потому избирательное воздержание младенца должно было бы навести мать и родственников на причину воздержания, но этого не произошло, хотя совсем еще недавно они поняли, что именно постнические наклонности новорожденного были причиной его отказа сосать материнскую грудь в дни, когда мать ела скоромное. Наконец, взрослые заметили, что, кроме среды и пятницы, младенец весел и игрив, и уразумели, что он здоров, и догадались, что не из-за болезни воздерживается он от молока в постные дни, а проявляется в этом благодать Божия, «некое знамение». Агиограф дал ему такое истолкование: «в этом был виден будущего воздержания образ, знак того, что в грядущем времени ему надлежит прославиться в постном житии: что и произошло» (с. 293). Такой вид размышления у богословов называется прообразовательной логикой, которая, очевидно, по силам любому неглупому человеку, если он, подобно агиографу, выстраивает преобразовательный ряд умозаключений (сцен, примеров...) задним числом, глядя на события, на жизнь Святого после того, как она пришла к завершению. Однако жизнь преподобного Сергия не подтвердила абсурдную логику агиографа. Почти все писатели отмечали, что он был уравновешенным человеком и держался разумного, серединного пути во всем, в том числе и в воздержании. Епифаний, близко наблюдавший жизнь Преподобного в течение 18 лет, знал эту особенность его натуры и потому, мы уверены, что оба постнических чуда сочинены не им, а редакторами его «Жития». Особенно Аноним постарался заострить неслыханность чуда, стремясь представить Епифания высокомудрствующим по поводу самых простых житейских вопросов. Сверх того, одно из двух одинаковых по преобразовательному смыслу чудес явно излишне – так возникает вопрос: умно ли поступил тут «премудрейший» Епифаний?
Рассказ о крещении младенца у Анонима втрое пространнее и во многом иначе написан и скомпонован, хотя содержательная основа та же, что и у Пахомия. Это понятно, ибо цель и обряд крещения одинаковы. Одинаково и предсказание: младенец будет «вместилищем избранным Бога и обителью Святой Троицы» – так раскрыл священник смысл троекратного проглаголания во чреве матери. Основное новшество в том, что в анонимной редакции священник, исполнившись Святого Духа при крещении, еще до рассказа родителей младенца о чудесном проглаголании «проразумел» божественную избранность младенца. Провидческий дар осенил священника одновременно с могучим воздействием Святого Духа на младенца, принимавшего крещение «в купельной воде» (с. 292). Тут есть аллюзия с обрезанием (этот иудейский обряд по смыслу подобен крещению) Иоанна Крестителя, когда в тот же самый момент выбора имени для крещаемого младенца (Иоанн или Захария) его отец получает чудесным образом пророческий дар. Аллюзия не есть полная аналогия. Громадное различие в том, что получение пророческого дара отцом Иоанна Предтечи описывается как редкое, данное свыше чудо, вызвавшее всеобщий переполох, а временное провидение священника Михаила – как следствие обряда крещения, как своеобразное деление благодати Святого Духа между младенцами и священником.
По Пространной редакции можно судить о том, как на селе, в глубине Руси, объяснялись чудесные явления. Родители Варфоломея «хорошо знали Святое Писание» (Библию), однако, они не смогли уразуметь чудо в церкви и потому обратились за разъяснением к священнику. Его ответ был первым истолкованием чуда: «Иерей же, по имени Михаил, сведущий в книгах, поведал им из божественного Писания, из обоих законов, Ветхого и Нового, и сказал так: «Давид в Псалтыри говорил, что «Зародыш мой видели очи Твои»; и сам Господь святыми своими устами ученикам своим сказал: «Потому что вы с самого начала со Мною». Там, в Ветхом завете, Иеремия – пророк во чреве матери освятился, а здесь в Новом завете, Павел – апостол восклицает: «Бог, отец Господа нашего Иисуса Христа, воззвавший меня из чрева матери, чтобы открыть сына Своего во мне, чтобы я благовествовал о Нем в странах». И много других вещей поведал иерей родителям из Святого Писания» (перевод ПЛДР – с. 271). А о младенце священник сказал так: «Не печальтесь о младенце, но исполнитесь радости и веселия, ибо он будет вместилищем избранным для Бога, обителью и служителем Святой Троицы» (с. 270) И это предсказание, отмечает агиограф, сбылось. В чем суть ответа иерея? Бог все видит и все может. Знают ли это родители Варфоломея? Несомненно, ибо о них не зря замечено, что они начитаны в Библии. Удовлетворило ли родителей объяснение иерея? Вряд ли. Агиограф, видимо, понимал это и потому заметил, что иерей еще долго говорил в том же духе. В самом деле, нет подобия между примерами из Библии и чудом с младенцем в церкви. В этом легко убедиться, проверив цитаты по Библии (Пе, 138:16; Гал., 1:16; Иер., 1:4,5). Если нет подобия, то нет и освящения чуда традицией, т. е. нет доказательности (для верующего). Не видно также, каким образом пришел священник к выводу о том, что Варфоломей будет служителем Святой Троицы. Агиограф несколько позднее даст свое объяснение младенческих чудес, теперь же он исподволь готовит читателя для лучшего восприятия будущего объяснения.
Четвертое чудо проявилось в том, что младенец отказывался от молока кормилиц, и потому матери снова пришлось кормить его самой. Это чудо агиограф таковым не считает: «Некий думают, что и это было знамение, чтобы показать: от доброго корня добрая поросль должна быть питаема непорочным молоком» (с. 294). Агиограф принял с возмущением такое суждение, ополчился на «неких» и решил им показать, как следует понимать и объяснять младенческие чудеса, случившиеся с Варфоломеем.
Нужно брать вещи в их действительности, ибо преувеличение одинаково по природе с преуменьшением.
Живая Этика
Простая, подтвержденная веками мысль о том, что лучшее питание для ребенка – молоко его матери, стала для агиографа трамплином, с которого он ринулся опровергать «неких» сторонников этого взгляда: «Нам же думается так: этот ребенок с младенчества был ревнителем Господа, и уже во чреве матери он приобщился к богоразумению, и с пеленок он познал и действительно осознал Господа, и уже в пеленках, в колыбели, он привыкал к пощению; одновременно со вкушением материнского молока он учился воздержанию; будучи телом, естеством младенец, он выше естества постился; ...он был питаем более благочестием, чем молоком...» (с. 294). В этих словах что ни предложение, то неумеренное и намеренное преувеличение. Богоразумение, богопознание во чреве матери – такого вряд ли можно сыскать во всей житийной литературе. Это чудо из чудес, сверхчудо! Другие агиографы только руками разведут: что только не придумает «премудрейший» Епифаний. Не перемудрил ли он? Есть, есть основания для сомнений в подлинности этого и других чудес (питание «грудничка» благочестием?!) – именно такого воздействия на сознание людей и ожидал Аноним. Не столько сами чудеса вызывают протест разума и здравого смысла, сколько их абсурдное истолкование, иронически превозносящее фантастический ум еще не оформившегося зародыша человека. Даже неграмотные верующие, воспитанные на русском фольклоре и библейских сказаниях, умеют отличить сказку от были. Младенца, вскормленного, в основном, благочестием, как не отнести к сказочным персонажам? Аноним не случайно выбрал полемическую форму (редкость в жанре жития) для изложения своих взглядов. Полемика вызывает повышенный интерес. И это было нужно Анониму: он ведь начал спор с мирянами, тем самым рассчитывая привлечь к предмету спора широкий круг читателей и слушателей. При этом отметим особо: главное внимание Аноним уделяет спору вовсе не со сторонниками питания «грудничков» материнским молоком и противниками сверхраннего их пощения, сколько со всеми недоумевавшими по поводу чуда в церкви: «Удивляться же следует более тому, что младенец проверещал в церкви, а не вне ее, не где-либо в ином месте, не втайне, не наедине, но именно принародно, чтобы многим было слышно и чтобы много было свидетелей правды истинной. И потом еще вот чему: он проголосил не слабо, а на всю церковь, чтобы по всей земле заговорили о нем; и он тогда проглаголал, когда его родительница не на пиру была, не спала в ночи, а была в церкви, стояла на молитве – в знак того, что он будет усердным заступником перед Богом. И младенец ведь проверещал не в каком-либо неопрятном доме или в нечистом, неизвестном месте, но в церкви, стоящей на месте и чистом, и святом, где и подобает вершиться святому делу Господню – и это в страхе Божием предвещало его совершенную святость. Затем вот чему следовало бы изумиться, что он проглаголал не один и не два, а три раза, предвозвещая появление ученика Святой Троицы, ибо число три почитается более всех других чисел. Везде ведь число три начало добра и причина провозвестия» (с. 294). Агиограф рассматривает чудо в церкви в четырех отношениях: по месту происшествия чуда (церковь), по количеству действий, из которых оно состояло (три крика), по связи с общей ситуацией, в которую оно вписано (литургия) и по наличию свидетелей истинности чуда (прихожане). Эти четыре аспекта нужны ему, чтобы осмыслить «истинное» значение чуда для будущей жизни младенца. Характерно для христианского сознания, что агиограф ищет осмысление, опираясь на сопоставление нового чуда с чудесами, описанными как в Библии, так и в святоотеческой литературе. Подробности чуда в церкви во всех четырех отношениях объединены идеей его совершенного исполнения: чудо могло быть только таким, каким оно произошло, и не могло быть иным.
Все в чуде находится в соответствии с еще не родившимся младенцем, о котором агиограф уже теперь заявляет с несомненностью, что он будет совершенным святым. Но у христиан только один Совершенный Святой – Бог. Никто из смертных не мог быть назван совершенным святым. Агиограф, рискнувший это сделать, заранее предопределил свою глухую анонимность, ибо он не мог не сознавать, что он содеял кощунство, возвысив еще не родившегося смертного до Бога. Не менее поразительно и другое: только Аноним мог с таким нажимом, с такой драматизацией отстаивать глубоко неверную, нехристианскую мысль, будто Совершенный Святой мог сотворить чудо только в таком святом месте, как церковь! И это в православной стране, где каждый знал, что Христос родился в хлеву, освятив тем самым давнюю истину об украшении места человеком, а не человека местом. Можно заметить, что в цитате есть намек на рождение Христа: ведь слово «хлевина» (в нашем переводе «неопрятный дом») имело в древнерусском языке много значений, в том числе и «хлев», и что, если бы агиограф хотел избежать намека, он мог бы вместо слова «хлевина» употребить слово «дом», значение которое не имело унизительных оттенков. Дерзость, заостренность намека равна его полной неприемлемости для верующего: получается так, что Епифаний ставит будущего святого Сергия выше Христа, родившегося в хлеву. Верующий не мог столь чрезмерное возвеличение Сергия оценить иначе, как самомнительное заблуждение. Аноним, следовательно, под прикрытием преувеличенного восхваления чуда и будущего святого подрывал веру и в чудо, и в святого. Это бьи точно рассчитанный удар! Зачем такая хвала-хула была нужна Анониму? В то время шла острая борьба т. н. «стяжателей» и «нестяжателей», иосифлян и заволжских старцев, и Аноним, который бьи, как мы еще не раз убедимся, иосифлянином, расчетливо снижал высокий образ Сергия Радонежского – последовательного нестяжателя (см. «Похвальное слово» Епифания), как и его первого биографа, Епифания Премудрого.
В полном согласии с мнением о совершенной святости младенца находится и истолкование громкости его крика во чреве матери – «чтобы по всей земле заговорили о нем». Разве не странен агиограф, который громкий чревовещательный крик в сельской церкви интерпретирует как предсказание будущей всемирной славы младенца? По закону соответствия символа тому, что он символизирует, можно было бы говорить (в пределе) о будущей известности святого во всем православном мире, но противоречит логике представлять пространство православной церкви как символ всей планеты Земля. Как ни впечатляющи изобретательно преувеличенные истолкования чуда в церкви и других чудес, самую изощренную подделку Анонима мы еще не рассмотрели. Она заметна менее других и выявляется только при сопоставлении пахомиевского описания чудес с описанием анонимного агиографа. Пахомий привычно объясняет чудеса действием «единого чудотворящего Бога» (с. 345). Аноним же творцом чудес представляет самого младенца: «ребенок был ревнителем Бога», «приобщился к богоразумению», «с пеленок познал и осознал Господа», «проверещал в церкви, а не вне ее», «проглаголал не слабо, а на всю церковь, чтобы по всей земле заговорили о нем» и т. д. Если Епифаний якобы величает себя «премудрейшим», то каким же словом тогда поименовать его героя, еще во чреве матери проявившего божественный разум? Лишь однажды, в рассказе о чудесном нежелании младенца сосать материнскую грудь по средам и пятницам, проявилось действие Высшей Силы: «Тогда все увидели, и поняли, и уразумели, что не из-за болезни...младенец молока не принимал, но это проявилось некое знамение того, что благодать Божия была на нем» (ПЛДР, с. 271). Благодать снизошла на младенца лишь после крещения – в согласии с христианским вероучением. Тем самым снова ставятся под сомнение чудеса до крещения как безблагодатные. В этом есть упрек Епифанию, «забывшему» великое значение таинства крещения. Таким образом авторитетно обесценивается в глазах верующего христианина чудо в церкви и первое постническое чудо, состоявшиеся до крещения младенца. В такой полуприкровенной форме Аноним ведет острый спор с покойным Епифанием, якобы попавшим впросак из-за своей великой премудрости: мол, никому из земнородных нельзя безнаказанно сочинять чудеса, игнорируя при этом одно из основных установлений церкви. Мы не сомневаемся в том, что Епифаний прекрасно знал значение таинства крещения и с пиететом относился к нему. Поэтому мы уверены в том, что в оригинале его «Жития Сергия» было вполне христианское объяснение чуда в церкви (скорее всего, такое же, как в Первой пахомиевской редакции), как и всех других описанных им чудес. Однако анонимный агиограф – полемист так отредактировал текст «Жития», что епифаниевские мотивации исчезли или утратили свою суть. Тем, между прочим, и хороша для полемистов средневековая анонимность автора, что она позволяет, если надо, расправиться с мертвым идейным противником, как заблагорассудится, без опасения получить ответный удар.
Еще более прикровенно, в форме истолкования, ведет Аноним критику троекратности крика младенца во чреве матери. Видно, что-то очень пришлось Анониму не по душе в епифаниевском тексте или, возможно, он увидел в троекратности хорошие шансы блеснуть новым приложением своей «премудрейшей», изворотливой мысли. Продолжая полемику с недоумевающими, Аноним переходит к своему главному тезису, утверждая его в следующей форме (приводим цитату по-древнерусски, ранее мы дали ее в переводе на современный русский язык): «Пакы сему достоить чюдитися, что ради не провъзгласи единицею или дважды, но паче третицею, яко да явится ученикъ Святыа Троица, поне же убо троечисленое число всему добру начало и вина възвещению, яко же се глаголю» (с. 294). В подтверждение именно таких символико-сакральных значений числа три агиограф приводит двенадцать примеров плюс один, совсем особенный. Отметим, что в понятие «троечисленое число» он включает и числа, кратные трем. Конечно, спустя 100 лет после смерти Епифания можно было приписать ему такое невежественное утверждение, будто «везде число три начало добра и причина провозвестия», и в подтверждение этой мысли привести 12 примеров из более чем 150 случаев употребления в Библии тройственных чисел. Епифаний, если б кто-нибудь при жизни приписал ему указанное, заведомо неверное утверждение, вряд ли стал бы всерьез опровергать его, а, вероятно, посоветовал бы толкователю повнимательнее почитать Святое Писание. Двенадцать примеров, долженствующих от имени Епифания подтвердить символическое священное значение числа три, порождают много вопросов и тем настраивают на размышление. Мы не собираемся утомлять нашего читателя разбором каждого примера, но для иллюстрации несколько из них необходимо рассмотреть.
Все ли примеры являются началом добра? Да, все. Но дело-то в том, что в Библии множество примеров тройственных чисел, имеющих простое, фактографическое значение, а есть и такие, которые символизируют зло. Кто из верующих не знает, например, что 30-ю серебрениками навсегда заклеймлено чудовищное предательство Иуды Искариота? И уж, конечно, превосходно знал это Епифаний, рука которого не поднялась бы написать, будто тройственные числа «везде всему добру начало». Сам анонимный агиограф, побуждающий этим категорическим утверждением искать иные значения, знал, конечно, и о 30 серебрениках Иуды, и о многом другом, опровергающем абсолютизацию благого смысла числа 3 и чисел, кратных ему. Но ведь не себя же ставил агиограф под огонь критики, не себе, а «премудрейшему» Епифанию готовил он разоблачение в глазах знающих Библию людей, чтобы они затем растолковали неграмотным верующим ошибки Епифания. Для внимательных духовных пастырей Аноним продуманно подготовил и внес в перечень нескольких примеров, опровергающих сакральную семантику числа три, якобы имманентно присущую ему. Так оказался в перечне пример не из Библии, а из апокрифа: «Трею же лет въведена бысть въ церковь Святаа Святыхъ пречистаа дева Мариа» (сс. 294-295). Для христиан этот неканонический пример не имеет доказательной силы [20]. Может быть, Аноним испытывал недостаток в подходящих библейских примерах? Нет. Такие примеры в Библии есть. Некоторые из них (12 апостолов и др.) приводятся позднее в «Житии Сергия». Какая же потребность была в обращении к апокрифу? Логичное объяснение мы видим в стремлении агиографа подорвать авторитет «премудрейшего Епифания», показав грубые просчеты в его перечне тройственных чисел. Или вот еще широко известный пример, который должен был, видимо, доказать то ли необразованность, то ли забывчивость Епифания: «Тремя камнями из пращи Давид поразил Голиафа» (с. 294). Но любой христианин, умеющий читать, может убедиться, что Давид, взявший в пастушью сумку пять камней, убил Голиафа одним камнем (1 Цар., 17:49). Особый интерес представляют два сходных примера, весьма критических по отношению к Епифанию: 1) «три юноши в Вавилоне погасили огненную печь»; 2) «трех учеников поставил Христос на Фаворе и преобразился перед ними» (сс.394 и 395).
Аноним снова устроил для «премудрейшего» Епифания горькое похмелье в чужом пиру. Действительный Епифаний знал, конечно, что трое юношей еврейских (Анания, Азария и Мисаил) не гасили огненную печь, а невредимо ходили посреди огня, и что вместе с ними был Четвертый, имевший божественный облик. Именно Четвертый обладал сакральной силой Спасителя, и именно Он всему огненному действу, а, следовательно, и числу три сообщил символическое значение. Это значение в самой Библии не толкуется; можно его понять различно: и как «добру начало» (для еврейского народа), и как начало нового периода в истории этого народа, истории, в которой было и добро, и зло. Для нашей темы главное в другом: число три не излучает сакральный символический смысл, а получает его от Четвертого, Которого и надо тут понимать как начало всему добру. Обратившись к преображению Христа на Фаворе, каждый установит с несомненностью, что число три и тут не обладает имманентной силой символизации, исходящей в этот раз вначале от Христа, затем от пророков Моисея и Илии, а в довершении всего от появляющегося тут последним (седьмым) Первого, Творца Вселенной.
Духовный пастырь, желающий осмыслить символику тройственных чисел, приведенных Анонимом в доказательство изначальной благодатной святости Сергия Радонежского, установит, что оно построено на ложном основании, что, следовательно, и основание святости ложно. Виноват же в этом «премудрейший» Епифаний.
Однако еще не закончились посмертные злоключения Епифания, уготованные ему мстительными идейными противниками. Подборку из 12 примеров тройственных чисел увенчивает пример Тринадцатый. Особый пример. Его значение исключительно велико, и потому мы полностью приведем соответствующий фрагмент «Жития». «Что же извещаю по три числа, а что ради не помяну болшаго и страшнаго, еже есть тричисленое Божество: треми святынями, треми образы, събьствы, въ три лица едино Божество Пресвятыа Троица, Отца, и Сына, и Святого Духа; триупостасного Божества едина сила, едина власть, едино господьство? Лепо же бяше и сему младенцу трижды провъзгласити, въ утробе матерне сущу, преже рожениа, прознаменуа от сего, яко будет некогда троичный ученикъ, еже и бысть, и многы приведет в разумъ и въ уведение Божие, уча словесныа овца веровати въ Святую Троицу единосущную, въ едино Божество» (с. 295). Перевод: «Что же я говорю о числе три и не вспомню о более величественном и страшном, о тройственном Божестве: в трех святынях, трех образах, трех ипостасях, в трех лицах едино Божество Пресвятой Троицы, и Отец, и Сын, и Святой Дух; почему не вспомню триипостасное Божество с единой силой, единой властью, единым господством? Хорошо ведь было и этому младенцу трижды прокричать, находясь в утробе матери, до рождения, предуказуя этим, что он будет некогда учеником Троицы (и это сбылось), что он многих приведет к разумению и познанию Бога, уча словесных овец верить в Святую Троицу единосущную, в единое Божество» (перевод из ПЛДР, с отдельными поправками, с. 275). Только после того, как агиограф привел 12 примеров тройственных чисел, он как бы спохватывается и вспоминает о Святой Троице. Конечно, «спохватывание» – просто литературно-психологический прием, объясняющий, почему о самом главном говорится не в начале размышления, а в конце, не под числом 1, а под числом 13, которое суеверие русское искони связывает с нечистой силой, с несчастьем. И этот «промах» будет читателем приписан Епифанию. Агиограф считает нужным дать развернутое понимание Святой Троицы, хотя он пишет не богословский трактат, а биографию святого. В «Похвальном слове» Епифания есть определение божественной Троицы – Святая, Живоначальная, Неразделимая, Единосущная (с. 279). Одно из определений (Живоначальная) отсутствует у Анонима, зато у него особо выделяется единство силы – власти – господства, присущее Святой Троице. Эта выделенность весьма характерна именно для первой половины XVI века и именно для иосифлянского понимания основной сущности Святой Троицы [21]. В XVI веке для Руси, а также для Святого Сергия и для Епифания выдвигалось на первое место не единство власти – силы – господства Святой Троицы, а иное Ее могущество.
Русь, а также и Сергий готовились к подвигу, опасному, но необходимому. Преподобный Сергий начал свой целожизненный подвиг под щитом Святой Троицы. В лесу, на Маковецком холме, Сергий вместе с братом Стефаном построили для себя келию и церквицу: «Въправду убо церковь сиа наречена бысть въ имя Святыа Троица, поне же поставлена бысть благодатию Бога Отца, и милостью Сына Божиа, и поспешениемъ Святого Духа» (с. 308). Епифаний не даром сохранил и поставил в центре определений Святой Троицы понятие «Живоначальная»: ни одно действительно жизненное начинание не мыслилось им и, конечно, Сергием, без покровительства и энергии Отца, без милосердия и любви Сына, без разнообразнейшего содействия (поспешения) Святого Духа. Свою жесточайшую борьбу с враждебными силами и Сергий, и Русь вели под защитой и при непрестанной помощи Святой Троицы и Богородицы: «Когда начиналось спервоначалу обустраиваться место это, тогда преподобный много злобы и напастей испытал и перенес от бесов, и от зверей, и от гадов. Но ничто не коснулось его, не повредило ему: благодать Божья соблюдала его. И пусть никто не удивляется этому, зная воистину, что все покоряется Богу, живущему в человеке, и Духу Святому, в нем пребывающему» (с. 313). Или: «Итак Сергий именем Святой Троицы, имея помощницей и заступницей Святую Богородицу, и вместо оружия имея честной крест Христа, победил дьявола, как Давид Голиафа» (с. 314). Приведенные свидетельства мы понимаем символически, широко, относя их ко всей земной жизни Сергия и ко всей его борьбе с врагами. При созидании новой жизни насущно, остро понадобились и были востребованы Сергием и народом Руси такие незаменимые силы, присущие Святой Троице, как совершенная любовь, мир и согласие, добро, красота, мудрость. Обо всем этом мы расскажем в нашем исследовании. Здесь же отметим пока то, на что обратил внимание Аноним, но сделал это каким-то странным образом. Абстрактному числу три он атрибутировал духовные качества добра и премудрости, притом в такой степени, в какой они присущи только Святой Троице: «Везде ведь тройственные числа всему добру начало и причина провозвестия» (с. 294). Только Святая Троица, только Высшая Светлая Иерархия – всюду и всему добру начало, причина благовествования и пророческих сил, даруемых человеку, а не придуманная смертными троичность – умозрительная, неодушевленная представительница нумерологических познаний ученых книжников. Обожествление тройственных чисел и постановка числа 3 на первое место демиурга добра и мудрости – ни в Старом, ни в Новом Завете нет ничего подобного, а потому не могло этого быть и у Епифания. Следовательно, это нумерологическое божество создал и возвеличил в «Житии Сергия» анонимный агиограф. Возвеличил от имени «премудрейшего» Епифания и таким образом нанес сильный удар по его репутации, бросив тень и на его любимого героя, благодатная сила которого оказывалась построенной на песке из бездуховных чисел.
Посмотрим теперь, как толкует агиограф предсказательный смысл троекратного крика младенца во чреве матери: «...предвещая этим (криком. – А. К.), что он будет «троичный ученик». Мы намеренно даем это словосочетание без перевода и пока без продолжения. Этот неологизм нам не встречался в творениях Епифания, и если бы далее контекстом не пояснялся его смысл, то не каждый усмотрел бы в нем непременно и только значение «ученик Святой Троицы», поскольку след от определения «Святая» отсутствует в неологизме. Но зачем он создан и каков его истинный смысл? Известно, что Сергий Радонежский был последовательным адептом Христа, но он не был его учеником в точном значении слова, как не был и учеником Бога-Отца и Святого Духа. В широком же смысле каждый истинно верующий, а тем более каждое духовное лицо может считать себя учеником (последователем) Святой Троицы. К любому священнослужителю приложимо также и дальнейшее пояснение значения «троичный ученик», что «он многих приведет к разумению и познанию Бога, уча словесных овец верить в Святую Троицу единственную, в единое Божество». Кто же из духовных лиц не учит этому верующих, независимо от каких-либо чудесных знамений в детстве? Подобная прообразовательная логика имеет столь широкое приложение, что сама разрушает свое основание, так как не соотносит конкретные проявления чуда с соответствующими им по смыслу конкретными следствиями.
Чрезмерно широкое применение преобразовательной логики к тройственным числам создает абсурдные ситуации, заводящие мысль в тупик. Во-первых, как могли Давид, Исайя и другие ветхозаветные герои быть учениками Святой Троицы, когда учение о Ней было создано лишь после Христа, то есть многие сотни лет спустя после них? Во-вторых, сам Христос, имя которого четыре раза упомянуто в перечне тройственных чисел, был ведь не учеником, а ипостасным членом Святой Троицы? Нелепо считать Его учеником Самого Себя. Но ведь агиограф каждое тройственное число венчает высоким смыслом, исходящим от Святой Троицы. В противном случае ему незачем было столь подчеркнуто, в начале и в конце фрагмента о числах, приуподоблять будущего «троичного ученика», святого Сергия, каждому из входящих в перечень 12 святых по отдельности и всем им в совокупности, причем приуподоблять только на основе абстрактнейшего признака – числа 3 или кратных ему чисел [22].
Именно в таком неконкретном, предельно отвлеченном ключе и предлагает анонимный агиограф толковать любое чудо: «Итак, не явное ли это указание на дивное и странное будущее ребенка!? Итак, не истинное ли это провозвестие о свершении им в будущем чудесных дел!? Следует также верить в последующее тем, кто видел и слышал первые знамения. Еще до рождения Бог особо отметил его: ведь не зря, не без смысла было такое удивительное первое знамение, но было оно предвестием будущего пути. Об этом мы и постарались сказать, ибо чюдному мужу соответствует чюдное житие» (с. 295). Понятно, что подобное осмысление чудесных явлений (чудному началу соответствует чудное продолжение) в состоянии дать любой пастырь. Тогда можно будет не допустить разнотолкований и достигнуть общепонятного единообразия, правда, на весьма примитивном уровне, в полном отрыве от смыслового богатства и взаимоотношения Единиц, составляющих Святую Троицу.
Но остается еще не решенной другая задача – верное понимание различного образного содержания чудесных явлений. Анонимный агиограф это осознавал и предложил свой подход к его истолкованию: «Хорошо здесь вспомнить и древних святых, прославленных в Ветхом и Новом законе: ведь начало и рождение многих святых было каким-либо образом показано в божественном откровении. Мы не свои рассказы сочиняем, но берем их из святых писаний и к предстоящему повествованию, вспоминая, приуподобляем эти рассказы следующим образом...» (с. 295). И далее агиограф наставляет читателей, как следует «приуподоблять» чудесные явления, о которых он кратко рассказывает, чуду в церкви. Мобилизуя свои знания Библии и патристики, агиограф отбирает из этих творений 12 чудес. Вся подборка имеет единое основание: каждое чудо относится к самому раннему, младенческому возрасту будущих святых, и только в этом отношении они подобны друг другу и чуду в церкви. Может показаться, что их объединяет еще и число 12. Но это иллюзия, умело созданная агиографом. Число 12 не входит в содержание ни одного из чудес второй подборки. Оно прилегает к ней извне, как некое покрывало, не случайное, но и не закономерное. Следуя методу, предложенному Анонимом, можно представить себе ход его мысли. Ему нужно было число, подходящее для уподобления всей подборки чудес чуду в церкви, то есть обязательно три или кратное трем. Но почему же обязательно? И почему в первой и во второй подборках Аноним не остановился на трех, шести, девяти или 15 и 18 примерах? Виною всему задача, которую он должен был решить: ему надо было доказать, что тройственным числам всюду и всегда свойственно значение «начала добра и причины провозвестия», значение, им самим от имени Епифания произвольно приписанное этим числам. «Доказать» для верующего означало привести некое число примеров из Библии с целью освящения и тем самым неоспоримого утверждения правоты агиографа. Но какое число примеров признать достаточным? Это психологическая задача. Три примера явно мало, а тридцать явно много, утомительно для восприятия. Шесть, девять, пятнадцать, восемнадцать и другие кратные трем числа не могли устроить Анонима потому, что в Библии обнаруживается острая нехватка примеров, в которых эти числа (даже шесть) имели бы символически – сакральное значение. И Аноним, мы полагаем, вынужден был остановиться на числе двенадцать, которое к тому же более других известно верующим (12 колен Израилевых, 12 драгоценных камней, 12 апостолов Христа и т. д.).
Аноним, мог бы, конечно, ограничиться для употребления одним, наилучшим примером, как это распространено в житийной литературе, как мы видим это в Первой пахомиевской редакции и как, думается, было в протографе у Епифания. В «Похвальном слове» Епифаний для приуподоблений приводит по одному примеру; так же поступает он и в самом начале «Жития Сергия», уподобляя обет родителей Сергия обету Анны – пророчицы, матери пророка Самуила (с. 292). И при одном уподоблении достигается основная цель – определить уровень святости нового святого, укоренив его в священной традиции. Однако Аноним, как мы показали, ставил себе иную, критическую цель, для прикрытия которой ему мало было одного подобного примера. Ему надо было создать иллюзию беспристрастного повествования о жизни святого Сергия, под покровом которой можно было бы незаметным образом решить задачу умаления образа Сергия Радонежского и самодискредитации Епифания Премудрого. Таким образом, Аноним был вынужден обе подборки уподоблений составить из 12 примеров каждая. Искусство создания иллюзии, которая должна быть принята за истину, проявилось в том, что каждый пример из 12 можно было считать началом добра и причиной провозвестия, то есть каждый пример по отдельности и все вместе выражали как раз те символические значения числа три, которые ранее были приданы ему Анонимом. В силу этого число 12 казалось для подборки не случайным, не избирательным, а как бы имманентно отражающим и утверждающим эту символику. Конечно, немногие хорошо знающие Библию и патристику понимали, что агиограф мог подобрать меньше или больше примеров, скажем, 11 или 13, или любое другое число, и что такой подборке все равно были бы присущи те же два значения числа три – при условии, что каждое из чисел само по себе имеет эти значения. Но саморазоблачение не было задачей Анонима, и он «сшил» символическое одеяние из 12 кусков словесной материи, совершенно различных по конкретно-образному содержанию, но подобных друг другу и чуду в церкви в трех отношениях: все чудеса относились к раннему младенческому возрасту, все имели значение начала добра и значение причины некоего провозвестия.
Оставалось доказать, что каждое из 12 чудес, бывшее прообразом будущей, весьма и весьма различной жизни каждого святого, в то же самое время соотносило начало (причину) жизни и продолжение ее (следствия) по закону подобия, общего для всех подобранных чудес и для чуда в церкви. Эта задача была гораздо труднее: каждое чудо и жизнь каждого святого имели свои особенности, вовсе не подходящие для уподобления чуду в церкви. Однако анонимный агиограф нашел выход из затруднительного положения. На конкретных примерах мы покажем, как он это сделал.
Одно из чудес Аноним оставил без истолкования: «Святой Николай-чудотворец, когда родился, и его начали обмывать, внезапно встал на ноги и стоял так в ночвах полтора часа» (с. 296). Для сравнения приведем описание чуда с Симеоном Столпником, истолкованное в духе классической преобразовательной логики. Симеон Столпник «во время кормления грудью, отвергал левый сосок: Бог возвестил этим, что правый путь, заповеданный Господом, будет возлюблен Симеоном Столпником» (с. 296). Вводя это чудо в перечень приуподоблений, агиограф тем самым признавал точное преобразовательное истолкование чудес, в котором причина находится в соответствии со своим следствием. Напомним в этой связи миф о Геракле-младенце, который еще в колыбели задушил двух громадных змей, подосланных мстительной супругой Зевса, – разве этот младенческий подвиг не был прообразом его последующих подвигов, основанных на физической силе? Тот же тип сознания виден в «постнических» чудесах новорожденного Варфоломея, которые агиограф называет «образом его будущего воздержания», т. е. прообразом его позднейшего постничества. И греческий миф, и «Житие» соотносят подвиги младенческие с подвигами возмужавшего героя по принципу «приуподобления» первому всех последующих. Но такое соотношение наблюдается в «Житии» только у трех чудес – у чуда в церкви, постнического чуда и чуда с Симеоном Столпником [23]. Для истолкования других чудес характерна преобразовательная логика иного типа. Проиллюстрируем ее: «Мать Святого Феодора Сикеота-чудотворца, когда он был еще во чреве ее, видела видение: звезда сошла с небес прямо на ее живот. Эта звезда означала, что он будет обладать различными добродетелями» (с. 296). Такое истолкование чудесного сошествия звезды иносказательно и потому избирательно, но на чем оно основано, автор не разъясняет, в отличие от широко распространенных толкований сновидений, предопределяемых сонниками или традиционными суевериями. Видно, что для толкователя упавшей звезды было важно решить главный вопрос: добро или зло предвещало сошествие некоей звезды, и он не мог не отдать предпочтения добру, так как чудо случилось с будущим святым. В этом смысле его толкование, сделанное по итогам жизни святого, было ею же и обосновано. Агиограф это прекрасно понимает и придает итогам жизни предопределяющее значение во всех истолкованиях, что видно по последнему во второй подборке примеру из «Жития митрополита Петра».
Пример этот примечателен во многих отношениях, и потому мы его внимательно рассмотрим: «Пишет же въ житии святого отца нашего Петра митрополита, нового чюдотворца иже в Руси, яко прилучися нечто сицево знамение. И прежде рожениа его, еще сущу ему въ утробе матерне, въ едину от нощей, свитающи дневи недели, виде видение таково мати его: мняше бо ся ей агньца дръжати на руку своею; посреди же рогу его древо благолиствено израстьше, и многыми цветы же и плоды обложено, и посреди ветвий его многы светяща свеща. И възбудившися, недоумеашеся, что се, или что събытие и конецъ таковому видению. Обаче аще она и не домышъляашеся, но конецъ събытию последи съ удивлениемъ яви, еликыми дарьми угодника своего Богь обогати» (с. 296-297). О русском митрополите Петре написано два «Жития», епископом Прохором (первое), а затем митрополитом всея Руси Киприаном, основательно переработавшим и расширившим прохоровское «Житие». Чудо, о котором идет речь, описано в обоих «Житиях митр. Петра», но весьма различно. Сопоставление показывает, что Аноним почти буквально процитировал киприановское «Житие и жизнь Петра, архиепископа Кыевского и всея Руси» [24], начиная со слов «прилучися нечто сицево знамение» и до конца процитированного выше фрагмента. Позиция анонимного агиографа XVI в. и позиция митрополита Киприана относительно изъяснения младенческих чудес совпадают: чудеса, мол, можно вообще не толковать (с. 297), так как итоги жизни святого, разрешив все сомнения, покажут значение младенческих чудес в истинном освещении. Такая позиция основывалась на практике посмертного истолкования предвещательных, как правило, самых первых чудес в жизни святого. Иного подхода и не могло быть, поскольку житие святого, службы ему и канонизация творились всегда после его смерти. Знал ли агиограф о жизни святого от него самого (редкий случай) или судил о ней по рассказам других людей, знавших святого или слышавших что-либо о нем, – в любом случае он мог уверенно корректировать сведения о святом и свое сочинение о нем по итогам его жизни. Общепризнанная верующими точка зрения на предвещательные чудеса в жизни святого состояла в том (Пахомий это засвидетельствовал в «Житии»), что они творятся по воле Бога или при Его непосредственном участии. Однако и в этом случае сомнения в подлинности некоторых чудес не устранялись, что видно и по «Житию Сергия». Иначе говоря, существовали чудеса действительные и чудеса агиографические, сочиненные церковными литераторами. И это утверждение можно доказать. Если мы признаем, что первая половина Пространной редакции «Жития Сергия» есть целиком или большей частью епифаниевский оригинал (так считали и считают немало ученых), тогда надо будет признать и то, что Пахомий по своей воле изъял два младенческих чуда из четырех. Если же мы признаем, что Первая пахомиевская редакция верно отразила епифаниевские рассказы о младенческих чудесах, тогда надо будет признать, что анонимный агиограф сам придумал два новых младенческих чуда и описал их в «Житии». Спрашивается, могли бы Пахомий или Аноним поступить таким образом, если бы они были убеждены в божественном, а не агиографическом происхождении чудес? Разумеется, не могли: в противном случае они расписывались в своем атеистическом воззрении на чудеса.
Есть еще один важный вопрос в описании чудес, по которому взгляды упомянутых агиографов также совпадают – это вопрос о свидетелях чуда. И тут их позиции одинаковы: свидетели могут быть, могут и не быть, а чудо остается чудом. Вопрос о чудесах и чудотворении – давний и существенный вопрос каждой религии, включая христианскую. Христос совершил множество чудес, и все – при свидетелях, но в Ветхом Завете некоторые чудеса совершались без свидетелей. Присутствие свидетелей – важный критерий подлинности чуда, помогающий отделить чудеса истинные от ложных, измышленных людьми. В житийной литературе описаны как чудеса при свидетелях, так и без них. В Первой пахомиевской редакции «Жития Сергия» все чудеса совершаются при свидетелях, но в Пространной редакции есть чудеса без свидетелей, приписанные святому Сергию. Позднее мы их рассмотрим, а сейчас лишь заметим, что и в этом вопросе Сергий был верным последователем Христа. То же самое можно утверждать и о Епифании Премудром. Аноним же, как мы выше отметили, иначе смотрел на вопрос о свидетельском подтверждении чудес. Различие в этом вопросе между ним и Епифанием нашло интересное проявление в тексте «Жития».
После того как агиограф объяснил свое понимание тринитарных чудес, он посчитал нужным вторично вернуться к этой теме, как бы подводя итоги ее обсуждения. Мы увидим сейчас, что во втором итоговом объяснении чудес есть и совершенно новый мотив. Ввиду особой значимости придется привести соответствующую цитату и по-древнерусски, и в переводе. «И что подобает инаа прочаа глаголати и длъготою слова послушателем слухы ленивы творити? Сытость бо и длъгота слова ратникъ есть слуху, яко же и преумноженаа пища телесем. И никто же да не зазрит ми грубости моей, яко о семъ продлъжившу ми слово: и еже от прочих святых от житиа их въспоминая, и приводя свидетелства на извещение, и приуподобляя къ подлежащей повести чюднаго сего мужа, чюдны и вещи сказаются. Чюдно же въ младенцех въ пеленах въспитание его – не худо бо знамение сие мняшеся быти. Тако бо подобаше съ чудесемь родитися таковому отроку, яко до отъ сего познаютъ прочий человеци, яко такова чюдна мужа чюдно и зачатие, и рожество, и въспитание. Таковою благодатью Господь удиви его, паче прочихъ младенцевъ новоражающихся, и тацеми знаменми проявляше о немь премудрое Божие промышление» (с. 297). Перевод: «Стоит ли говорить еще о чем-либо ином и длиннотами делать слушателей ленивыми к восприятию слова? Ведь растянутость повествования – враг внимания, как чрезмерная пища – враг тела. Но пусть никто не упрекнет меня в грубости за то, что я продолжу разговор о сем предмете: когда вспоминается что-либо из житий других святых, когда приводятся для достоверности свидетельства, когда в чем-то уподобляется житиям настоящая повесть об этом дивном муже, тогда, получают [слушатели] наставление о дивных вещах. Дивно ведь слышать, что еще в утробе подал он голос. Дивно и поведение младенца в пеленках – не худое ведь, думается, знамение. Так вот, под знаком чудес и достойно было родиться такому дитяти, чтобы по всему этому другие люди узнали, что такому дивному мужу подобает дивное начало, дивное рождение и дивное младенчество. Такой благодати Господь удостоил его, в отличие от других новорожденных детей, в таких знамениях явил Он ему Свой мудрый промысел». Перед нами уникальное в житейной литературе наставление о том, как надо описывать чудеса и как их истолковывать. К «Житию Сергия» это методическое пособие имеет то отношение, что оно сочинено его авторами и оперирует примерами из жизни святого Сергия. Но, по сути дела, оно адресовано всем духовным пастырям и всем церковным писателям. Агиограф избрал вполне корректную форму наставления: рассказ о своем опыте описания и толкования чудес [25]. В описании выделены два основных компонента – приуподобление чуда из жизни нового святого чуду из жизни святого прошлого времени и приведение свидетелей о достоверности чуда. Чтобы наставление (поучение) получилось удачным, должны быть оба компонента, которые объединены взаимной связью: если найдено подходящее приуподобление, то ему должно сопутствовать достоверное свидетельство. Связь компонентов мыслится как непременное соответствие, хотя это прямо не высказано. Отсюда мы делаем вывод, что этот метод описания чудес сочинен не Анонимом, а Епифанием (у Пахомия такого описания вообще нет): ведь Аноним перед этим (12 примеров чудес) показал, что в большинстве случаев свидетелей чудес не было или не могло быть. Аноним не придерживается какой-либо обязательной схемы описания чудес, ибо для него главное в том, как их истолковать. Он тут же, после приведения епифаниевских наставлений об описании чудес, дает их истолкование, повторяя тот же самый метод, который он уже применил к чудесам, сопровождаемым тройственными числами: чудному началу соответствует чудное продолжение. И точка, и не надо искать более конкретных соответствий, издавна свойственных прообразовательной логике. Упрощенный, конечно, вариант этой логики, но зато доступный всем и пригодный для истолкования всех чудес. Аноним предложил один ключ ко всем замкам, ко всем загадкам. Жаль только, что ключ мнимый, бессильный открыть их истинную суть, но вполне могущий ввести в дом очередной иллюзии.
Оригинальную композицию и смысловую роль увидел агиограф в последних примерах каждой подборки чудес: в символе Святой Троицы и в сновидении матери митрополита Петра. Эти примеры служат мостом между общепризнанными, освященными религиозной традицией чудесами и их истолкованием, помогают определить главное и раскрыть замысел анонимного агиографа. О роли символики Святой Троицы в контексте осмысления чудесных явлений мы рассказали, и теперь попытаемся раскрыть подобную же роль примера, взятого агиографом из киприановского «Жития митрополита Петра».
Напомним, что и Аноним и Киприан не считают обязательным ни истолкование чуда, ни подтверждение его свидетелями. Позицию митрополита Киприана, современника Сергия Радонежского и Епифания Премудрого, можно представить более конкретно и полно.
В «Житии митрополита Петра» имеются два особенных чуда, редких в агиографии – один можно, пожалуй, считать исключительным. Мы имеем тут в виду чудо исцеления самого Киприана от тяжкой болезни, которое сам Киприан записал, а позднее (в 1381 г.) сам рассказал о нем москвичам на богослужении, совершавшимся лично Киприаном: «Но едва только пришел я в себя, призвал на помощь святого святителя Петра, говоря так: «Раб Божий и угодник Спасов! Знаю, большую смелость имеешь говорить с Богом и можешь тем, кто в напасти оказался, и больным помочь, где только захочешь. Если только угодно тебе, чтобы я твоего престола достиг (тут Киприан делает прозрачный намек на свое изгнание великим князем Дмитрием Ивановичем из Москвы в 1378 году. – А. К.) и гробу твоему поклонился, подай же помощь и болезни облегчение». Поверьте же мне, с того часа болезни непереносимые прекратились. И через несколько дней из Царьграда вышел я с Божьим поспешением и помощью угодника Его, пришел и поклонился гробу его чудотворному. Тогда принял нас с радостью и честью великою благоверный великий князь всея Руси Дмитрий, сын великого князя Иоанна, внука Александра» [26]. Получается все идеально благоприятно для Киприана: святой Петр, первый митрополит, утвердивший свою резиденцию в Москве, исцеляет многомятежного Киприана от тяжкой болезни, способствуя его второму приезду в Москву и его утверждению на митрополичьем престоле. Митрополит Киприан один исполняет несколько ролей: он и автор «Жития митрополита Петра» и второй по значению герой «Жития» на торжественном богослужении в Успенском Кремлевском соборе Москвы и режиссер-постановщик богослужения. Впечатляющее представление! Ничего подобного нет в Библии. Киприан-герой чуда и его единственный свидетель. Нужны ли другие? Кто усомнится вслух в достоверности его свидетельства о себе самом? Традиция ведь тоже не вполне однозначна: пророк Иона трое суток провел во чреве кита, благополучно избежав, казалось, неминуемой смерти, – разве у этого чуда были свидетели? Верующие знали: все возможно, ибо Бог всемогущ.
Конечно, было немало сомневающихся в чудесах, но из этого факта делались различные выводы: Епифаний предложил для укрепления веры в новые чудеса подтверждать их достоверными свидетельствами и уподоблять чудесам древним, освященным традицией; Пахомий Логофет не считал нужным вообще вдаваться в истолкование чудес, так как все они в конечном счете исходят от Всевышнего; митрополит Киприан и анонимный агиограф смотрели на чудеса – могучее средство влияния на умы людей – настолько практически, что активно и бесцеремонно использовали их в религиозно-политической борьбе, в том числе и в личных целях. Киприан, переработав «Житие митрополита Петра», превратил его в духовный меч, которым он разил своих противников.
Как известно, Епифаний не имел личных впечатлений о жизни Сергия до 1373 – 1374 гг. Откуда же он почерпнул сведения о младенчестве, детстве, юношестве и дальнейшей жизни Варфоломея вплоть до 50 лет? Епифаний называет эти источники в предисловии к «Житию»: «беседы с Сергием и с теми, кто тогда знал Сергия». Следовательно, и рассказы о чудесах могут иметь такое же происхождение. Но вполне возможна и другая точка зрения: «Как отнестись к этим известиям Жития? Давно замечено, что все они имеют аналогии в житиях различных византийских святых. Вероятно, автор «Жития Сергия», не имея достоверных сведений о детстве своего героя, воссоздал его по образу жизнеописаний великих подвижников древности. Тем самым Епифаний Премудрый утверждал величие Сергия, сопоставимость его образа с образами святых отцов» [27]. Современный исследователь, выдвинувший эту версию об агиографическом происхождении чудес, тем самым отказывается признать их достоверность. Мы склоняемся к компромиссной точке зрения: возможно (хотя бы отчасти), что Епифаний «усовершенствовал» местные легенды о Святом Сергии, используя для этого биографии великих подвижников древности.
В Живой Этике есть такое изречение: «Чудо творится, как зажженная лампа» [28]. Это означает, что «чудом» люди называют необычное, непонятное им явление и что со временем, по мере расширения сферы познания и углубления человеческого ума в суть вещей, чудеса превращаются в бытовые явления (лампа вместо лучины, сила атомной энергии вместо силачей, двигающих горами и т. д.), что область применения таких понятий, как «сверхъестественный», «метафизический» или «мистический» непрерывно, соизмеримо с достижениями науки и техники, уменьшается. Соответственно сжимается и великий мир иллюзий. Учение Живая Этика, ориентирующее человечество на познание и освоение тонких и тончайших энергий Космоса и микрокосмоса (человека), утверждает, что силой этих энергий творятся чудеса. Учение разделяет т. н. чудеса на две группы – на чудеса добрые, полезные для людей и исходящие от Иерархии Света, и на чудеса злотворные, исходящие от Сатаны, от темных сил.
По давней, идущей от языческих времен традиции, люди все «невозможные» добрые чудеса атрибутируют Творцу, но делают это порой бездумно, впадая в противоречие с законами Жизни, утвержденными Творцом. Так случилось, на наш взгляд, с «чудом» троекратного крика младенца в «утробе матерне». Как будто созданные Творцом законы жизни несовершенны и потому должны Им же Самим нарушаться! Как будто у Него не было других способов проявить Свою благодатную любовь к Варфоломею!
Рассмотренные в этой главе чудеса народного или агиографического воображения созданы многие десятилетия спустя после рождения Сергия Радонежского. Живительной почвой для них послужили, мы полагаем, его редчайшие психоэнергетические силы, его многочисленные исцеления бесноватых и тяжело больных, его пророчества, исполнившиеся на все сто процентов. Вообще вся его необычная жизнь, многое в которой современники объясняли покровительством Высших Сил.
3.3. Место, время рождения и выбор крестильного имени Варфоломей
Считайте случай предзнаменованием. Явление случая предусмотрено Нами.
Живая Этика
В среднем сыне Марии и Кирилла, родителей Сергия Радонежского, воплотился Великий Дух Учителя Учителей, нынешнего Владыки Земли [29]. Сознательно, добровольно и радостно принимает Он все неизбежные ограничения, все тяжкие земные узы, в которые Он ввергает себя с момента воплощения. «Также не забудем, что, облекшись в земную оболочку, каждый становится в условия плотного мира. Такое обстоятельство обычно упускается из вида и предполагается, что Наши братья (Высшие Духи. – А. К.), идущие в мир, будут в каких-то неестественных условиях. Естество есть законом ограниченное состояние. Каждый из Нас знает это и сознательно избирает путь» [30]. Он должен успешно выполнить свою светлую миссию, преодолев в труде и борьбе мощное противодействие Хаоса и Князя тьмы, считавшего себя тогда Хозяином Земли. Все, что Великий Дух знал и умел до воплощения, все, что было предусмотрено Им вместе с Высшим Иерархом, – все это как бы запиралось в ларчик с момента воплощения, продолжая жить лишь в свернутом виде, лишь как могучий потенциал. О своей предыдущей жизни он ничего не знает. До поры, до времени.
Почему именно Русь была избрана для воплощения Владыки Земли? Ни в Живой Этике, ни в письмах Е. И. Рерих нет прямого ответа на этот вопрос, хотя о Сергии Радонежском в них имеется около пятидесяти высказываний. Все же некоторые ориентиры для отыскания ответа имеются. Е.И.Рерих не однажды писала о неразрывной предопределенной связи судьбы России с судьбой человечества. Приведем здесь лишь два, может быть, наиболее характерных высказывания: 1) «Расцвет России есть залог благоденствия и мира всего мира. Гибель России есть гибель всего мира» [31]; 2) «Слишком много желающих так или иначе мешать или унизить нашу великую родину, именно великую во многих отношениях, несмотря ни на что. Но времена изменчивы, и одна лишь наша родина держит равновесие мира. Возрожденная страна не будет ничьим врагом, но укажет путь сотрудничества народов» [32].
Эти высказывания помогают понять, почему во все времена наша Родина получала необходимую помощь от Иерархии Света и от Белого Братства Земли, ответственного за ее «расчисленную» в Высшем Мире эволюцию. Из всех исторических кризисов, преодоленных Россией, самым опасным, на наш взгляд, был кризис в 70-е – 80-е гг. XIV века; именно поэтому для его разрешения сошел на Землю Высокий Дух, воплотившийся в Сергии Радонежском – один из Великих Учителей, изначально ведущих земное человечество. В этой связи большой интерес представляет следующее размышление Учителя: «В жизни мы не замечаем наиболее важные моменты: они кажутся нам пылью. Если б представить решающий момент России, то лишь опытный ученик понял бы его. Рука Создателя не только в поражающих явлениях, но и в движении былинки» [33]. Многие согласятся, что есть все основания считать «поражающим явлением» победу на Куликовом поле, без которой русский народ навсегда остался бы под монголо-татарским игом. Но в таком случае что было «движением былинки», направляемой рукой Создателя? И какой решающий момент русской истории был связан с этим движением? Может, такой «былинкой» было крохотное человеческое существо, мальчик, родившийся в ростовской боярской семье, в селе, «не очень близко от Ростова» (с. 303). Именно в нем был воплощен Великий Учитель, и в акте воплощения изначально проявилась «Рука Создателя», которая затем вела по жизни мальчика, юношу, монаха, ставшего со временем «великим» (определение Епифания) человеком. При выборе местожительства и семьи, в которой должен был воплотиться Великий Дух, выбиравшие исходили, надо полагать, из наличия благоприятных условий для его развития, соответствующих предназначенной миссии.
Отец и мать Варфоломея были искренне верующими людьми, и это способствовало становлению его религиозного чувства и создавало хорошие предпосылки для понимания и поддержки его устремления к монашеской жизни. Кирилл был боярином «славным и нарочитым» (с. 303) и, может быть, входил в боярскую думу Ростовского князя. В семье, естественно, были живы предания о прошлой славе Ростова, и это пробуждало у детей интерес к истории Руси. Они имели возможность получить образование и, наверное, могли пользоваться книгами из епархиального книгохранилища. Вместе с тем родители приучали детей к физическому труду, о чем упоминается в «Житии Сергия». Опыт трудовой сельской жизни, религиозное воспитание и образование весьма пригодились Варфоломею в последующей жизни. Вместе с тем возникает вопрос, почему место рождения было выбрано в селе, а не в Ростове, и так далеко от Радонежа и его окрестностей, где прошла большая часть жизни Сергия Радонежского? Великое Служение разнообразно, и бывает, как видно из «Живой Этики», целесообразно выбрать место рождения, совсем не приметное для темных сил, пытающихся «...всюду разрушить строение доброе» [34]. «И Мы должны были выступать под самыми обычными ликами» [35].
Когда младенцу, второму сыну Марии и Кирилла, шел 40-й день, родители отнесли его в церковь, где священник Михаил совершил над ним обряд крещения и дал ему имя Варфоломей. Ранее мы об этом событии кратко рассказали – по другому поводу. Теперь хотели бы остановиться на выборе его имени. Оно, наверное, было предопределено самим днем крещения, совпавшим, вероятно, с днем памяти Апостола Варфоломея. Современный историк, один из биографов Сергия Радонежского, Н. С. Борисов обратил внимание на то, что «В Древней Руси особый, тайный смысл видели и в имени человека» [36]. И это, действительно, так. «Если такое совпадение действительно произошло, то, конечно, оно сыграло определенную роль в жизни Сергия. Символизм христианского мировоззрения заставлял видеть во всем таинственный смысл. Огромное значение придавалось и «календарным» совпадениям. Их рассматривали как знак, данный свыше. И кто знает, не был ли ранний интерес Варфоломея к иноческому житию, кроме всего прочего, еще и результатом его размышлений над датой своего рождения?» [37] Мы также полагаем, что это был именно знак Свыше. Конечно, совпадения могло и не быть, и тогда родители, ориентируясь по календарю, могли сами выбирать имя, которое им приглянулось. Если же такое совпадение было, и Сергий Радонежский в самом деле был крещен 11 июня, то это дает еще один факт, говорящий о расчисленности его судьбы Свыше. К этому склоняет некоторых исследователей (и меня в их числе) также и второе знаменательное совпадение: на 3 мая (день рождения Варфоломея) приходится день памяти (смерти) святого Феодосия Печерского, игумена Киево-Печерского монастыря. Таким образом в венок новорожденного были вплетены два славных имени. Апостол Варфоломей, один из преданнейших учеников Христа, еще при Его жизни и по Его наставлениям, обстоятельно изложенным в Евангелии от Матфея, проповедовал Учение Христа. Совпадение существенно потому, что Варфоломей, живя в религиозной семье, должен был воспринимать наставления Христа особенно трепетно, как бы относящиеся к себе непосредственно. Так у Варфоломея рано установился личный канал связи с вечно живым Христом.
Есть тайный, весьма значительный смысл в самом имени «Варфоломей». И этот смысл также, как неуклонное следование заветам Христа, был многообразно выявлен жизнью Св. Сергия. В переводе с древнееврейского Варфоломей означает «сын мужества» [38]. И, действительно, он был бесстрашным человеком, о чем убедительно говорит как его одинокое отшельничество, и утверждение им нового монастырского пути, так и его решительное нарушение буквы церковных законов во имя защиты интересов Родины и народа. Епифаний особо отмечает и еще одну характернейшую особенность Преподобного: он был «скръбящимь и сетующимь радостотворец» (с. 273). Воистину, так: радостотворец для всех, с кем он входил в общение. И в историю человечества Св. Сергий вошел под именем Радонежского, а наследственной его фамилии никто до сих пор не знает. И совсем уж поразительно еще одно совпадение: второе имя апостола Варфоломея было Нафанаил, что означает «дар Божий» [39] в переводе с древнееврейского. За всю историю России не было другого дара Божьего, столь великого и столь необходимого для ее народа и ее будущего, как Сергий Радонежский.
Столько знаменательных совпадений породило крестильное имя Св. Сергия – неужели все они являются случайными? Вернее будет сказать, что, когда воплощается на Земле Великий Дух, многое, очень многое в его предстоящей жизни тщательно продумывается Пославшими Его. И что считать мелочами? В жизни великого деятеля и великого человека все исполнено глубокого смысла.
Но не всегда удается нам постигнуть этот смысл, как, например, в случае с выбором года рождения Сергия Радонежского. Мы не можем убедительно объяснить, по каким соображениям было принято решение о воплощении Великого Духа в 1314-м, а не 1319-м или в 1322 году. Нам кажутся несущественными споры об установлении года рождения Преподобного, ведущиеся уже много столетий, хотя мы отдаем себе отчет в том, что они порождаются неутолимым стремлением человека к истине. В конце концов, для развития науки именно это имеет первостепенное значение. Потому и мы включаемся в спор о точном времени жизни Преподобного.
В «Похвальном слове» Епифания есть размышления, которые позволяют сделать заключение о том, что после кончины Преподобного велись многозначительные разговоры о продолжительности жизни любого праведника: «Память праведного с похвалами бывает, и благословение Господне над главой праведного; аще и преставится праведный, в покои будеть; старость бо честна, не многолетна, ни в числе лет изчетена есть; седины же суть разумъ человеку, лета же старости – житие нескверна. Угоденъ Богу бывъ и възлюбленъ бывъ, живый посреди грешникъ преставленъ бысть, да не злоба изменитъ разумъ его, и лесть да не помрачит душу его; скончався, в мале исплъни лета многа: угодна бо бе Господеви душа его. Того ради любитъ Господь праведника, сохранитъ и живитъ, и ублажитъ его на земли, и не дасть в векы смятенна праведнику, ни же дасть видети истлениа преподобному Своему» («Похвальное слово», сс. 281-282, выделено мною. – А. К.). Принципиальная позиция Епифания, как видно, такова: 1) жизнь праведника измеряется не количеством прожитых лет, не сединами, а чистым, непорочным житием и разумом; когда умереть праведнику – решает Господь; 2) несомненно, что Господь «любит праведника» и способствует его земному житию.
Епифаний для обоснования своей точки зрения приводит высказывания библейского мудреца, царя Соломона [40]. Ясные авторитетнейшие суждения Соломона, однако, не положили конца спорам о продолжительности жизни Сергия Радонежского. Судя по позднейшим исправлениям возраста Преподобного, прослеженным Б. М. Клоссом по спискам «Жития Сергия» до XVII века, среди редакторов «Жития Сергия» были как те, кто исчисляли его жизнь в 78 лет и монашество в 55 лет, так и те, кто укорачивали его жизнь и монашество соответственно до 70 и 50 лет. Мы отстаиваем подлинность сведений, в которых 1392 год отмечается как год смерти Преподобного, продолжительность же его жизни определяется в 78 лет и соответственно 1314 год вычисляется как год его рождения. Нашу аргументацию по спорным вопросам мы излагаем в комментариях, полагая, что она интересна лишь для филологов и специалистов по истории и культуре Древней Руси [41].
Здесь же мы выскажем два новых, ранее не встречавшихся соображения – ни в работах давних, ни в исследованиях новейших, включая и те, которые принадлежат перу сторонников Живой Этики. Общепризнано всеми исследователями «Жития», что Сергий Радонежский был истинным последователем Христа. Хорошо известно, что Иисус Христос начал осуществлять свою земную миссию в 30 лет (иногда называется и в 28 лет). Но почему именно в этом возрасте, а не раньше, скажем, в 20 или в 25 лет? Живая Этика дает ясный ответ: только к 28 годам открывается у земного жителя, не исключая и Великих Воплощенных, все нервно-психические центры; другими словами, только с этого возраста прирожденные силы и способности великих людей достигают полного развития. И любая миссия, ради которой он принял физическое воплощение, теперь может быть исполнена им наилучшим образом. Знал ли Варфоломей великое значение этой возрастной границы, когда принял решение подвергнуть себя и свою веру в Бога труднейшему испытанию в условиях лесного отшельничества? Сказать определенно мы не можем. Но если и не знал, то руководствовался истиной, открытой людям в жизненном пути Христа, которому Варфоломей следовал, как своему образцу. На этом основании мы устанавливаем, что Варфоломей начал отшельничать в 28 лет, то есть в 1342 году. Этот же год с большой вероятностью вычисляется, исходя из косвенных данных, сохранившихся в «Житии», о чем мы скажем несколько позднее.
В книге М. С. Борисова «Сергий Радонежский» приводится, на наш взгляд, довольно весомый аргумент за то, что Преподобный родился в 1314 году: «В 1344 году Сергию исполнилось 30 лет. Он достиг возраста, когда, согласно канонам, мог быть рукоположен в иерея» [42.1.]. Но каноны зависят от устава монашеской жизни. Иерусалимский устав, разрешающий священничество в 30 лет, вошел на Руси в действие при Киприане, т. е. на переходе от XIV к XV столетию. В Свято-Троицком монастыре (как и в других) жизнь организовывалась, скорее всего, по Студийскому уставу, за которым на Руси стояли авторитет и традиция Киево-Печерского монастыря. По Студийскому Алексеевскому уставу игуменство разрешалось начиная с 33 лет [42.2.]. Сергий стал игуменом в 1354 г., следовательно, в соответствии с действующим уставом.
Из письма Е. И. Рерих в Америку от 31 мая 1934 года я узнал недавно, что «годом рождения Преподобного Сергия Радонежского по Указанию следует считать именно 1314-й» [43]. Можно было бы прекратить споры об этом, так как Указание исходило от того Великого Духа, который 690 лет тому назад воплотился в Сергии Радонежском. Однако среди специалистов по Др. Руси мало последователей Учения, и потому мы привели наши доводы (см. также комментарии) в обоснование 1314-го года.
В рассказе о первом семилетии Варфоломея (в обеих рассматриваемых редакциях) весьма заметна композиционная несоизмеримость отдельных частей. Почти все полотно изображения занято повествованием о младенчестве, и лишь в углу картины виднеется крохотное пятнышко, на котором разместилось несколько десятков слов об остальном семилетии: в Пространной редакции из 263 строк 248 о младенчестве, а 15 – о последующих семи годах жизни. При этом резко изменился стиль авторского письма: вместо прежнего обстоятельного повествования, украшенного диалогом, лирическими отступлениями, философскими размышлениями, получилось сжатое сообщение. Вот оно полностью: «Младенець же прежереченный, о нем же слово изначала приходит, бе убо по крещении прежде неколико время месецей, егда и отдоенъ бысть законом естества, и от съсцу отъемлеться, и от пеленъ разрешается, и от колыбели свобожается. И тако абие отрочя растяше прочее время, по обычаю телеснаго възраста, преуспевая душею, и телом, и духомь, исплъняяся разума и страха Божиа, и милость Божиа бе на немь; донде же достиже до седмаго лета възрастом, въ егда родители его въдаша его грамоте учити» (с. 297). Как видим, рассказа о детстве нет, сохранилось только подытоживающее сообщение, принадлежащее, вероятно, Епифанию Премудрому. Пахомий Логофет написал об этом еще короче, почти в телеграфном стиле: «Отроча же растяше и крепляшеся духом. Внегда же дъстиже седмаго лета възрастом, тъгда родителие его вдаша учитися Божествъным писанием» (стр. 345). Писать в духе Пахомия легко... и безопасно, так как он стремится избегать размышлений и лирических излияний.
Девять строк Анонима о первом семилетии жизни Варфоломея – это, на наш взгляд, слишком мало для Епифания, заявившего в Предисловии к «Житию», что он будет писать о Сергии «по ряду»: «Ныне же, аще Богъ подасть, хотел убо бых от самаго рожества его, и младеньство, и детьство, и в юности, и в иночьстве» (с. 289). Если «милость Божия» простиралась на мальчика Варфоломея все семь лет, то Она в чем-то проявлялась, а такое проявление и есть первейшая тема любого жития святого. Но тогда почему же нет об этом, хотя бы одного – единственного рассказа? Таково первое недоумение. Чему учили Варфоломея и его братьев? Грамоте или Божественным писаниям? Различие невелико, но значимо, и мы склоняемся к тому, что тут ближе к истине пахомиевский текст (обучение Писанию), ибо в XVI веке (20-е гг.), когда создавалась Пространная редакция, подход к обучению был шире, чем два столетия назад.
При сопоставлении с Первой пахомиевской редакцией наталкиваешься на очень грубую неувязку с текстом Пространной редакции. Пахомий писал: «Предреченный же Кирил имеше два сына. Перваго Стефана, втораго же сего Варфоломеа...» (с. 345). Но автор Пространной редакции дает иную информацию о количестве детей: «Прежереченный рабъ Божий Кирилъ имеяше три сыны: пръваго Стефана, втораго сего Варфоломея, третиаго же Петра...» (с. 297). Соответственно и грамоте обучаются три, а не два сына. Но если читатель подумал уже, что прав автор Пространной редакции, а Пахомий, прибывший из Византии и засевший за переделку епифаниевского оригинала «Жития», то ли не запомнил, сколько было сыновей у Кирилла и Марии, то ли решил сократить их количество до двух, чтобы вовсе ничего не писать о мирянине Петре, то ли опасался впасть в отвергаемую им тринитарную символику, если ты, читатель, так решил – ты ошибся. Через несколько страниц Пахомий преспокойно сообщает: «Сынове же Кирилови, глаголю же, Стефанъ и Петръ оженистася...» (с. 347). Вот тут-то исследователь и уперся лбом в стенку: как же понять взаимоисключающие утверждения? Два или три сына было у родителей св. Сергия? Мы находим только одно объяснение – психологическое, однако, опирающееся на историю пахомиевских переделок. Разумеется, сам Пахомий не мог допустить столь грубой неувязки. Им, вероятно, был предложен первому заказчику вариант текста с двумя сыновьями. Мы склоняемся к этому мнению потому, что в его третьей редакции не упоминается Петр. Но, видимо, первый заказчик не согласился с предложением Пахомия исключить из «Жития» Петра, и Пахомий в одном фрагменте Петра восстановил, «забыв» о том, что он был ранее исключен им из семьи боярина Кирилла.
Спустя около 60 лет после Пятой пахомиевской редакции была составлена Пространная редакция «Жития», первую половину которой многие исследователи сближают с первоначальным текстом Епифания. Слава Богу, если оригинал или близкий к нему вариант «дожил» до того времени: многое, в том числе состав семьи родителей св. Сергия, было восстановлено по этому варианту. К сожалению, епифаниевское описание первого семилетия жизни св. Сергия, восстановлено, на наш взгляд, не было. Нельзя же считать полным текстом Епифания нынешний текст, совершенно лишенный художественности и содержащий неверное определение цели обучения детей.

Может быть, это Вестник, несущий спасение целому народу? ...И не подумают люди, кто послал Вестника.
Живая Этика
Встреча с Вестником ознаменовала поворот в духовно-нравственном развитии Варфоломея; ей в «Житии Сергия» посвящен отдельный рассказ.
У встречи есть краткая предыстория: До семи лет Варфоломей «...преуспевал и телом, и душой, и духом», и «милость Божья была с ним» (с. 297). Но когда он начал учиться, произошел срыв, внезапный и драматический: грамота не давалась ему, он учился «медленно и без прилежания» (с. 298). Какова причина резкого торможения «преуспешного» развития сознания мальчика? Откуда взялись тупость и леность? «Учитель с большим старанием учил его» (с. 298), и, видимо, обладал немалыми педагогическими способностями: Стефан и Петр учились у него хорошо. Родители устремляли Варфоломея к успешным занятиям, но он не воспринимал знаний. Что же сталось с его благодатными природными способностями? Почему их действие прекратилось? Варфоломей не перенес ни болезней, ни душевных потрясений; жизнь его во всем, кроме обучения Писанию, текла так же, как и прежде. Не содеял отрок никакого греха, но «милость Божья» почему-то отнята у него. Варфоломей глубоко переживал свое несчастье «...втайне, со слезами на глазах, часто молился Богу, говоря: «Господи! Ты дай же ми грамоту сию, Ты научи мя и вразуми мя» (с. 298).
Христианское сознание все беды и несчастья в жизни человека, семьи или народа объясняет их грехами. Но как осмыслить Божье наказание человека, не только ни в чем не виноватого перед Богом, но и отмеченного особым Его благорасположением еще до рождения? Агиограф, словно предвидя такой вопрос дает ответ: «Все печалились, не ведая высшего предназначения Божьего промысла, не зная, что хочет Бог сотворить с этим отроком, не зная, что не оставит Господь преподобного своего. Так по усмотрению Бога нужно было, чтобы от Бога книжное учение получил он, а не от людей; что и сбылось. Скажем же и о том, как, благодаря Божественному откровению научился он грамоте» (ПЛДР, с. 281). Выходит, не наказанием было лишение Варфоломея милости Божьей, а новым этапом Высшего плана («вышнего строениа») умственного развития отрока. Чтобы все поняли это, Бог якобы устроил временные затруднения в одном только деле – в освоении грамоты. Но как агиограф узнал, что Бог «хочет» Сам дать Варфоломею способность овладения книжной мудростью? Об этом «поведало» чудо, которое произошло с отроком. Откуда же агиограф узнал о чуде? Вероятно, от кого-то, кто был свидетелем чуда, возможно, от Стефана, о котором упоминается в предисловии к «Житию» как об одном из источников осведомленности Епифания. Мы напомним о чуде (по тексту Пространной редакции), чтобы облегчить читателю понимание дальнейшего анализа. Отец послал Варфоломея в поле за жеребятами. Отрок увидел под дубом молящегося «старца святого, священноинока», который прозрел в нем избранника Святого Духа и спросил, чего отрок ищет и желает. Варфоломей рассказал о своей печали (грамота не дается ему) и попросил священника помолиться Богу о помощи. Старец помолился, достал из кармана рясы просфору, дал Варфоломею, чтобы он съел ее, а потом сообщил отроку, что с этого дня Господь наделяет его знанием грамоты, несравненно лучшим, чем у сверстников. После вкушения отроком просфоры премудрости Старец собрался уходить, но Варфоломей умолил его пойти к родителям. Кирилл и Мария почтительно приняли Старца, приготовили для него угощение. Старец пошел молиться в домашнюю часовню, взяв с собой отрока. «И начал старец "Часы" петь, а отроку велел псалом читать. Отрок же сказал: "Я не умею этого, отче"... И случилось нечто удивительное» (с. 299). Отрок вдруг по памяти спел псалмы и с этого момента стал хорошо знать грамоту. Родители и братья Варфоломея удивились и возблагодарили Бога за такую благодать. Выйдя из часовни, Старец отведал угощения, «благословил родителей и хотел уйти» (там же). Но они упросили его немного задержаться и объяснить «чудо в церкви». Выслушав рассказ о чуде, Старец дал по сути то же самое толкование, что и священник Михаил после крещения Варфоломея. Родители проводили Старца до ворот, и тут он «внезапно стал невидим» (с. 300). Они поняли, что их посетил Ангел. Варфоломей, снова утверждает агиограф, стал прекрасно «читать и понимать любую книгу» (с. 301). Агиограф заключает, что добрый отрок достоин был даров духовных. В житиях святых не так уж редко встречается мотив подобного, чудесного освоения грамоты, который понятным для верующего образом объясняет особенные, выдающиеся способности святого.
Попробуем отделить в рассказе фрагменты епифаниевские от неепифаниевских. Первое приуподобление – поиск жеребят Варфоломеем сопоставлен с поиском ослят библейским юношей (будущим царем Израиля) Саулом – отсутствует у Пахомия. Значит, возникает вопрос, придумано ли приуподобление Анонимом или восходит к Епифанию. Оно сделано согласно епифаниевскому наставлению о чудесах: отроки Саул и Варфоломей, выполняя сходное поручение родителей, искали одно, а обрели другое. Саул искал и нашел ослят, а обрел – пророка Самуила и царский венец [44]; Варфоломей искал и нашел жеребят, а обрел прозорливого Старца, который дал ему бесценные небесные дары и предсказал великое будущее. Пути Господни неисповедимы, но ищите и обрящете. Согласно наставлению Епифания о чудесах, правильное приуподобление в итоге способствует укреплению веры в них и имеет предсказательный характер.
Рассказ о встрече под дубом есть и в Первой пахомиевской, и в Пространной редакциях; причем сама встреча и обстановка встречи, в общем, описаны сходно. И этот факт дает еще одно основание атрибутировать рассказ о встрече Епифанию, разумеется, в целом, в главном, но не каждое слово, не каждое выражение.
Продолжение встречи Старца с Варфоломеем в иной обстановке, в доме родителей, также описано и в Первой пахомиевской, и в Пространной редакциях, хотя описано весьма различно. Это описание, наверное, было и в оригинале «Жития», ибо его необходимость диктуется одним из требований наставления Епифания об укреплении веры в чудеса – требованием об их свидетельском подтверждении. Свидетелей встречи Варфоломея со Старцем в лесу не было, в отличие от встречи Саула с пророком Самуилом (тут был слуга Саула). В доме родителей Варфоломея, куда пришел Старец, свидетелями чуда, совершенного Им, и Его предсказаний о судьбе Варфоломея стали его отец, мать и оба брата (у Пахомия свидетелей нет). Таким образом, мы видим, что епифаниевское наставление об описании чудес применено правильно, полно.
И у Пахомия, и у Анонима есть приуподобление чуда, совершенного Старцем в домашней часовне, библейскому чуду, вернее двум различным чудесам. Само чудесное происшествие с Варфоломеем написано в обеих редакциях почти одинаково: 1) у Пахомия: «Яко отныне дарова тебе Богъ грамоту, ею же възможеши и иных ползевати» (с. 346); 2) у Анонима: «...и от того часа гораздъ бысть зело грамоте» (с. 300).
Однако у Пахомия это чудо приуподобляется известному чуду, случившемуся с пророком Исайей [45]: «И было, как некогда пророку Исайе касание горящим углем, так и этому достойному отроку – там сделал Серафим, а здесь – старец» (с. 346). Аноним же подбирает иное приуподобление: «И сбысться пророчество премудрого пророка Иеремиа [46], глаголюща: «Так говорит Господь: «Вот я вложил слова Мои в уста твои» (с. 300). Мы склоняемся к тому, что в епифаниевском оригинале было приуподобление чуда в домашней молельне чуду с пророком Исайей. Оно точнее в том немаловажном отношении, что не сам Бог, а Его посланцы передавали благодатные дары Исайе и Варфоломею и что в обоих случаях было физическое соприкасание посланцев с людьми. Кроме того, приуподобление Иеремии не вполне отвечает епифаниевскому требованию о смысловом соответствии между чудесами, причем нарушение соответствия касается тут не второстепенного обстоятельства, а главного (Бог вместо ангела).
И у Пахомия, и у Анонима есть упоминание о том, что Старец, уходя из дома родителей, внезапно «невидим бысть» (с. 300 и с. 346). И далее в обеих редакциях почти одними и теми же словами оценивается это исчезновение Старца на глазах: «Они же, недоумевая, думали, что ангел был послан, чтобы дать отроку дар овладения грамотой» (с. 300 и с. 346). Старец оказался Ангелом – это и есть наибольшее из всех чудес. Оно описано в обеих редакциях очень кратко, и впечатление от мгновенного исчезновения Старца на глазах у родителей Варфоломея выражается словом «недоумение». Аноним к этому добавил: «...и словеса его (Ангела. – А. К.) положиша на сердци своем» (с. 301). Читатель ожидает тут проявление более сильных чувств: потрясения, восторга, несказанной радости и т. д. Но его ожидания не оправдываются. По сравнению с художественным описанием чудесного проглаголания младенца в церкви описание чуда с исчезновением Ангела можно охарактеризовать как простое фиксирование факта. Это, думается, объясняется тем, что в Библии нередки рассказы, в которых действуют Ангелы, причем проявляется их способность становиться невидимыми, и поэтому сознание верующих в XV – XVI веках привычно, спокойно воспринимало их внезапные исчезновения. Этому же «обучали» и русские сказки. В свете вышесказанного понятно и отсутствие приуподобления к чуду мгновенного «растворения» Старца в воздухе.
Рассказ о встрече Варфоломея с Ангелом в обеих редакциях сохранил следы вмешательства Пахомия и Анонима в первоначальный епифаниевский текст.
У Пахомия есть почти дословные пророчества Ангела:
1) «Се отныне, чадо, дарова ти Богь грамоту, ею же възможеши иных ползевати» (с. 346);
2) «Яко отныне дарова тебе Богь грамоту, ею же възможеши и иных ползевати» (с. 346).
Каждому пророчеству предшествует просьба отрока о даровании ему «разумения грамоте». Зачем нужен повтор? Контекст подсказывает ответ: первое пророчество оказалось малосильным, и поэтому Варфоломей повторил просьбу, а Ангел – свое пророчество. Но зачем же нужен повтор, когда действует Божественная воля? Известно, что повторы – характерная особенность чародейных манипуляций, и это вместе с отсутствием мгновенного эффекта от силы Божественной благодати порождает сомнение в чудесных способностях Старца, то есть дает результат, несовместимый с наставлением Епифания об укреплении веры в чудеса. Так возникает мысль о том, что в епифаниевском тексте вообще не было одного из пророчеств. Какого же? Вероятно, первого, потому что оно, вопреки наставлению о чудесах, было сделано без свидетелей.
В Первой пахомиевской редакции есть высказывание Варфоломея, представляющее его в неблагоприятном свете и, главное, не соответствующее образу Сергия в «Похвальном слове»: «...отче честный, помоли Бога о мне, яко да не възбрано ми будет, о нем же вданъ бых. Известно бо знаю, яко твоего молениа Богъ не презрит» (с. 345-346. Выделено мною. – А. К.). Отрок, лишенный, как известно, Божьей благодати, прозорливо и без колебаний утверждает, будто он знает о благом расположении Бога (!) к молитве Старца, и убежденно уверяет его в этом знании. Такой тон не вяжется с характером епифаниевского Сергия, «имевшего нрав тихий и кроткий» (с. 273), «смиренного сердцем» (с. 274). Вставка Пахомия вовсе не случайна: он и далее будет создавать образ самонадеянного Варфоломея, несмотря на параллельно расточаемые ему льстивые похвалы. Показательно, что в Пространной редакции отсутствует упомянутое уверение Варфоломея, и подчеркивается его смиренное поведение (с. 298)
Обратимся к тексту Пространной редакции. В ней мы находим ту же сюжетную и композиционную основу рассказа о встрече отрока со Старцем, что и в Первой пахомиевской редакции. Однако есть и существенные различия. Беседа отрока со Старцем «в поле, под дубом» (с. 298) превращена в живописную картину оригинального причащения: «Старец же, подняв руки и очи к небу и вздохнув перед Богом, помолился прилежно и после молитвы сказал: «Аминь». И, взяв из мошны своей как некое сокровище, он подал отроку тремя перстами нечто похожее на анафору, с виду кусочек белого хлеба пшеничного, кусочек святой просфоры, и сказал ему: «Возьми ее, чадо, устами своими. Прими сие и съешь – это тебе дается знамение благодати Божьей и понимания святого Писания. Хотя и малым кажется даруемое, но велика услада от вкушения его». Отрок же открыл уста и съел то, что ему было дано; и была сладость во рту его, как от меда. И сказал он: «Не об этом ли изречено: «Как сладки гортани моей слова Твои! Лучше меда устам моим»; и душа моя возлюбила их». И ответил ему Старец: «Веруешь ли, и больше этого узришь. А о грамоте, чадо, не печалься: да будет известно тебе, что с сего дня дарует тебе Господь хорошее знание грамоты, большее, чем у братьев и сверстников твоих». И поучил его на пользу душе» (ПЛДР, с. 281 и 283). Картина, которую изобразил анонимный агиограф, представляет собой одну из самых примечательных контаминации язычества и христианства: богомильское полупричащение (хлебом, но без вина) Варфоломея священноиноком под открытым небом, у дуба, который в языческой Руси был одним из природных священных символов. «Дароимец» Варфоломей вместе с кусочком просфоры получает небесный дар разумения всякой грамоте. Но дар дает отроку лишь кратковременную вспышку просветления: он вспоминает и произносит часть стиха из 118-го псалма Давида, заслуживает одобрение Высокого Дарителя, но спустя некоторое время... божественная сила покидает Варфоломея. Он снова забывает псалмы, сокрушенно сообщает об этом Старцу, и получает от Него подтверждение дара, на этот раз сопровождаемое благословением. И только теперь благодать Божия действительно дает отроку способность освоения книжного разума. Аноним, сравнительно с Пахомием усугубивший языческий колорит встречи под дубом, тем самым подсказал объяснение причины маломощности первого дара от Ангела: сила Господа для своего осуществления требовала подходящей обстановки – молитвенного храма в доме боярина Кирилла.
И тут возникает немаловажный вопрос: почему бы агиографу с самого начала не избрать местом встречи Варфоломея с Ангелом домашнюю молельню, а еще лучше – ту самую сельскую церковь, в которой Варфоломей был крещен? Этот выбор был ведь ранее предопределен агиографом в пространном, сильно драматизированном размышлении о том, что чудесный крик младенца в утробе матери мог произойти только в церкви, только во время литургии, только в точном соответствии с ее священной символикой, и ни в коем случае чудо не могло быть где-либо «кроме церкви, без народа, или инде, втайне, наедине» и т. д. (с. 294). Теперь сам Ангел явился Варфоломею, выполняя поручение Господа, – и что же? Великое чудо происходит вначале в поле, под дубом, затем в домашней часовне. Неужели агиограф забыл о своем недавнем драматизированном истолковании чуда в церкви? Такое предположение мы считаем невероятным. Значит, агиограф намеренно избрал местом встречи Варфоломея с Ангелом лесную опушку, под дубом. Но с какой целью? Расчет Анонима был, вероятно, таков: православный читатель должен осудить Епифания за компромисс с языческими воззрениями. Возможно, что анонимный агиограф применил тут и еще более острое и более закамуфлированное критическое оружие. Эта мысль порождается следующими совпадениями. Когда Епифаний завершал «Житие Сергия», возникла вторая волна борьбы с ересью стригольников. Ее возглавил в 1416 г. сам митрополит Фотий. Основные обвинения стригольников были те же самые, что и во второй половине XVI в.: осуждение их за моления к Богу на лоне Природы, на городских площадях, словом, за исповедание и причащение вне церкви. Но именно это и делает священноинок под дубом. Епифаний как автор оказывается под огнем православной критики, ибо в «Житии» Ангел совершает и тем освящает стригольнические обряды. Митрополит Фотий в одном из своих посланий псковитянам с возмущением говорит именно о вознесении стригольниками молитв к Богу под открытым небом: «Стригольницы, отпадающей от Бога и на небо взирающе беху – тамо отца себе наричают...» [47]. Эти строки столь точно описывают ситуацию моления Старца под дубом, что их можно считать невольным комментарием к этому молению. Фотий резко осуждает также и «строительство своих церквей и часовен» [48], а у Епифания Ангел вместе с отроком молятся в домашнем «молитвенном храме» и там же вторично отрок наделяется божественным даром разумения грамоте. Таким образом получается, что религиозно-обрядовые действия Старца совершены в соответствии с воззрениями стригольников. Понятно, что это вовсе не способствовало ни повышению авторитета Епифания, ни церковному одобрению сочиненного им «Жития Сергия». В этой связи стоит отметить, что отрицательное отношение стригольников к обогащению монастырей и церкви путем приобретения сел и иного недвижимого имущества совпадало с последовательно нестяжательной позицией Сергия Радонежского и Епифания Премудрого.
Повторы в Пространной редакции по форме отличны от повторов в Первой пахомиевской редакции, но подобны им по смыслу. Они также подрывают доверие читателя к чудесам и к Епифанию. Одно из чудесных действий Ангела явно излишне и должно быть сочтено вставкой в текст Епифания. На наш взгляд, Аноним сочинил и вставил в имевшийся у него текст именно описание чуда с просфорой. В этом описании имеется приуподобление чуда к одному из высказываний библейского царя Давида [49]: мы уже ранее приводили соответствующую цитату из этого псалма («Как сладки гортани моей...» и т. д.). Агиограф построил приуподобление на совпадении лишь одного слова «сладкий». Это смело, но вряд ли удачно, а, главное, есть основание считать это приуподобление неепифаниевским. В «Похвальном слове» Епифаний приводит ту же самую цитату из псалма Давида, но не в усеченном, а в полном виде: «Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устомъ моимъ. От заповедей Твоих разумех, и сего ради възненавидех всякъ путь неправды» (с. 272). Здесь одна из тем 118-го псалма – верность Давида важнейшей заповеди Бога о пути праведном и неправедном – точно соответствует сути высказывания Епифания о святом Сергии, в то время как в «Житии» вся аналогия держится на тонкой ниточке общего слова «сладкий». Усечение цитаты в «Житии» имеет принципиальное значение, так как исключает в приуподоблении самое существенное. Сделано это Анонимом, ибо у Пахомия вообще нет данного приуподобления. Мы еще не раз встретимся с подобным методом обработки библейских цитат Анонимом. Отметим одно моделирующее новшество в применении приуподобления. Здесь оно впервые делается не агиографом, а Варфоломеем, который начинает жить жизнью как бы независимой от автора. Такое новшество имеет для агиографа немалую выгоду: 1) Варфоломей выступает одновременно в двух ролях, соавтора и свидетеля достоверности события; 2) агиограф, передавая метод приуподобления Варфоломею, ставит себя в положение наблюдателя, как бы прячется за героя, возлагая на него ответственность за приуподобление, зная при этом, что слова и действия Святого вне критики.
Разумеется, если строить доказательность приуподоблении на столь шаткой основе, как одно несущественное слово, то для охранения доверия читателя к тексту целесообразно сделать соавтором приуподоблении будущего Святого, сомневаться в словах которого было нельзя, ибо за это могли воспоследовать церковные кары.
Приуподобление Варфоломея Саулу сделано, напротив, по епифаниевскому методу, и оно имеет предсказательный смысл, возвеличивающий Варфоломея и соответствующий его образу в «Похвальном слове». Логика этого приуподобления такова: в Библии Природа многократно показана как проявление Божественной воли, и тем самым освящено подобное отношение к Природе в последующие времена. Исходя из епифаниевского метода укреп-ления веры в чудеса, можно предположить, что в рассказе о встрече Вестника с Варфоломеем было еще размышление о соответствии чуда под лесным дубом будущей жизни преп. Сергия, его лесному отшельничеству и игуменству в лесном монастыре Святой Троицы. Такого размышления, логически венчающего приуподобление, нет, и потому мы заключаем, что оно, вероятно, было изъято Пахомием и анонимным агиографом XVI века.
Сопоставляя далее редакции Пахомия и Анонима, мы видим, что у Пахомия есть лишь одно приуподобление (у Анонима – три) и два подтверждения божественного дара разумения грамоте (у Анонима – три). Это, мы полагаем, говорит об отрицательном отношении Пахомия к так называемой тринитарной символике. Мы видели, что Пахомий не отвергает приуподоблений. Вместе с тем есть в рассматриваемой главе факт, свидетельствующий о том, что Пахомий не был сторонником епифаниевского метода укрепления веры в чудеса: приуподобление чуда в часовне есть и у Пахомия, но нет свидетелей, подтверждающих его достоверность (Стефана, Петра и их родителей). Пахомий, как мы уже отмечали в одной из предыдущих глав, смотрит на восприятие чудес упрощенно: все чудеса от Бога, и точка, и потому не надо их как-либо объяснять. В этом видится нам главная причина его неприятия епифаниевского метода объяснения чудес.
Автор Пространной редакции, переделывая рассказ о Вестнике, по-видимому, использовал как епифаниевский оригинал, так и его пахомиевскую версию, и в итоге создал свой, комбинированный текст.
* * *
Церковник и ныне, как сотни лет назад, считает, что Ангел встречался с Варфоломеем, чтобы чудесным образом наделить его способностью разумения «грамоты». Ученый-позитивист обходит тему Вестника как фантастический вымысел. Мы относим встречу с Вестником к событиям действительной жизни Варфоломея, но смысл встречи оцениваем иначе, чем «Житие». Приведем в этой связи высказывание Е. И. Рерих: «С этого времени в Варфоломее как бы проснулось предчувствие предстоящего ему подвига, и он всей душой пристрастился к богослужению и изучению священных книг. Оставив сверстников с их развлечениями, он весь ушел в свой нарождавшийся духовный мир» [50].
По нашему мнению, в рассказе о явлении Вестника бесспорно лишь одно: его беседа на опушке леса с Варфоломеем. Вестник обязательно встречается с Высоким Воплощенным, чтобы напомнить ему о покровительстве Свыше и о его земной миссии, которая забывается им с момента воплощения. Посторонние лица при встрече нежелательны. Многие и ныне скептически относятся к способности Высокого Духа материализоваться и дематериализоваться. Поэтому я позволю себе привести пример, зафиксированный в информационном фонде «American Broadcasting» [51]. На секретном заседании Политического Комитета ООН, обсуждавшем в 1949 году вопрос о войне в Корее, «готовой» перерасти в третью мировую войну, произошел поразительный случай. Никто не мог проникнуть на заседание «без предъявления верительных грамот или соответствующей идентификации. Никто не мог войти после закрытия дверей, не будучи замеченным стражами внешнего зала. Часовые уверяли, что не видели никого. Между тем, как только заседание было объявлено открытым... за председателем встал высокий человек.
Вокруг овального стола наступила тишина, и председательствующего сэра Роу, сначала подумавшего, что смотрят на него, толкнул локтем секретарь. Обернувшись, сэр Роу оказался лицом к лицу со стоявшим за ним незнакомцем...» [52]. Мы не будем рассказывать о беседе с Незнакомцем и о его речи против продолжения войны в Корее, а приведем лишь еще одну краткую цитату об уходе Незнакомца из зала. Закончив речь, «он пошел к двери, которая открылась перед ним... Снаружи никто не заметил его ухода...»
...Другой Незнакомец, стоявший под дубом до прихода Варфоломея на лесную опушку примерно в 1323 – 1326 гг., мог быть земным человеком, выполнявшим поручение Белого Братства, но мог быть и его сотрудником – в этом случае его уход от Варфоломея мог стать... мгновенным исчезновением вследствие дематериализации.
Любой воплощенный Великий Дух не нуждается в помощи Свыше для освоения грамоты. Его богатейший генетический код, его благодатная «Чаша» накоплений в предыдущих жизнях позволяет ему полно и глубоко усваивать любое знание. Вот почему житийные истории о получении «книжного разума» прямо от Бога или от ангелов, а не от земных учителей, являются фантазией.
Закон Кармы исключает какое бы то ни было беспричинное наказание, скажем, отнятие Благодати у Варфоломея, а закон Перевоплощения – любые прыжки через эволюционные ступени расширения сознания. Поэтому не могло быть, например, такого «чуда», которое будто бы сотворил Вестник: просфора, съеденная отроком Варфоломеем, дала ему дар понимания и запоминания любого «писания», а также усвоения всего, что он читал и чему его учили ранее. Из тупицы он мгновенно преобразился в гения. Любопытно отметить, что в этом представлении превратно отразилась реальная и сверхгениальная способность Великих Воплощенных. Не в отроческом возрасте, а позднее, годам к 28 – 30, у них открываются и гармонизируются все психоцентры, в том числе «Чаша», в которой закодированно хранятся самые ценные знания, накопленные в предыдущих жизнях, и тогда они обретают способность пользоваться этими накоплениями по желанию и по потребности. Необходимо подчеркнуть, что исключительно высокие прирожденные способности дали Варфоломею (Сергию) большое преимущество: он не только быстрее, полнее и глубже усваивал книжное знание, но и его обучение у жизни с определенного возраста шло особенным путем, путем чувствознания, недоступного обыкновенным людям.
Нашу точку зрения неверно было бы понять так, будто мы считаем неепифаниевским в рассказе о встрече Варфоломея с Вестником все, что не совпадает с Живой Этикой. Одно дело – событие, другое – рассказ о нем. Епифаний, если бы он даже услышал от самого преп. Сергия, как все было на самом деле, должен был бы поведать о чудесном событии своему читателю, соизмеряя с его сознанием это событие: в противном случае агиограф рисковал быть непонятым, рисковал утратой читательского доверия к житийному слову. Поэтому мы полагаем, что встреча с Вестником подавалась Епифанием по всем правилам его наставления о чудесах. Иначе говоря, для убеждения читателя он мог сам придумать визит Ангела к родителям Варфоломея и угощение Ангела земной пищей, но и эти эпизоды, и библейские приуподобления Епифаний изобразил бы, на наш взгляд, убедительнее (и психологически, и художественно), чем Пахомий и анонимный агиограф. Конечно, Епифаний не дал бы повода для сближения его приуподоблений ни с язычеством, ни со стригольничеством.

Заповеданы гармония и равновесие, но не может пользоваться ими человек изнуренный.
Живая Этика
Вопрос о том, кем будет Варфоломей, агиограф поставил еще до рождения своего героя, при обсуждении верующими его троекратного проглаголания в церкви. Родители Варфоломея, которых судьба сына, отмеченного сверхранней Благодатью Святого Духа, волновала особенно остро, уже дважды получали ответ на упомянутый вопрос – от сельского священника и от Вестника.
Варфоломей в отрочестве и юности продолжал удивлять «старцев и прочих людей» своим поведением, невольно снова возбуждая у них все тот же вопрос, правда, в несколько измененной форме: «Кем будет юноша этот, которого с детства удостоил Бог такого рода добродетели?» (с. 303). Теперь этот вопрос относится автором не к троекратному проглаголанию в церкви, а к постническим «чудесам» младенца, которые выводятся на первый план. Изменение формы вопроса весьма примечательно и по существу.
5.1. Постническая аскеза и врожденные грехи Варфоломея
Конечно, мы против изуверства и истязаний; тело знает меру топлива. Подготовите организм не сеном; мочь можете духом.
Живая Этика
Кая польза есть плоть свою иссушающему, а не кормящему алчнаго?
Слово «О хлебе»
И Пахомий, и Аноним предпослали рассказу о постнической аскезе Варфоломея одинаковые по смыслу и замыслу вступления.
Пахомий: «Блаженный же отрокъ, иже от самыхъ пеленъ Бо-гомь избранный, пребываше въ всем повинуася родителем и тщащеся ни в чем же преслушати ихъ. Внимаше же и божествьное повеление глаголюще: Чти отца своего и матерь, да будеши длъголетенъ на земли» (с. 346-347).
Аноним: «Добрый сей отрокъ достоинъ бысть даровъ духовных, иже от самех пеленъ Бога позна, и Бога възлюби, и Богомъ спасенъ бысть...» (с. 310).
Мы поставили многоточие, не желая цитировать дальше текст, почти слово в слово совпадающий с пахомиевским. Стоит упомянуть, что у Анонима этот текст заканчивает предыдущую главку, а не начинает новую, но смысловое назначение вступления от этого, как убедится читатель, не изменяется. Тут надо принять во внимание и то, что членение текста на главки не отличается монотематической строгостью ни у Анонима, ни у Пахомия.
Оба вступления можно назвать парадоксальными: заявляя со всей силой, со ссылкой на Святое Писание, тему безусловного послушания Варфоломея родителям и восхваляя его за это, агиографы далее ставят в центр рассказа острый конфликт сына с матерью, закончившийся его... категорическим несогласием с нею. Хотя отец в конфликте непосредственно не участвовал, но он был на стороне супруги, о чем Варфоломей говорит в молитве к Богу (с. 302). Мы рассмотрим текст в обеих редакциях, так как в «подаче» образа Варфоломея есть немалые различия между Пахомием и Анонимом, хотя в принципе их взгляды совпадают.
Пахомий: «Он (Варфоломей. – А. К.) приступил ведь к строгому воздержанию, много раз питался только хлебом, ночью же не спал, чему дивилась и сама его мать» (с. 347).
Аноним: «Еще мы расскажем и о другом деле этого блаженного отрока, который, будучи совсем юным, проявил разум старца. По прошествии нескольких лет он начал держать жестокий пост при полном воздержании, в среду и пятницу не ел ничего, в остальные дни питался хлебом и водой; ночью он часто не спал, стоя на молитве. И так вошла в него Благодать Святого Духа» (с. 301).
Конечно, текст Анонима изобразительнее, ярче пахомиевского, но оба согласно пишут о том, что отрок Варфоломей начал строгий пост по своей инициативе, без совета с родителями (об этом не говорится прямо, но такой смысл вскоре будет ясен из слов матери). Первое различие между агиографами в том, что Аноним еще до спора матери с сыном ясно заявляет об одобрении поступка Варфоломея, в то время как Пахомий свое мнение пока не высказывает.
Оба агиографа дали матери полную возможность высказать свои доводы.
Пахомий: «Мать ведь с любовью уговаривала его: «Любимое мое дитя, зачем ты сокрушаешь свое тело? Разве ты не знаешь, что длительное воздержание вызывает болезни, тем более что ты ведь очень молод и тело твое цветет, а для нас от всего этого лишь горе, и потому, желанный мой, не ослушайся своей матери» (с. 347). Столь же мягко, а иногда и теми же словами увещевает сына мать и в Пространной редакции (с. 301). Мать не против пощения вообще, но против чрезмерного, не по возрасту.
Аноним: «Дитя мое! Не сокруши плоть частыми воздержаниями, не возбуди нежданной болезни, ведь ты еще очень молод, и тело твое растет и цветет. Ведь никто в твоем возрасте, такой молодой, как ты, не приступает к столь строгому посту; никто ведь из братьев твоих и из твоих ровесников не прибегает к такому воздержанию, как ты. Ведь некоторые и по семь раз в день едят, начиная с раннего утра и заканчивая глубокой ночью, и пьют без меры. Перестань, сын, продолжать такое лечение, ты еще не в силе, еще не пришло твое время. Все хорошо, но в свое время» (с. 301).
Из слов матери ясно, что Варфоломей – исключение, единственный строгий постник в семье и в местном обществе. Все, кроме Варфоломея, понимают, как вредно для здоровья раннее строгое постничество. Может быть, церковь одобряла подобное пощение, и это было для него опорой? Нет, не одобряла. Сохранились послания митрополита Даниила, из которых ясно, что тогда, в первые десятилетия XVI века, велись жаркие споры о том, как следует поститься христианину. Потому-то, мы полагаем, именно Аноним возбудил вопрос об отношении к посту в семье и в обществе. Но послушаем митрополита: «Добро-пост, но, когда нет иных добродетелей, он не имеет силы... Не должно безрассудно устроять себя в скудости пищи и пития и расслабляться, делаться бесчувственным и немощным для подвигов; но должно по силе телесной умерять воздержание, воздерживаться не от пищи, а от объядения, и не от вина, а от пьянства» [53]. Нетрудно заметить, что точка зрения и аргументы матери по сути совпадают с точкой зрения и аргументами митрополита. Но ведь Благодать Святого Духа снизошла не на нее, а на Варфоломея, а где Благодать – там и истина. Как же образованный, умный Аноним допустил столь грубый промах? В том-то и дело, что это не его промах, а «премудрейшего Епифания»; Епифаний, мол, увлекшись восхвалением своего героя, вошел в противоречие с установками священноначалия. Аноним же делает свое дело – продолжает подрывать авторитет Епифания.
В обеих редакциях отроку дается слово для защиты и разъяснения своего поступка.
Пахомий: «Благоразумный же отрок тот отвечал (матери. – А. К.), говоря тихим голосом: "Зачем ты отговариваешь меня от воздержания, я еще не слышал и не видел матери, желающей своему чаду зла, как ты мне («не бо слышах, ни видих матерь своему чаду злобе ходатаице бывающу, яко ты мне»); или ты не слышала слов Божественного Писания: «Ни пища, ни питье не приблизят нас к Богу"» (с. 347).
Немыслимо, противоречит всему, что ранее написано о матери и Варфоломее, но факт: Пахомий (то есть Епифаний!) устами Варфоломея создает образ злобной матери, настолько враждебно относящейся к нему, что он, мол, такой другой не знает. Пахомий положил, взяв грех на душу, густые тени на образ матери, но еще больше на образ будущего святого Сергия: ведь мать не дала ему ни малейшего основания для столь грубой, несправедливой оценки своей сердечной заботы о его здоровье. Оказалось вдруг, совсем нежданно, что у отрока, осененного Благодатью Святого Духа, дерзкий и гордый нрав. Разве благодать и сам автор бессильны? Видимо, Пахомий тут «забыл», что он пишет о будущем Святом и что Благодать дается лишь достойным Ее. Да и в житийной литературе есть множество примеров, доказывающих, как грубые, нехристианские нравы губят само дело, за которое берется безнравственный человек. В этой связи приведем цитату из «Жития Саввы Освященного», из жития, о котором в ученой среде есть мнение, будто оно оказало сильное влияние на епифаниевское «Житие Сергия»: «Не будет пользы в том, что происходит от дерзости и высокомерия» [54]. Это или другие подобные поучения, вероятно, были известны читателям житий и тем более агиографу. Значит, он расчетливо создавал такой образ Варфоломея, который должен был породить неблагоприятное мнение о нем. Подкрепляя свое намерение соблюдать и впредь строгий пост, Варфоломей ссылается на Божественное Писание. Проверив эту ссылку, мы нашли, что процитировано следующее место из первого послания ап. Павла к коринфянам (8:8): «Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем». Цитата приведена Пахомием неточно, но не в этом суть. По смыслу цитаты и всего контекста (надо или не надо есть мясо), в котором она «живет», видно, что поучение не подходит для обоснования строгого поста вообще и отрока в особенности. Мы вообще не нашли в Новом Завете никакого оправдания жестокому посту. И потому возникает вопрос: на что же ориентировался отрок, самовольно решившись держать не в меру и не по возрасту строгий пост? Церковь и Новый Завет это не рекомендовали, сам Иисус Христос не проповедовал и не делал, апостолы поступали так же. Выходит, отрок принял свое решение вполне своевольно, по недопониманию самого назначения поста.
Аноним: «Преподобный же отрок отвечал ей, одновременно умоляя ее: «Не вводи меня, мать моя, во искушение, чтобы мне не пришлось невольно ослушаться тебя, но оставь меня в покое. Не вы ли с отцом говорили мне, что «когда ты еще был в пеленках, в колыбели, тогда ты каждую среду и пятницу не принимал молока». И я это слышал, и разве могу я теперь не устремиться к Богу, чтобы Он избавил меня от грехов?» (с. 301).
Конечно, ответ, сочиненный Анонимом, существенно отличается от пахомиевского – и по тональности, и по аргументации. Его Варфоломей не прибегает к священной санкции Нового Завета, возможно, потому, что Аноним знает: там нельзя найти одобрения жестокого поста. Аноним аппелирует к постническим чудесам младенца Варфоломея, который, оказывается, слышал от родителей о своем предопределенном Свыше раннем избранничестве и понимает чудесные младенческие знамения в духе преобразовательной логики. Создание избранничества наполняет его душу гордостью (не смирением, заметим в скобках) и жаждой продолжить свой сверхранний подвиг пощения, о чем он и напоминает матери. И не просто напоминает, но с интересным добавлением, опираясь на которое, Аноним начинает новую линию конфликта. Варфоломей уравнивает в своем сознании пост с избавлением от грехов вообще: этого он ожидает от Бога как ответного дара за строгое пощение («чтобы Он избавил меня от грехов»). Логика отрока наивна: пост не может очистить душу от всех грехов, и такое очищение – дело самого человека, а не Бога.
Доводы сына не убедили мать, и она приводит новые соображения в свою защиту: «И двенадцати лет нет еще тебе, а о грехах говоришь. Какие же у тебя грехи? Мы не видим грехов твоих, но видели знамение благодати, благую участь избрал ты, и не будет отнята она у тебя» (ПЛДР, с. 287). Постятся, чтобы очистить не только тело, но и душу, и Мария поэтому выдвигает духовное возражение по существу. Конкретное и авторитетное: кому же, как ни ей, лучше знать, есть ли у сына грехи или нет? В ответ Варфоломей, поучая ее, переводит спор на богословский, теоретический уровень: «Перестань, мать моя, что ты говоришь? Это ты говоришь, как мать, любящая свое чадо, как мать, радующаяся за своих детей, одержимая естественною любовию. Но послушай Святое Писание: «Никто да не похвалится из людей, никто ведь не чист перед Богом, даже если он живет на свете всего один день; никто не без греха, один только Бог. Разве ты не слышала, что говорит божественный Давид, я думаю, о нашем убожестве: «Вот я в беззаконии зачат, и в грехах родила меня моя мать» (ПЛДР, с. 287). Действительно, отрок не по годам разумен, и Аноним не без умысла похвалил его за это: «...еже въ младе телесе старъ смыслъ показа» (с. 301). Аллюзия, которой заграждается Варфоломей от критики матери, требует терпения для того, чтобы найти ее смысловые библейские истоки. В Новом завете их нет. В Ветхом завете одно соответствие мы разыскали [55], но не нашли и там изречения «Все люди грешны, один Бог без греха». Наверное, Аноним имеет тут в виду идею первородного греха, якобы неизбывно тяготеющего над всеми людьми. Но даже церковь православная не делает из этой идеи непреложного вывода о целесообразности раннего или сверхраннего детского пощения, а придерживается в общем здравомыслящего взгляда на постничество. Отсылка к стиху из псалма Давида (50:7), в котором говорится о греховности самого акта зачатия детей, лишь в глазах наивного человека может служить освящением младенческого или детского поста. Таким образом, поступок отрока, своевольно приступившего к жестокому посту, не находит священной санкции в Библии, не одобряется церковью, обществом и родителями. Однако Варфоломей решительно настаивает на продолжении постнической аскезы, и мать ...послушно подчиняется ему, хотя ясно сознает опасности и вред, которым подвергает себя строптивый отрок (сс. 304 и 347). Заповедь о почитании и послушании родителей нарушается, выявляются серьезные нравственные изъяны в душе Варфоломея, его понимание Библии оказывается поверхностным, но, несмотря на все это, оба агиографа не только не порицают, но и восхваляют его, а Аноним сверх того осеняет благодатью Святого Духа. Как же все это осмыслить?
Оба агиографа сделали далекоидущие выводы и обобщения из рассказов о посте Варфоломея.
Пахомий: «Достойный тот отрок готовился к большим подвигам, и ум его никогда не уклонялся от цели, как это обычно делают дети в играх и веселых, вызывающих смех забавах. Он день и ночь учился заповедям Господним, никогда не пропускал церковных служб, так что все приходили в удивление, видя его, цветущего юностью, в великом воздержании» (с. 347).
Пахомий создал образ отрока-аскета, отрока-монаха по душе, который сам обособился от сверстников, замкнулся и сосредоточился на подготовке себя к «большим подвигам», связанным, как видно, со служением Богу. Образ жизни отрока охарактеризован кратко и выразительно. В окружающей жизни его интересует только все божественное и своя подготовка к служению Богу. Физическим трудом он не занимается, о своих близких вовсе не думает, родителям ни в чем не помогает, и даже общение с братьями отсутствует в его распорядке дня.
Аноним: «Сей предобрый, достойный отрок, еще некоторое время пребывавший в доме своих родителей, рос и преуспевал в страхе Божием: к детям играющим он не подходил, не присоединялся к ним; бездельников и занятых суетными делами не слушал; со сквернословами и насмешниками не водился. Он был занят славословием Бога и тем наслаждался, прилежно посещал церковь Божию, на заутреню, литургию и вечерню ходил и святые книги часто читал. И во всем всегда изнурял он тело свое, иссушая свою плоть, соблюдая безупречную чистоту душевную и телесную, и часто в тайном месте слезно молился Богу» (с. 302).
Аноним в целом представил образ Варфоломея таким, как и Пахомий. И только в последнем предложении он спокойно соединил несоединимое: 1) образ отрока, живого скелета, не согласуется с утверждением о чистоте телесной, а 2) чистота душевная, тем более безупречная, воспринимается как ироничное преувеличение применительно к отроку, высокомерно поучающему мать и нарушающему заповедь о послушании родителей.
К этому следует добавить, что оба агиографа нарисовали образ отрока с засушенным сердцем, чуждого проблесков любви к ближнему, даже к братьям, не знающего дружбы с кем-либо из сверстников (не все же они сквернословы, смехотворцы и чревоугодники). Относительно чистоты телесной заметим еще для современного читателя, что тут не мыслится гигиена тела, а речь идет о незагрязнении плоти пищей и питьем. При таком осмыслении и крайнем воздержании получается нарушение евангельского понимания тела как вместилища души, которое, прежде всего, должно быть здоровым. Меж тем изнурение, иссушение тела, особенно юного, чревато болезнями, как справедливо было сказано матерью Варфоломея. Но что же может больше загрязнить тело, чем зараза, язвы и микробы? Аноним, похоже, намеренно оставил в своем тексте епифаниевскую фразу (она есть в «Похвальном слове») о безупречной чистоте душевной и телесной, чтобы навести слепого на бревна, натолкнуть читателя на грубое противоречие итоговой похвалы с образом жизни и поведением Варфоломея, и таким образом снова разрушить изнутри достоверность и епифаниевского текста «Жития», и епифаниевского образа Варфоломея.
Варфоломей, конечно, исключительный отрок, и тут мы согласны с агиографами. Но зачем они наделяют его грубым нравом, гордыней? Ведь вследствие сочетания постнических «подвигов» с подобными нравственными изъянами души получается не епифаниевский положительный образ, а образ отрицательный, несовместимый с благодатной святостью. И тут мы решительно не согласны с Пахомием и Анонимом.
Не все осудят двенадцатилетнего отрока за увлечение строгим постом как главным средством духовного самосовершенствования и спасения души. Разумеется, он не проявил благодатного чутья и дал себя увлечь на ложный путь, и это, понятно, не украшает его, но все же может быть понято и оправдано как ошибка неопытного сердца. Однако одобрение этого непростительно «премудрейшему» Епифанию. На такое восприятие и нацелено, прежде всего, хитроумие агиографов. Да, у Варфоломея есть неудержимое устремление к Высшему, есть ценные душевные качества. Но он не может распознать среди них главное, хотя оно тут же называется Анонимом. Это «чистота душевная и телесная» (с. 302), то есть очищение души и тела от скверны с целью достижения гармонии между духом и плотью. Но это главное называется между прочим, как второстепенное, а второстепенное (пост) ставится в центр рассказа и «подается» как главное и даже как завещанное Свыше. Ведь не случайно отрок напоминает матери о постническом младенческом чуде, которое отнюдь не было самым значительным из младенческих чудес, и потому не его прообразовательный смысл разгадывали священник и Ангел. Однако Аноним, как видно, думает иначе. И это снова наводит на мысль, что он, а не Епифаний сочинил постнические младенческие чудеса как предопределение всего пути духовного совершенствования Сергия Радонежского. Вспомним, как был описан в Пространной редакции отказ младенца сосать материнскую грудь по средам и пятницам: «Тогда вси видящи, и познаша, и разумеша, ...яко благодать Божиа бе на нем. Еже проявляше будущаго въздръжаниа образ, яко некогда въ грядущая времена и лета въ постьномъ житии просиати ему; еже и бысть» (с. 293). Предусмотрительным агиографом был Аноним, загодя готовил он постническую аскезу отрока, а затем, как мы покажем, и взрослого Сергия Радонежского, силясь представить ее главным подвигом его жизни.
Сопоставим строго монашеский образ жизни Варфоломея с реальной жизнью его семьи и зададимся вопросом: сколь продолжительным было время жизни Варфоломея в дому родителей своих? Жизнь в Ростовском княжестве, закончилась в 1328 – 1330 гг., когда Варфоломею было 14-16 лет. Если учесть, что сознательная постническая аскеза началась, когда ему еще не было 12 лет, то можно сказать, что она длилась примерно четыре года. Прервалась ли изматывающая аскеза после переезда его семьи в Радонеж? Нет. Тогда откуда же взялась у взрослого Варфоломея сила работать «за двоих» и крепчайшее здоровье, позволившее ему достойно пройти тяжелейшую, полную многообразных трудностей жизнь. Если он, как уверяет Аноним, постоянно был занят славословием Бога, когда научился он делать все: от ремонта одежды и огородных работ до постройки деревянной церкви? Все это приобретается только собственным тяжким трудом. Драгоценное упоминание агиографа о том, что отец послал отрока в поле за жеребятами, послал одного, ясно свидетельствует о раннем приобщении Варфоломея к крестьянской работе и об отсутствии у обедневшего боярина подневольной рабочей силы.
Надуманность аскетического образа жизни Варфоломея в юном возрасте станет для нас яснее, когда мы вспомним о бедственном положении семьи в это время. По разным причинам, о которых мы позднее расскажем, семья боярина Кирилла буквально обнищала, так что дети и родители вынуждены были заниматься разнообразным физическим трудом. Разве можно представить себе юного Варфоломея тщеславным аскетом, занятым лишь собой и не помогающим семье в житейских заботах и делах? Крайне аскетическое поведение, как видно по «Житию» в целом, было несвойственно Сергию Радонежскому. Тем более нет оснований наделять этой сомнительной добродетелью отрока Варфоломея. Если бы он в самом деле иссушал свою плоть, то это в итоге привело бы к неполноценному физическому развитию, что могло бы сорвать его предопределенную Свыше земную миссию.
По спору с матерью мы понимаем, что родители ясно видели реальные опасности, подстерегающие юношу на пути аскезы «выше естества», и что они обладали властью запретить это. Но мы уверены, что до запрета дело не дошло: Варфоломей был от рождения наделен умной головой и мудрым сердцем, характером твердым, но не упрямо-строптивым, не «бараньим», и потому сам мог почувствовать и понять, что семье и ему нужно его здоровье и его труд. Мы полагаем также, что вряд ли кто из тогдашних читателей мог поверить в повиновение родителей воле двенадцатилетнего отрока.
Молитва есть осознание вечности... Не нужно заклинаний, не нужно пыли смирения, не нужно угроз, ибо уносим себя в дальние миры, в хранилища возможностей и знаний.
Живая Этика
Молитва отрока по сути своей и по жанру должна быть предельно искренней. Неслучайно ведь в русском языке живет поговорка «говорить, как перед Богом», то есть совершенно правдиво. К тому же анонимный агиограф намеренно усиливает этот мотив. Молитву, о которой пойдет речь, Варфоломей часто произносил втайне и со слезами. Молитва интересует нас как самораскрытие души юного Варфоломея – в интерпретации составителя Пространной редакции. В редакции Пахомия молитвы нет. Кто же сочинил молитву – Епифаний или Аноним? Молитва длинная, затрагивает несколько важных качеств сознания Варфоломея. Молитва четко скомпонована: 1) первая ее часть – осознание Варфоломеем своего избранничества Богом и просьбы к Нему; 2) сетование на родителей; 3) отчет Богу о том, чему отрок научился, начиная с младенчества и по сю пору; 4) перечисление мечтаний юноши.
Варфоломей знает от родителей, «яко и преже рожениа моего Твоя благодать и Твое избрание и знамение бысть на мне, убозем...» (с. 302). Правда, юноша не вполне уверен в этом («Аще тако есть...» – с. 302), не видит благих последствий своего избранничества, и потому обращается к Богу с настойчивыми просьбами: «...воля Твоа да будет, Господи! Буди, Господи, милость Твоа на мне! Но дай же ми, Господи!» (с. 302). В контексте «Жития» такие просьбы выглядят совершенно неоправданными. Ведь Варфоломей, будучи отроком, получил редкий Божий дар – превосходное разумение всякой грамоте. Читатель ожидает, что юноша поблагодарит Бога за этот дар, но ожидания не оправдываются. И агиограф, и Варфоломей словно забыли о встрече с Ангелом, и Варфоломей настоятельно просит, а, вернее сказать, требует от Господа проявления Его милости. Забыл ли юноша о великом даре (милости) Бога, посчитал ли эту милость недостаточной – любая мотивировка не снимает с него упрека в неблагодарности... Тут-то и возникает первое сомнение в том, что текст молитвы написан Епифанием. Дальше – больше, сомнение крепнет, когда мы читаем экзальтированные уверения отрока в верности Ему: «Измлада всем сердцемъ и всею душею моею, яко от утробы матере моеа къ Тебе привръженъ есмь, из ложеснъ, от съсцу матере моеа – Бог мой еси Ты» (с. 302). Такая вот, явно недетская, лексика! И такая неуместная экспрессия! Разве кто сомневается в единобожии отрока? Далее Варфоломей обращается к Богу с совершенно несправедливой жалобой на своих родителей: «...и ныне не остави мене, Господи, яко отець мой и мати моа оставляют мя. Ты же, Господи, прими мя, и присвой мя к Себе, и причти мя къ избранному Ти стаду: яко Тебе оставленъ есмь нищий» (с. 301) Оставленный родителями нищий – это и есть фальшивая «пыль смирения», затемняющая, искажающая и образы родителей, и образ Варфоломея. Совершенно исключено, чтобы Епифаний мог вложить такие слова и оценки в уста юноши, будущего Святого, высочайше почитаемого Епифанием. Тут во всей неприглядности выявилась злонамеренность Анонима: по его воле Варфоломей унизил себя сам, приоткрыв потаенные уголки своей души. Конечно, Аноним тут же, прикрывая свою критику, принимается лицемерно хвалить Варфоломея за то, что он очистил свою душу «от всякыя нечистоты и от всякыя скверны плотскиа и душевныа» (с. 303), и за то, что он полон самых лучших намерений: «Сердце мое да възвыситься к Тебе, Господи, и вся сладкая мира сего да не усладят мене, и вся краснаа житейская да не прикоснутся мне. Но да прилпе душа моа въслед Тебе, мене же прииметь десница Твоя. И ничто же да не усладит ми мирьскых красот на слабость, и не буди ми нимала же порадоватися радостию мира сего. Но исплъни мя, Господи, радости духовныа, радости неизреченныа, сладости божественыа, и духъ Твой благый наставит мя на землю праву» (с. 303). Все эти аскетические мечтания и заклинания не согласуются с епифаниевским образом Сергия, чуждого абсолютизации аскезы; напротив, Епифаний в «Похвальном слове» особо отмечает постоянный радостный настрой души Сергия и находит для этого выразительное слово «радостотворец». Конечно, радость не веселие в обычном понимании, но и не унылость аскета, радость нужна всем людям, как и правда. Сергий умел радоваться и красоте природы, и красоте жизни так, что каждый «смотревший на лицо его, радовался» (с. 277). Разумеется, Сергий при этом отвергал радости злые, порочные, вредоносные: ему было присуще чувство меры, гармонии. Но об этом молчит Аноним – и тем снова искажается епифаниевский образ Преподобного. И, наконец, нельзя не обратить внимания на то, что юноша осознает свое избранничество лишь как исключительное право на получение милостей (без ограничения) от Бога – при полном забвении своих обязанностей, своего долга перед людьми, и даже перед родителями, о которых он не сказал ни одного доброго слова. Все, что просит, все, чего желает молящийся, предназначено лишь для него самого. В молитве нет и проблеска мысли об Общем Благе, нет и намека на любовь к ближнему. Все только «Господи! Дай мне, дай». Невольно вспоминаются слова Христа: «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! – и не делаете того, что Я говорю» [56].
В эгоистическом самосознании молящегося слышны отголоски яростных споров стяжателей (иосифлян) и нестяжателей (заволжских старцев), шумевших на Руси как раз в то время, когда создавалась Пространная редакция «Жития Сергия». Молитва ярко показывает, что начало церковно-монастырского стяжания – в таком сознании монашествующих, которое ориентировано на вознаграждение Свыше не за общеполезный труд, а за славословия Бога. Эгоистичное отношение к Богу можно назвать духовным паразитизмом, который неизбежно ведет к соответствующему образу жизни и деградации человека. «Главное различие между истинной верой и ложной то, что при ложной вере человек хочет, чтобы за его жертвы и молитвы Бог угождал человеку. При истинной же вере человек хочет одного: научиться угождать Богу» [57]. И ложная вера приписывается будущему святому Сергию! Молитва прочувствованно передает умонастроение Анонима, сторонника стяжательной политики церкви, но не Варфоломея, искренне устремленного к Богу. Об инкрустации молитвы в текст Епифания убедительно говорит также ее искусственное место в сюжете. После окончания молитвы получают слово «старци и прочий «люди», которые «...видевши таковое пребывание уноши, дивляхуся, глаголющи: «Что убо будет уноша съй, иже селику дару добродетели сподобилъ его Богь от детства?» (с. 303). «Старци и прочий люди» подытоживают «пребывание уноши», то есть его повседневную жизнь, но агиограф поместил их рассуждение сразу же после молитвы, и потому получилось так, будто они говорят о молитве. Но агиограф «забыл», что о молитве они ничего не могли знать, так как юноша произносил ее не вслух и не при людях, а «...на месте тайне, наедине» (с. 302). Просчет Анонима? Или, может, наведение слепых на бревна? Если мы изымем молитву и несколько слов, вводящих ее в текст, то не обнаружим ни малейшей нестыковки: «И въ всем всегда труждааше тело свое, и искушаа плоть свою, и чистоту душевную и телесную без скверны съблюдаше... (тут вставлена молитва). Старци же и прочий люди, видевши таковое пребывание (жизнь, а не молитву. – А. К.) уноши, дивляхуся...» Без молитвы-вставки повествование ведется стройно, логически и грамматически последовательно.
Молитва – окно во внутренний мир человека, но ученые – позитивисты не желают заглянуть в это окно: душа человека их не интересует, да и само ее существование они ставят под сомнение. В этом мы видим причину того, что, изучая «Житие Сергия», они, однако, не замечают полной несовместимости молитвы Варфоломея с образом Св. Сергия, а потому с легким сердцем считают молитву епифаниевским творением.
Молитва подводит итог первым двум семилетиям душевного развития Вафоломея. Если б он в самом деле был таким, как показано в молитве – неблагодарным, несправедливым, самонадеянным, эгоистичным, гордым своей близостью к Богу – не было бы Сергия Радонежского, жизнь которого немыслима без служения Общему Благу – народу, Родине, человечеству. В юноше Варфоломее, несомненно, было то главное, что во взрослом Сергии: в мир пришел не эгоистичный потребитель духовных и прочих благ, а их творец для ближнего и для себя.
Конечно, тот образ души Варфоломея, который показан в молитве, есть создание не Епифания, а Анонима, прикровенная цель которого (теперь это стало очевидным) состоит в постепенном разрушении епифаниевского образа святого Сергия. Молитва дает неоспоримое основание именно так определить замысел анонимного агиографа.
Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа... Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших.
Апостол Павел
Самое значительное событие второго семилетия жизни Варфоломея – его встреча с Вестником. И дело, как мы говорили, вовсе не в даровании отроку умения постигать любую книжную премудрость. Для этого ему вполне хватало прирожденных талантов. Несомненно, что в освоении Писания и других книжных знаний Варфоломей далеко превосходил и своих братьев, и сверстников. И это запомнилось всем, что (наряду с фактом встречи и с житийной традицией) и послужило почвой для творческой фантазии агиографа, сочинившего рассказ о пребывании Ангела в ростовском селении. Отныне Варфоломей знал, какой путь ему предопределен и что ему следует делать в ближайшие годы. Такое самосознание – при всей сокровенности беседы Старца с Варфоломеем – не могло не проявиться в жизни Варфоломея и не отразиться так или иначе в тексте «Жития».
Об одном из проявлений, о споре матери с Варфоломеем, мы рассказали выше. Нельзя исключить того, что поначалу отрок с излишней горячностью взялся за подготовку к подвигу, и матери пришлось выпрямлять крен, отвращая сына от пагубной аскезы «выше естества». Вместе с тем видно, что Варфоломей твердо держался предначертанного пути и сообразно цели выстраивал свой образ жизни, чем весьма отличался от братьев и сверстников: «Никто из братьев твоих и из сверстников твоих не прибегает к такому воздержанию, как ты. А есть и такие, кто едят семь раз на дню, кто начинают с раннего утра и заканчивают поздней ночью, и пьют без меры» (с. 301). Тут, мы полагаем, нет преувеличения: боярские сынки вполне могли семь раз на дню есть и пить столько, сколько душенька пожелает. Среда, в которой рос Варфоломей, охарактеризована кратко и сильно. Естественно, что на общем фоне его поведение не могло не вызывать удивления у людей. Конечно, для отрока идти наперекор окружающей жизни – немалое испытание воли и характера. И хотя, как говорит Епифаний в «Похвальном слове», выделяться Преподобный не любил, но все же ему приходилось во многом быть не таким, как все: в противном случае неизбежно страдало главное – духовная и физическая подготовка к подвигу. Подвиг, собственно, уже начался, но только об этом никто не догадывался.
Есть два небольших рассказа об образе жизни Варфоломея: один относится к завершению ростовского периода его жизни (приблизительно к 1326 – 1329 гг.), второй – к начальным годам в Радонеже (1330 – 1334 гг.). Рассказы дают ясное представление о динамике духовного и телесного развития Варфоломея. Оба рассказа мы будем рассматривать по тексту Пространной редакции, ибо у Пахомия они отсутствуют. Следовательно, вопрос об атрибуции текста упрощается: надо выбирать только между Епифанием и анонимным агиографом. Нашим основным критерием будет по-прежнему соответствие или несоответствие образа Варфоломея образу Сергия в «Похвальном слове» и в Живой Этике. Второй критерий – наставление Епифания об объяснении чудес – здесь не может пригодиться, потому что в рассказах нет «дивных вещей».
Первый рассказ находится между окончанием спора Варфоломея с матерью и началом его молитвы. Агиограф-аноним решал тут композиционные задачи: показом поведения Варфоломея подтвердить его позицию в споре и подготовить читателя к восприятию молитвы. Спор был закончен Варфоломеем цитатой из пророка Давида: «Се бо въ безаконии зачат есмь, и въ гресех роди мя мати моя» (с. 302). И дальше в Пространной редакции идет фрагмент об образе жизни Варфоломея: «И ть рекъ, пакы по пръвое дръжашеся доброе устроение, Богу помогающу ему на благое произволение. Сий предобрый и вседоблий отрок не по колицех временех пребываше в дому родителей своих, възрастая и преуспевая въ страх Божий: къ детем играющим не исхожаше и к ним не приставаше; иже в пустошь текущим и всуе тружающимся не вънимаше; иже суть сквернословии и смехотворци, с теми отнудь не водворяшеся. Но разве токмо упражняашеся на славословие Божие и в том наслажашеся, къ церкви Божий прилежно пристояше, на заутренюю, и на литургию, и на вечерню исхождааше и святыя книгы часто почитающе. И въ всемь всегда труждааше тело свое, и иссушая плоть свою, и чистоту душевную и телесную без скверьны съблюдаше» (с. 302). В приведенной характеристике отрока многое традиционно: и увлечения (усердное моление в церкви, чтение святых книг), и воздержания (от детских игр, от бесполезных занятий, от сквернословия и смехачества) и «презирание» своего тела. Индивидуальность Варфоломея проявлена лишь в одной особенности: в безукоризненном соблюдении чистоты душевной и телесной. Но как ее понимал тогда агиограф? Из рассказа о Вестнике мы знаем, что отрок занимался физическим трудом, а со слов матери и самого Варфоломея знаем о его усиленном воздержании в еде и питье. Для физической работы нужна сила, но ее нельзя получить иссушением плоти. Наверное, суровое воздержание продолжалось недолго. Решительное вмешательство матери должно было прервать пощение «выше естества», и оно не смогло подорвать крепкий организм Варфоломея. Строчку об иссушении плоти и изнурении тела мы считаем вставкой Анонима. Хотя она искусно инкрустирована в текст, все же ее противоречие характеру Сергия и ее особое назначение ясны. Кто из молодых людей, желающих стать монахами, изберет путь Преподобного, якобы требующий жестокой аскезы уже в отроческом возрасте? Они охотнее, конечно, пойдут путем более легким и приятным. К этому и склоняет их умело и тонко Аноним.
Второй рассказ об образе жизни Варфоломея, метафорически говоря, написан двумя разными почерками, которые то перемежаются, то прослаиваются в причудливых видоизменениях. Настоящий литературный палимпсест, в котором непросто отграничить письмена одного агиографа от другого, позднейшие инкрустации от оригинала. Второй рассказ длиннее первого более, чем вдвое, и интереснее как по форме, так и по содержанию: «Отрок же предобрый, предобраго родителя сын, о нем же беседа въспоминается, иже присно въспоминаемый подвижник, иже от родителей доброродных и благоверных произыде, добра бо корене добрая отрасль прорасте, добру кореню пръвообразуемую печать всячьскыи изъобразуа. Из младых бо ногтей яко же сад благородный показася и яко плод благоплодный процвете, бысть отроча добролепно и благопотребно. По времени же възраста к лучшимъ паче преуспевающу ему, ему же житийскыя красоты ни въ что же вменившу и всяко суетство мирьское яко исметие поправъшу, яко же рещи и то самое естество презрети, и преобидети, и преодолети, еже и Давидова в себе словеса начасте пошептавъшу: «Каа плъза въ крови моей, вънегда снити ми въ нетление?» Нощию же и денью не престааше моляще Бога, еже подвижным начатком Ходатай есть спасениа. Прочяя же добродетели его како имам поведати: тихость, кротость, слова млъчание, смирение, безгневие, простота без пестроты? Любовь равну имея къ всем человеком, никогда же къ ярости себе, ни на претыкание, ни на обиду, ни на слабость, ни на смех; но аще и усклабитися хотяще ему, – нужа бо и сему быти приключается, – но и то с целомудрием зело и съ въздръжанием. Повсегда же сетуя хождааше, акы дряхловати съобразуяся; боле же паче плачюще бяше, начасте слъзы от очию по ланитама точящи, плачевное и печальное жительство сим знаменающи. И Псалтырь въ устех никогда же оскудеваше, въздръжанием присно красующися, дручению телесному выну радовашеся, худость ризную съ усердиемь приемлющи. Пива же и меду никогда не вкушающи, ни къ устом приносящи или обнюхающи. Постническое же житие от сего произволяющи, таковая же вся не доволна еже къ естеству вменяющи» (с. 305). Приуподобление Варфоломея библейскому Давиду имеет ключевое значение, и потому оно поставлено в центр рассказа. Агиограф соотносит две ситуации: радонежскую, когда после переселения из Ростовского княжества семье Кирилла и Марии пришлось заново обзаводиться домом, землей, хозяйством, и ситуацию из песни Давида «при обновлении дома» [58], в которой речь также ведется о его неожиданном бедственном положении, «на краю могилы». Из приуподобления следует, что и переселенческие бедствия являются результатом Божьего гнева, и потому Варфоломей «день и ночь» проводит в молитвах к Богу. Однако есть и весьма существенное различие между уподобляемыми образами Давида и Варфоломея. Оно создано этнографом, который снова привел из Библии неполную цитату и тем самым дал иное осмысление плачу Давида и плачу Варфоломея. В псалме Давид молит Бога о прекращении бедствий, возрождении сил и предотвращении смерти: «Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи! Будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и препоясал меня веселием, да славит Тебя душа моя и да не умолкает» [59.1]. Несомненно, что Давид хочет укрепиться душой и телом, что он не видит смысла в нетлении плоти. Но агиограф придает иное значение словам Давида и делает это двумя способами. Он обрывает цитату, и от этого ее значение становится неопределенным. Затем агиограф перед цитатой дает ее истолкование, которое полностью расходится со смыслом псалма Давида, с образом его души, а, значит, и уподобляемой ему души Варфоломея: «...яко же рещи и то самое естество презрети, и преобидети, и преодолети» (с. 305). Ни Давиду, ни Варфоломею (Сергию) не было присуще истязательное испытание своего тела. Епифаний именно таким и представляет образ Сергия. Но Аноним упрямо внедряет в сознание читателя мысль о раннем устремлении Варфоломея (Сергия) к посту «выше естества» и к «иссушению плоти». Если, учитывая указанное различие во взглядах Епифания и анонимного редактора, внимательно разобрать текст второго рассказа, то можно определить в нем то, что вписано Анонимом: «...доброму кореню пръвообразуемую печать всячьскыи изъобразуа», «...яко же рещи и то самое...» и до слов «Нощию же...», «Повсегда же сетуа хождааше, акы дряхловати съобразуяся: боле же паче плачющи бяше, начасте слъзы от очию по ланитам точащи, плачевное и печальное жительство сим знаменающи», «...дручению телесному выну радовашеся, худость ризную съ усердиемь приемлющи». Таким образом анонимный агиограф стремится создать образ безвольного, слабого духом Варфоломея, не владеющего своими чувствами, постоянно пребывающего в печально-угнетенном состоянии. В начале рассказа Варфоломей впервые называется подвижником, и в соответствии с этим Епифаний создает образ юноши Варфоломея, сравниваемого с цветущим прекрасным плодом, с юношей в расцвете сил и красоты, мужественно преодолевающим запреты плоти. И вдруг... слезы и плач, поникший подвижник. Нет и намека на такую слабость характера ни в «Похвальном слове», ни в Живой Этике. Бодрое настроение при любых испытаниях – вот что типично для Варфоломея – Сергия! Такой его образ соответствует образу Давида, который начиная с 9-го стиха, энергично убеждает Бога не разрушать такой полезный сосуд, как Давид, сменить гнев на милость. Если бы агиограф продлил цитату, то мужественное поведение Давида (а, значит, и Варфоломея) стало бы очевидным. Но именно в этом месте Аноним и «подправил» Библию и Епифания, руководствуясь мыслью снять ореол вокруг головы Варфоломея (Сергия), приписав ему немало привычных человеческих слабостей и недостатков.
Рассказ построен так: текст Епифания – и соответствующий Св. Сергию образ Варфоломея, затем текст Анонима – расслоение, снижение образа, снова текст Епифания (о равной любви ко всем и о добродетелях) и затем опять правка Анонима. Настоящий слоеный пирог! С тем отличием от натурального, что редакторские прослойки идут не строго по порядку, а переплетаются, обрываются, создавая порой причудливый рисунок. Аноним твердит, будто Варфоломей непрерывно проговаривал печальный стих из Псалтыри, а Епифаний тут же утверждает, что юноша свои беды, даже телесные страдания (дручение – мучение, страдание) переносил с радостью, и, значит, вселял в других дух бодрости, а не уныния. Оказывается, и в юном возрасте умел Варфоломей находить в себе силы, чтобы быть радостотворцем. Но затем Аноним снова упорно навязывает свое понимание, свой образ Варфоломея: «Он всегда ходил сокрушенный, словно готовился скорбеть» и т. д. Здесь Варфоломей не молодой, духовный воин, готовящийся к великому подвигу, и, подобно Давиду, неколебимо верящий в помощь Бога, а увядший неудачник, с дряблой душой и непреходящим выражение скорби на лице. Вот так пользовался Аноним своим редакторским правом.
Рассмотрим еще два примера правки оригинала, на наш взгляд, весьма изощренной. Первое предложение рассказа, весьма положительно, по-епифаниевски характеризующее юного подвижника Варфоломея, заканчивается усложненной, не очень ясной фразой: «добра бо корене добрая отрасль прорасте, добру кореню пръвообразуемую печять всячьскыи изъобразуя» (перевод в ПЛДР: «вырос как от доброго корня добрая ветвь, воплотив в себе всяческие достоинства доброго корня этого», с. 291). Перевод, на наш взгляд, не вполне точен, но отметим, что очень и очень затруднен самим автором. Что такое «пръвообразуемая печять»? Обратим внимание на смысловую близость двух выражений: «добра бо корене добрая отрасль прорасте» и ранее высказанного истолкования отказа младенца Варфоломея питаться молоком кормилицы – «...дабы добра корене добраа леторасль нескверным млеком въспитанъ бывъ» (с. 294). Ранее агиограф оспорил это суждение как излишне заземленное, не учитывающее первопричинное духовное начало: «Нам же мнится сице быта: яко сий младенець измлада бысть Господеви рачитель, иже в самой утробе и от утробы материя къ богоразумию прилепися, ...иже по естеству младенець сый, но выше естества гость начинаше» (с. 294) и т. д. Понятно, что «естество» – это «добрый корень», то есть «доброродный и благоверный родителие». А что же выше «естества»? Конечно, Бог, который еще во чреве матери Варфоломея наложил на его естество свою «...пръвообразуемую печять». И знамение это, по мысли агиографа – Анонима, состоит именно в воздержании «выше естества», в том, чтобы его «презрети, и преобидети, и преодолети», и подвергнуть «дручению телесному», то есть в устремлении Варфоломея (Сергия) к изнурительному аскетизму. Таким образом, анонимный агиограф, дописав к предложению Епифания всего несколько слов, с самого начала суживает, резко ограничивает подвиг Варфоломея, сводя его к умерщвлению плоти, «иссушению и истончению» тела. Именно такое содержание подвижничества юноши Варфоломея и закрепляется во втором рассказе о его образе жизни. Одновременно агиограф подготавливает сознание читателя к восприятию новых рассказов об аскетизме преп. Сергия.
В этом отношении интересно еще одно вкрапление в епифаниевский текст, состоящее из четырех слов: «...худость ризную съ усердием приемлющи» (с. 305). Конечно, для боярского сына, молодого и красивого, ношение бедняцкой одежды – немалое испытание. Но не только ради этого сделано добавление к епифаниевскому протографу. Аноним заранее, предусмотрительно разрыхляет почву, чтобы читатель с одобрением принял будущий весьма важный рассказ о нищенской одежде игумена Сергия.
Общее направление всех исправлений, внесенных Анонимом в епифаниевский текст – создать образ Сергия, в характере которого совмещаются противоречивые свойства, образ неуравновешенного, негармоничного человека, страдающего от многих недостатков, типичных для обычных людей. К этой же цели направлены и все вставки о телесных «подвигах» выше естества. Однако «заповеданы гармония и равновесие, но не может пользоваться ими человек изнуренный» [59.2].

6. СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ ПЕРЕКРЕСТОК СУДЬБЫ
Считайте сердце главным судьей и веру – мощью.
Живая Этика
6.1. Кармическая кара и ее искупление
Кирилл, некогда бывший славным и богатым боярином, «к старости обнищал, впал в бедность. Скажем, как и почему он обнищал: из-за частых хождений с князем в Орду (туда надо было везти богатые дары. – А. К.), из-за частых татарских набегов на Русь (с 8 и до 15-летнего возраста Варфоломея было два таких набега на Ростовское княжество. – А. К.), из-за частых посольств татарских (этих надо было полностью содержать, а в посольстве бывало по несколько сот человек. – А. К.), из-за многообразных налогов тяжких и поборов ордынских, из-за частого недостатка в хлебе (от неурожаев. – А. К.)» (с. 303). Казалось бы, достаточно названо убедительных причин разорения семьи Кирилла. Ан нет, не названы еще главные: «Но всех этих бедствий хуже было великое нашествие татарское, получившее наименование «рати Федорчука Туралыкова» (1327 г. – А. К.). Год спустя начались гонения от великого князя Ивана Даниловича, который через несколько лет присоединил к Москве Ростовское княжество. «О горе, горе городу Ростову, особенно же его князьям, у которых было отнято все – и власть, и княжение, и имущество, и честь, и слава, и все прочее. Все досталось Москве» (с. 303). Но не только князья, а и «все живущие в Ростове» сильно пострадали, и «немало ростовцев было принуждено отдать свое имущество москвичам» (там же). Ростовские князья и бояре держали сторону Твери, главной соперницы Москвы, и тем самым противодействовали объединению Руси и искуплению ее кармической вины за междоусобицы, а значит, и общему освобождению от татаро-монгольского ига. Ростовские князья и ближние бояре были виновны более простых людей, а потому и кармическое наказание правителей должно было быть – по справедливости – наибольшим. Карающей рукой судьбы являлись московские власти, последовательно стремившиеся к объединению Руси. Их гнев обрушился на ростовских бояр. Для устрашения строптивых ростовский тысяцкий (военачальник) Аверкий был повешен на площади г. Ростова вверх ногами, да «так и оставлен на поругание» (с. 304). «И напал страх великий на всех видевших это и слышавших об этом, не только в городе Ростове, но и во всем княжестве Ростовском» (там же). «Страх великий» от междоусобицы русских князей, помноженный на страх от татар – эти простые слова верно передают состояние угнетенности сознания не только ростовчан, но и всего населения Руси. Жестокое время, жестокие власти, жестоко страдающий русский народ! Под двойным игом, внешним и внутренним, ослабела и вера в Бога, в Спасителя. Поражение Руси от Батыя по древней традиции воспринималось в народе как поражение ее христианского Бога. В приходской церкви, в соборе Варфоломей постоянно слышал здравицы в честь монгольского хана и его семьи, которые провозглашал священник – это была вынужденная плата православной церкви за монгольские ярлыки, освобождавшие ее от налогов и других форм угнетения. Бич Божий не стал бичом для церковной верхушки. Таким образом православная церковь была поставлена на службу монгольским ханам. Вера в Бога и надежда на Его помощь Руси постепенно угасали, а с ними угасала и любовь к ближнему, ожесточались сердца людей. Духовное угнетение венчало все формы ига. Вот почему, мы полагаем, пришло время родиться на Руси человеку, который совершил бы высокий радостный подвиг возрождения веры в Бога-Спасителя. Такова, думается, самая глубокая причина, побудившего Великого Учителя принять решение о своем воплощении в семье ростовских бояр, Кирилла и Марии, в их среднем сыне. Церковь явно неудовлетворительно выполняла свой главный долг – укреплять веру народа в Спасителя.
Переселение боярина Кирилла с семьей из Ростовского княжества в Радонеж было вынужденным. Но это не означает, что у семьи Кирилла не было выбора. Есть сведения о переселении ростовчан в Москву, в Великий Новгород и в Тверское княжество. О побудительных мотивах переселения именно в Радонеж в «Житии» сказано вполне определенно: «...и льготы многим людям дал» владелец Радонежа, князь Андрей, младший сын Ивана Калиты, «и ослабление большое тоже обещал сделать» (с. 304). К этому можно добавить географическую и климатическую близость Радонежа к Ростову – сравнительно с другими вариантами. В Радонеже семья Кирилла «поселилась близ церкви... Рождества Христова» (с. 304). И это все, что сказано в «Житии» о новом местожительстве. Ни социальные условия жизни, ни материальные заботы, ни труд семьи агиограф не освещает: это низкие, житейские, а не житийные вопросы. Его творческий простор замкнут здесь деспотическим каноном. Летописцы были свободнее, не говоря уж об авторах светских.
«...Нужда и злоба» (с. 302) Москвы допекли ростовских бояр, и они разбежались кто куда. Льготы князя Андрея помогли, конечно, переселенцам встать на ноги, но не вернули им прежнего социального статуса и прежних благ. Целину им приходилось поднимать своими руками. Бывшие знатные люди были низведены почти до положения крестьян.
Библейские образы, и только они, помогают понять, что беды, обрушившиеся на семью Кирилла, были катастрофически тяжкими и воспринимались как наказание Божье. Если мы сообразуем с этим многолетнюю длительность несчастий и преследование боярина за поддержку ростовского князя, то мы полнее осознаем напряжение повседневных испытаний переселенцев. Становится понятным, почему преждевременно состарились родители Варфоломея (им было, вероятно, лет 45-50 ко времени «бегства»), почему их одолели болезни и почему, наконец, они загодя приняли монашеский постриг. Тщета, бренность богатства и самого существования человека, на собственной судьбе прочувствованные ими, стали, похоже, определять их душевный настрой. Учебник жизни был сборником драм и трагедий. Самой запутанной, исполненной злобы и коварства, была трагедия борьбы за власть и собственность между русскими князьями и боярами. Именно она превращала страх людей перед силой монгол в страх за будущее, в дряблое сознание безнадежности.
Испытание продолжительно и неожиданно... Не отвергайте испытания, ибо решение жизненного подвига должно быть испытано огнем стали.
Живая Этика
Ко времени переселения в Радонеж, Варфоломей, надо думать, приобрел хорошие познания в Священном Писании и, вероятно, в русской истории, а также ценный жизненный опыт. На примере семьи он близко видел и сознавал, что такое тяжкий физический труд, монголо-татарское иго, междоусобицы русских князей. В его впечатлительной, но бесстрашной душе отложился ранний горький опыт панического ужаса перед жестокой силой чужеземных господ.
Именно такое испытание, о котором говорится в эпиграфе, выпало на долю Варфоломея еще тогда, когда он жил вместе с родителями. Оно было порождено его желанием стать монахом, когда Варфоломею, по нашим подсчетам было уже лет 25. Родители воспротивились, поставив сына перед выбором: либо вопреки их воле уйти в монастырь, либо согласиться с ними и отложить исполнение своего желания на неопределенное время: «Чадо! Подожди немного и позаботься о нас: ныне мы ведь стары стали и бедны, и больны, и некому ухаживать за нами: вот братья твои, Стефан и Петр, женились и пекутся о том, как угодить женам. Ты же, неженатый, печешься о том, как угодить Богу – благую участь ты избрал, и не отнимется это от тебя. Только послужи нам немного, и когда нас, родителей твоих, проводишь до могилы, тогда и желание свое исполнишь...» (с. 305). Удивительно реалистически изобразил агиограф конфликтную ситуацию, и так просто, без всякого «плетения словес».
Подобные конфликты нередко встречаются в житиях святых и разрешаются так, что будущие святые (напр., Феодосий Печерский) вопреки воле родителей покидают дом и уходят в монастырь. Такой образ действий давным давно, еще в древне-иноческие времена, получил «теоретическое» обоснование, опирающееся на Библию. Чаще других цитируются следующие высказывания Христа: 1) «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более меня, не достоин Меня» [60]. 2) «И всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» [61].
На этих изречениях, понятых буквально, стоит все мироотречение монаха, сам институт монашества. Древние иноческие уставы, включая и устав Вас. Великого, почитаемого преп. Сергием, защищают полный разрыв монаха с мирской жизнью, с ее законами и нормами: «Посему отречение от мира, как видно из сказанного, есть разрешение уз этой вещественной и временной жизни, свобода от человеческих обязательств...» [62]. Любые конфликты прямо затрагивали самый важный религиозный и в то же время очень острый социальный вопрос о совмещении любви к Богу с любовью к ближнему. Можно привести множество цитат, и суть их будет одинакова: что хорошо для мирянина, то плохо для монаха. Если по-человечески считается безнравственным оставить отца, мать, сына, дочь, то по-монашески такое поведение превозносится как добродетель. Стефан после смерти жены оставил двух малолетних сыновей на попечение ее родителей, и агиограф, следуя монашеским моральным нормам, ни словом не осуждает эгоистический поступок Стефана – особенно если мы примем во внимание, что он ушел в особножитный монастырь, где жил без забот и хлопот.
Варфоломей, нарушив освященную традицией заповедь монашеского жития, поступил не по-монашески, а по-человечески, т. е. справедливо по отношению к родителям: он «с радостию обещался им служить до их кончины, и с этого дня старался постоянно угождать родителям, чтобы получить от них молитву и благословение» (с. 305). Агиографы были в трудном положении: одобрить поведение Варфоломея означало нарушить освященную традицию и отдать предпочтение любви к родителям перед любовью к Христу. Пахомий и анонимный агиограф и тут нашли хитроумный выход из противоречия. Раз Святого можно только хвалить, то они и хвалят, но как хвалят – в это надо вникнуть. В Первой пахомиевской и в Пространной редакциях предложены решения, сходные в главном, но различные в некоторых существенных мотивировках поведения Варфоломея.
Пахомий, сам монах, осторожно, полунамеками, высказывает свое отношение к родительскому запрету и к согласию с ним Варфоломея. Для него мирская жизнь, «угождение» женам, детям и даже старым родителям есть жизнь низшая, чем монашеская, при которой соблюдается «душевная чистота» (с. 347). Пахомий хвалит Варфоломея за обещание «послужить» родителям, но тут же снижает христианское наполнение этого служения, указывая на сугубо практическую, личную причину сыновнего обета: «С этого дня он старался во всем угодить родителям, чтобы заслужить их благословение» (сс. 347-348). Выходит, до «этого дня» не старался? Но теперь мгновенно перестроился, опасаясь лишиться благословения родителей. И не сказано ни слова о любви к ним и о любви к ближнему! На самом деле побуждения Варфоломея были иными, глубоко христианскими, что мы позднее постараемся показать.
Анонимный агиограф уделяет конфликтной ситуации гораздо большее внимание, чем Пахомий. Варфоломей не женился, потому что «...очень хотел стать монахом. Об этом он много раз умолял отца своего, Говоря: «Теперь разреши мне, владыка, с твоего согласия и благословения пойдти в монахи» (с. 305). Но ни согласия, ни благословения родителей он не получал. Варфоломей называет отца «владыкой» – словом, принятым для обращения к Богу и высоким священноначальникам. Тем самым агиограф ненавязчиво заостряет вопрос об уходе Варфоломея в монахи: кто же для Варфоломея истинный владыка, которому он собирается служить, отец или Бог? Старые, бедные, больные родители в своем ответе сыну именно так принципиально и вместе с тем по-житейски просто решают конфликтную ситуацию: «Чадо! ...Вот братья твои... стараются угодить женам; ты же, неженатый, старайся угодить Богу... Только послужи нам немного, и когда ты проводишь нас, твоих родителей, до могилы, тогда и свою мысль исполнишь» (с. 305). Как видно, родители прямо связывают «угождение» им с «угождением» Богу и не видят тут противоречия. Однако агиограф не раскрывает конкретного содержания этой связи, единство заветов о любви к Богу и ближнему. Слово «любовь», наиболее значимое и характерное для Учения Христа, вообще не упоминается тут агиографом, не употребляется для характеристики отношения Варфоломея к Богу и родителям. Оно заменено словом «угождение», далеко не равноценным по смыслу слову «любовь». Нет этого главного слова и в ответе Варфоломея: «Юноша же удивительный с радостью согласился послужить им до окончания их жизни и с того дня старался всегда и всячески угодить родителям своим, чтобы они молились за него и дали ему благословение» (с. 305) Неужели ни Пахомий, ни Аноним не знали, что именно со слова «любовь», а не со слова «угождение» начинаются две основные заповеди христианского Учения? Вот Епифаний в «Похвальном слове» употребляет именно слово «любовь», а не «угождение» для характеристики отношения Сергия Радонежского к людям. Знали, конечно, значение «любви» в Учении Христа и Пахомий, и Аноним, и потому можно утверждать, что они намеренно заменили его словом «угождение». Вовсе не случайно Аноним далее снова подчеркивает, что Варфоломей, «служа и угождая... всею душою и чистою совестью», получил в итоге благословение родителей: «...а сына своего, блаженного юношу Варфоломея, они постоянно, до последнего издыхания множество раз благословляли» (с. 306). Неужели Варфоломей (тут текст Анонима почти совпадает с текстом Пахомия) лишь «с этого дня стал постоянно угождать родителям»? Но, главное, неужели он стал угождать им лишь с эгоистичной целью – «чтобы получить от них... благословение» на уход в монастырь? Нет и нет. Анонимный агиограф и Пахомий намеренно говорят не о любви Варфоломея к родителям, а лишь о его «угождении» им. Так искренняя любовь подменяется искренней, но эгоистичной угодливостью. И сохранившиеся в «Житии», несомненно, епифаниевские слова о том, что юноша служил «...родителям своим всею душою и чистой совестью» (с. 305) становятся тут не выражением чистосердечной сыновней любви, а прикрытием эгоистичных устремлений волевого, твердо преследующего свою цель Варфоломея. Поэтому агиограф, сознающий свою подмену любви угождением, молчит и о любви к ближним, и о ее неразрывной связи с любовью к Богу. Можно утверждать, что епифаниевский текст был иным по мысли, ибо в «Похвальном слове» Епифаний неоднократно и выразительно говорит о единстве любви – служения Богу и любви – служения ближнему, которые вместе и составляют суть праведного, «совершенного» (с. 276) пути святого Сергия.
Что же касается Учения Христа, то молодой Варфоломей, надо полагать, знал и верно понимал его, а потому и не видел никакого противоречия между своим отношением к родителям и вышеприведенными изречениями Христа о любви учеников к Нему и сродникам. Христос дает ученикам не одну, а несколько заповедей, и осмысливать их следует в совокупности, как единое целое. Он говорит им еще: «Почитай отца твоего и матерь твою». Варфоломей, несомненно, знал заповедь о почитании отца и матери, как и другую, основополагающую заповедь Его Учения: «...люби ближнего своего, как самого себя». А кто же был Варфоломею ближе его родителей? Спокойный, убежденный поступок Варфоломея, его смелый вызов монашеской традиции говорит о том, что он хорошо понимал внутреннюю непротиворечивость Учения Христа, и, в частности, основных заветов о Любви к Богу и любви к ближнему. Христос, сопоставляя силу любви к Богу с силой любви к родителям и «сродникам», соизмеряет эти чувства в потоке вечной жизни. Приоритет любви к Богу, сопровождающей человека всегда, и на Земле, и в Тонком мире, бесспорен. В ситуациях выбора – дилеммы приоритет ориентирует поведение верующего, не отменяя ни одного из заветов Христа, тем более не ставя их один против другого. Христос оставляет на усмотрение каждого способы разрешения любой коллизии, но, разумеется, при соблюдении Его заветов и, прежде всего, главных – о любви к Богу и ближнему. Мы видим, как разрешил семейную коллизию Варфоломей, и мы признаем его решение справедливым, истинно христианским и истинно человеческим. Любовь к Богу объемлет и любовь к ближнему и все другие виды любви, а не отделяется от них. По внутреннему заряду поступок Варфоломея, соединяя земное с небесным, способствовал сближению мирской нравственности с монашеской. Каждодневные сердечные заботы сына о больных, подавленных жизненными неудачами родителях, продолжавшиеся несколько лет, были его первой серьезной жертвой и первым доказательством искренней, верной любви к ближнему. Это чувство было выражением его высокого «невредящего мышления» [63], которое являлось надежным залогом того, что Варфоломей за всю жизнь даже не подумал о чем-либо наносящем ущерб благу других.
В Радонеже Варфоломей прожил лет 14. Несколько лет семья жила в полном составе, пока Стефан и Петр, женившись, не отделились от родителей. Вскоре и родители, удрученные потоком неудач, которые они, конечно, считали карой Господней, приняли монашескую схиму и ушли в Хотьковский монастырь отмаливать свои грехи. В монастыре они пробыли «мало лет» и скончались в сентябре [64] 1339, 1340 или 1341-го года – год точно не установлен. Они похоронены на кладбище Покровского монастыря в Хотькове.
6.3. Долг и жертва или долг и духовное обогащение?
После смерти родителей Варфоломей, не теряя времени, устремился за своей мечтой, избрав узкий путь подвига. Для этого надо было, по выражению агиографа, «утвердить свою душу и тело» (с. 306). Душу он утвердил на Учении Христа, а телесную крепость и немало практических знаний и навыков приобрел, занимаясь физическим трудом, особенно в годы, когда он, ухаживая за родителями и обеспечивая их жизнь в монастыре, несколько лет самостоятельно управлялся со всем хозяйством.
Варфоломей решил стать отшельником. Это решение анонимный агиограф одобряет, но переосмысливает его суть с помощью серии приуподоблений, из которых мы рассмотрим четыре, на наш взгляд, наиболее репрезентативные, два из Старого Завета и два из Нового. «И Давид рече: «Прилпе душа моа въслед Тебя, мене же приять десница Твоа»; и пакы «Се удалихся, бегая, и въдворихся въ пустыню, чаах Бога спасающаго мя». Оба стиха, взятые из 54-го и 62-го псалмов Давида, относятся к ситуации, когда Давид, спасаясь от врагов, жаждущих его погибели, скрылся от них в пустыне. Ситуация Варфоломея совершенно иная: он уходит из Радонежа не от врагов, а от таких же христиан, как и он, уходит не спасать свою жизнь, а совершить самоотверженный подвиг веры, который должен показать Руси, что Бог во всем помогает искренне верующим людям. Из Нового Завета взяты два приуподобления. Первое: «Изыдете от среды их, и отлучитеся, и нечистем мире не прикасайтеся». Агиограф эти слова из 2-го послания апост. Павла коринфянам почему-то приписал некоему пророку. Апостол Павел говорит о среде сторонников Велиара (Дьявола), о нечестивых и неверных Христу людях, а не о христианской среде; это ясно видно, если продолжить цитату: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? ...И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас» (2 Кор., 6:14, 15, 17). Следовательно, и третья цитата не подходит для мотивировки желания Варфоломея избрать монашеский путь в жизни.
Четвертое приуподобление строится на знаменитом изречении Христа (Лк, 14:26, 33): «Иже кто хощет въслед Мене итьти, аще не отречеться всех, яже суть в мире сем, не может быти Мой ученик». Эта цитата приведена агиографом не совсем точно: ее первая часть взята из той же 14-ой главы Евангелия от Луки, но из стихов 26 и 27, которые мы поэтому также приводим здесь полностью по Синодальному изданию 1912 г.: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей – тот не может быть Моим учеником; и кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Подобные по мысли (а иногда и буквально) изречения Христа есть и в Евангелии от Матфея (10:34-39). В одном, но очень существенном отношении, записи Матфея лучше записей Луки: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня». Лука ставит вопрос чрезмерно жестко: кто хочет быть учеником Христа, тот прежде должен возненавидеть своих самых близких людей. Но такое условие не соответствует духу Учения Христа, Учения любви к людям. Матфей же ставит вопрос в соответствии с заповедями Христа: любовь к Богу на первом месте, а к людям – на втором. Любовь к ближнему не заменяется у Матфея ненавистью к нему и не входит в противоречие с заповедью Христа о почитании родителей. Конечно, к Варфоломею больше подошло бы изречение Христа из евангелия от Матфея: ведь сам Варфоломей любил и своих родителей, и свою мечту об иноческом служении Богу, совмещая в сердце и то, и другое под знаком всеобнимающей любви к Богу. Однако анонимный агиограф, судя по избранным и отредактированным им приуподоблениям, такое совмещение не принял. Ему было ближе и понятнее противопоставление служения Богу служению людям. Поэтому агиограф избрал для цитирования евангелие от Луки, несколько смягчив его жесткость путем целенаправленной контаминации двух стихов. По «Похвальному слову» Епифания мы видим, что он считает великим подвигом Сергия совмещение любви к Богу с любовью к людям. Эта же особенность Сергиевой души с большой силой утверждается всей его жизнью. Однако Аноним создает иной образ святого Сергия, который будто бы устремился к полному уходу от мира, к разрыву с жизнью людей. Чтобы авторитетно подтвердить это, Аноним снова прибегает к изменению смысла цитат из Библии как привычным способом их усечения, так и способом произвольного объединения различных библейских стихов. Только таким образом смог Аноним совместить отредактированные стихи с образом Варфоломея и «доказать», будто он видел истинное служение Богу лишь как противопоставление себя миру и всему мирскому.
В тексте «Жития», отредактированном анонимным агиографом, все же сохранились следы истинно епифаниевской оценки поведения Варфоломея. Агиограф одними и теми же словами («сокровище многоценное») охарактеризовал как чувство Варфоломея от скорбной потери родителей («с большими почестями предал их могиле, засыпав землей как некое сокровище многоценное» – с. 306), так и радостное чувство возвращения домой после похорон и сорокадневного «украшения» памяти родителей «панихидами, литургиями, своими молитвами, милостынями и кормлением нищих» (с. 306): «И ушел в дом свой, радуясь душою и сердцем, словно он приобрел некое сокровище многоценное, наполненное богатством духовным. Сам же преподобный юноша очень хотел жить монахом. После смерти родителей он пришел в свой дом и начал освобождаться от житейских забот мира сего» (с. 306). Сопоставив обе цитаты, мы замечаем в них явную аллюзию с известным изречением Христа: «...где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф., 6:21, Лк., 12:34). Аноним вплотную подводит читателя к вопросу, где же сердце Варфоломея: живет ли оно любовью к умершим родителям или оно живет радостью от того, что их смерть освободила его от забот о них? Аноним подсказывает читателю ответ тем, что душу юноша вкладывает только в чувство радости от окончания многолетних забот по уходу за родителями. Но что в этом чувстве главное, что именно оценивается как сокровище многоценное? И тут Аноним не оставляет читателя без своего руководства. Легкое противопоставление «сам же...» показывает, будто сознание Варфоломея было во власти антитезы «мирское – иноческое» и будто его истинное сокровище было вне мира сего, вне совмещения прежней жизни с мечтой Варфоломея, которую анонимный агиограф пытается замкнуть в пределах отшельничества. В чем видел свой подвиг служения Богу сам Варфоломей, мы узнаем в дальнейшем. Но одно стало ясно уже сейчас: служение Богу он не отрывал от служения ближнему. И это Варфоломей доказал безусловно, с любовью ухаживая за больными родителями в течение нескольких лет. Такое отношение к родителям не было ни нормой, ни идеалом монашеского служения Богу. Поэтому Аноним и старается всячески умалить мужественный поступок Варфоломея, отложившего на неопределенное время свой уход в монахи из-за любви к родителям, ради ее утверждения в мире. Это было подлинным многолетним испытанием его души и характера. И он с честью выдержал экзамен на духовно-нравственную зрелость, проявив за эти годы такие качества, как трудолюбие, ответственность, терпение, самодисциплина, целеустремленность, глубокое понимание Учения Христа. Тем самым Варфоломей подтвердил и закрепил благословение на подвиг, данное ему Вестником.

Новое все имеет значение, иногда пылинка важнее горы... Высший опыт есть опыт над собою. В нем и центробежность и центростремительность... Именно в положении духа своего за человечество заключается и жертва, и приобретение.
Живая Этика
Бесстрашие – Наш водитель... Видим... проявление тихих фигур, как бы проходящих вне жизни, хотя Мы оцениваем их по подвигу. Но жизнь их протекает среди какого-то ухода и подвига, являющегося, как искра во тьме.
Живая Этика
Когда Варфоломей уходил из Радонежа на целожизненный подвиг, ему было около 28 лет. Вначале он думал совершить подвиг вместе с братом Стефаном и потому из Радонежа пошел в Хотьково, где в Покровском монастыре подвизался Стефан.
В монастыре «...блаженный юноша Варфоломей умолял Стефана пойти вместе на "изыскание" места пустынножительства» (с. 306). Стефан вначале не соглашался, но потом, будучи «принужден уговорами блаженного, пошел» (там же). Стефана можно понять: в то время монахи жили в особножитных (келлиотских) монастырях жизнью обеспеченной и спокойной, а тут вдруг возврат к давно забытому в Византии и на Руси отшельническому подвигу, добровольное устремление в трудное и тревожное будущее. Задуманный подвиг был по сути своей вызовом всему тогдашнему устроению монашеской жизни. Стефану не хотелось, видимо, сворачивать с наезженной дороги на заросшую, пустынную стежку – и ради чего? Преимущества новой тропы были туманны, а опастности очевидны. Но Варфоломей проявил настойчивость, и Стефан, в конце концов, дал согласие.
7.1. Церквица и келья в глубоком лесу
Братья долго ходили по лесу и, наконец, нашли подходящее место: в чаще, близ воды, но сухое, на холме, именуемом Маковец, вероятно, потому, что он возвышался «маковкой» над окружающим лесом.
Выбору места пустынножительства и построения церкви в житиях святых уделяется большое внимание. Критерии выбора – практические и эстетические. Как правило. Иногда приводятся и т. н. мистические знамения – излучение небесного света, видения и т. п. В «Житии Сергия» о таких указаниях не говорится. Зато подчеркивается категорически, в стиле Пахомия Логофета, что выбор «места, которое они возлюбили» – это не их выбор, а воля Бога (с. 307).
Не мешкая, приступили к работе: «И, сотворив молитву, они начали своими руками рубить лес и носить на плечах бревна. Прежде всего, они устроили себе постель и хижину, покрыли ее, затем построили одну келью, заложили фундамент под малую церквицу и «срубили» ее» (с. 307). В книгах о Сергии Радонежском (см.: Б. Зайцев, Е. Голубинский и др.) утверждается, что Сергий и Стефан построили церквицу и хижину с помощью приглашенного плотника. Но это не подтверждается текстом «Жития Сергия» и противоречит опыту самостоятельной жизни Варфоломея и Стефана в Радонеже. Из текста «Жития» следует, что братья всю работу в лесу выполняли сами, вдвоем; значит, они принесли (привезли?) с собой в лес топоры, рубанки и др. строительные и земледельческие орудия труда. Это и понятно: ведь они готовились к круглогодичной лесной жизни только на своем обеспечении. Похоже, авторы, не верящие в разнообразные трудовые навыки братьев, переоценивают их родовитое происхождение. Но мы не можем забывать, что их отец обеднел, еще будучи в Ростовском княжестве, и что в «Житии Сергия» не говорится о найме работников для ведения радонежского хозяйства. Вспомним также характеристику Сергия в «Похвальном слове» Епифания как «учителя и делателя» и как мастера на все руки (в «Житии»), способного обслуживать все потребности монахов, словно «купленный раб».
Когда церквица была построена, прибыли приглашенные братьями священники из Москвы, и с согласия митрополита Феогноста церквице было дано имя Святой Троицы, вероятно, в 1342 г. Вскоре после этого Стефан ушел от Сергия, который, приняв пострижение в монахи, остался в лесной келье один.
Такова фактическая канва событий, предшествовавших отшельнической страде Сергия. Агиографы (и Пахомий, и Аноним) словно хотят сказать: все было, как должно быть, событие ординарного порядка, и нет оснований живописать его. Однако далее анонимный агиограф пускается в обширное полемическое размышление о путях монашества, которое порождено смелым решением молодого монаха Сергия вести суровую, опасную жизнь отшельника. Это размышление представляет для исследователя особый интерес.
Оно начинается со спора Стефана и Варфоломея о том, кому посвятить только что построенную церквицу.
Варфоломей: «Так как ты мой старший брат по плоти и особенно по духу, то мне благо иметь тебя вместо отца; и теперь мне некого спрашивать о чем-либо, кроме тебя. Я молю тебя и вопрошаю вот о чем: церковь уже построена и обеспечена всем, и время пришло освящать ее; скажи мне, чьим именем назвать праздник церкви этой и во имя кокого Святого освящать ее?..»
Стефан: «Что ты спрашиваешь меня и зря искушаешь и мучаешь? Сам ты знаешь не хуже меня, потому что отец и мать, родители наши, много раз сообщали тебе это в нашем присутствии, говоря: "Соблюдай, соблюдай, чадо! И не наше ты чадо, но дар Бога, поскольку Бог избрал тебя, еще сущего в утробе матери, и провозвестил о тебе до рождения твоего, когда ты троекратно проголосил на всю церковь как раз в момент пения святой литургии. Ведь все люди, бывшие при этом и слышавшие это, пришли в удивление и изумление от чуда, и говорили: "Кем же будет младенец этот?" Но священники и старцы, святые мужи, ясно о тебе рассудили и ясно все растолковали, говоря: "Поскольку на младенце этом троичное число отобразилось, то он когда-нибудь станет учеником Святой Троицы. И не только сам начнет благочестиво веровать, но и многих других приведет к вере в Святую Троицу. Не мы это придумали, это Божье желание, и предзнаменование, и выбор. Бог так велит. Да благословенно имя Господа во веки веков!"
Блаженный юноша сказал в ответ, вздохнув всем сердцем: "Воистину так ты сказал, господин мой. Это и мне любо, и я того же хотел и так думал, и желает моя душа именно это свершить и освящать церковь во имя Святой Троицы. Но смирения ради я спрашивал тебя, и вот Господь Бог не оставил меня, и желание сердца моего дал мне, и хотения моего не лишил меня"» (с. 307).
Беседа примечательна в нескольких отношениях. У Пахомия ее нет, что облегчает рассмотрение вопроса об атрибуции текста беседы. Решающий критерий остается прежним: если образ Варфоломея согласуется с образом Сергия в «Похвальном слове» – значит текст в основе можно считать епифаниевским, если не согласуется, то методом исключения (ведь возможных авторов, вероятно, двое) текст должен быть атрибутирован анонимному агиографу. Беседу начинает Варфоломей, и в первых же его словах неожиданно громко звучит мотив, ранее совсем не слышный в «Житии» – мотив несамостоятельности его мысли, полной зависимости от мнения старшего брата «по плоти и особенно по духу». Ум Варфоломея здесь – ум, находящийся в плену языческих представлений о безусловном послушании старшему брату, который после смерти отца занимает его место в доме. До этого диалога в «Житии» не было никаких свидетельств подобных взаимоотношений между братьями. Напротив, факты неопровержимо свидетельствовали о полной суверенности мышления и поведения Варфоломея: Стефан и Петр избрали мирской путь, обзавелись семьями, а Варфоломей устремился к монашескому служению Богу; монашеская традиция, норма благочестия предписывала ему, в случае возражения родителей, оставлять их и уходить в монастырь, но Варфоломей мужественно отверг традицию и до самой смерти родителей самоотверженно, с великой любовью ухаживал за ними; Варфоломей один, без участия Стефана и Петра, похоронил родителей и достойно почтил их память; Варфоломей один, самостоятельно вел домашнее хозяйство, пока его родители жили в монастыре; именно Варфоломею, а не Стефану они перед смертью отдали все свое наследство; Варфоломей избрал путь служения Богу по убеждению и сердечному устремлению, в то время как Стефан – под действием неблагоприятных обстоятельств, прежде всего, смерти жены; и, наконец, Варфоломей твердо, ответственно и совершенно независимо от Стефана или кого-либо еще решился на тяжелый отшельнический подвиг веры. Откуда же было взяться в его характере самоуничижительному преклонению перед авторитетом старшего брата? И почему Стефан именуется «старшим по духу», когда он лишь немного раньше (возможно, на несколько месяцев или даже и того меньше) стал монахом, причем монахом поневоле? Поскольку у Епифания вовсе нет ни мотива почитания старшинства, ни тем более несамостоятельности мышления и поведения Варфоломея (Сергия), мы можем уверенно заключить, что все эти качества измышлены анонимным агиографом и приписаны им Варфоломею. Только теперь нам становится вполен ясен тенденциозный умысел Анонима, вложившего в уста Варфоломея странное, неуместное обращение к своему отцу («владыко»), когда еще за несколько лет до рассматриваемой беседы Варфоломей послушно согласился ухаживать за старыми и больными родителями. Еще тогда Аноним этим наименованием готовил почву для нынешней беседы, для восприятия неожиданной метаморфозы в характере Варфоломея: обращение «владыко» должно было показать читателю, что Кирилл, отец Варфоломея,а не Бог есть для него самый главный авторитет.
Вопрос, с которым Варфоломей обратился к Стефану, спровоцировал его резкую отповедь, причем такую, что Стефану были заранее предоставлены все козыри для демонстрации своего «справедливого» возмущения. Варфоломей задал вопрос, на который и он, и его брат давно уже знали ответ. Это-то и дало Стефану полное право обвинить Варфоломея в преднамеренном искусительстве, то есть в лукавом лицемерии. Не мог Стефан даже предположить, что Варфоломей забыл о божественном предопределении его служения Святой Троице. Так оно и оказалось. Варфоломей сам (!) подтвердил, что он спросил Стефана не потому, что забыл о предназначенном ему пути, а единственно «смирения ради». Но ведь смирение-то оказалось разыгранным, показным, что и требовалось доказать агиографу, ярко проявившему здесь симпатию к Стефану и затаенную антипатию к Варфоломею. Перед освященной традицией и перед утвержденным Русской церковью особножительским устроением монашеского пути Варфоломей не проявил смирения, зато совершенно безосновательно и неискренне унизился перед Стефаном. Смотрите и запомните, как бы говорит агиограф, какова душа и каков характер будущего подвижника и святого Сергия Радонежского, характер, выказываемый им не публично, а с глазу на глаз, в лесном уединении.
Так Аноним продолжает разрушение епифаниевского образа святого Сергия, добавляя к своим прежним искривлениям его характера (неуравновешенность, унылость, эгоистичная угодливость) лицемерное смирение. Отныне оно станет показной этикеткой характера Сергия, не того, который создан Епифанием, а того, который подменен, искажен редакторами – правщиками его «Жития Сергия».
Сам разговор братьев о выборе названия церквицы, наверное, был в епифаниевском протографе, но проходил он, надо полагать, в иной тональности. Есть что-то совершенно нехристианское в резких нападках Стефана и во всем замысле сварливой беседы перед лицом Святой Троицы, символизирующей гармонию душ и сердец, любовь Бога к людям. Заметим кстати, что в православных истолкованиях «Жития Сергия» односторонне изъясняется знаменательный смысл названия лесной церквицы. Приведем для иллюстрации цитату из лучшего и самого популярного сочинения о «Житии Сергия»: «Варфоломей не думал строить обитель, не желал собирать около себя братию, – у него было одно заветное желание: укрыться навсегда от мира в глубине непроходимой чащи лесной, укрыться так, чтоб мир никогда не нашел его и совсем позабыл отшельника» [65]. Если бы Варфоломей таким представлял себе будущее, он нашел бы другое наименование лесной церквицы, которое соответствовало бы устремлению к полному уединению, а не к миру, не к соединению земного с небесным.
7.2. Малая и большая правда русского монашества
Ничто так не уклоняет людей с пути, как малая правда. Они выхватывают малые осколки, не думая о предыдущем и последующем. Такие осколки не лучше любой лжи.
Живая Этика
Монашеские пути братьев разошлись. Стефан оставил Варфоломея в лесной пустыньке, а сам ушел в Москву, в Богоявленский монастырь. Тут анонимный агиограф снова прерывает нить повествования и пускается в рассуждения о монашеских путях. Первое, что волнует агиографа – это причины, побудившие Стефана оставить брата: «И увидел он (Стефан. – А. К.) труд пустынный, житие в заботах, житие жестокое, кругом стеснение, кругом недостатки, нет ниоткуда ни еды, ни питья и ничего другого, что требуется. Никто тут не проходит, ниоткуда нет приноса; окрест пустыньки той не было тогда ни сел, ни дворов, ни людей, живущих в них; пути нет ниоткуда, нет ни проходящих мимо, ни поспешающих, но... во все стороны все лес, все пустынно. Он, увидев это, впал в уныние, и оставил пустыньку, а с нею и брата родного, преподобного пустынножителя и пустыннолюбителя, и ушел в Москву» (с. 308). Мотивы явно не похвальные, мотивы недостойные служителя Бога. Однако агиограф не замечает в поведении Стефана ничего предосудительного. Доводы Стефана показывают, к чему он привык и что он ценит в подвизании монашеском: чтобы труд был не тяжелым, чтобы жизнь была беззаботной и «мягкой», чтобы не было в ней ни стеснения, ни недостатков, чтобы от мирян были поступления всего, что требуется. Прав был Е. Е. Голубинский, когда в философском очерке о монашестве писал: «Ум человеческий изобретателен, и люди, желавшие, с одной стороны, идти к небу верным путем монашества, а с другой, по возможности, освободить его для себя от терний, изобрели монашество облегченное, это – так называемое монашество келлиотское или особножитное» [66]. Как раз в таком монастыре подвизался Стефан и в такой же он уйдет от Варфоломея. Стефан испугался пойти на суровое испытание веры, сопряженное с риском для жизни. Страх и подтолкнул его на предательство. Он оставляет брата одного в лесу, понимая, что ему угрожают смертельные опасности. Показательно, что Стефан уходит не в Хотьковский монастырь, а в Богоявленский, городской, московский. В этом мы видим косвенное подтверждение того, что Стефан вначале собирался отшельничать вместе с братом, но, увидев воочию, что это за жизнь, изменил свое решение. Он не мог вернуться в прежний монастырь, не «подмочив» своей репутации, а потому и отправился в Москву. Тем самым он отрезал себе возможность связи с Варфоломеем в трудное зимнее время. Да, жестким, себялюбивым было сердце Стефана. Это проявилось и ранее, когда после смерти жены он ушел в монастырь, на легкую жизнь, оставив в миру двух малолетних детей – сирот.
Агиограф, словно бы тревожимый чем-то, спешит похвалить Стефана за благочестие и воздержание, которыми он отличался от других монахов Богоявленского монастыря. Но единственный конкретный факт, который приводится в подтверждение слов о «жестком» постничестве Стефана, – отказ от «питья пива»! – при сопоставлении с жизнью в лесной пустыньке неожиданно приобретает обобщающую силу. Оказывается, что нормой в этом монастыре было употребление хмельных напитков; потому-то отказ от них возводится в добродетель. Похоже, келейная жизнь отличалась от мирской, прежде всего, освобождением... от семейных, общественных и прочих обязанностей и трудов, то есть была и легкой, и бесполезной для общества. Агиограф, ярко живописуя путь Сергия и путь Стефана, предоставляет читателю возможность судить, какой путь предпочтительнее, какой он сам избрал бы, если бы захотел стать монахом. Однако агиограф не устраняется вовсе от оценки путей: подбором фактов, расстановкой акцентов он ясно показывает свое предпочтение пути Стефана.
Стефан решительно отвергает узкий путь пустынножительства, не останавливаясь перед тем, что покидает брата одного, хотя ранее «оба равно купно съвещастася сести в пустынице той» (с. 309).
Агиограф полностью разделяет взгляд Стефана. Об этом свидетельствует композиция рассказа, авторское объяснение выбора «узкого» пути Варфоломеем, отсутствие положительной оценки этого выбора, но, главным образом, одобрение благополучного, «широкого» пути Стефана. Монастырь Святого Богоявления, в котором Стефан купил себе келию, был особножитным, как и все другие монастыри тогдашней Великой Руси. Путь Стефана назван добродетельным, потому что он жил в любви к труду, «соблюдая пост, молился и от всего воздерживался, и пива не пил, и одежд щегольских не носил» (с. 308). Замечательна эта характеристика своей неприкрытой тенденциозностью. Отрицательные определения, как известно, ничего не определяют, но лишь порождают вопросы; и, в самом деле, если «пива не пил», то означает ли это, что и медовухи не пил, и не пил вообще хмельного? Зачем же так неясно характеризовать? Затем, что без трех отрицательных определений Стефана – монаха похвалить не за что: постятся и молятся все верующие. Если так выделять Стефана из монашеской среды Богоявленского монастыря, то это значит выделять его из числа монахов, которые и пиво пили, и щегольские одежды носили, и не соблюдали постов. Следовательно, это был удобножитный монастырь для знатных монахов, о чем свидетельствует пребывание в нем сына влиятельного боярина Бяконта, будущего митрополита Алексия. Его упоминание в «Житии Сергия» означает еще и близость монастыря к власти, а это плюс богатство монастыря стали позднее типичными особенностями также и иосифлянских монастырей. Конечно, жизнь в иосифлянских монастырях, где насельники порой делились на три класса в зависимости от обязанностей и труда, от качества питания и одежды, может показаться курортной по сравнению с пустынножительством Сергия. Но главное отличие, т. е. главная притягательность Стефанова пути для обывателя в другом: в возможности быстрой чиновной карьеры: «Великий князь Симеон, узнав о добром житии Стефана, повелел митрополиту Феогносту поставить Стефана в пресвитеры, в священнический сан, а потом назначить его игуменом в том монастыре (запомним роль великого князя в возведении монаха на священный уровень, чтобы мы могли несколько позже оценить истинное значение слов епископа Афанасия о том, что якобы лишь Бог дарует сан священника. – А. К.), и согласился принять его своим духовным отцом; так же поступили и Василий – тысяцкий, и Федор, его брат, и прочие бояре старейшие все один за другим» (с. 308). Конечно, очень многие желающие стать монахами, изберут «широкий» путь Стефана, хотя он, по Христу, ведет к погибели души. Но этот конечный результат оспаривался иосифлянами, глава которых доказывал в своих сочинениях, что жизнь монахов в благополучии, за счет чужого труда и привилегированное положение духовенства соответствуют Учению Христа. Такая религиозная философия «забывает» о главном, о том, что «благополучие есть кладбище духа» [67].
Весь фрагмент о пути Стефана, то есть об удобножитном монашестве, которому агиограф откровенно симпатизирует, написан, конечно, не Епифанием, сторонником нестяжательного общежительного монашества, а анонимным автором Пространной редакции (20-е гг. XVI в. – годы завершения борьбы иосифлян и заволжских старцев). Этот вставной фрагмент расчетливо помещен в середине рассказа о трудном пути Сергия; таким образом читателю предлагается сопоставить пути братьев и сделать выбор. При этом Аноним прельщает читателя выгодами и преимуществами пути Стефана.
По содержанию и по форме фрагмент перекликается с окончанием главки «О преселении родитель святого», имеющей серьезное значение для верного понимания позиции анонимного агиографа. Здесь снова, спустя много страниц, повествование ведется от первого лица, как и в том хронологическом фрагменте, разобранном нами ранее и атрибутированном анонимному автору («Хощу же сказати времена и лета...»). Интересующая нас концовка главки «О преселение родитель святого» начинается так: «Не зазрите же ми грубости моей, поне же и до зде писах...» (с. 309). Цитируем с некоторым перерывом далее: «Доброму сему и преудобреному отроку, аще и въ мирьстем устроении живущу ему тогда, но обаче Богь свыше призираше на него, посещаа его своею благодатью, сьблюдаа его и огражаа святыми аггелы своими, и въ всяком месте съхраняа его и всяком пути его, амо же колиждо хождааше» (с. 309). Перевод: «Хотя этот прекрасный и достойный отрок мирскую жизнь вел тогда, но все же Бог свыше заботился о нем, защищая и обороняя его святыми ангелами своими, во всяком месте сохраняя его и во всяком путешествии, куда бы тот ни пошел» (ПЛДР, с. 290). Тут Аноним, по сути дела, объясняет, почему Варфоломей избрал «узкий», трудный путь служения Господу и ближним. Логика агиографа примечательна тем, что, помимо явного, имеет и прикровенный смысл. Если сам Господь всюду и всегда охраняет Варфоломея, «ограждая его святыми ангелами», то, во-первых, не стоит никому тревожиться за судьбу Варфоломея, рискнувшего одиноко жить в глухом лесу, во-вторых, при столь надежной охране любой монах, мол, пошел бы по трудному пути. Но так как у других такой Божественной охраны нет, то и нельзя их, следовательно, судить за нежелание идти путем святого. Каждому, мол, свое: «Овъ сице произвели, другый же инако» (с. 309). Разве не так? Любителю пустынножительства – препятствия, трудности и лишения, любителю удобножительства – житейские блага без затраты труда на них (кроме молитв и песнопений). В 20-х гг. XVI века, когда была составлена рассматриваемая Пространная редакция «Жития Сергия», оба монашеских пути считались официально разрешенными. Хитроумное лирическое излияние агиографа нацелено на то, чтобы представить подвиг Сергия как исключение, которому подражать невозможно, не по силам человеческим. Ведь Варфоломей (Сергий), дескать, с младого возраста находился под Высокой Защитой и потому не рисковал ни здоровьем, ни жизнью. Не случайно агиограф, заранее готовя оправдание ухода Стефана из пустыньки в удобножитный монастырь, внушительно напомнил Варфоломею о его избранничестве. Таким образом, и размышление агиографа, и беседа Варфоломея со Стефаном о названии церквицы, и лирическое излияние агиографа преследуют одну и ту же цель – убедить читателя, что без Божественной Охраны нечего и думать об узком пути Служения Богу. Именно в этом месте «Жития» неискреннее сладкоречив правщика, превозносящего добродетели (но не путь) Варфоломея, становится медоточивым: «Вседоблий же блаженный юноша верный, ...бывъ из млада и изъ детства верою и чистым житиемь, и всеми добрыми делы украшен...» и т. д.
Это не единственный случай, показывающий лукавство агиографа. Весьма характерно и его умолчание о том, каким крахом закончилась карьера Стефана, в одночасье лишившегося постов игумена Богоявленского монастыря, духовника вел. князя и бояр. Именно в этот печальный период жизни он и обратится за помощью к Сергию, который примет его вместе с сыном Иваном в своем монастыре. Отметим снова умолчание как литературный прием, который Аноним умело использует для затенения правды.
Что касается охраны Сергия Радонежского на каждом шагу, то вопрос этот надо осветить реалистически, не впадая в крайность. Несомненно, что с самого рождения такой Великий Дух, как Сергий Радонежский, находится под наблюдением и защитой Высших Сил. «Так же, как за Вами, – сообщает Великий Учитель Е. И. Рерих, – мы следим за развитием, следим за детьми с колыбели, взвешивая их лучшие мысли по всему миру. Конечно, не часто дух доходит до развития, и число отпавших велико, но, как саду прекрасному, радуемся мысли чистой» [68]. Из писем Е. И. Рерих мы знаем, что она в критических ситуациях не раз была спасаема от неминуемой смерти. Но мы знаем и другое: Светлая Иерархия строго соблюдает космические законы, в том числе, и закон свободной воли человека и закон Кармы. Следовательно, все испытания, выпадающие на долю человека, избравшего узкий путь, он должен перенести, будь он даже такой Великий Дух, как Сергий Радонежский. Он должен суметь – вопреки всему – достойно завершить земную миссию. В зрелом возрасте, когда воплощенный Дух овладевает многими феноменальными способностями, он, понятно, использует их и для самозащиты, исключая, разумеется, те случаи, когда ему, как Христу, будет предуказана мученическая или героическая смерть.
Размышляя о главном направлении работы анонимного правщика, автора Пространной редакции, наталкиваешься на такое противоречие в его взглядах: почему он, возвышая Стефана, утверждая его авторитет, сохраняет те места епифаниевского оригинала, в которых содержится критика Стефана? Это противоречие кажущееся, и оно снимается само собой, если мы поместим его в атмосферу времени создания Пространной редакции. Тогда сторонники Иосифа Волоцкого восторжествовали в борьбе с заволжскими старцами, то есть широкий, стяжательный путь привольной жизни монастырей, духовенства в целом утверждался как путь господствующий, одобренный властями светскими и духовными. И потому показ легкой жизни и успешной карьеры Стефана в резком контрасте с лишениями и опасностями Сергиева пути воспринимался в высших слоях общества и многими верующими, на наш взглад, не как критика Стефана, а как одобрение его выбора пути, лучшего из двух основных путей монашеского служения Богу. Поэтому анонимный агиограф и не сократил те места в епифаниевском оригинале, где живописались лишения пустынножительства; эти описания подкрепляли господствующее убеждение в верности позиции Иосифа Волоцкого, сторонником которого показал себя и агиограф.
Редакторская работа Анонима преследует, в этой главке, помимо искажения образа Сергия, еще две цели: 1) оправдать стяжательный путь монашества; 2) затенить новаторский путь Сергиева служения Богу, показав его как один из двух существующих, равно допускаемых и одобряемых Богом монашеских путей.
Мы видели, как достижению этих целей подчиняется редакторское «творчество» Анонима. Но мы лишь слегка коснулись самой глубокой, по мнению автора, причины, от которой в первую очередь зависит выбор пути Служения. Послушаем агиографа: «Но вернемся к славному, блаженному, верному юноше, который был родным, единоутробным братом этого Стефана. Хотя они и родились от одного отца и хотя одно чрево произвело их на свет, но не было единым их устремление. Разве не были они братьями родными? Разве не сообща они захотели и стали жить на месте том? Разве не вместе решили они обосноваться в малой той пэстыни? Как же расстались они друг с другом? Один так пожелал жить, другой – иначе: один в городском монастыре решил подвизаться, другой пустыню сделал подобной граду» (ПЛДР, с. 299). Основная мысль агиографа ясна: каждый выбирает путь по себе. Все одинаково у Стефана и Сергия: родители, желание быть монахами, желание пустынножительствовать, а конечные волеизъявления различны. Но почему же? Агиограф дает на это ясный ответ: Стефан выбирал путь по своей воле, а Сергий – по воле Бога, Стефана поддерживали светские и духовные власти, а Сергия – Бог. Ответ агиографа можно было бы считать бесспорным, если бы не был оставлен в тени существенный вопрос: одобряет ли Бог Стефанов путь? Ответ есть и на этот вопрос, но не в тексте, а за текстом, и этот ответ знает каждый верующий. Всякая власть, по выражению апостола Павла, от Бога [69]; власть (князь и церковь) активно поддерживали Стефана, следовательно, поддерживал его и Бог. Агиограф не «прописал» ответ в тексте, но зачем же это делать, если ответ широко известен? До сих пор повествование агиографа можно считать формально логичным. Чтобы выдержать этот подход до конца, Аноним должен был бы рассказать о крушении карьеры Стефана и осудить его предательский поступок по отношению к Сергию: активное участие в заговоре против Сергия в 1359 году. Аноним должен был бы также честно сопоставить неудачное завершение Стефанова пути со славнейшим завершением пути Сергия и сделать из сопоставления бесспорный вывод: ненадежна поддержка людская, пусть самая высокая, и, напротив, незыблема, как скала, неизменно верна поддержка Бога. Но агиограф ничего из вышесказанного не делает, следовательно, поступает нечестно и нелогично. А поступает он так потому, что взялся доказывать противное Богу – ценность стяжательного пути Служения Ему, забывая учение Христа о любви к ближнему. При этом Аноним часть Учения представляет как целое, сводя содержание Великого Служения лишь к молитвословию в честь Божества и изымая из Служения любовь Сергия к ближнему, а вместе с нею и его полезные дела, и его подвиг веры в Бога, и все неизбежно связанные с ним труднейшие испытания.
Порицая агиографа, мы, однако, должны «влезть в его шкуру», понять его изнутри. Он не мог не хвалить Стефана, не мог не одобрять его пути, так как этот путь был нормой благочестия. Сам будущий митрополит Алексий «подвизался» именно в удобножитном Богоявленском монастыре, «проходя там искушение» одновременно со Стефаном. Об этом агиограф не забыл упомянуть. И, слава Богу, ибо такова правда времени, которая всегда предпочтительнее полуправды или малых осколков большой, цельной правды.
Пути трех братьев разошлись. Петр, младший, избрал мирской путь, путь его досточтимых родителей, Стефан – облегченный путь себеслужения, а Варфоломей – новый, действительно «узкий» путь жертвенного Служения Богу и людям. Заметим попутно, что агиограф не воспользовался этой троичностью и не упомянул о ней, так как она своей сказочной, языческой первозданностью нарушила бы благообразный вид искусственного газона тройственных чисел.
Пахомия и его современников особенно не волновала проблема выбора пути монашеского Служения Богу, и потому в пахомиевских редакциях «Жития» она вообще отсутствует, а рассказ об отшельничестве сокращен Пахомием не в пять раз, как «Житие» в целом, а в девять. В результате читатель вместо художественного изображения получил краткий пахомиевский диктант, состоящий в среднем (по редакциям) из девяти предложений.
Читатель, сопоставив два монашеских пути, не может не увидеть, что хотя Бог всецело на стороне Сергия, но ему предстоит жизнь бедная, полная трудностей и невзгод, в то время как Стефан, на стороне которого великий князь, бояре, митрополит, то есть земная власть, без особых затруднений и ограничений (пива не пьет!) получает (до поры до времени) полной пригоршней жизненные блага, почет и славу. Конечно, если читатель захочет поразмышлять, он заметит принципиальное противоречие в позиции агиографа. Бог ведь поддерживает того, кто идет по истинному пути, значит, путь Стефана в конечном счете надо признать ложным, неугодным Богу.
Стефан, так верно рассуждавший о Святой Троице и предначертанном Свыше пути, отказался, однако, идти этим путем – тут и приоткрывается его маловерие и малодушие, его эгоизм, словом, истинная сущность его души. Обнаруживается и лукавство агиографа: не может быть двух истинных, но принципиально различных путей. Бог принимает только самоотверженное служение истине, ожидает от своих верных дел, полезных для ближнего, поведения, основанного на заветах Христа. И тогда, и только таких Он поддерживает и охраняет – за конкретные дела, за жизнь по Христу. При этом Бог не только не освобождает верных, преданных Ему от искушений, а, напротив, ставит их в условия строжайшего испытания веры в Него, их любви к людям, их труда на благо человечества. Наградой для них является самосовершенствование, восхождение их духа по божественной лестнице славы и силы. Именно этой высшей награды и не дает «особенно губительное для восхождения духа «половинчатое служение» [70]. Русское монашество, в основном, устремилось по пути Стефана, а не Сергия, приняв и представив обществу полуправду удобножительного, стяжательного пути Себеслужения за правду Великого Служения Богу и ближнему. Широкий путь предопределил плачевные результаты: вместо спасения души – ее растление благополучием, ленью и маловерием, вместо духовно-нравственной опоры для народа – никому не нужный тщеславный аскетизм либо равнодушное потребительство дармовых благ. О редчайших представителях Сергиева нестяжательного пути, одиночных огоньках духовного горения, надо, конечно, сказать во весь голос и надо положительно оценить их подвижничество. Однако они не удержали монашество от сползания в болото удобножительства, в болото себеслужения.
Капля точит камень не силой, но частотой падения.
Латинская пословица
После малодушного отказа Стефана от пустынножительства Варфоломей спустя некоторое время пригласил (возможно, из Хотьковского монастыря) игумена Митрофана и сказал ему, что хочет «облечься в иноческий образ». Игумен совершил обряд пострижения, дав молодому монаху имя «Сергий». Пахомий кратко поясняет символический смысл пострижения в монахи: «Это есть тот, кто, подобно волосам, удаляет от себя ветхого человека, а в нового облекается» (с. 311). Так должно быть, но так бывает редко. Не обряд же создает нового человека в одночасье, а только сам он длительной целеустремленной работой своей души. Именно так и преображалась душа Варфоломея: он еще в миру годами готовил себя к труднейшему целожизненному подвигу, и отшельничество мыслилось им как закал духа, как испытание стали огнем.
Анонимный Агиограф описывает пострижение Варфоломея в монахи намного обстоятельнее, чем Пахомий. Вместе с тем описание порождает ряд недоумений и вопросов.
Если для «Жития» в целом характерно невнимание к хронологии событий (как и вообще в агиографии), то в этой главе наблюдается нетипичное явление. Агиограф дважды устанавливает год пострижения в монахи, причем годы называются различные:
1) «Игумен же незамедлительно вошел в церковь и постриг его в ангельский образ, месяца октября на 7-ой день, на память святых мучеников Сергия и Вакха... Святой был в возрасте 23 лет, когда он преобразился в инока» (с. 310).
2) «Должно же и то узнать почитателям: сколько было лет преподобному, когда он постригся. Более 20 лет было ему по «видимому» возрасту, более ста лет – по остроте ума; и хотя он был молод по физическому возрасту, но он был «стар» по разуму духовному и был совершенен Божественной благодатью» (с. 312).
В первой пахомиевской редакции о возрасте постриженика сказано так: «...бе же възрастом тогда святыи Сергее... яко 20 лет» (с. 349). Очевидно, что анонимный агиограф дважды исправил пахомиевскую датировку пострижения Варфоломея в монахи. Почему не один раз, а дважды и каждый раз иначе? О первой датировке Анонима Б. М. Клосс написал в примечании: «Слова «Бе же святыи тогда възрастом 23 лета, егда прият иноческыи образ» написаны на полях со знаком вставки другим почерком» (с. 310). Объяснение ученого не снимает недоумения действиями правщика. Если он имел право сделать вставку на полях, то, значит, имел право изъять тот фрагмент текста, где приводится иная датировка монашеского пострига. Однако на этот раз Некто поступил по-другому. И если он оставил в тексте две несовместимые датировки, то, значит, тем самым преследовал какую-то цель. Читатель не имеет данных, чтобы, самостоятельно разобраться в том, какая из датировок ближе к истине. И закрывает эту страницу, сомневаясь в подлинности обоих хронологических фрагментов. Но зачем эта неопределенность была нужна правщику? Вероятно, чтобы подорвать доверие читателя к «Житию» и его автору. Для чего же еще?
В рассматриваемой главе есть два других «дубля». Игумен дважды (в ответ на просьбы Сергия) дает наставления «новопостриженому, новоначальному» иноку. Первую просьбу и первый ответ мы даем в переводе, ввиду сложности древнерусского текста.
Сергий: «Когда же провожал Сергий постригавшего его игумена, то со многим смиреномудрием сказал ему: "Вот, отче, ты уже уходишь отсюда, а меня, смиренного, как я и хотел, одного оставляешь. Долгое время я всеми помыслами моими и желаниями стремился к тому, чтобы жить мне одному в пустыне, без единого человека. Издавна я просил этого у Бога в молитвах, всегда вспоминал пророка и слышал его голос, говорящий и восклицающий: «Вот я удалился, убежав, и поселился в пустыне, надеясь на Бога, спасающего меня от малодушия и от бурь. И потому услышал меня Бог и внял голосу моления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил милости Своей от меня». И сейчас я благодарю Бога, устроившего все по моему желанию – быть пустынножителем, одиноким и безмолвным. Ты же, отче, ныне уходя отсюда, благослови меня, смиренного, и помолись о моем уединении, но также и научи меня, как жить мне одному в пустыне, как молиться Богу, как прожить без вреда, как противиться врагу и его гордым умыслам. Ведь я новопосвященный, только что постригся и стал иноком, поэтому я должен расспросить тебя обо всем". Игумен, смятенный и изумленный, ответил: "И ты меня, – сказал он, – спрашиваешь о том, что знаешь много лучше нас, о мудрая голова! Вот ведь привык ты всегда таким образом пример смирения нам показывать. Но все же ныне и я тебе отвечу так, как подобает мне словами молитвы отвечать: Господь Бог, еще раньше избравший тебя, пусть Он и облагодетельствует тебя, вразумит тебя, научит тебя и исполнит тебя радости духовной". И, немного побеседовав с Сергием о духовном, он хотел уже уйти. Но преподобный Сергий, поклонясь ему до земли, сказал: Отче! Помолись за меня Богу, чтобы Он помог мне переносить плотские искушения, бесовские и звериные нападения, и пустынножительские трудности". Игумен же в ответ сказал: "Говорит Павел-апостол: «Благословен Господь, который не дает нам непосильного искушения». И еще сказал: «Все могу, если укрепит меня Бог"». И снова, уходя, игумен поручает его Богу и оставляет его в пустыне одного безмолвствовать и жить в полном уединении» (перевод ПЛДР, с отдельными моими изменениями, сс.307 и 305. – А. К.).
Таков первый диалог Сергия с игуменом. Как видно, по композиции, по мысли и даже по некоторым оборотам речи этот диалог напоминает беседу Варфоломея со Стефаном о том, именем какого святого назвать лесную церквицу. В самом деле, оба диалога основаны на том, что Варфоломей (Сергий) задает вопросы, на которые сам давно знает ответы, и на том, что Богом ответы уже были предрешены, а потому лишь с Ним и есть смысл советоваться. Одно высказывание игумена близко к совету Стефана и по лексико-грамматическому оформлению мысли. Сравните: 1) «Или мя, рече, въпрашаеши, его же ты не невеси нас не хуже...» (игумен); 2) «Что мя въпрашаеши и въскую мя искушаеши и истязаеши? И сам веси мене не хужде...» (Стефан).
Понятно, откуда знает Стефан об избранничестве Варфоломея, о рано почившей на нем благодати Бога. Но откуда это известно игумену, с которым Варфоломей познакомился совсем недавно? От Варфоломея? Вряд ли: ему несвойственно самовозвеличение. От Стефана? Возможно, но как и когда – это по «Житию» не видно. Игумен упрекает Сергия в привычке к показному смирению. Такой же упрек был ему высказан ранее и Стефаном. В критических словах игумена более всего поражает утверждение, будто показное смирение вошло у Варфоломея (Сергия) в привычку. Вот этого игумен, ранее не знакомый с Варфоломеем, знать никак не мог. И кого игумен имеет в виду, кроме себя, когда говорит: «Обыкл бо еси нам присно сим образ смиренна показовати» («Привык ты всегда таким образом нам показывать пример смирения»). Кому «нам»? И неужели смирение Варфоломея показное, лицемерное? По нашему мнению, ответ на эти недоуменные вопросы, порожденные напутственным словом игумена, состоит в том, что они возбуждаются лишь стараниями настойчивого Анонима исподволь разрушить образ Сергия, созданный Епифанием. Особенно поражает в сочиненном Анонимом ответе игумена его отношение к избраннику Бога и к самому Богу. Игумен не только отказывается что-либо посоветовать молодому иноку, но и со скрытой насмешкой рекомендует ему обратиться... к Богу: «Господь Бог, уже избравший тебя...» и т. д. (см. вышеприведенную цитату). Странное напутствие. Игумен перекладывает свои обязанности на Бога. Кто кому слуга? Игумен Богу или Бог игумену?
В вопрошании «новоука» Сергия к игумену мы обращаем внимание на неоднократно звучащий мотив заветной мечты инока, будто состоящей исключительно в полном уединении от людей и даже в противопоставлении им. Агиограф (это станет позднее вполне ясно) заранее готовит таким образом новые «доказательства» несамостоятельности Сергиевой мысли, что и будет «подтверждено» его же будущим отказом от заветной мечты. Агиограф настолько поглощен заблаговременным поиском таких «доказательств», что порой теряет чувство меры. Вдумаемся, например, в такую просьбу 28-летнего Сергия, всесторонне подготовившегося к отшельническому трудничеству: «Ты же, отче, ...научи меня, ...как молиться Богу...». Среди других просьб Сергия, тоже притворно-надуманных (по мысли Анонима), эта просьба наивна до абсурдности. Но именно поэтому она для агиографа нужнее всех иных, ибо ею, прежде всего, психологически оправдывается недовольство и отповедь игумена.
Обратимся ко второму диалогу Сергия с игуменом, следующему сразу же за первым. Этот диалог короче и проще, и потому мы приводим его по-древнерусски: «Сергий же, отпущаа игумена, еще пакы прошаше от него благословенна и молитвы. Игумен же преподобному Сергию рече: «Се азъ отхожю отсюду, а тебе оставляю Богу, иже не даст преподобному Своему видети истление, иже не даст жезла грешных на жребий праведных, иже не дастъ насъ в ловитву зубом ихъ. Яко Господь любит праведника и не оставит преподобных Своих но в векы съхранит а; Господь съхранит въсхождение твое и исхождение твое отныне и до века, аминь» (с. 312). Этот диалог вполне мог сочинить и Епифаний, ибо тут нет ничего, что не соответствовало бы его образу св. Сергия. Но все дело в том, что второй диалог не отменяет первого, и потому полностью сохраняется характеристика якобы лицемерной, несамостоятельной Сергиевой души, содержащейся в первом диалоге. Второй ответ игумена в композиции рассказа выполняет особую функцию: он смягчает, камуфлирует грубость и недоброжелательность ответа первого.
В рассматриваемой главе немалый интерес для исследователя представляют несколько приуподоблений и одно чудесное явление. Оно произошло в первый же день посвящения Сергия в «иноческий образ»: «И так после святого причащения вошла в него, вселилась благодать и дар Святого Духа. Откуда же об этом стало известно? В это время оказались тут некий люди, воистину неложные свидетели, и когда Сергий причащался к святым тайнам, тогда внезапно наполнилась вся церковь эта благоуханием: не только в церкви, но и в ее окрестностях обоняли это благовоние. И все это видели, и чувствовали, и прославляли Бога, который так прославляет Своих угодников» (с. 310). Это чудо названо «Вселение благодати и дара Святого Духа в инока Сергия». Оно, в силу заданной неопределенности, порождает неразрешимые вопросы: зачем нужно новое вселение благодати? Разве прежние иссякли? Какой именно дар получил Сергий? Этот дар не уточняется ни сейчас, ни потом. Анонимный агиограф, пишущий от имени Епифания и, конечно, знающий о его наставлении по укреплению веры в чудеса, подчеркивает, что свидетели чуда были, что их было много («все») и что это были не «ложные свидетели», а правдивые. Внимание читателя тем самым, конечно, заостряется, но тут же и возникает новый вопрос: откуда они взялись, эти свидетели, в глухой лесной пустыньке? Аноним вместо разъяснения все заволакивает дымкой неопределенности, и это не соответствует епифаниевскому наставлению о чудесах. Свидетели были весьма любопытные, ибо они не поленились, обошли церковь и установили, что благоухание – признак проявления Святого Духа – было не только в церкви, но и в ее окрестностях. Но зачем нужна такая подробность агиографу? Нечеткое понятие «окрестности» еще более усиливает атмосферу неопределенности вокруг чуда и особенно вокруг его достоверного подтверждения. И, наконец, главный вопрос: кто же установил факт «вселения благодати и дара» именно и только в Сергия, а не в игумена и не в свидетелей чуда, охваченных благоуханием благодати? Неконкретность чудесного дара, отсутствие последствий «вселения благодати», словесный туман вокруг свидетелей, вообще нагнетение неопределенности – все это настраивает мысль читателя в одном направлении: «чудо» было не божественное (действительное), а агиографическое, и потому поселяется в душе читателя сомнение в подлинности чуда. Агиограф всуе и во зло употребил Святое Имя и тем самым охарактеризовал себя как недобросовестного человека, легко, привычно говорящего от имени Бога. Скорее всего, агиограф Некто был церковным служителем. Ему особенно было необходимо инкогнито: чтобы безнаказанно принизить, дискредитировать величайшего святого Руси и чтобы развязать себе руки при выборе средств дискредитации.
Приуподоблений, к рассмотрению которых мы переходим, несколько: одно явное, остальные полуявные, то есть взяты из псалмов Давида, но без указания на это.
Сергий – инок, новый человек. «И он препоясал крепко чресла свои, готовясь мужественно совершить духовные подвиги, он оставил мир и отрекся от него и от всех, кто остался в мире, и от имения, и от всех житейских вещей. Можно сказать и так, что он разорвал всякую связь с мирской жизнью, – как некий орел, он, опершись на легкие крылы, взлетел в воздух, на высоту, и так же преподобный оторвался от мира и от всего в мире, от всех и всяческих житейских вещей, от своего рода, от всех ближних и родных, от дома и отечества, – подобно древнему патриарху Аврааму» (с. 311). Я обращаюсь к своему читателю: давайте беспристрастно оценим процитированный фрагмент, памятуя, что он сочинен от имени «премудрейшаго Епифаниа». Текст насыщен т. н. общими местами, имеющимися в разных вариациях во многих житиях, и это – норма для тогдашней житийной литературы. Удивляет другое: тавтология в столь маленьком фрагменте. Сравните: «оставль миръ и отречеся его и всех, я же суть въ мире, имениа же и всех прочих житейских вещей»; и через несколько слов «...оставль миръ и яже суть въ мире, отбеже всех прочих житейских вещей...» Что говорит текстология о подобных повторах? Что тут остались явные следы неудачного заимствования выражений и словосочетаний из текстов, принадлежащим другим авторам. Это, конечно, так. Но в данном случае есть еще нечто иное. До сих пор Аноним так неряшливо не работал. Эта неряшливость, на наш взгляд, нарочитая; она свидетельствует не об неумении, а об особом умении Анонима. Рассматриваемый текст, уважаемый читатель, задуман как самокритика Епифания-литератора, как показ его литературной беспомощности. Некто последовательно выполняет свою задачу – умалить, принизить не только святого Сергия, но и автора его «Жития», Епифания Премудрого. Читатель «Жития» должен постоянно помнить, что все недостатки текста, решительно все воспринимались тогда, в первой половине XVI века, как недостатки писателя, горделиво назвавшего себя Премудрейшим.
Теперь, с этой позиции, рассмотрим приуподобление молодого инока Сергия «древнему патриарху Аврааму». Оно лестно только на первый взгляд. Оно сверхлестно. Но оно сделано непрофессионально и потому снова отбрасывает тень на Епифания-литератора. Авраам, уходя из Харрана, по велению Бога действительно оставил дом и отечество (Быт., 12:1-7), но он ушел не отшельничать, а завоевывать Ханаан. Варфоломей же отечества не оставлял и ушел из дома, стремясь совсем к другой цели. Получается, что Епифаний искажает известные факты... ради сочинения сверхлестного приуподобления. Лесть же на поверку оказывается лукавой критикой: на самом деле нет ведь подобия между поступками «новоука» Сергия и 75-летнего пророка Авраама. Раз подобия нет, то нет и ничего от славы Авраама в делах инока. И как результат – нет и доверия к тексту «Жития».
Все полуявные приуподобления взяты из Псалтири. Когда Сергий после пострижения в монахи 7 дней постился и молился, не выходя из церквицы, он тогда «Давидьскую песнь всегда присно въ устехъ имеяше, псаломская словеса, ими же самъ тешашеся, ими же хваляше Бога. Молча поаше и благодаряше Бога, глаголя: «Господи! Възлюбих красоту дому Твоего и место вселениа славы Твоеа; дому Твоему подобает святыни Господни въдлъготудний. Коль възлюблена села Твоа, Господи силъ! Желаетъ и скончевается душа моа въдворы Господня; сердце мое и плоть моа възрадовастеся о Бозе живе. Ибо птица обрете себе храмину, и грълица гнездо себе, иде же положи птенца своа. Блажении живущий въ дому Твоем; въ векы веком въсхвалят Тя. Яко лучше есть день единъ въ дворех Твоих паче тисущь; изволих привьметатися въ дому Бога моего паче, нежели жити ми въ селех грешничих» (с. 311, выделено мною. – А. К.). Здесь три самоприуподобления Сергия к Давиду, взятые из псалмов 25-го, 82-го и 83-го. И еще одно из псалма 54-го, то, что Сергий вложил в просьбу, обращенную к игумену: «Издавна бо сего просих у Бога моляся, повсегда слыша и поминаа пророка, вопиюща и глаголюща: «Се удалихся, бегаа, и въдворихся въ пустыни, чаах Бога, спасающего мя от малодушна и от буря? И сего ради услыша мя Богъ и внят глас молитвы моеа. Благословенъ Богь, иже не оставит молитвы моеа, и милости Своеа от мене» (с. 311). Сам агиограф определил «Давидьскую песнь», которую инок пел в течении 7 дней затворничества, как песнь для него утешительную и для Бога хвалебную. Несколько загадок текстологам снова загадал агиограф. Первая почти неразрешимая: как можно в одно и тоже время петь молча и вслух, «глаголя»? Именно «глаголя», а «не глаголя в себе или себе», как следовало бы ожидать при пении про себя. Переводчик ПЛДР, словно Александр Македонский, разрубил этот противоречивый гордиев узел, отбросив «глаголя», и получилось складно: «пел он про себя и так благодарил Бога». Мы не критикуем тут переводчика: он должен был дать читателю осмысленный, понятный перевод, и у него поэтому другого выхода не было; он не хотел, в отличие от Анонима, изобразить Епифания сочинителем бессмыслиц. Вторая загадка скомбинирована весьма оригинальным образом. «Дом, села или дворы Господа», красоту которых возлюбил инок, – это в псалмах Природа, Вселенная, все Его владения, что общедоступным образом подтверждается сопоставлением с «храминой птиц» и «гнездом ласточки». В «Давидьской песне» инока-«новоука» значение «Дома» переосмыслено: тут Дом – крохотная церквица, в стенах которой затворился Сергий. Столь утешительное переосмысление вполне понятно и психологически оправдано для отшельника: ведь пустынька мыслится его единственным домом на всю жизнь и даже на все загробное бытие. Мы нисколько не преувеличиваем. Именно такое переосмысление слова «дом» предлагается этнографом: он включил в песнь инока фрагмент из псалма, который в «Похвальном слове» Епифания взят для характеристики потусторонней жизни Сергия. Сравним и выделим совпадающие тексты. «Похвальное слово»: «Се покой мой въ векъ века, зде вселюся; изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже жити ми в селех грешничих... Господи, Боже силъ! Коль възлюбленна села Твоя! Желает душа скончатися въ дворы, яко лучши есть день единъ въ дворех Твоих паче тысящь; яко тысяща лет предочима Твоим а, Господи, яко день вчерашний, иже мимо идеть; яко желаеть елень на источникы водныя, тако вжада душа моя к Тебе... Блажени живущей въдому Твоемъ: въ векъ века въсхвалят Тя»(с. 282).
Тот же текст из «Жития» мы привели чуть раньше, подчеркнув параллельные места. О чем говорят текстуальные совпадания? То, что в «Похвальном слове» отнесено к загробной жизни Сергия, здесь приложено к жизни земной, к ее самостоятельному началу: получается, что инок Сергий как бы умер, ибо его посюстороннее бытие не отличается от бытия потустороннего; он как бы заживо похоронил себя и оттого испытывает высшее счастье – блаженство. Такие иноки среди монахов известны, но дело-то все в том, что Сергия к ним отнести никак не возможно. Всей своей жизнью до иночества, жизнью в лесной «пустыньке» и жизнью после двух-трехлетнего отшельничества он неопровержимо доказал обратное: он жил в контакте с творением Бога, ради людей, весь его подвиг – ради людей, а отшельничество – лишь добровольное и целесообразное испытание своих сил, испытания готовности к подвигу. Образ Сергия, как его представил Епифаний в «Похвальном слове», прост, индивидуален и совершенно непохож на образ заживо похоронившего себя, иссушенного аскета, отрешенного от мира, от людей и от природы. Если б агиограф действительно хотел возвысить инока Сергия, он не упустил бы случая похвалить его за бесстрашие; но агиограф подчеркивает другое – малодушие Сергия, которое якобы и подвигло его на уход из мира. Показательно, что слово «малодушие» отсутствует в псалме Давида, там на месте «малодушия» стоит слово «вихрь», причем под вихрем и бурей, как это видно из псалма, мыслятся, прежде всего, враждебные гонения противников, преследующих Давида. Интересно отметить, что в самом популярном церковном издании «Жития», о котором мы уже ранее упоминали, цитаты из псалма и из «Жития» предусмотрительно либо обрываются таким образом, что не приводятся ни слово «вихрь», ни слово «малодушие» (с. 50), либо цитата из «Жития» (в ней есть слово «малодушие») представляется как цитата из псалма. Но в 54-м псалме текст таков: «...далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне; поспешил бы укрыться от вихря, от бури». И когда в псалме заходит речь о спасении, то имеется в виду спасение от злодейств ненавистников и предателей Давида. Не свойственно малодушие Давиду, не свойственно оно и Сергию. Оно приписано ему Анонимом и (с целью прикрытия) утоплено в пустых славословиях. О коварной сверхлести Анонима можно сказать словами Давида из того же псалма: «...уста их мягче масла, а в сердце их вражда; слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи».
Композиция главки о пострижении Сергия в монахи основана на двух противопоставлениях: 1) духовного жития инока, отшельника – плотской, страстной жизни в миру, среди людей; 2) духовных мечтаний о вечно сущем блаженстве истового служителя Бога – реальной, текущей жизни отшельника Сергия, преисполненной всевозможных лишений и трудностей.
Оба противопоставления, подчиняющие себе почти весь словесный материал главки, созданы мыслью анонимного агиографа, а не Епифания. Первое соответствует не Учению Христа, не его жизненному пути, а лишь крайне аскетическим формам спасения души, ибо оно полностью обходит заповедь Христа о служении ближнему. Второе также обходит эту заповедь, но, кроме того, оно имеет иную актуальную заостренность, о которой мы уже ранее говорили: оно отпугивает от узкого монашеского пути, которым шел Сергий. Резкий контраст между мечтаниями и реальностью служит именно этому заданию. Подробнее агиограф Некто представит этот контраст в следующей главке, а тут он, по своему обыкновению, заранее начинает настраивать читателя на нужную волну восприятия ужасно трудной жизни отшельника.
Три рукописных страницы отвел Аноним описанию ужасов, страхований и лишений. Конечно, агиограф соблюдает и здесь общий тон похвалы Преподобному, но понемногу, постепенно и весьма искусно добавляет к ней ложку дегтя – проявления слабости и малодушия. Вот достойное начало: «И кто может сказати труды его, или кто доволенъ изглаголати подвигы его, како претръпе, единъ живый в пустыни?.. Тврдейшая убо и святейшая она душа (вполне епифаниевская характеристика. – А. К.), несумненно претръпе (перенесла много страданий. – А. К.) без приближения всякого лица человека, исправляа, храняше уставъ, правила иноческаго непорочно, непотькновенно убо и незазорно» (с. 312-313). В длинный перечень страданий и лишений постепенно вплетается горестный мотив (выделим его. – А. К.): «...и дръзновение, и стенание, ...с льзытьплыа, плаканиа душевнаа(о чем же плакала «твердейшая» душа? – А. К.), ...алъканиа, жаданиа, на земли леганиа, нищета духовнаа, всего скудота, всего недостаткы: что помяни – того несть» (с. 313). Кому же из монахов обеспеченных иосифлянских монастырей понравится и кого позовет за собой в путь Сергиев пример? Жизнь показала, что после победы иосифлян число подвижников, склонных испытать тяготы отшельничества, стало уменьшаться. Постепенно и общежительные монастыри обзавелись землями и недвижимым имуществом [71], отказавшись от принципа нестяжательной трудовой жизни. Агиограф далее заботливо перечисляет страхования, испытанные Сергием от бесов, зверей и гадов. Мы уверены, что перечень трудностей и страданий, которые Сергий преодолевал, агиограф Некто расчетливо пополнил тем, что так или иначе нарушает епифаниевский образ Сергия. Приведем доказательство. В «Похвальном слове» выражение «нищета духовная» понятно (в полном соответствии с Нагорной проповедью Христа) как единственное богатство (нищие блаженны духом) нищих: «Но сице стяжа себе паче всех истинное нестяжание и безъименство, и богатство – нищету духовную, смерение безмерное...» (с. 277). Аноним знает творение Епифания, но не всегда верно интерпретирует его; поэтому «нищета духовная» оказалась в Пространной редакции в одном искусительном ряду с голодом, жаждой и всяческой скудностью, которые Сергий должен претерпеть и преодолеть.
Некто весьма к месту (с его точки зрения) и умно заканчивает страшный перечень «озлоблений и скорбей» (с. 313), перенесенных Сергием-отшельником от бесов, зверей и гадов: «Но ничто же от них не прикоснуся, ни вреди его: благодать бо Божиа съблюдаше его» (с. 313). Коронный аргумент агиографа-анонима приберегался для окончательного вывода: под Божественной Охраной ничто никому не страшно и не опасно. Для полной наглядности, понятной даже необразованному простолюдину, Некто заканчивает главу сверхсмелым ироничным приуподоблением инока Сергия праотцу Адаму, которому (до его грехопадания) было все покорно в царстве животном.
Среди огней сердца самый яркий пламень самопожертвования. Именно этот доспех отвращает стрелы вражеские и создает прославленную неуязвимость. Огонь мужества – лишь часть пламени самопожертвования. Конечно, самопожертвование не значит непременно принесение себя в жертву, но оно соответствует готовности победить за дело Высшего Мира.
Живая Этика
«Влекущих книзу желаний» меньше в лесной пустыньке, чем в Радонеже, но зато, как свидетельствует опыт мирового монашества, неимоверно усиливается напор темных сил (бесов, по христианскому словообозначению), действующих и на мысль, и на чувства отшельника. Варфоломею – а он, конечно, знал и готовился к этому – предстояло теперь испытать на себе силу мракобесов.
Сергий остался один против всей тьмы. Бог в самом деле стал его главной защитой и единственной надеждой. «Вера или Смерть» мог бы начертать Сергий на своем щите. Так же грозно история поставила тогда вопрос и перед Русью. Сергий понимал это и сопрягал подвиг со всеобщей потребностью в укреплении веры. Величие подвига и подвижника измерены его готовностью принести максимальную жертву. «Учитель советует узнавать свои размеры по жертве, принятой сердцем добровольно. Как велик закон такого добровольчества? Он определяет будущее от малого до большого и до великих событий» [72]. Отшельнические годы испытаний заложили фундамент всех дальнейших подвигов Сергия.
Агиограф сообщает, что инок Сергий отразил множество бесовских нападений, но рассказывает только о двух. Мы поймем его самоограничение, если примем во внимание, что в середине XV века читатель (слушатель) имел возможность ознакомиться с житиями многих святых, и в них были описания борений с нечистой силой. Но главная причина все же в другом. Епифаний следует своему методу «дать от многа мало».
Рассмотрим оба рассказа. Один из православных знатоков «злых духов» утверждает, что их тактика борьбы предусматривает нарастание напряжения, и потому главные силы темных подключаются к борьбе не сразу, а, как правило, в момент ее наивысшего накала [73]. Возможно, так действовали силы тьмы и против Сергия, но агиограф, выбрав лишь два эпизода, начинает с рассказа о нападении, в котором участвует сам Сатана. Возможно, конечно, что владыка тьмы, зная, какой Дух воплотился в облике инока Сергия, применил иную, более жесткую тактику. «Ночью пришел Сергий в церковь, желая отслужить заутреню. Но только начал петь, как внезапно раздвинулась стена церковная, и вот вошел сам дьявол со множеством бесов-воинов... они были в литовской одежде и в литовских островерхих шапках; они ринулись на преподобного с намерением разорить церковь... до основания. ...Скрежеща зубами, они хотели убить его, и кричали: «Убегай, уходи отсюда и больше не живи здесь, на этом месте: не мы нападаем на тебя, но ты пришел сюда и напал на нас. Если ты не убежишь прочь, мы разорвем тебя, и ты умрешь в наших руках и больше не будешь жить» (ПЛДР, сс. 306-308). Гоголь в «Вие» впечатляюще показал, какое великое напряжение душевных сил и какая вера, не знающая сомнений, требуются, чтобы выдержать нападение мракобесных сил во главе с князем тьмы, мощь которого очень велика. Сергий, прервав песнопение, обратился к Богу с молитвой о помощи, которая была ему оказана. «Дьявол и все бесы исчезли». Епифаний здесь упоминает в одном ряду со Святой Троицей, «помощницу и заступницу Святую Богородицу» (с. 308). Таким образом Сергий «победил дьявола», как «Давид Голиафа» (с. 308). Никоим образом не умаляя значение помощи Свыше, мы хотим отметить, что ее в полной мере получает лишь тот, кто путем самосовершенствования развил в себе такую силу духа, которая в состоянии воспринять мощные тонкие энергии Высших Сил. «Силы духа и есть те токи духа, по которым различные энергии доходят. Мощь неземная заключена в Носителях этих токов. Дух и сердце, которые насыщаются этими токами, противостоят многим нападениям. Часто Мы наблюдаем, как одинокий путник на Пути Служения мог отражать напоры тьмы. Силы духа дают мощь действия чувствознанию. Токи духа есть связь с Высшими Силами» (74). По прошествии нескольких дней бесовская свора вновь напала на Сергия. Когда он в «хижине стоял на всенощной молитве, ...внезапно послышался шум, и грохот, и волнение, что-то возмущенное и страшное, не во сне, а наяву. И вот множество бесов пошли на блаженного гурьбой, вопя беспорядочно и угрожающе: «Уходи, уходи с этого места! Что ища, пришел ты в эту глушь? Чего ты добиваешься, сидя в этом лесу? Не начинаешь ли ты тут жить? Не надейся тут жить. Это место, как сам видишь, пустынное, пустое, непригодное, от людей далеко, ни один человек не ходит сюда. Не боишься ли ты, что умрешь тут от голода или найдут и убьют тебя душегубы-разбойники? Тут много и хищных зверей, и волки злющие стаями приходят сюда, и многие бесы пакостят тут, и страшилища многие тут появляются... И разве надо тебе, чтобы звери... съели тебя, или чтоб ты умер какой-либо иной бесполезной, некрасивой, напрасной смертью? Беги отсюда, скорее, не раздумывая... – не то мы тебя прогоним или умертвим» (ПЛДР, сс. 308-310). Настоящая психическая атака, которая продолжалась, по «Житию», около часа, до тех пор, пока не пришла «Божья помощь». В ответ на непрестанные молитвы Сергия: «...внезапно осенила его сила и быстро разогнала лукавых бесов» (с. 310). Сергий вполне сознавал, что победа досталась ему благодаря помощи Свыше, и поэтому «вознес великую благодарность Богу» (с. 310). Бесовские нападения не пустая выдумка, а реальность Тонкого Мира, нижние (адские) слои которого заселены темными сущностями, продолжающими и там служить злу, как они служили ему на Земле в плотном теле. По закону вибраций они легко распознают праведников и запугивают их (иногда до смерти), являясь в виде страшных призраков. Князь тьмы использует, когда ему нужно, силы т. н. ада в своих целях. Нет непроходимой границы между мирами. Человек живет в постоянном соседстве с тонкоматериальными существами, и дети нередко видят их.
По словам автора, «дьявол, зломудрец» (с. 310) уже тогда знал цель Сергиева подвига, и знал конкретно, чего надо опасаться: «Хотел же дьявол прогнать преподобного Сергия с этого места, завидуя спасению нашему (выделено мною. – А. К.), и вместе с тем боясь, что он, осененный Божьей благодатью, возвысит это место, и своим терпением воздвигнет тут монастырь, ...обитель священную, и населит ее монахами» (ПЛДР, с. 310). Но лукавый, хотя и предчувствовал свою неудачу, вовсе и не думал прекращать «брани» против Сергия. Бесы не ушли с Маковецкого холма, не оставили своих кознодейств, а лишь сменили оружие нападения. Агиограф упоминает, что Сергию они являлись иногда в виде зверей и змей. О змеях ничего конкретно не сказано, а о зверях есть небольшой рассказ: «Много зверей» было в тех глухих местах, «одни стаями выли, ревели вблизи, другие бегали мимо... одни бывали в отдалении, другие приближались к нему и окружали его, словно обнюхивая» (с. 312). Но звери не бросались на него: его аура была надежной защитой. По этой причине ни один высший йог никогда не был убит хищными зверями, которые, чувствуя силу его психоэнергетической защиты, как правило, даже не пытаются напасть на него. Если же такое случится, то зверь погибает от удара тончайшей энергии йога, хотя на теле пораженного не остается при этом никакого следа [75]. Некоторые звери инстинктивно держатся от йога в отдалении (особенно кошачьи породы), некоторые, напротив, тянутся к нему.
Агиограф рассказывает, как один медведь повадился регулярно ходить к Сергию за хлебом, будто преподобный был ему что-то должен: «Много раз бывало и так, что хлеба не было у блаженного, тогда голодали оба, и человек, и зверь. Иногда же Сергий отдавал ему последний кусок,... а сам голодал» (с. 312). Откуда вообще доставал Сергий хлеб и другую еду? Тут ему, несомненно, пригодился опыт самостоятельного хозяйствования в радонежском доме. Он умел выращивать злаки, молоть зерно и выпекать хлеб, как умел, конечно, возделывать огород и заготавливать овощи на зиму. Медведь скрашивал одиночество отшельника, не искушая его молчания, и благородный Сергий отдавал зверю последний ломоть хлеба. В мирных отношениях Сергия с медведем заложен, помимо прямого, еще и всемирный символический смысл – модель будущего сотрудничества человека в Шестой Расе с животным миром. Природа – первое творение Бога – всегда нуждалась (а ныне особенно) в помощи венца творения - человека.
Нередко можно встретить в литературе о Сергии мысль о том, что во время отшельничества он проходил искус молчания. Это неверная мысль. Сергий не налагал на себя обета молчания, то есть искусственных уз на сердце и сознание. Напротив, он был немолчащим отшельником, так как постоянно собеседовал с Богом и «беседовал» с Природой, познавая себя и мир. Торжественное Безмолвие Природы благоприятствовало слиянию его сознания с Высшим, совершенствованию богомыслия и духоразумения, а природные потрясения и трудности учили мужественно преодолевать препятствия. Сергий ушел в лесную пустыньку не ради молчания, а ради самосовершенствования, ради закала духа. Этому, конечно, способствовало естественное в условиях пустынножительства воздержание от слова, но оно не имело характера отречения, не было абсолютным.
Епифаний, будучи сам монахом, хорошо знал и потому уделил немалое внимание сугубо монашеским, острым проблемам воздержания от пищи и половому воздержанию. Современному читателю, знакомому хотя бы по литературе с лечебным голоданием, не надо доказывать полезность для здоровья ни регулярного постничества, ни периодического голодания. Ему не покажется подвигом намеренное семидневное голодание Сергия после пострижения (одна просфора в день, но не сказано о воздержании от воды): ему известны значительно более длительные и притом весьма целительные голодания. Но, наверное, он оценит по достоинству бесстрашие и вместе сострадание Сергия, проявляемые им постоянно в общении с голодающим медведем, привыкшим приходить за едой к лесной хижине и получавшим ломоть хлеба даже тогда, когда никакой пищи не оставалось у Сергия для себя. Так воздержание возвысилось до жертвенности, и человек приручил зверя, признав в нем меньшого брата, слабейшее существо. Отметим особо, что Епифаний, рассказывая о воздержании, не упоминает ни о телесных самоистязаниях, ни вообще о крайних формах аскетизма.
В наше время свободной торговли телом следует сказать особо о половом воздержании. Для Высокого Духа, воплотившегося в Сергии, оно было неизбежным следствием предызбранной, монашеской формы служения Богу и ближнему. Судя по другим, немонашеским воплощениям Того же Духа, Он не был сторонником полового воздержания, но придерживался в этом вопросе меры, стремясь к целесообразному расходованию жизненной субстанции, так как знал о ее мощи, способствующей развитию духовных сил. «Если мы сравним двух индивидуумов, из которых один тратит жизненную субстанцию, а другой сознательно бережет ее, то поразимся, насколько аппарат духа второго развивается чувствительнее. Качество работ становится совершенно другим, и количество замыслов и идей растет. Центры солнечного сплетения и мозга как бы подогреваются невидимым огнем» [76]. Для Сергия-монаха половое воздержание было немалой силой, способствующей ускоренному развитию психоэнергетических центров и их гармонизации. Агиограф весьма необычно осветил борьбу Сергия с мощной оддической энергией. Но мы скажем об этой борьбе позднее (см. главу 8.3), так как сам рассказ отнесен к последующим годам, когда к Сергию стали приходить монахи, и он стал создавать монастырь.
Поединок между темными силами и Сергием, длившийся приблизительно два года, завершился его победой. «Зря трудился дьявол... вместе со своими бесами»: они «не смогли хотя бы привести в ужас этого твердого душою, храброго подвижника» (ПЛДР, сс.310-312). Редкостное бесстрашие! И проявилось оно, и утверждалось не раз и не два, а многократно в течении двух лет, как необходимейший доспех Сергия. Этот цветок духа вырастает в душе, преданной Богу.
Неколебимая вера в справедливого Бога и бесстрашие перед лицом мощного врага – именно такие духовные качества неотложно надо было воспитывать тогда в русском человеке вместо малодушной покорности, насаждавшейся поработителями и подпитывавшейся застарелыми раздорами между князьями Руси. Именно таким противовесом духовной эрозии народного самосознания должен был стать и стал Сергий Радонежский. Своей жизнью, трудом и борьбой он доказал, что истинная вера и сотрудничество с Высшими Силами побеждают любой страх, любые козни Князя тьмы.
Крепкая вера, устремление к общему благу и бесстрашие в борьбе с врагами непременно вызывают отклик Бога, и к подвижнику приходит помощь. Таково Совершенное Сердце Космоса – прочнейшая гарантия справедливости. Однако не каждый, кто считает себя верующим, может так, как инок Сергий, твердо надеяться на помощь Бога. Бог отказывает в ней «слабым и ленивым» (ПЛДР, с. 314) и тем, кто делает «недобрые дела» (там же). «Рука Моя лишь над твердыми. Слабость и легкомыслие рождают предательство»^?]. Отсюда следует, что если даже такие люди регулярно ходят в церковь, соблюдают обряды, делают вклады в церковное хозяйство – все равно они не могут надеяться на помощь Свыше. Благолепие бывает полезно на Земле, на Небе же надо искать справедливость. Автор делает вполне логический вывод, утверждая, что, если б вера Сергия не была истинной, он «не дерзнул бы» жить «одинодинешенек... в лесной пустыньке» (с. 314), не дерзнул бы подвергнуть себя тяжелейшему испытанию.
Ни Стефан, ни тем более ленивые насельники удобножитных монастырей не были беззаветно верующими людьми. Однако именно Стефан, а не Сергий быстро сделал церковную карьеру, потому что для таких, как он, были благоприятными тогдашние религиозно-общественные условия. Варфоломей это осознавал и не пошел в особножитный монастырь, а избрал древнеиноческий путь пустынножительства: не жизнь для себя, а жизнь для Бога и людей. Выходит, надо углубить понимание причин расхождения путей монашества на Руси. Дело не только в страхе Стефана и подобных ему перед невзгодами и невыгодами жизни в лесной глуши, а, главным образом, в их себялюбии и в неготовности к жертве за веру. Страх страхом – его не следует сбрасывать со счетов, но гораздо существеннее отсутствие самоотверженной веры в Бога. В такой вере был корень исцеления от всяческого зла, – в монашестве, обществе и государстве.
Мы не будем касаться славословий, которые адресованы Богу, но рассказ о молитвах Сергия рассмотрим внимательно. В них нет льстивого восхваления Бога. Они исполнены искренним, горячим чувством благодарности Ему за спасительную помощь в борьбе с темными силами. Каждый воспитанный человек не преминет искренне поблагодарить другого за любую, пусть самомалейшую помощь, и потому он поймет всю силу чувства, которую Сергий вкладывал в сердечную молитву признательности Богу за Его помощь, всегда своевременную, всегда необходимую. «Преподобный, видя, как Бог покрывает его своею благодатью, и денно и нощно славил Бога, посылая благодарные хвалы Ему, Который не перекладывает зло грешных на жребий праведных и не дает им непосильных искушений» (ПЛДР, с. 314). Иначе говоря, Сергий благодарил Бога за справедливость, за то, что испытания были соразмерны силам инока. Сергий никогда ничего не просил для себя, исходя из убеждения, что Бог знает все его тайные помыслы, и потому не нуждается в напоминании о них. Но разве нужна Творцу-Вседержителю какая-либо хвала, пусть даже благодарная, а не корыстная или суесловная? Да, благодарная, мы полагаем, нужна Ему и людям, так как, насыщая, укрепляя пространство мыслеобразами блага, она, по закону притяжения подобного к подобному, увеличивает силу духа людей, сердца которых открыты для восприятия добра.
«Но особенно Сергий возлюбил молиться наедине, часто, прилежно и тайно... собеседовать с Ним, ...приближаясь к Нему и просвещаясь от Него благодатью» (ПЛДР, сс. 314-316). Собеседование с Творцом наедине и в молчании неосновательно, мы думаем, интерпретировать как увлечение подвижника исихазмом. Можно взглянуть на это просто. Сергий молился так, как советовал Христос, «в духе и истине» [78]. Одиночество развивает склонность к непосредственному собеседованию с Богом. Отсутствие упоминания об общепринятых молитвах вовсе не означает, что Сергий не прибегал к ним принципиально, что он всегда молился только своими словами. Во всяком случае, он не мог отвергать молитвы «Отче наш», данной Христом.
Вопрос об исихазме Сергия неоднократно поднимался в исследованиях о нем. Ни к магии, ни к «умному деланию» он не прибегал, потому что не испытывал необходимости в этом. Причина в том, что он знал великую мощь сердца и сердечной молитвы. «Вы уважаете Св. Сергия, но разве Он где-нибудь допускал магию? Он даже не разрешал умное делание, но между тем Он имел пламенные видения. Лишь труд, как возношение сердца, допускал Он. В этом Он опередил многих духовных путников. Мы говорим о сердце, но именно Он нашел силу этого источника. Даже страхованиям он противостоял не заклинаниями, но молитвою сердца» [79].
Собеседование с Богом нельзя понимать буквально, как мысленный обмен мнениями с Творцом Неба и Земли. Но не будет преувеличением предположить, что на вопросы Сергия давались (внушались ему) ответы Тех, Которые послали Вестника к отроку Варфоломею. Эти собеседования помогали переносить одиночество и, как сказано в «Житии Сергия», просвещали его. В пустыньке Сергий продолжал усиленно учиться, «он часто читал святую книгу, чтобы извлечь оттуда добродетельную пользу» (с. 314) и чтобы усовершенствовать ум изучением «сокровенной мудрости».
Итак, духовно-нравственной облик Сергия в 28-30 лет очерчен довольно полно. Он обладал неколебимой верой в Бога-Творца, в его всемогущество, справедливость и милосердие, в его помощь достойным людям; он считал себя духовным учеником Христа – и на деле творчески укреплял его заветы; он был человек сильный духом, прямой, правдивый, бесстрашный и осмотрительный, самоотверженный и сердечный, готовый и способный переносить любые жизненные испытания; Сергий быстро развил в себе мощные психические силы, благодаря чему успешно отражал атаки темных сил во главе с самим Князем тьмы, и ни один зверь не отваживался на него нападать – верный знак того, что в земную жизнь он пришел с высоким духовным потенциалом. Об этом же, бесспорно, говорит и твердое осознание смысла и цели своей жизни – самоотверженное служение Богу и ближним, укрепление веры народа в Бога и в Его спасительную помощь. Сергий отвергал любые крайности, в том числе и жестокий аскетизм, будучи адептом уравновешенного пути самосовершенствования. Он был трудолюбив, владел многими ремеслами, и потому смог обеспечить свое бытие в диких условиях. Сергий смотрел на Природу и на весь тварный мир как на прекрасное произведение Вседержителя, которое надо любить и хранить, и потому, в частности, считал необходимым и полезным делиться последним куском хлеба с голодающим медведем. Сергию была чужда всякая самость – себялюбие, самомнение, жалость к себе – потому он, молясь, никогда ничего не вымаливал у Бога для себя; и по этой же причине он, сознавая свои исключительные способности, продолжал прилежно учиться по книге жизни и по святым книгам.
Сердечная молитва – мост между мирами – была важнейшей основой его жизни. Подвиг стал его лучшей молитвой без слов, очищающей сердце и разум от всяческой шелухи. Свой подвиг он соединил с практическими потребностями воспитания народа.
Словом, Сергий был настоящим подвижником. Мы, однако, погрешили бы против истины, если бы еще раз не остановили внимание на чрезвычайно характерной особенности его души: он «все испытания переносил с радостью, ...без обиды, уныния и сожалений» (с. 312). Мы уже говорили, что такое сознание есть следствие убеждения в благости всех испытаний, ниспосланных Свыше, что такое чувство есть особая мудрость. Добавим теперь кое-что к сказанному. Каждый врач знает целительную силу радостного самочувствия больного. В ровной, светлой жизнерадостности Сергия – одна из причин его крепкого здоровья. Радость была одеянием его подвига. С чувством мудрой радости он трудился, молился и боролся с врагами. Каждое утро, радостно и торжественно встречая вместе с птичками восход солнца, он напитывал свое сознание, свой организм могучей силой благодати. Благотворно, многообразно действие истинной радости на человека. Потому великий Платон и приравнивал ее силу к силе любви.
Опыт Сергия-отшельника необычайно полезен для каждого, желающего самосовершенствоваться в духовном развитии. Сергий и ныне говорит людям: чтите Иерархию Света, трудитесь на Общее Благо с ровной, спокойной радостью, отбросьте лень, сомнение и самомнение, уныние, раздражение и гнев, учитесь у птичек приветствовать каждый день бытия вашего и Творца бытия. Радонежский, нет, не случайно он из Радонежа, а не с Угрюм-реки: в замыслах Владыки нет мелочей, все изысканно продумано и целесообразно. Никогда, даже в пору отшельничества, преподобный Сергий не утверждал своим примером сухого, замкнутого на себя аскетизма. Он жил в тесной келье, вдали от людей, быт его был непритязательно прост, душа была открыта всему живому в мире, дух всегда устремлен к звездам, к Творцу, на общеполезный подвиг. Кто-то, скоропалительный, подумает: два или три года непрестанного напряжения – и готов новый, просветленный, совершенный человек. Так, де, и я могу! Так вообще можно «делать» новых людей! Терпение, и еще раз терпение. Не забудем, друг, о накоплениях опыта в «Чаше», переходящих из жизни в жизнь, и о том, что не каждый, далеко не каждый всегда, во всех жизнях, развивает свой дух по восходящей спирали. Именно здесь-то и скрыта истина. «У сияния Матери Мира очевидность нашего бытия, как песчинка, но накопление Чаши подобно сияющей горе» [80]. Великий дар, божественный, вложен в человека изначально (зерно духа, или искра Божья), и потому самосовершенствование – высший долг человека, требующий неустанного труда, великого служения Богу и ближнему. И тогда непременно придет день, когда вы окажетесь «на Маковце», на очень высокой ступени духовно-нравственного восхождения, познания себя и Мира. Тогда обретете вы знание духа – способность мгновенного постижения истины.
Пустынножительство создавало исключительно благоприятные условия для ускоренного развития и гармонизации психо-энергитических центров Сергия, а на этой основе – для достижения духоразумения и духовидения, то есть для обретения знания духа. «Не выдуманной формулой, но неописуемой мощью духа слагаются возможности новые» [81].
Два – три года жил инок Сергий отшельником, то есть около тысячи самоотверженных дней неустанного труда, духовного и физического. Самоуглубленной тишины, дисциплины духа и воспитания сердца в любви к Богу и Его первому творению – природе. Мужественного преодоления препятствий и невзгод, бесстрашной борьбы с мракобесами, с порождениями хаоса, со стихиями. Один против всех? Нет, не один, а в сотрудничестве с Высшими, добрыми, светлыми силами. И в этом был залог его великой победы: он проводил «высший из опытов – опыт над собой» [82]. Он «знал великое обострение чувств... Он никогда не жалел себя, и такое качество не было умственным, но сделалось природою» [83].
Два – три года были необходимы Сергию, чтобы у него открылись все психоэнергетические центры – лучший доспех духовного воителя для успешного ведения жизненных битв, неотделимых от его труднейшей земной миссии. Сергию было около 30 лет – возраст йогической зрелости. Подобно Христу, он вовремя вышел на свой предопределенный Свыше путь: «...до 30 лет не все центры могут функционировать без вреда сердцу» [84] и «...не все центры готовы для высших проявлений» [85]. Подвиг во имя Общего Блага был краеугольным камнем, на котором Сергий воздвигал великое будущее. И своей Родины, и свое.

8. СВЯТО-ТРОИЦКАЯ ОБЩИНА МОНАХОВ
Мы решительно против монастырей как антитезы жизни. Лишь рассадники жизни, общежития лучших выявлений труда найдут себе Нашу помощь.
Живая Этика
Жизнь святого Сергия тесно связана с судьбоносными событиями в истории русского народа. Это облегчает составление хроники его индивидуальной жизни, описанной в «Житии». И все же проблем остается немало. Агиографы ведь не считают нужным точно определять временные рамки или даты событий, полагая, что святой живет в вечности, где нет календарей, и что достойны внимания лишь события духовной жизни, утверждающее его восхождение по «лестнице» бессмертия. А жизнь духовная есть непрерывный процесс самосовершенствования, в котором временные рубежи установить можно лишь весьма относительно. Это соображение приобретает особое значение для двенадцати лет жизни святого Сергия в начале в лесной одинокой келье, а затем – в небольшом лесном монастыре, расположенном вдали от поселений и не входящем в систему православных монастырей, подчиненных Русской церкви. Как раз такой период в жизни святого Сергия мы сейчас намерены рассмотреть.
8.1. О хронологии событий в жизни Сергия с 1342 по 1354 гг.
Ранее мы упоминали, что Варфоломей стал отшельником в 28 лет, то есть в 1342 году. Теперь мы хотим рассказать, на основе каких соображений был вычислен этот год. Таких соображений несколько. Первое основано на следующем упоминании «Жития» об освещении лесной церквицы: «И тогда священа бысть церкви въ имя Святыа Троица отъ преосвященнаго архиепископа Феогноста, митрополита Киевского и всеа Руси, при великом князе Симеоне Ивановиче, мню убо, еже рещи въ начало княжениа его» (с. 308). Цитата взята из списка «Жития», изготовленного в 20-е гг. XVI века, то есть спустя 180 лет после предполагаемого освящения церквицы. В первой пахомиевской редакции (середина XV в.) указание на время освящения церквицы еще неопределеннее: «Бе бо тогда митрополит Феогност» (с. 348), занимавший высший церковный пост с 1328 г. по март 1353 года. Симеон Иванович (по прозванию Гордый) княжил с 1340 по 1353 год. Это установлено точно. Что же понимать под началом его великого вняжения? Ответ зависит от того, с какой временной дистанции агиограф смотрел на княжение и определял его начало. С расстояния в 180 лет «начало княжения», продолжавшегося 13 лет, может быть понято не только как в самый первый год, но и в последующие год или два. Мы должны также принять во внимание, что агиографу «Жития Сергия» не свойственно стремление к точному определению времени событий.
С освящением церквицы в начале княжения Симеона связано по времени пострижение Варфоломея в монахи под именем Сергия. Судя по контексту «Жития» это событие произошло в том же году, что и освящение церквицы: в освящении участвовал Стефан, о котором сказано, что он после этого, скорее всего, осенью того же года, ушел в Москву, в Богоявленский монастырь. Согласно монашеским правилам Варфоломей должен был при пострижении в монахи получить другое имя, которое давалось в честь того святого, чей праздник по календарю был ближе других ко дню пострижения. Варфоломей получил имя Сергия, и отсюда делается вывод, что пострижение произошло 8 октября, когда единственный раз в году отмечается праздник святых Сергия и Вакха. О возрасте Варфоломея при пострижении имеются в разных редакциях «Жития Сергия» три указания. Пахомий Логофет в своей Первой редакции определяет возраст в 20 лет, а в последующих редакциях увеличивает до 23 лет. В Пространной редакции, в той ее части, которую ряд исследователей считает (полностью или неполностью) епифаниевской, возраст пострижения Сергия в монахи определяется дважды – «более 20 лет» и «23 года» (с. 312). Второе хронологическое определение (23 года) в этом списке Пространной редакции записано на полях и потому считается вставным, неистинным. Следовательно, остается хронологическое определение «более 20 лет». Поскольку оно содержится в списке, отдаленном от события примерно 180-ю годами, исследователь вправе понимать выражение «более 20 лет» в пределах от 20 до 29 лет. Нелогично с такой временной дистанции, когда счет идет на года, осмысливать это выражение как утверждение, что в день пострижения Варфоломею было 20 лет. «Более» означает тут более не на месяцы, а на годы; так именно понял это слово тот, кто на полях Пространной редакции (возможно, по примеру Пахомия) написал поправку к тексту («в возрасте 23 лет»). Почему он выбрал 23, а, к примеру, не 28 лет, остается загадкой.
Поскольку мы считаем, что Варфоломей (Сергий) родился в 1314 году и что он не мог быть пострижен в монахи ранее 1340 года (см. цитату о начале великого княжения Симеона Гордого), постольку логично монашеский возраст Сергия отсчитывать начиная с 26 лет. Если, кроме того, мы примем во внимание рассмотренный ранее (в комментариях) хронологический алгоритм, согласно которому, год пострижения Сергия вычисляется как 1342 г., то обоснованнее будет его монашеский возраст исчислять с 28 лет. С этим возрастом хорошо согласуются, как мы уже отмечали ранее, другие хронологические соображения:
1) примерно через два года (это отмечено в «Житии») Сергий стал «де факто» игуменом монастырька;
2) в этом же возрасте Христос, по пути которого шел Сергий, начал служение людям;
3) а через 10 лет, когда Сергию исполнилось 40 лет, он стал официальным игуменом (1354 г.) – в согласии со Студийским монастырским уставом, принятым тогда на Руси.
Исходя из указания «Жития» о двух-трехлетнем отшельничестве Сергия, мы вычисляем 1344 год как год начала совместной жизни Сергия с другими монахами на территории вокруг церквицы Святой Троицы. Время, которое мы намерены осветить в этой главе, определяется началом и концом монашеской общины во главе с Сергием, вплоть до его официального назначения игуменом монастыря Св. Троицы в 1354 г. Следовательно, это время охватывает – прошу читателя запомнить – десять лет. И оно никем не ставится под сомнение, хотя весьма часто не фиксируется, замалчивается. Десять лет Сергий был фактическим игуменом монастыря Святой Троицы, хотя его никто в этой должности не утверждал. Десятилетие неоцерковленного существования монастыря было отмечено важными событиями: приходом к Сергию смоленского архимандрита Симона, построением новой, более обширной церкви, созданием 12-членной Общины монахов, бунтом голодающих монахов против Сергия, чудесным привозом хлебов голодающим монахам.
Какая-либо хронология этого времени отсутствует как в Первой пахомиевской, так и в Пространной редакциях. Однако есть одно событие, которое помогает определить приблизительно годы всех вышеназванных событий. Событие это – смерть игумена Митрофана. В Пространной редакции (только в ней) о его смерти сказано так: «По лете же единем прежереченный игуменъ, иже постриже блаженнаго Сергиа, разболеся, и неколико время поболевъ, от сего житиа преставися и къ Богу отъиде» (с. 322). Надо решить, после чего прошел отмеченный год. Вариантов ответа всего два: после пострижения Сергия и после начала его жизни вместе с другими монахами. Первый вариант отпадает:
1) раньше в «Житии» определенно было сказано, что Сергий жил один в пустыньке два-три года;
2) сообщение о смерти игумена Митрофана помещено в центр рассказа именно об устроении монастыря Святой Троицы. Следовательно, наиболее вероятно, что игумен Митрофан умер примерно год спустя после основания монастыря (1344 г.), то есть году в 1345-м. К этому времени, значит, надо относить недовольство монахов тем, что Сергий не хочет быть игуменом и что приходится для совершения литургии приглашать «чужого попа» (об этом недовольстве мы подробно расскажем позднее). Недовольство, грозившее перерасти в конфликт, было прекращено самым неожиданным образом: в монастырь пришел знаменитый смоленский архимандрит Симон, который, понятно, имел право совершать литургии и постригать в монахи. Конфликт был снят в преддверии наметившегося скандального ухода монахов из монастыря. Если мы отведем год на созревание конфликта после смерти игумена Митрофана, то можно будет предположительно отнести приход архимандрита Симона к 1346 году. Примерно через год (в 1347 г.) была на деньги Симона построена новая, вместительная церковь. Обо всем этом и о других событиях 1344 – 1354 гг. мы сейчас обстоятельно расскажем.
8.2. Основание лесного монастыря
Недолго они могли оставаться в пустыне; наполнив духовный сосуд, они ощущали потребность возвращения к людям.
Живая Этика
Итак, в 1344 году к Сергию стали приходить первые монахи, и кое-кто из них поселился на Маковце – с согласия Сергия. Этот факт, означавший крутой поворот в судьбе молодого инока, отмечен и в Первой пахомиевской, и в Пространной редакциях, но истолкован агиографами по-разному.
Пахомий объяснил все просто, без затей: «Немного лет спустя пожелал Бог воздвигнуть святую обитель, о которой идет речь. Живущие в окрестностях, прослышав, как говорится, о добродетелях святого мужа, внезапно стали приходить к нему: одни хотели получить исцеление, другие просились жить вместе с ним» (с. 349). За несколько лет (по другим редакциям за 2-3 года) Сергий в глазах окрестных жителей получил авторитет «святого мужа». Как и почему это случилось, Пахомий не разъясняет. Он просто констатирует факт. И поскольку событие особенное, приведшее, как известно, к созданию святой обители, то оно, по мнению Пахомия, должно было произойти только по воле Бога. Так думает Пахомий, и он знает, что так же думают и верующие. И Пахомий снова без каких-либо объяснений или подробностей утверждает, что ему известно это волеизъявление Бога. Пахомий знает также, как Сергий встречал и принимал тех, кто из приходящих мирян желал остаться в лесу и жить с ним. Пользуясь своим правом автора (правда, чрезмерно свободно), Пахомий даже передает буквально, слово в слово, одно высказывание Сергия: «братья, пусть не устрашит вас мысль о том, что места эти пустынны и что будете тут терпеть нужду, ведь написано так: «многими скорбями подобает нам войти в царство небесное» (с. 349). Так «утешал» (там же) Сергий немногих смельчаков, отважившихся разделить с ним тяготы пустынножительства. Поведение инока Сергия вполне соответствует образу Сергия Радонежского, созданному Епифанием в «Похвальном слове», и потому мы полагаем, что пахомиевский текст здесь сохранил епифаниевскую основу. Разумеется, Бог мог вложить в умы некоторых людей мысль поселиться в Маковецкой пустыне. То же самое мог сделать и Князь тьмы, зломудрец, но, конечно, с противоположной целью – разрушить изнутри, а не укрепить новую монашескую обитель. Поведение пришельцев в дальнейшем само покажет, чью волю они исполняли.
Анонимный агиограф, который, в отличие от Пахомия, неоднократно и с нажимом утверждал, что инок Сергий более всего хочет «единъ единъствовати», оказался в немалом затруднении. Ведь, по словам Анонима, Бог осенил молодого инока Сергия новой Благодатью именно при начале отшельнического пути, что означало, конечно, полное одобрение Им этого пути. И вдруг путь в конце изменяется. Сергий возвращается к людям. Это требует объяснения, мотивировки. И Аноним находит их. Аноним проникает в мысли Бога так же легко, как и Пахомий. Ничтоже сумняшеся, Аноним сообщает о новом волеизъявлении Бога: «И потом Бог, видя его великую веру и большое терпение, проявил милосердие, желая облегчить его трудную жизнь пустынника, Бог вложил желание в сердце некоторым братьям, монахам богобоязненным, и они стали приходить к нему» (с. 318). В тексте Пространной редакции это объяснение прочитывается как явно неудовлетворительное, внутренне противоречивое. Разве Бог не знал, что несколькими годами ранее Он благословил милодого инока на тяжелую отшельническую жизнь? И разве Бог тогда поступил немилосердно? Эти недоуменные вопросы – прямое следствие того, что Аноним ранее исказил мечту Сергия, представив отшельничество как цель всей его жизни, в то время как оно было для него наилучшим средством закала духа перед началом иного, тоже подвижнического, но иного пути – пути Служения Богу в неразрывной связи со служением ближнему, своему народу и человечеству. И далее Аноним перекладывает на Бога и на Сергия свою вину, свое искажение Сергиевой мечты: «Так случилось по промыслительной воле всесильного, милосердного Господа Бога, Который пожелал, чтобы в этой пустыньке жил не только Сергий, но и многие другие братья, согласно слову апостола Павла: «Ищи пользу не для одного себя, но для многих – пусть и они спасутся» (с. 318). Оказывается, виной всему Бог и индивидуализм Сергия. Несколькими страницами раньше агиограф Некто укреплял якобы заветную мечту Сергия (жить всегда одному) приуподоблением его решения решению патриарха Авраама и даже примером райской жизни праотца Адама, а теперь находит прежнее решение себялюбивым, что и утверждает авторитетно ссылкой на апостола Павла. И с христианской, и даже с церковно-православной точки зрения можно было бы дать такое объяснение перехода от лесного затворничества к жизни вместе с монахами, в котором не было бы никакой критической ноты. Вот как эту задачу решил архимандрит Никон: «Своимъ пустыннымъ подвигомъ Сергий исполнилъ во всей широте первую половину великой заповеди Божией о любви; возлюбиши Господа Бога твоего всемъ сердцемъ твоимъ, и всею душею твоею, и всею мыслию твоею» (Мф., 22:37); и теперь Господь призывал его исполнить в такой же полноте и вторую половину сей заповеди: – возлюбиши искренняго твоего яко сам себе (Мф., 22:39). Смиренно трудился онъ въ пустыне для Господа; настало время столь же смиренно послужить и ближнему ради Господа» [86]. Предвзятая заданность оценки Анонимом мотивов поведения Сергия становится очевидной при сравнении объяснения Анонима с объяснением архимандрита Никона. В запале тогдашней внутрицерковной борьбы агиограф Некто видел в Сергии Радонежском своего идейно-религиозного противника и потому пытался затуманить ореол святости вокруг его головы. Такое отношение Анонима к Сергию проявилось также в том, что он называет его «преподобным», хотя Пахомий почтительно именует Сергия «святой муж», что, конечно, восходит к Епифанию, считавшему преподобного Сергия святым по благодати, а не по закону, не по канонизации.
Аноним иначе, чем Пахомий, описал отношение Сергия к тем, кто хотел жить вместе с ним в лесной пустыне. Аноним утверждает, что к Сергию приходили только монахи: «Итак, по изволению Бога, начали посещать его монахи, вначале по одному, затем иногда по двое, иногда по трое. И они умоляли преподобного кланяясь: «Отче, прими нас, мы хотим с тобою жить на этом месте и спасти свои души». Аноним исключает, в отличие от Пахомия, всякое упоминание о контактах Сергия с мирянами, проживающими окрест его пустыньки: такое упоминание не совмещается с созданным ранее образом абсолютно одинокого отшельника-молчальника. Второе отличие от пахомиевского образа Сергия в том, как он отнесся к почтительно высказанному желанию монахов «на месте сем жити» (с. 318). «Преподобный же не только не принимал их, но и противился им, говоря: «Вы не сможете жить тут и не сможете перенести пустынные тяготы: голод, жажду, страдания, неудобства, скудость, нужду» (с. 319). Сергий говорил так уверенно потому, что он знал условия жизни монахов в удобножитных монастырях (других тогда на Руси не было) и знал их отношение к пустынножительству, в принципе такое же, как и у Стефана, его родного брата. Однако ответ монахов удивил Сергия («Мы хотим перенести тяготы жизни на этом месте, и, если Бог посодействует, то и сможем».), и он снова, но уже в форме вопроса, обратился к ним: «Сможете ли вы перенести тяготы места сего: голод, и жажду, и всяческую нужду?» (с. 319). В ответ он услышал уверения, что с помощью Бога и Сергия, они все трудности преодолеют и потому просят его только о том, чтобы он не удалял их от себя и «не изгонял с этого места, любезного нам» (там же). Странный получается диалог. Отшельник не имел никакого права на землю вокруг его пустыньки и потому не мог никого прогнать отсюда силой, да и сила была не на его стороне, судя по тому, что с ним иногда разговаривали несколько монахов одновременно. Разве Епифаний, от имени которого пишет Аноним, не знал этого и не понимал положения Сергия? Получается, что и не знал, и не понимал так же, как и монахи. Но внезапно поведение Сергия полностью изменяется: «Преподобный же Сергий, увидев их веру и усердие, удивился и сказал им: «Я не изгоню вас, потому что Спаситель наш говорил: «Приходящего ко Мне не изгоню вон»; и еще сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». И Давид сказал: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе» (ПЛДР, с. 317). Мотивировка резкой перемены поведения Сергия вызывает новое недоумение. Да, по словам монахов до некоторой степени можно было судить об их вере, но не об их усердии, критерием которого могут бьггь только дела. Но главная причина недоумения в том, что агиограф не вспомнил своевременно хорошо ему известные авторитетные библейские изречения и Сергий не руководствовался ими при разговоре с монахами. На этот раз от «забывчивости» Анонима несет ущерб образ Сергия (прежде всего): молодой инок (заметим кстати, что не впервые) бросается легкомысленно от одной крайности (отказ монахам) к другой (уговаривает их остаться в лесу со ссылками на Библию). И даже оправдывается перед монахами: «Ведь я, братья, хотел один жить в пустыне этой и так умереть на месте этом» (с. 319). И далее каким-то образом вдруг уразумевает, что монахи пришли к нему по воле Бога: «И если так изволил Бог, и если Ему угодно, чтобы на этом месте возник монастырь с многочисленной братией, да будет воля Господня!» И теперь Сергий уже «с радостью принимает» (там же) монахов, ставя им ряд предварительных условий.
Отсюда в рассказе начинается разумный Сергий, ставящий монахам ясно и четко некоторые условия, обязательные для их жизни совместно с ним. Первое и важнейшее: «...только потрудитесь каждый сам построить себе келью» (там же). Это надежное испытание усердия и способности к труду: кто не может выполнить это условие, сам вернется в свой монастырь, кто выполнит – останется жить в лесной пустыньке. Наверное, Сергий и поступал так ответственно. Отшельническая жизнь в лесу гораздо более серьезное, всестороннее испытание, чем постройка келий. Потому Сергий предъявляет монахам еще ряд психологических и духовно-нравственных требований, которые вместе с физическим трудом можно назвать Сергиевым неписаным уставом, проверенным им на личном опыте: «Да будет вам ведомо: если в пустыню эту вы жить пришли, если со мной на этом месте жить хотите, если вы пришли служить Богу, приготовьтесь переносить страдания, беды, заботы, всякие печали, и нужду, и лишения, и нищету («нестяжание»), и бессоницу («неспание»). Если вы хотите служить Богу и для этого пришли, то с этого времени устремляйте сердца ваши не к пище, не к питию, не к покою, не к беззаботности, а к терпению, чтобы переносить всякое испытание, и всякое страдание, и заботы. И готовьтесь к труду разнообразному, к пощению, к подвигам духовным, ко многим скорбным страданиям...» (с. 319).
На наш взгляд, в епифаниевском тексте «Жития» мог и даже должен был быть разговор о тяготах отшельнической жизни: иначе, как «отсеять» слабых духом и неспособных к постоянному труду? Однако Епифаний не мог, в противоречии с самим собой, показать Сергия отвергающим монахов, пришедших к нему за помощью в спасении их душ, показать себя не знающим христианской аксиомы, гласящей, что все происходящее совершается по воле Божией. Епифаний, в отличие от Анонима, не отлучал мысль Сергия от людей и тем более не противопоставлял его миру; напротив, Епифаний внушительно показал его готовность служить ближним (родителям) еще до начала пустынножительства. Поэтому, думается нам, что Епифаний, лично знавший реального игумена Сергия в течение 18 лет, должен был изобразить его молодым иноком, находящимся в душевном соответствии со взрослым, почтенным игуменом Свято-Троицкого монастыря, т. е. показать инока-отшельника преисполненным христианской любви к тем, кто пришел в лесную пустыню, чтобы совместно совершить духовный подвиг, служа всем «чистым житием» (с. 273) Богу и людям, им «на пользу» и «на спасение души» (там же).
Немногие принимают полноту служения в его жизненности и подвиге... Мы высоко ценим духовное преуспеяние, отречение от самости и знание земных условий.
Живая Этика
Что же привлекало к иноку Сергию окрестных жителей и монахов из других монастырей? Разумеется, его выдающиеся способности и духовно-нравственные достоинства, или, говоря языком агиографии, его добродетели. Пахомий и Аноним их заботливо перечисляют, и их перечни в большинстве случаев совпадают. Мы рассмотрим оба перечня и сравним их с перечнем Епифания в «Похвальном слове» и с оценками Сергия в Живой Этике.
Пахомий так написал о добродетелях Сергия: «Жестокое же житие иже въ святых отца нашего Сергеа кто исповесть, глаголю же: бдение, сухоядение, на земли легание, чистота душевнаа и телеснаа, устнама и умом съвръшенное безмлъвие, смирение нелицемерное, молитва непрестанная, расуждение доброрассудное, любовь сьвръшеннаа, худость ризная, память смертнаа и страхъ Божий и иная вся, елика прочитайте жития святых отець, тщашеся собою исправити и явится наследникъ славе их» (с. 350). Перевод: «Жестокое же житие святого отца нашего Сергия кто опишет: бдение (бодрствование в ночное время. – А. К.), сухоядение (питание в сухомятку, без мяса и рыбы, очень строгий пост. – А. К.), сон или отдых на земле, чистота душевная и телесная, совершенное молчальничество словами и умом, смирение нелицемерное, молитва непрестанная, благое рассуждение, любовь совершенная, бедность в одежде, память о смерти и страх Божий и все другое, о чем Сергий прочитал в житиях святых отцов, он старался исполнить, чтобы стать наследником их славы». Перечень добродетелей не прокомментирован Пахомием, не согрет сердечным восхищением подвижничеством Сергия.
В сухой этот перечень внесен ряд сомнительных добродетелей, в то время как в него не включены подлинные добродетели Сергия, ранее охарактеризованные в «Житии» или с несомненностью утверждаемые его подвигами. Пахомий, прежде всего, старается показать жестокий аскетизм Сергия – именно то, что совершенно ему чуждо. Это доказывается тем, что Епифаний в своем перечне добродетелей («Похвальное слово»), гораздо более длинном, чем пахомиевский, все же не упоминает ни бдения, ни сухоядения, ни «на земли легания», ни совершенного молчальничества. Пахомиевское «съвръшенное безмлъвие устнама и умом» – вообще нелепость, нечто нереальное. При таком молчании-безмыслии невозможны и некоторые другие добродетели, например, молитва непрестанная и благое рассуждение. Не случайно агиографаноним поправил Пахомия, исключив слово «умом» и определение «совершенное». Епифаний в «Похвальном слове» о молчальничестве говорит сдержанно и поучительно для тех, кто обрекает себя на безмолвие: «мльчялником удобрение», то есть укрепление и назидание. Нет и не могло быть у Епифания и такой лукаво преувеличенной похвалы Сергию, будто он старался исполнить «все, о чем прочитал в житиях святых отцов»: знающий читатель понимает, что исполнить это одному человеку совершенно невозможно и не нужно, и потому читатель в лучшем случае скептически улыбнется подобной добродетели. Пахомий завершает перечень всеохватным обобщением, указанием цели, ради которой Сергий якобы подверг себя «жестокому житию»: «тщашеся собою исправити (достижения святых отцов. – А. К.) и явится наследникъ славе ихъ» (с. 350). Труднейший путь, жесточайшие испытания плоти и духа будто бы имеют своим источником силы и конечной наградой, увенчивающей достижения, тщеславие, а не мысль, труд и веру, не Служение Богу и ближнему без мечтаний о последующей великой славе. Такая земная цель, замыкая на себе все подвижничество, обесценивает Сергиево житие, лишая его как устремленности ввысь, так и полезности для людей, для улучшения их жизни и их самих. Не случайно Пахомий не говорит ничего о том, как относились другие насельники монастыря к подвигам Сергия. Они, судя по тексту «Жития», были подобны ему только в молчальничестве. Однако и оно, в конце концов, оказывается фикцией: и монахи, и Сергий нарушают обет молчания, вступив в переговоры о священстве Сергия. В итоге Пахомий разрушает свой же образ Сергия, строгого аскета, который на деле показывает себя непоследовательным подвижником и безвольным человеком.
Агиограф Некто своему перечню добродетелей Сергия предпослал такое вступление: «Преподобный же Сергий, живый с братиами, много труды претръпеваше, и великы подвигы и поты посьтничьскаго житиа творяше. Жестоко же постное житие живяше; бяху же добродетелие его сице:...» (сс. 319-320). Перевод: «Преподобный же живя с братьями, претерпевал много трудов, великие и тяжкие подвиги постнические совершал. Он жил жизнью жестокого постника; его добродетели были таковы:» (с. 320), и далее следует их перечень, в основном, повторяющий пахомиевский, но кое в чем иной. Кроме иного, чем у Пахомия, понимания молчальничества, в нем имеется несколько дополнений. Перечень пополнили: голодание и жажда, добродетель под эвфемистическим названием «плотскаго хотениа известное умръщвение» (половое воздержание), физический труд, «кротость с тихостью» да к «страху Божьему» дано определение «непрестанный». Две добродетели Аноним прокомментировал и тем придал им особо важное значение (страх Божий и половое воздержание), а об остальных, подобно Пахомию, не сказал более ни слова.
Первым комментируется «страх Божий непрестанный». Первую строку в комментарии агиограф берет в кавычки: «Зачало бо премудрости страхъ Господенъ», т. е. «начало премудрости – страх Господний». Кавычки отсылают к Библии (Пе, 110:10), в которой мы читаем: «Начало мудрости – страх Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его». Аноним берет из псалма Давида только первую часть изречения, и далее продолжает свой комментарий так: «яко же зачало цветь ягодамъ и всякому овощу, сице зачало есть всякой добродетели страх Божий. Онъ же страх Божий в себе въдруживъ и тем ограждься, и закону Господню поучаася день и нощь, яко древо плодовито, насаждено при исходищих водьных, иже въ свое время дасть плод свой» (с. 320). Перевод: «как цвет – начало ягоды и всякого овоща, так страх Божий – начало всякой добродетели. Он же (Сергий. – А. К.), страх Божий в себе утвердив, тем защитил себя, и он, закону Господа следуя день и ночь, уподобился дереву плодоносному, посаженному вблизи родников водных, древу, которое дает свой плод в свое время». Учение Христа основано не на страхе, а на любви, и автор сам отметил это, рассказывая о начале отшельничества Сергия. Все устрашения Сергия исходили от дьявола и его слуг, а не от Бога и ангелов. Не Христос, а церковные власти, внедряли в души христиан страх Божий. И агиограф шел по этому же пути. Пользуясь тем, что слово «Господь» (Бог) можно употреблять как по отношению к старозаветному, так и новозаветному Высшему Божеству, пользуясь неграмотностью народа, агнограф незаметно подменяет Христа (Любовь) Иеговой (Страхом). При этом и Ветхий Завет процитирован неполно, что привело к искажению смысла. Цитата о страхе Господнем, приведенная в «Житии», оборвана на половине, и легко понять почему. Ясно, что Давид связывает неразрывно «разум верный», т. е. мудрость, с исполнением заветов Господа. Страх Божий может быть лишь началом мудрости и лишь для того, кто действительно идет по пути Бога. Но «непрекращающийся страх перед Господом» не может улучшить, облагородить душу человека или народа. История древнего Израиля это неопровержимо доказала. И потому в силу необходимости пришел новый Мессия, Христос, с проповедью Любви, чтобы очистить от скверны, в том числе и от страха, сердца человеческие. Агиограф, несомненно, понимал, что, опуская вторую часть библейского стиха, он искажает его смысл. Но он знал точно, что церковное священноначалие в жизни не исполняет заповедь Христа о любви к ближнему. Знал и прикрывал утрату им «разума верного». Показательно, что в «Житии Сергия» часто применительно к верующим и к монахам употребляются слова «боящийся Бога» и «богобоязненный», но тщательно обходятся определения «любящий Бога», «любящий ближнего» и подобные. Сергий же Радонежский сознательно, целеустремленно утверждал такую веру, которая основывается на исполнении всех заветов Христа, на следовании Его путем служения людям. Только такую веру Сергий считал истинной; и только монашеское служение Богу, которое основано на полноохватной, истинной любви к Богу и ближнему, может быть путем восхождения к святой мудрости и силе. Страх же Божий «непрестанный» легко внушается именно «слабым и ленивым» в делах своих, для которых обременительна, неприемлема деятельная Любовь. Агиограф снова противоречит себе, утверждая, будто именно «страх Божий», а не любовь к Богу и не крепкую веру в Него водрузил Сергий в своем сердце как знамя и как доспех для борьбы с врагами. Страх может, как известно, породить только страх, а не бесстрашие и твердость в вере, которыми отличался Сергий, и потому глубоко ошибочно рассуждение о плодотворности страха Божьего для Сергия и вообще для «добродетельного» духовно-нравственного развития истинно верующего человека.
В Библии нет определения страха Божьего как «начала всякой добродетели». Оно придумано агиографом. И как может быть страх Божий началом любви совершенной, началом истины, добра, красоты? Страх не освобождает сознание человека от пут, а закрепощает его, не возвышает сознание, а принижает его до животного уровня. «Страх разрушает каждое благое начинание» [87]. Замечательно сказано о страхе и любви в 1-м послании Иоанна: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем... В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви» (4:16, 18). Эта цитата со всей очевидностью проясняет, почему агиограф Некто не прокомментировал «любовь совершенную»: он не мог ведь опровергать свое перехваливание ветхозаветной добродетели, именуемой «страх Божий», да к тому же непрестанный. В таком преувеличении мы видим верный знак того, что церковные православные агиографы к началу XVI века уже исчерпали проповедничестский ресурс «любви к Богу и ближнему» и потому вынуждены были затенить, приглушить эти заповеди, фактически заменив их «непрестанным страхом Господним». В полном согласии с апостолом Иоанном, но уже с учетом современного уровня человеческого сознания сопоставляются страх и любовь в Живой Этике. «В первобытных религиях прежде всего преподавался страх к Богу. Так внушалось чувство, которое обычно кончается восстанием (выделено мною. – А. К.). Конечно, каждый, прикасающийся к Высшему Миру, испытывает трепет, но это неизбежное ощущение не имеет ничего общего со страхом. Страх есть прекращение творческой энергии. Страх есть окостенение и предание себя тьме. Между тем, обращение к Высшему Миру должно вызывать восторг и увеличение сил к выражению прекрасного. Такие качества рождаются не страхом, но любовью. Потому высшая религия учит не страху, но любви. Только таким путем люди могут привязаться к Миру Высшему. Оковы страха свойственны рабству. Но прекрасное творение не рабство, но почитание любовью. Сравним сделанное страхом и любовью. Сокровище духа не из темницы страха, потому посоветуем людям любить и укрепляться чувством преданности. Никто не может защищать место страшное, но подвиг совершается во имя любви» [88].
Попытка Анонима объяснить успешное противостояние Сергия половому влечению так же внутренне противоречива, как и размышление о страхе Божьем. «И так как он (Сергий. – А. К.) был молод, крепок плотью, был силен телом, как два человека, дьявол захотел нанести ему удар стрелами похоти. Преподобный же, ощутив вражеское нападение, защитил тело и работой подчинил его себе, обуздал постом; и так благодатью Божьей он был избавлен. Он научился бороться с бесовскими нападениями: как только бесы хотели пустить в него греховную стрелу, так преподобный сам стрелял в них чистыми стрелами...» (с. 318). Агиограф, очевидно, считает греховным сосудом само тело и половое влечение, забывая, что и то, и другое создано Вседержителем, что без взаимного влечения мужчины и женщины не было бы человечества и не появился бы на свет Божий сам агиограф. Ясного понятия о божественной тайне деторождения, о единстве духа и материи он не имеет, и потому половое влечение объясняет кознями дьявола («бес создает плотские побуждения» – с. 322). Выспренние глаголания о некоей «перестрелке» Сергия с бесами ничего не объясняют, но зато хорошо показывают желание агиографа напустить на читателя высокоумный туман. При этом образ дьявола вызывает в памяти образ древнегреческого Амура, запускающего в сердца людей стрелы любви, а Сергий уподобляется некоему неведомому стрелку из лука, зачем-то стреляющего в бесов (будто он хотел сделать их праведниками) совершенно непонятными «чистотными стрелами»,изобретенными агиографом.
Когда агиограф (в данном случае, вероятно, Епифаний) снова возвращается к рассказу о монашеской добродетели «умерщвления плоти», он называет три средства борьбы с эротическим кознодейством бесов: «непрестанный труд, прежде всего, физический», изнурение тела постом и непрестанная молитва. Вот как подытожил агиограф свои соображения: «...усердным воздержанием и великим трудом изнурил он (Сергий. – Л. К.) тело, в котором бес создавал плотские побуждения... И когда Сергий что-либо делал, то всегда в устах его был псалом, в котором сказано: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную от меня; не поколеблюсь» (сс.21-322). Приуподобление агиографа хорошо, но смысл его не раскрыт. Приведем наиболее существенные для нашей темы стихи из этой песни Давида: «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты – Господь мой: блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим – к ним все желание мое... Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. ...и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня... Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную от меня; не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аду и не дашь святому Твоему увидеть тление, Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим и блаженство в деснице Твоей вовек» [89]. Царь и пророк Давид не был монахом, и тема 15-ой песни соприкасается с темой умерщвления плоти лишь в общем плане. Ясно, что под «успокоением плоти» в песне имеется в виду успокоение всяких страстей и желаний, исходящих от тела. Однако, вопрос этот разрешен так, что затрагивает самую суть и проблемы полового воздержания. Дело, на наш взгляд, в том, чтобы осознать и почувствовать господство духа над телом, а затем уж и подчинить тело духу. При этом вовсе не обязательно изнурять тело до изнеможения, вполне достаточно соблюдать умеренный пост. Сергий был крепкий мужчина, но это не помешало ему всю жизнь прожить девственником. Усталость от непрестанного физического и умственного труда вовсе не запирает плоть на замок, и непрестанная молитва на устах, как навязчивая мелодия, вовсе не прекращает ток других мыслей на параллельных дорожках.
Слов нет, молитва, напряженный труд и умеренность питания полезны для полового воздержания, но и они, взятые в комплексе, не имеют решающего значения. Они нужны и полезны лишь тогда, когда «все желание» устремлено «к святым, которые на земле, и к дивным Твоим», другими словами, к самосовершенствованию духа. Только если дух человека осознал себя как часть Святого Духа, а свое «я» как неотторжимую часть «Я» божественного, человек получает власть над телом, над его прирожденными влечениеми. Но когда приходит к нему такое осознание и такая власть? Это процесс длительный. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей» – каков смысл этого высказывания Давида? О каком наследии и какой чаше идет речь? Конечно, всякий согласится, что Давид говорит о духовном наследии, об «искре Божьей» или «зерне духа», заложенном изначально в каждого человека. «Чаша» в этом контексте прочитывается как «Чаша» – хранилище всех накоплений человека в предыдущих жизнях, один из важнейших психических центров человека. У подавляющего большинства современных людей Господь (духовный опыт) занимает в «Чаше» столь незаметное место, что голос духа своего они не слышат вовсе или слышат невнятно, и потому не придают ему должного значения, не руководствуются им в жизни. Но Давид или Сергий Радонежский – Святые по рождению, а не по канонизации, и в их Чашах Господь является главной частью. Говоря не иносказательно, их духовная сила такова, что они могут успокоить свою плоть. Тогда и молитва как собеседование с Высшими Силами Света, с Богом, как погружение своего «я» в «Я» Всеначальное дает им новые силы и надежду на успех. Вот почему мы верим агиографу, что 15-й псалом Давида был в определенный период жизни Сергия Радонежского его любимой духовной песней, которая помогала ему в осуществлении труднейшего из плотских воздержаний – в преодолении полового влечения. Приспешники Сатаны могут, конечно, осложнить это преодоление, внушая человеку похотливые мысли и распаляя его воображение. Но для влияния на сознание Сергия Радонежского у них мало сил.
Мощная энергия деторождения («оддическая» по терминологии «Живой Этики») может быть укрощена лишь психической энергией, более утонченной, более мощной. Плотской любви с успехом может противостоять Любовь Совершенная, которая распространяет свое влияние на тончайшие психические структуры человека. Ведущим началом Совершенной Любви является Любовь к Творцу всей Красоты Мира, всего прекрасного в человеке. У совершенного человека такая Любовь есть чувство настолько глубокое и мощное, что оно может, как мы видим на примере Сергия, полностью овладеть его естеством. Любовь Совершенная, по Учению Живая Этика, может вместить и любовь плотскую, тоже ведь созданную Творцом.
«Труд физический» – добродетель, забытая Пахомием. И не случайно. В византийских удобножитных монастырях (других в то время уже не было) такой добродетели не знали, впрочем, и в русских тоже. В Сергиево время эта добродетель, вначале очень редкая, постепенно утвердилась среди монашества, особенно после установления общежительных монастырей; но всеобщей эта добродетель так и не стала. О телесных трудах Сергия есть все основания говорить как о трудах осознанно жертвенных и даже священных, потому что они совершались при благословении Свыше. Но Сергий усердно трудился не только физически, но и умственно. Ранее Аноним писал о том, что Сергий в пустыньке «прилежно читал» (с. 313), то есть расширял и углублял свое образование. К умственным трудам надо отнести и добродетель под названием «размышление доброрассудное». Без пояснений оно, конечно, могло пониматься различно, в зависимости от того, что считалось добром для монаха и человека вообще. Применительно к Сергию эту добродетель с полным основанием можно охарактеризовать как невредящее мышление, постоянно устремленное ко благу людей. Аноним же, увы, настраивает читателя на иной лад. Аноним (и в меньшей степени Пахомий) воздерживаются от безусловного одобрения служения Сергия больным, немощным родителям, выбора им узкого пути служения Богу. К умственному труду мы относим и «молитву непрестанную», хотя Аноним склонен ее рассматривать, скорее, как тяжелое испытание. Это видно по тому, что ранее (с. 315) он понимал непрестанность как молитвенные песнопения днем и ночью, а ночные молитвы и богослужения называл «всенощными бдениями» (с. 313). Молитва имела в жизни Сергия огромное значение как собеседование с Высшей Иерархией Света, как раскрытие души перед Творцом. Ее определение «непрестанная» применительно к Сергию можно осмыслить, если его постоянный труд и его подвиг рассматривать как возношение к Богу, как молитву, Ему наиболее угодную.
Весьма характерна для Сергия добродетель, названная «чистотой душевной и телесной», она сущностно связана со срединным путем самосовершенствования, избранным Сергием. «Чистота телесная» отвергает всякое истязание тела, говорит о том, что Сергий соблюдал гигиену тела. «Чистота душевная» свидетельствует о соблюдении гигиены души, то есть о самоконтроле за тем, чтобы никакая низкая, недобрая мысль не укоренялась в душе; заметим попутно, что, согласно Учению Живая Этика, чистота мыслей – важнейшая основа физического здоровья человека. «Бдение, голодание, жажда и сухоядение» – добродетели весьма и весьма относительные; применительно к Сергию было бы, на наш взглад, разумным понимать их как умеренное соблюдение христианских постов. Во-первых, агиограф позже сам говорит, что Сергий полного голодания не проводил, а «хлебом и водою питался, ...принимая их совсем понемногу»; «понемногу» не есть фиксированная норма, и для агиографа может означать одно, а для Сергия – другое количество пищи. Во-вторых, самое главное – факт, а не размышление агиографа; факты же говорят о том, что Сергий потреблял столько пищи, сколько для него было вполне достаточно, чтобы сохранить силу и работоспособность «двух людей» (с. 318). Сергию во всем было присуще чувство меры – ив питании тоже. Сергий, как сказано, «варил вариво»...братии на потребу» (с. 322). Мы уверены, что и сам он потреблял это «вариво»: в противном случае его организм от «сухоядения» пришел бы в расстройство, что привело бы к заболеваниям, а Сергий за всю жизнь болел один раз. О бдении как о ночных молениях мы уже сказали ранее. Оно, как и добродетель «на земли легание», относится нами к группе устрашающих «добродетелей», назначение которых ясно просматривалось уже ранее (спор Сергия и Стефана о монашеских путях) – отвратить монахов и мирян от «узкого» пути служения Богу и людям. Именно поэтому, на наш взгляд, Пахомий и Аноним начинает свои перечни добродетелей с устрашения, в отличие от Епифания, который на первое место поставил в «Похвальном слове» действительно основополагающие добродетели – любовь к истине и ненависть к пути неправды.
«Память смертная» (память о смерти) – осознание неминуемой ответственности каждого человека за свои мысли, намерения и поступки перед лицом Всевышнего. С этой добродетелью в христианстве связано учение о справедливом воздаянии за гробом (рай, чистилище, ад) и учение о Страшном суде, а в Живой Этике – учение о Карме, перевоплощении и бессмертии. Страшиться смерти должен тот, кто живет на Земле преступно, лишь для себя, в союзе с тьмой, без пользы для людей. После т. н. смерти он попадает неминуемо в нижние, тяжелые слои Тонкого Мира, где жизнь, гораздо более длительная, чем земная, жизнь-прозябание до следующего воплощения вполне может быть уподоблена адской. Тот же, кто живет праведно, пусть взглянет на «смерть» свою как на «возможность нового сочетания» [90] энергий, как на переход без потери сознания в благоприятные слои Тонкого Мира для жизни творческой и для подготовки к новому воплощению. Не «память смертная» нужна и полезна человеку, а осознание того, что понимание смерти как полного прекращения жизни есть основное заблуждение человечества. «Главное недоразумение остается в том, что люди готовятся к смерти вместо того, чтобы воспитывать себя к жизни. Они достаточно слышали о том, что само понятие смерти попрано. Люди достаточно слышали о необходимости смены семи оболочек. Достаточно дано понять, что смены эти происходят при ближайшей работе Огня. Значит, нужно помочь огненным трансмутациям, если они неизбежны. Зачем тратить века и тысячелетия на то, что может быть совершено несравненно скорее? Нужно подготовить наше сознание к огнеприемлемости наших концентрированных тел» [91].
«Кротость с тихостью» – малопонятная добродетель. Ранее Аноним говорил о кротости и о тихости, теперь объединил эти два свойства характера в одно. Чтобы принести людям и себе благо, эта добродетель должна быть неразрывно связана с мужеством и разумом: иначе она становится проявлением бессловесного послушания всем и каждому и потому – препятствием на пути духовного совершенствования.
Нам осталось прокомментировать «смирение нелицемерное» и «бедность в одежде», но рассмотрение этих добродетелей целесообразно осуществить позднее: смирение – в главе о принятии Сергием игуменского сана, а «бедность в одежде» – при анализе отдельного рассказа на эту тему.
Подведем итоги. Перечень добродетелей Сергия в 32-летнем возрасте неполон. В него не вошли добродетели, ранее названные Анонимом (и отчасти Пахомием) в связи с жизнью в Радонеже и с трудностями пустынножительства, названые не в едином перечне, а порознь или в небольших группах. Забытых добродетелей немало, и они, что еще важнее, репрезентативны и характерны для Сергия: безгневие, простота без лукавства, любовь равно ко всем людям, доброта (с. 305); мудрость, острота ума (с. 312); дерзновение, мужество, бесстрашие, «твердейшая и святейшая душа», горячая любовь к Богу (с. 313); вера и чистое житие (с. 309). Нельзя не согласиться с тем, что без этих добродетелей, духовно-нравственный облик Сергия сильно искажается и теряет свою неповторимую, редчайшую индивидуальность, а вместе с нею и высоту. Если ранее агиограф утверждал, что инок Сергий был примером для всех монахов Свято-Троицкой обители (с. 310), то теперь его образ сведен до уровня исступленного аскета, который видит свой главный подвиг в безумном пощении и в преодолении физических тягот отшельнической жизни. Иначе говоря, образ Сергия умален и умален исключительно за счет «забвения» наиглавнейших духовно-нравственных качеств.
Перечень добродетелей Сергия оба агиографа составили вперемешку, словно предметы домашнего обихода, без должного, обоснованного иерархического построения. Можно сказать даже, что весьма заметна недоброжелательная предвзятость обоих агиографов, поставивших на первое место совсем не духовные качества (голодание и т. п.). Аноним же вдобавок выбрал для своего комментария добродетели, вовсе не характерные для Сергия, отнюдь не главные.
В целом назначение перечня добродетелей, помещенного перед началом рассказа о жизни Свято-Троицкой общины монахов, видится нам как психологическая подготовка читателя к тенденциозному восприятию затяжного конфликта между Сергием и первыми насельниками монастыря.
Среди Огненных Служителей человечества следует отметить особенно тех, кто берет на себя жертвенный труд...В своем потенциале этот дух заключает все свойства, которые могут вознести человечество. Лишь мощное сознание может взять на себя жертвенный труд.
Живая Этика
Мы приступаем к исследованию очень важного периода в жизни Свято-Троицкого монастыря – с 1344 по 1354 гг. Все это время монастырь не входил в церковную монастырскую организацию: его фактический глава, инок Сергий, не был игуменом и не имел священнического сана, монашеская община жила по правилам, введенным Сергием и признанным братьями. Мы называем этот десятилетний период неоцерковленной жизни обители периодом становления, закладывания нравственно-религиозного фундамента и различаем два этапа в процессе становления.
Пахомий уделяет периоду становления весьма небольшое внимание и описывает его как безвременье в жизни обители, не имевшее никакого серьезного значения.
Об этом важнейшем периоде в истории обители Пахомий рассказал очень кратко. Он не фиксирует длительность времени становления, но пишет так, что у читателя создается впечатление о непродолжительности этого периода: во-первых, рассказ о нем весьма краток, во-вторых, в тексте не упоминается никакой меры времени, ни года, ни месяца, ни недели, ни дня. Нельзя судить о времени и по делам братии: их совсем немного, и по сути своей они могут делаться как в течение нескольких месяцев, так и в течение года. Первым названо строительство келий: «Каждый создал свою келию и наедине безмолвствовал в ней» (с. 350). Келию каждый должен был построить за несколько месяцев, и это вполне возможно было сделать за весну-лето, что ясно видно по рассказу о строительстве келий и церквицы Сергием и Стефаном. Можно предположить, что построение келий продвигалось соизмеримо с увеличением количества насельников: «Братиамъ же число множааше и приспевааше благодатию Христовою» (там же). Монастырь сложился не сразу, не за два-три прихода братьев, так что словами «количество братьев умножалось и преуспевало» выражен процесс складывания монашеской общины. Кто приходил к Сергию? «Окрест живуще святого мужа», значит, и миряне, о чем можно заключить по следующим словам: «Он же с радостию овех ползеваше (одних лечил. – А. К.), жити же хотящий приимаше...» (с. 349). Но кто же хотел с ним жить? Не сказано, что это были только монахи: все они названы «братьями». Но также не сказано, что их постригал кто-либо в монахи; Сергий такого права не имел, об игумене Митрофане Пахомий не упоминает. Все братья были удостоены «благодати Христа» (с. 350), и это утверждение склоняет нас к тому, что из числа приходивших к Сергию с ним оставались только монахи. Агиограф ранее сообщил, что сам Сергий при пострижении в монахи был удостоен новой божественной благодати, из чего следует, что прежней, по мысли агиографа, было недостаточно. Судя по рассказу Пахомия, все насельники Свято-Троицкого монастыря были молчальниками, включая Сергия, суровый образ жизни которого виден по перечню его добродетелей, о котором мы рассказали в предыдущей главке. Если представить себе, что инок Сергий фанатично, подобно жестокому аскету, исполнял буквально все, что есть в пахомиевском перечне, и при этом не трудился (труда нет в пахомиевском перечне), а веру в Бога заменил языческим страхом Божиим, то духовное совершенствование и развитие его феноменальных сил окажется невозможным. В самом деле, без опоры на труд, без мысли и без щита веры непредставимо вообще становление достойной человеческой личности. Более того, возьмись Преподобный фанатично следовать «достижениям» изнурительного аскетизма, погубил бы он (и весьма быстро) свое здоровье, а с ним и надежду на совершение великого подвига, ради которого воплотился на Руси этот Высокий Дух.
В центре внимания Пахомия не устроение обители, а конфликт между Сергием и братьями в самом главном для церкви вопросе – о священстве (с. 350), о принятии Сергием сана, а с ним и власти священника. Приведем полностью текст Пахомия: «Тем же (совершенно непонятно «чем же»; значит, тут в тексте пропуск, иначе говоря, сокращение епифаниевского текста. – Л. К.) много молимъ бывааше от братиа о священьстве (Здесь еще один пропуск: неясна причина монашеских упрашиваний. Ее раскроет только Аноним: Сергий не был официально утвержден игуменом, не был и священником, а потому не имел права ни совершать литургию, без которой невозможен богослужебный цикл, ни какое-либо другое таинство. – Л. К.). Он же не хотяше зелнаго ради смиренна» (с. 350). Вдумаемся в отказ Сергия от священства: ведь это неслыханное дело, ведь это принципиальнейший конфликт! Церковь держится на священстве. Ее посредничество между Богом и людьми не имеет оправдания, вообще невозможно без священников, а сама она – не нужна. Священник любого ранга – носитель и исполнитель власти над душами людей. Следовательно, вопрос о священстве – главный вопрос власти и бытия церкви.
Насельники монастыря, отметим это особо, не ставили вопрос об игуменстве Сергия; из чего можно заключить, что они признавали его административно-распорядительную власть, то есть игуменскую в узком смысле слова, и сам Сергий от этой власти не отказывался. Но как же тогда понять, что насельники просят Сергия: 1) «...да будеши намъ игуменъ, зело бо желает душа наша от тебя просвещатися» (с. 350); 2) «...не можем бо жити без игумена, от иных странъ призывающе священника» (там же).
Дело в том, что в то время на Руси игумен, утвержденный церковью, объединял две власти: духовную власть священника с административно-хозяйственной властью строителя монастыря. Поэтому отказ Сергия от священства был вызовом церковному правопорядку, и насельники монастыря выступили в его защиту, отвергая древнеиноческий вариант решения вопроса: периодические приглашения Сергием священника «от иных странъ» (с. 350) для исполнения литургии и отправления других, сугубо священнических служений.
Конфликт между братией и Сергием принял острую форму. Они выдвинули ультиматум: «или буди игумен, или мы вси отидем» (с. 350). Сергий продолжал стоять на своем (жаль, Пахомий слишком общо, туманно характеризует его точку зрения – «из-за особенного смирения»), и тогда братья предложили такое разрешение конфликта: «...если ты не хочешь быть игуменом, то пойдем с нами к нынешнему святителю просить его дать игумена». Так они говорили, имея в виду, что он только пойдет с ними к святителю...» (с. 350).
Конфликт описан Пахомием как скоротечное событие. При этом не сказано, как часто и сколько лет приглашался в монастырь священник со стороны. В виду этого заданная в начале рассказа неопределенность сохраняется и даже нарастает. Пахомий не дает исследователю никакой возможности внести ясность в хронологию жизни обители, и тех дел и действий, которые были осуществлены за десять лет.
Конфликт – единственное событие, когда братья встречаются с Сергием. Он как глава монастыря признан братьями. Но не описано ни одного проявления его руководства, ни одного общего дела: ни ведения хозяйственных или трудовых дел, ни даже общих богослужений, что совсем непонятно. Каждый живет сам по себе, молчит в одиночку и молится, вероятно, тоже в одиночку. Получается странная община молчальников-одиночек.
В тексте Пространной редакции период неоцерковленной жизни Свято-Троицкой обители освещен гораздо обстоятельнее и содержит немало сведений, отсутствующих у Пахомия, а также и иных, чем у Пахомия, суждений о Сергии.
Сергий начинает новый этап в своей жизни с напутствия первым насельникам, состоящего из пяти (не из трех) евангельских изречений Христа, как бы вплетаемых в венок нарождающейся Свято-Троицкой обители, живущей по Сергиеву уставу. У входа в обитель утверждается завет: «Многими скорбями (страданиями) подобает нам войти в Царство Небесное» (Библия, Деян., 14:22). В начале пути – многие страдания, в конце – жизнь вблизи Бога, в небесных селениях. Путь к высокой цели труден, и потому, хотя «званых много, но избранных мало» (с. 319). Действительно, «мало избранное стадо Христово, о котором в Евангелии Господь сказал так: «Не бойся, малое Мое стадо! Отец Мой благоволил дать вам Царство Небесное». С таким словом обратился к ним блаженный Сергий, и они с радостью и с усердием давали обещание, говоря: «Все, что ты повелишь, мы исполним, ни в чем тебя не ослушаемся» (с. 319). Изречение Христа, взятое из Евангелия от Луки (12:32), отсутствует у Пахомия, и, на наш взгляд, оно не могло быть у Епифания. Оно совершенно не подходит к описанной ситуации. Христос побуждает своих учеников не к усиленному совместному труду, как Сергий, а к тому, чтобы они не «искали», «что им есть или что пить» (12:29), чтобы продавали имения и раздавали милостыни (12:33). Но самое главное – в другом: не мог Сергий самонадеянно уподобить себя Христу, а только что пришедших, неизвестных монахов – ученикам Христа. Одно дело – смиренно подражать Ему, стремясь быть Ему подобным, и совсем другое – гордо заявлять вслух о своем подобии Христу, и уж вовсе немыслимо, нелепо – уподоблять пришлых монахов апостолам. Процитированный из «Жития» текст есть, конечно, сочинение анонимного агиографа, который готовит читателю новый сюрприз, новое разочарование.
В повествовании о периоде становления Свято-Троицкой обители Аноним продолжает основные подтемы пахомиевского рассказа – прием и труд монахов, проблема его официального утверждения игуменом. Однако повествование Анонима в девять раз обширнее рассказа Пахомия, и это, на наш взгляд, привело к тому, что в тексте Пространной редакции наряду с достоинствами (новые сведения, более подробная разработка основных мотивов) есть и существенные недостатки – повторы, длинноты и спутанность композиции. Композиция настолько рыхлая, а сюжет развивается настолько непоследовательно, «не по ряду», что невольно возникает мысль о глубокой переработке, перекомпоновке епифаниевского текста. Во всем этом необходимо внимательно разобраться.
Начнем, следуя за Пахомием и Анонимом, с темы труда монахов и Сергия. Под углом зрения этой темы у Анонима заметно деление периода становления на два этапа. Первый был благостным и кратким: монахи выполнили обещения, данные Сергию. «Каждый сам построил себе келью и жили они в согласии с Богом («живяху о Бозе»), стремясь подражать по силе-возможности жизни преподобного Сергия» («тому по силе равнообразующеся» – с. 319). И это все, что поведал Аноним о труде монахов и Сергия в первое время их пребывания на Маковецком холме. Сказано очень мало, зато вполне определенно подчеркнуто, что монахи и Сергий живут в согласии.
Повествование Анонима о втором этапе становления обители гораздо более обширно и подробно, чем о первом, а отношение монахов к общинному труду изображено таким образом, что можно назвать его странными и даже безнравственным. Причем монахи ведут себя так, будто они и не давали Сергию обещаний выполнять все его повеления. Повествование о втором этапе начинается с сообщения о том, что в лесной пустыньке собралось до двенадцати монахов. Агиограф троих из них, старца Василия, Иакова и дьякона Онисима, характеризует особо, сообщая некоторые подробности, которые мог знать только Епифаний. Это должно вызывать доверие читателя к автору. Далее агиограф повествует о том, что же делали и как жили Сергий и монахи: «Создаваемые кельи были обнесены забором, не очень протяженным, и он поставил привратника у ворот, и Сергий три или четыре кельи построил своими руками. Но и прочие все монастырские дела, удовлетворявшие потребности братии, он исполнял: и дрова на плечах своих из лесу носил и, разрубив их на поленья или растесав, разносил по келиям. Но что это я вспоминаю о дровах? Ведь поистине удивительно то, что у них тогда происходило. Аес от них бьи недалеко, не так, как мы видим теперь, но он был там, где должны были строиться кельи, и деревья шумели тут, все затеняя. Вокруг церкви повсюду были колоды и пни, здесь же высевались различные семена и выращивалась огородная зелень. Но вернемся снова к прежней беседе (заметим в скобках, что эта фраза обычно говорит о вмешательстве редактора в оригинал, о перекомпановке текста. – А. К.) о подвигах преподобного Сергия, как он без лени, словно купленный раб, служил: и дрова на всех, как было сказано, колол, и рожь толок, и молол ее жерновами, и хлеб выпекал, и горячую еду варил, и прочее питание, нужное братии, приготовлял. Он кроил и шил обувь и одежду; и из родника, который был тут же, набирал в два ведра воды, на своем плече приносил ее на холм и ставил у каждой келий» (с. 321). Тут пришла наша очередь удивиться: Аноним предлагает вернуться к прежней беседе о том же самом, но в его тексте нет такой беседы. Это первый рассказ о работе братьев, ведь и их самих раньше не было на Маковце. Аноним грубо соединил в этом тексте разные рассказы, взятые из епифаниевского протографа, и перекомпоновка стала очевидной. Причем из этой перекомпоновки явно следует, что уже на первом этапе становления обители Сергий работал на братию, «словно купленный раб». Логично будет отнести безделие и ленивый саботаж монахов именно к начальному этапу устройства монастыря. Монахам, как это видно из текста, приходилось начинать с расчистки от деревьев строительной площадки для келий: «...иде же келиам зиждемым стоати поставленым (тут действие мыслится в будущем времени. – А. К.), ту же над ними и древеса яко осеняющи обретахуся, шумяще стоаху» (с. 321). Психологически можно даже понять и оправдать монахов тем, что они пришли к Сергию из удобножитных монастырей, где они не привыкли к физической работе. Сергию волей-неволей пришлось делать за них все, в том числе и то, что не требовало ни знаний, ни умения, как например, ношение воды или поленьев для каждого монаха, или помол ржи на ручной мельнице. Для этого нужно было лишь желание приложить физическую силу, которой они, конечно, обладали.
Агиограф, продолжая рассказ о трудах и образе жизни Сергия, выразительно повествует о том, как все это воздействовало на самого Сергия: «Ночью он не спал; а молился; питался только хлебом и водой, и совсем понемногу; и никогда он не бывал без дела. И так обуздал он свое тело суровым воздержанием и великими трудами. Когда бес возбуждал в нем плотские желания, он тогда наращивал подвиг за подвигом, заботясь об устройстве места этого, стремясь угодить Богу своим трудом. И он всегда, при любой работе, повторял псалом, в котором сказано: «Всегда я вижу Господа перед собой, он справа от меня; не поколеблюсь». Так жил он в трудах и молитвах, плоть свою истончил и иссушил, стремясь быть гражданином небесного града и жителем небесного Иерусалима» (cc. 321-322, перевод мой. – А. К.). Красноречивое описание. И по стилю, и по сути оно почти целиком может быть, видимо, атрибутировано Епифанию. Наше «почти» означает, что из описания «выпадают» те строки и выражения, которые должны показать, подтвердить одну из любимых мыслей Пахомия и Анонима (но не Епифания) о жестоком аскетизме Сергия. Так, к примеру, Некто пишет, будто Сергий ночь проводил в молитвах, без сна. Но тогда выходит, что он вообще не спал, так как днем он работал, словно «купленный раб» и еще семь раз молился в церкви вместе с братьями. Долго ли может «протянуть» самый сильный человек без сна и отдыха, при непрестанном тяжелом труде, к тому же питаясь лишь хлебом и водой, «и то понемногу»? Агиограф Некто не без умысла переусердствовал в стремлении представить Сергия безумным аскетом: ведь без воды и сна он не смог бы так тяжко работать даже на самого себя сколько-нибудь продолжительное время. Ясно, что Сергий не мог при таком образе жизни обслуживать других монахов. Выражение «плоть истни си и иссуши» точнее всего передается так: «остались кожа да кости». Если поверить агиографу-анониму, то таким «доходягой» Сергий и должен был быть: начиная с 12-летнего возраста он целых 18 лет якобы жестоко постился, о чем в «Житии» говорилось уже не раз. К тому же после пострижения в монахи он неделю «ничего не вкушал», кроме просфоры; семь дней без еды – это нетрудное дело, но семь дней без воды – это рекорд голодания, и очень опасный, чреватый неожиданными заболеваниями из-за обезвоживания организма. Можно ли поверить агиографу, что иссохший, ослабевший Сергий мог выполнять все виды работ за 12 монахов при их полном нечегонеделании, кроме молитвенных песнопений? Поверить в это может только наивный человек. Агиографа-анонима мы отнюдь таковым не считаем и потому приходим к выводу, что он снова намеренно представил образ жизни Сергия в преувеличенно устрашающем виде, чтобы погасить у мирян и монахов всякое желание идти его узким путем. Преподобному Сергию, напротив, была присуща редкостная гармония духа и тела, высшая целесообразность и соизмеримость в действиях. Именно это и привлекало к нему сердца; потому-то его противники и стремились лишить его образ притягательности, внутренней красоты. Теперь с этой целью Аноним пытается представить жертвенный труд на общее благо как земное средство обретения фанатичным Сергием небесного счастья исключительно для себя. Да, преподобный Сергий, с точки зрения сторонника удобножитного монашества, работал, как купленный раб. С тем лишь принципиальным различием, не отмеченным агиографом, что Сергий работал не по принуждению, а по доброй воле: если б он не хотел, он мог бы уйти отшельничать в другое место. Сравнение с рабом точно передает меру самоотверженности Сергия, его мужественное, терпеливое отношение к испытаниям и его твердое желание создать монастырь. Но высокое напряжение добровольного труда на общее благо имело для Сергия качественно иное последствие, чем подневольная работа для раба: оно не принижало и не отупляло Сергия, а возвышало и просветляло его. Для Сергия лично-сознательный труд каждого был основой нравственно-духовного совершенствования; своим примером он учил, что без этого стержня утрачивается духовно-преобразующее действие и молитвы, и богослужения. А вкупе с таким трудом они содействуют истинному восхождению духа, становятся необходимым звеном, соединяющим высшее с низшим, великое с малым.
Труд был его важнейшей, незаменимой молитвой. Такой молитвой, в которой участвует и потому преображается и сознание, и плоть человеческая. Сравнение с купленным рабом симптоматично также и тем, что оно верно отражает норму монашеского негативного отношения к физическому труду. Удивительное сложилось положение «на Маковце»: «раб Божий» Сергий трудится за семерых, но ест меньше всех, и все, что надо, успевает сделать для жизнеобеспечения. Семеро с ложкой, один с сошкой, и этот один вовсе не протестует, а, напротив, радуется такой работе как новой возможности движения к заветной цели. Идеал служения Богу и людям? Нет, Сергий так не думал. Он хотел, чтобы трудились все, как он. Но, встретившись с презрительным отношением монахов к физическому труду, он не стал ни увещевать их, ни уходить от них. Если уж ему дано новое испытание, значит, его надо исполнять не ропща.
Агиограф, расхваливая и перехваливая Сергия за жертвенный, бескорыстный труд, не осуждает, однако, монахов за бессовестный, вовсе не христианский паразитизм. Агиограф ограничивается удивлением, как это «было у них тогда». Да и мог ли он написать об этом критически? Нетрудовой образ жизни монахов был нормой, одобренной церковью. Необходимо осознать, что простые требования Сергия к монахам были для них неслыханно новы. Наиболее неприемлемым оказалось требование об обязательном физическом труде каждого, соблюдение которого ставило перед монахами совершенно новую задачу – жить на самообеспечении, удовлетворяя свои потребности в жилье, питании и одежде за счет своего труда, не прибегая к помощи извне. То, к чему они привыкли в удобножитных монастырях – сытная, беспечальная жизнь – противопоставляется истинному подвижничеству. Похоже, что монахи не пошли за Сергием, так как «Житие», ярко повествуя о его трудах, пощении, невнятно говорит о поведении братии. Князь ли тьмы внушил монахам придти на Маковец, или побудила их на это молва о Сергии, – в любом случае тень от их недостойного поведения ложится на Сергия, который с каждым из них беседовал, проверяя «веру и усердие», и после проверки давал согласие на поселение вместе с ним. Выходит, он жестоко ошибся в них, не сумел распознать их намерения и характеры? Такое впечатление о Сергии создал анонимный агиограф. Сергий же знал, на что идет, принимая новых насельников. Он знал, что им, как и его брату Стефану, не понравится жизнь действительно подвижническая, но знал он и другое: готовых подвижников не было, и ему надлежало работать с теми, кто пришел, надлежало перевоспитывать их. За этот новый жертвенный труд он и взялся «с радостию».
Такова, на мой взгляд, суровая, неподслащенная правда о первом периоде монашеской общины на Маковце, правда, которая все же – вопреки воле анонимного агиографа – подает о себе голос со страниц «Жития Сергия».
Среди приуподоблений к Библии мы не видим двух основных требований устава Сергия: о физическом труде каждого и о нестяжании (с. 319), которые взятые вместе исключают иждивенческий подход к служению Богу. Как из Ветхого, так и из Нового Завета агиограф легко мог извлечь замечательные поучения о пользе труда, об осуждении лени и паразитизма (напомним в скобках, что знаменитое изречение «не трудящийся да не ест» принадлежит апостолу Павлу), о высокой самоценности труда как умственного, так и физического. «Забывчивость» агиографа объясняется легко: тема труда в ее евангельском, истинно христианском освещении, тема стяжания и нестяжания была жгучей темой в XV в. и особенно в начале XVI в., когда была создана Пространная редакция, и поныне осталась таковой. Чтобы не дразнить гусей, агиограф опустил эту тему в приуподоблениях, то есть оставил ее без библейской священной санкции. Полезен, очень полезен для сокрытия истины оказался простой, в сущности, литературный прием умолчания.
Аноним пишет, что у Сергия на Маковецком холме собралось до 12 монахов (с. 321) и что именно в это время никто из них не трудился, а все, что им требовалось для жизни, создавалось и обеспечивалось трудом одного лишь Сергия. Это сообщение нельзя признать достоверным. Такое количество монахов не могло разместиться в «малой церквице» (с. 307) на двоих. Кроме того, Сергий, хотя и мог «работать за двоих» (с. 320), но, понятно, не за 12 человек, причем в течение ряда лет. Следовательно, в монастыре могло вначале жить столько насельников, сколько могло втиснуться в церквицу. Ее размеры жестко лимитировали общее количество монахов. Их было, похоже, три-четыре человека. Это число мы берем не с потолка: именно «три или четыре келий Сергий сам построил своими руками» (с. 321). Монахи же не построили ни одной, и этот вывод, как мы показали ранее, ясно следует из слов агиографа о том, что «все монастырские дела, потребные для братьев», делал Сергий.
Можно ли реалистически объяснить утверждение Анонима, что на Маковце собралось 12 монахов? Ответ подсказывается тем, что это же количество насельников, не считая Сергия, называется в рассказе об архимандрите Симоне, пришедшим «под руку» Сергия из далекого Смоленска, куда, значит, дошла молва о подвижнической жизни Сергия. В одной из редакций «Жития» сказано, что архимандрит Симон принес деньги для построения просторной церкви. Если оба рассказа (о жертвенном труде Сергия на 12 монахов и о приходе к нему архимандрита Симона) объединить, тогда все становится на свои места и легко объясняется при условии, что единый рассказ помещается в «Житии» там, где идет речь о жертвенном труде Сергия, а затем и о его конфликте с монахами. Вполне логично объясняется и разрешается и этот острый конфликт, о котором мы расскажем в следующей главке.
Возвращение к епифаниевской композиции событий и рассказов о них поможет разумно понять и нынешнюю странную особенность рассказа о периоде становления монастыря. Эта особенность состоит в том, что на первом этапе монахи будто бы трудились так, как обещали Сергию, сами построили себе кельи, жили в согласии с Сергием, а на втором этапе они трудиться вдруг (без каких-либо причин) перестали, все труды и заботы переложили на Сергия, и в довершение такого развития общины монахи вошли в острый конфликт с Сергием. Все это вместе взятое и оказалось для читателя тем сюрпризом, о котором мы обещали ранее рассказать. Развитие общины от лучшего к худшему и сюрприз имеют в основе одну и ту же мысль: Сергий не справился с обязанностями главы общины и не распознал своевременно, что за монахи пришли «жить вместе с ним». Аноним услужливо предлагает свое объяснение Сергеевых неудач: он де, всей душой устремился к тому, чтобы стать «гражданином небесного града и жителем небесного Иерусалима» (с. 322), и, поглощенный целиком спасением своей души, самоустранился от управления монашеской общиной. Таким образом, у Анонима получилось, будто Сергий не оправдал возлагавшуюся на него Свыше надежду быть спасителем душ многих (с. 318), и монастырь как коллектив, как община монахов не состоялся. Сергий будто бы пример, достойный подражания, но никто не подражает ему в главном – в труде на общее благо. При указанной выше обратной перекомпоновке событий и рассказов развитие Свято-Троицкой общины будет иным – от худшего к лучшему, образ Сергия придет в соответствие с его епифаниевским толкованием и с фактом его официального утверждения игуменом Свято-Троицкого монастыря.
8.5. Быть или не быть игуменом?
Но Наша власть иная: Наша власть – Жертва!
Живая Этика
Пахомий и анонимный агиограф по-разному ставят вопрос об официальном игуменстве Сергия.
Пахомий вначале говорит только о «священстве»: «Тем же много молимъ бывааше от братиа о священьстве. Он же не хотяше зелного ради смирения» (с. 350). Тут молчаливо признается действительная власть Сергия как аввы, главы монастыря, которому монахи повинуются и почтительно именуют его «святое преподобие». Но затем монахи просят Сергия согласиться на сан игумена, который на Руси обязательно объединялся с принятием священства. Так как Сергий сам игуменом быть не хотел, он соглашается с предложением монахов идти вместе с ними к святителю в Переяславль, чтобы просить его дать им игумена. И они тут же отправляются в этот город. В первой редакции Пахомий столь кратко пишет о жизни Сергия и монахов в неоцерковленном монастыре, что создается впечатление весьма незначительной продолжительности этой жизни.
Намного подробнее и разнообразнее описаны эти десять лет Сергиевой жизни в Пространной редакции. При этом Аноним в центр повествования поставил две конфликтные проблемы: об отказе монахов от физического труда и об отказе Сергия от игуменства и священства (сс. 320-323). В Пространной редакции сохранилось упоминание о том, когда и при каких обстоятельствах впервые наметилось несогласие между монахами и Сергием по второй проблеме: «Так он жил с братьями, и хотя не бьи поставлен в пресвитеры, но усердно посещал вместе с ними церковь Божию. И каждый день он пел с братьями в церкви... А на обедню он приглашал какого-то чужого священника или игумена-старца, он принимал его и повелевал ему совершать святую литургию: сам Сергий вначале не хотел принимать ни священства, ни игуменства из-за совершенного смирения. Ведь он был очень кротким и носил в себе великое истинное смирение, и во всем всегда подражал своему владыке, Господу нашему Иисусу Христу... Сергий всегда говорил, что желание игуменства есть исток и корень любоначалия» (с. 321). В первый год монастырской жизни несогласие монахов и Сергия по вопросу о его игуменстве и священстве не было острым, так как обедни регулярно служились приходящим игуменом Митрофаном. Но после его смерти, случившейся, как сказано в «Житии», спустя год после основания обители монахов, конфликт стал нарастать и через некоторое время атмосфера настолько накалилась, что монахи пригрозили Сергию уходом из монастыря. В этом конфликте необходимо внимательно разобраться.
Точка зрения Сергия на совмещение священства и игуменства опиралась, во-первых, на пример Христа, который в своей апостольской общине не имел власти, и, во-вторых, на древнеиноческую традицию. Аноним не разделяет принципиально отрицательного отношения Сергия к совмещению игуменства и священства. Это различие во взглядах имеет большое значение для верного понимания последующих событий.
Осознание различия восходит к пониманию истинного смирения Сергия, которое определено как «конечное», а еще раньше – как нелицемерное. Но что такое конечное смирение? И что такое власть игумена? В Новом Завете мы не найдем прямых ответов на эти вопросы. Иисус Христос, как известно, не занимал никаких постов и не имел никаких титулов. Он сам взял на себя иго быть духовным наставником трудящихся и «обремененных», всех, кто действительно нуждался в утешении и успокоении души, в «научении» жить по Христу. Так было во времена Христа. Но на Руси право духовного наставничества никто не мог взять на себя по своему желанию; оно давалось лишь тому, кто был утвержден духовными владыками в чине священника или игумена (для монастырей). Из истории христианского монашества известно, что некоторые великие подвижники III – V веков были игуменами (настоятелями) монастырей, но от священничества они решительно отказывались. Почему? Сошлемся на одного из самых знаменитых древних иноков, на преп. Пахомия (ум. в 348 г.), так как его жизненная ситуация во многом подобна ситуации, в которой находился Сергий. Преп. Пахомий был пустынножителем, но когда к нему стали приходить другие люди, желающие идти путем Христа, Пахомий стал их принимать и основал монастырь (а позже – еще несколько) и создал монастырский устав. Преп. Пахомий, «Житие» которого было известно Сергию (с. 322), решительно не хотел принимать священнического сана и запрещал это другим. «Когда... надлежало всем причащаться Пречистых Христовых Тайн, преп. Пахомий призывал кокого-нибудь священника из ближайших сел, который, совершив в монастыре божественную службу, причащал всех телу и крови Господних (точно так же поступал и Сергий. – А. К.). Смиренномудрый Наставник не хотел, чтобы кто-нибудь из учеников его сподоблен был священного сана, говоря: «монахам полезно не искать чести и начальничества,... чтобы из-за этого не зародились среди братии единодушных зависть и ревность и не расстроилось общего согласия. Ибо как малая искра огня, падшая на гумно, ...в один час истребляет труды целого лета, так помыслы любовластия и желание священнического чина, впадши в среду иноков... все плоды духовные обратят в ничто перед Богом» [92] (выделено мною. – А. К.). Сам преп. Пахомий был аввой (главой) не потому, что его в этом положении утвердило какое-либо церковное начальство, а единственно по праву ревностного последователя Христа, искреннего служителя Бога. Сергий поступил, как преп. Пахомий, и, понятно, не видел в этом греха. Греха и не было, но зато было резкое отклонение от правил монастырской жизни, утвержденных православной церковью. Было фактическое непризнание владычного права церкви, считавшей себя единственной законной посредницей между Богом и людьми. Был, значит, смиренный вызов церковному священноначалию. Агиограф, разумеется, отлично это понимал. Вот почему он пишет о Сергии: «...во всем подражал он своему владыке, ...Христу» (с. 320, выделено мной. – А. К.), как бы говоря тем самым: своему, но не нашему, не тому, кто тогда правил православной церковью. Агиограф, в отличие от Сергия, подчинялся законам Церкви, а не заветам Христа. И потому он лицеприятно помалкивает о том, в чем можно усмотреть его, агиографа, несогласие с Христом, и не приводит в цитате окончание высказывания Христа, который, сказав о своей сердечной кротости и смиренности, так заключил мысль: «...и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое – благо, и бремя Мое легко» [93]. Мысль Христа (и Сергия): подражание Ему делом есть по сути благое иго, и потому оно легко. Мысль агиографа: подражание Ему есть иго, и оно так трудно, что обычному человеку не по силам.
Смирение и смиренномудрие в Новом Завете – тождественные понятия. Ясно также, что смирение (смиренномудрие) святого должно быть таким же, как смирение Христа. В послании Апостола Павла к колоссянам (2:18, 19, 23; 3:5-14) рассмотрен вопрос об истинном и ложном смирении, как и вопрос о послушании на различных уровнях. Главное в том, что смирение есть «служение Господу Христу» (3:24), и в этом суть христианского послушания. Смирение, как это видно по другим Посланиям, есть смирение в себе самости, страстей, дурных привычек и злобных чувств, склонности ко лжи, – словом, совлечение с себя «ветхого человека с делами его» (3:9); в то же время смирение есть «обновление человека по образу Создавшего его» (там же): «Итак, облекитесь, как избранные Божий, святые и возлюбленные, в милосердие, кротость, долготерпение, благость, смиренномудрие, снисходя друг к другу и прощая взаимно, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства» (3:12-14). Различные суеверия, и крайности, и фанатизм в вере, и запреты на «пищу или питие» – все это отнесено к «самовольному смиренномудрию» (2:18), то есть к лицемерному смирению, которое «имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти» (2:23). Изнурение плоти – это именно то, что Аноним считает одной из важнейших добродетелей Сергия и что ему это и многое другое, приписанное Анонимом, как мы старались показать, вовсе не было свойственно. Словосочетание «конечное смирение» в Библии не встречается, однако его можно довольно точно передать, как в ПЛДР, словосочетанием «смирение беспредельное» и можно пояснить, сославшись на Послание к филиппийцам (2:5-8): «Ибо в вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, ...смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». Такое смирение (послушание) может быть названо конечным или великим, как в Живой Этике: «Так, только цепь Иерархии даст возможность восходить. Великое послушание ведет к истинному творчеству, ибо когда послушание руководит действием, то мощь вырастает и ручательство напрягает все силы» [94]. Власть над умами людей и над людьми начинается с власти над собой. Истинная власть всегда была жертвой во имя Общего Блага. Но и такая жертва, как показал Христос, тоже есть и великое смирение, и великая духовная власть. Следовательно, это справедливо и по отношению к жертвенному труду и вообще к жертвенному Служению Сергия Радонежского.
После смерти игумена Митрофана в Свято-Троицкой обители стал назревать духовный кризис. И Сергий, и монахи остро ощутили, что должна быть неотложно решена главная их потребность – потребность в физически ощутимом духовном общении с Христом. Монахи усилили нажим на Сергия, побуждая его согласиться на игуменство. Сам же Сергий «очень прилежно молился Богу» о том, чтобы Он «дал игумена, месту тому наставника, отца и правителя... Бог услышал молитву угодника Своего...» (с. 322). Тут-то и пришел к Сергию, как с неба свалился, славный смоленский архимандрит Симон и разом разрешил все проблемы: он мог служить литургии и он, кроме того, принес деньги не построение новой, просторной Церкви. Так, мы убеждены, были изложены события в епифаниевском тексте «Жития». Но Аноним освещает их иначе; у него получается, что целых девять лет монахи и Сергий, ничего не делая, вели нескончаемый спор о принятии им священства, пока не получили его согласия. Конечно, Аноним скрыл от читателя, что спор длился абсурдно долго, и, конечно, Аноним воспользовался кризисной ситуацией для очередного искажения образа Сергия. Посмотрим внимательно, как Аноним решил обе задачи.
Рассказы о приходе Симона и других замечательных событиях переносятся агиографом Некто в то место «Жития», где речь идет уже о жизни обители после официального утверждения Сергия игуменом, и таким образом его славные деяния теперь «работают» также и на повышение авторитета церкви. Освободившееся от этих рассказов место Аноним занимает... невероятно растянутым повествованием о споре монахов с Сергием. Это повествование надо рассмотреть подробно.
Все действия монахов происходят в повествовании... в течение краткого времени, измеряемого днями: «По днех же неколицех пакы приидоша...» (с. 323), затем «...по днех пакы пришедша...» (там же), «много бо преже, по многы дни молиша его...» (с. 324). Причем последнюю констатацию можно отнести (из-за слова «преже») вообще к самому первому разговору монахов с Сергием о его игуменстве, то есть ко времени до смерти приходящего игумена Митрофана, к первому году монашеской общины. Таков первый прием создания агиографического времени, подменяющего время действительное, время, которое измеряется не днями, а годами. В соответствие с агиографическим временем приведена и деятельность, и жизнь монахов и Сергия. Оказывается, после смерти Митрофана они ничего, буквально ничего не делали. Так можно описать и так можно себе представить девять даже девяносто дней, но не девять лет. Ведь факты – упрямая вещь. От прихода к Сергию первых насельников и до его похода к епископу в Переяславль, до утверждения Сергия игуменом прошло действительно десять лет. Этот факт установлен давно и не мною. Отсюда следует, что от смерти Митрофана до официального утверждения Сергия прошло девять лет. Но кто же тогда эти годы служил в обители литургии? Или, может, вообще не было литургий? Литургии, конечно, хотя бы раз в год служились в лесной церквице, иначе монахи разбежались бы от Сергия. Споры об игуменстве не могли заменить литургий. Служил же их архимандрит Симон, который, в ответ на мольбы Сергия, пришел к нему из Смоленска. Однако ни такого, ни иного объяснения литургической богослужебной проблемы агиограф не дает.
Весьма интересно проследить, как постепенно нарастал конфликт монахов с Сергием, и как он вел себя в это время. Агиограф Некто знает о планах Бога дать игуменство Сергию и знает даже о том, что Бог искал, но никого другого лучше Сергия «не нашел» (с. 322), но сам-то Сергий, обладатель Божьей благодати и не подозревает о замысле Бога и потому снова втягивается в спор с монахами.
Монахи: «Отче! Не можем жить без игумена!.. Мы очень хотим, чтобы ты был нашим игуменом и наставником для наших душ и тел... Да, честный отче, этого мы желаем от тебя, ты только не отказывайся» (с. 322).
Сергий: «У меня и в мыслях не было быть игуменом, а душа моя хочет, чтобы я закончил путь мой здесь монахом» (с. 322).
Видя упорство Сергия, монахи поставили вопрос ультимативно: «или ты сам будешь игуменом, или иди и испроси нам игумена у святителя. Если же так не будет, то мы вынуждены будем уйти отсюда» (с. 322). Сергий, «в стенании сердца сказал им: «Сейчас давайте разойдемся по своим келиям и все помолимся Богу прилежно, чтобы он открыл нам, что следует делать» (с. 323). И монахи разошлись по келиям, но «спустя несколько дней» (там же) снова пришли к Сергию и попросили его смиренно, не требовательно: «...отныне ты будь нам и отец, и игумен (там же), до самой смерти каждого из нас». Ответ Сергия существенно отличался от прежних: «Простите меня, отцы мои и господа мои! Кто я такой, чтобы сметь дерзнуть на то, чего даже ангелы со страхом и ужасом достигнуть не могут?» (с. 323). Тут нет приувеличения: ангелы исполняют поручения Бога, священник же от его имени ведет все духовные дела людей, то есть сфера его посредничества между Богом и людьми намного шире ангельской и насыщена иным содержанием и смыслом. Затем агиограф вкладывает в уста Сергия самоуничижительные, то есть лжесмиренные слова: «Как же я, недостойный, дерзну на сие, не обладая должной верой? Я ведь не постиг еще и самые начала монашеского устава и монашеской жизни; как же я посмею приступить и прикоснуться к такой святыне?» (с. 323). Так волей Анонима Сергий якобы доверительно признается в своем мнимом маловерии, снова показывая (именно эту любимую мысль Анонима Сергий и «подтверждает») свое ложное смирение. Но неожиданнее всего окончание ответа Сергия: «А мне бы надо о своих грехах плакать и вашей молитвой достигнуть того блага, того края желанного, в который я устремился с юных лет» (с. 323). Монахи молились о том, чтобы Сергий стал им игуменом, значит, игуменство, священство и есть желанный край, заветная мечта Сергия. Как видно, от первоначальной позиции Сергия, отвергавшего как «санолюбие» идею объединения священства с административной властью игумена, не осталось и следа. Последнему объяснению придан самоуничижительный и саморазоблачительный характер. И кроме того, в словах Сергия «А бых моглъ... вашею молитвою оного блага достигнута» (выделено мною. – А. К.) есть лицедейная подсказка, как надо далее действовать монахам. Умные монахи, правильно поняв подсказку, усилили давление на него, создавая тем самым для него возможность оправдать отказ от прежней принципиальной позиции настойчивым желанием монахов. То прикидываясь овечками, которых бросает в поле пастух (Сергий), то угрожая ему карой Господней (сс. 323-324), монахи на третьем этапе спора принудили его к капитуляции: «И он пообещал удовлетворить прошение их и повиноваться их воле, лучше сказать, воле Бога» («И посули быти прошению их и повинуся воле их быти, паче же рещи, воле Божий быти» – с. 326). Удивительно, что и это беззастенчивое отождествление воли монахов с волей Бога читатель, поверивший анонимному правщику, должен приписать Епифанию Премудрому. Продолжим цитату: «И тако по сих всех преподобный Сергий, выстенавъ из глубины сердца, и всю мысль, и упование възложивъ вседръжителю Богу, рече к ним въ смирении душа: «Отци и братиа! Аз супротив вам ничто же глаголю, воли Господни предавшися: Тот бо весть сердца и утробы. Идем въ град къ епископу» (с. 326). Так закончился спор. Нравственный, принципиальный отказ Сергия от священства сменился прикровенным желанием сана игумена, смирение перед Богом получило неприглядную форму самоуничижения и капитуляции под напором монахов.
8.6. Подвиг архимандрита Симона
Верность между друзьями, сотрудниками есть залог преданности Иерархии. Ядро из двух-трех сотрудников может явить самую мощную опору великим делам.
Живая Этика
Суммируем аргументы, которые мы приняли во внимание, перемещая рассказ о приходе архимандрита Симона к Сергию туда, где он, на наш взгляд, был в протографе.
Без перестановки на свое истинное место в «Житии» рассказа и описанных в нем событий невозможно понять:
1) почему монахи, предъявившие Сергию ультиматум (или ты будешь игуменом – или мы покинем монастырь), остались в монастыре, ведь Сергий не выполнял их требование девять лет, и, если верить «Житию», девять лет в обители не проводились литургии;
2) как могли размещаться во время богослужений в церквице на двоих тринадцать насельников обители;
3) как мог епископ Афанасий утвердить игуменом обители Сергия, по вине которого не проводились обязательные для богослужебного цикла литургии и вследствие этого не совершалось едва ли не важнейшее из христианских священнодействий – таинство причащения;
4) как монахи и Сергий целых девять лет только и делали в обители, что спорили об игуменстве и священстве Сергия;
5) почему Бог, услышав молитву Сергия и мольбы монахов, не смог ничего сделать для их своевременного исполнения; ведь от этого пострадала вера в Него.
Но если принять перекомпоновку рассказа о приходе Симона к Сергию, то получается двойное доброе дело: вера в Бога укрепляется и возрастает авторитет Сергия, которому не надо отказываться от своих убеждений, чтобы сохранить монашескую общину.
В Свято-Троицком монастыре сложилась идеальная, всех монахов устраивающая ситуация. Как в древнеиноческих монастырях, авва, глава монастыря (им был Сергий) руководил всем в монастыре, кроме священнических дел и обязанностей, которые исполнял «славный» архимандрит Симон. На деньги, которые он принес, была построена новая, просторная церковь, и, наверное, была построена в течение одного года, так как в ней была острая нужда. Теперь стало возможно принимать новых насельников; более того, Симон мог постригать в монахи. «Житие» сообщает, что желающих поселиться в Свято-Троицком монастыре было много, что они приходили по двое – по трое (видно, заранее договаривались между собой), вследствие этого снова встал вопрос об ограничении приема новых насельников. Решено было остановиться на количестве 12 монахов (кроме Сергия), т. е. на количестве, освященном самим Христом. Как шла жизнь в 12-ти членной общине, мы расскажем в одной из последующих главок, а сейчас вернемся к рассказу о приходе архимандрита Симона. Что же говорится о нем в «Житии»?
Симон был «архимандрит старейший, славный, знаменитый» и, значит, почтенного возраста. Неизвестны причины, побудившие его оставить архимандритию в Смоленске, круто изменить образ жизни и с посохом в руках отправиться странствовать по Руси. Намеков на конфликт с властями не встречается, и мы вправе предположить, что на старости лет он решил посмотреть, как кому живется на Руси. Почему он решил поселиться в Сергиевой обители? Этого необычного, самоотверженного, выдающегося человека привлекла, конечно, особенная монашеская жизнь молодого инока Сергия, возродившего древнеиноческую традицию подвижнического Служения Богу и ближнему. До ушей Симона, наверное, дошла и молитва о маленькой церквице, построенной на двоих, но «обслуживающей» теперь духовные потребности нескольких монахов. Вот почему Симон, как сказано в Первой пахомиевской редакции, принес деньги на «построение большей церкви» («яко да болшу тоа церковъ въздвигнет» – с. 352). В этом мы видим ясное свидетельство того, что архимандрит Симон пришел с заранее обдуманной целью помочь Сергию разрешить одно из серьезных затруднений. Примечательно, что лукавый Аноним умолчал о конкретном целевом назначении денег Симона: «Еще же имение принесъ съ собою и предасть то игумену на строение монастыря» (с. 328). Агиограф Некто отредактировал Пахомия не случайно: читатель из фразы Пахомия о целевом, заранее обдуманном предназначении денег Симона мог сделать вывод о недостоверности житийного рассказа. Ведь выходило так: на церквицу в монастыре, где подвижнической жизнью живет молодой, но знаменитый инок (молва о нем дошла аж до Смоленска!), нет денег у Русской церкви (или она их не хочет дать Сергию). И это все видится как несправедливость и неприятная странность: не забудем, что, согласно Анониму, Свято-Троицкий монастырь был уже под церковной крышей, когда к Сергию пришел архимандрит Симон. Таково наше предположение о причине изменения Анонимом пахомиевского текста, который, судя по содержанию, был тут текстом епифаниевским.
Поскольку построение новой церкви в монастыре – значительное событие, то можно сказать с уверенностью, что оно было замечено и должным образом оценено церковными властями. Приход Симона на Маковец вряд ли мог понравиться церковным властям. В Свято-Троицком монастыре сложилась странная, совершенно не уставная ситуация. Под началом молодого, не имеющего никакого сана, но уже широко известного настоятеля оказался старейший, знаменитый архимандрит. Тем самым Сергиев путь в монашестве и его неразрешенное игуменство получали высокоавторитетную санкцию, неофициальный характер которой лишь подчеркивал ее притягательную духовную силу и духовную ценность. Так мощно старейший архимандрит поддержал реформаторские устремления Сергия. «Житие» сохранило малозаметные следы неприязненного отношения властей (180 лет спустя!) к архимандриту Симону и его мужественному, истинно христианскому поступку. Приглядимся, как под покровом лести умаляет анонимный агиограф образ Симона и при этом еще наводит легкую тень на образ Сергия: «Ведь этот удивительный человек Симон был архимандритом старейшим, славным, знаменитым, и подчеркнем, добродетельным, жил он в городе Смоленске. И там услышав о жизни преподобного отца нашего Сергия, загорелся душой и сердцем: оставил архимандритию, оставил честь и славу, оставил славный город Смоленск, и вместе с ним оставил отечество и друзей, родных, близких, и всех знакомых и родственников; и принял он смиренный образ и по своей воле решил странствовать. И оттуда, из такой далекой земли, из Смоленска, отправился он в... Радонеж» (с. 328, перевод наш. – А. К.). Агиограф так подбирает и распологает сведения о Симоне, что они должны возбудить у читателя (и монаха, и мирянина) удивление и недоумение странным поступком Симона. Чем он заменил высокое духовное и многим полезное дело? Отечество, родных, и близких? Разве все это меньшая ценность, чем странничество? Разве странничество есть Служение Богу и ближнему? Разве оно добродетель? Читаем дальше: «Пришел он в монастырь к преподобному отцу нашему игумену Сергию и с глубоким смирением просил, чтобы Сергий позволил ему жить под своей крепкой властью в повиновении и послушании. Еще и пожертвование принес с собой и передал его игумену на устроение монастыря. Преподобный же Сергий принял его с радостью» (с. 328). Но почему он так его принял? Ведь архимандрит, в отличие от Сергия, оставил отечество и своих близких и ушел странствовать, а не какое-либо важное духовное дело делать. Тут мы заметим, что текст «Жития» дает весомое основание определить общую цель действий Симона более возвышенно. Во-первых, сказано ведь, что он «загорелся душой и сердцем», услышав о жизни Сергия; значит, в ней было нечто столь высокое и духовное, что было способно вдохновить архимандрита Симона принять труднейшеее, ответственнейшее решение. И уж если о подвиге Сергия было известно в Смоленске, то о нем, без сомнения, было известно и церковным властям в Москве. Во-вторых, в «Житии» определенно утверждается, что Симон отправился прямо в Радонеж, о чем, строго говоря, нельзя сказать, будто он «въсприемлет смирениа образъ и произволяетъ странничьствовати» (с. 328, выделено мною. – Л. К.). Этими словами притеняются истинные цели решения Симона – самому жить подвижником под началом Сергия и тем оказать ему мощную моральную поддержку, и, кроме того, солидную финансовую помощь великому реформаторскому начинанию Сергия. Симон, понятно, был принят с радостью. Читатель ищет причину этого, и не видит в тексте ничего, кроме солидного пожертвования, принесенного Симоном с собой. Фразу об этом «имении» (пожертвовании) агиограф расчетливо поместил перед согласием Сергия принять Симона в Обитель. Читатель не находит верного ответа потому, что рассказ о Симоне помещен в «Житии» не там, где ему положено быть, а в другом, темном месте, и потому рассказ этот не освещает поступок Симона с действительной, существенной стороны. В композиции «Жития» у Анонима рассказ получает смысл, неблагоприятный для Симона и для Сергия. Поэтому агиограф чуть далее и написал льстиво, что Симон был «всеми добродетелями исполнен»; всеми – точное, лукавое словечко, которое заставляет вспомнить поговорку «лучше недохвалить, чем перехвалить». Вот что может словесное умение – жаль только, примененное не с благой целью.
Когда анонимный агиограф хочет кого-то действительно представить лишь с положительной стороны, он вводит в повествование благоволение, одобрение или внушение Бога. Напомним, к примеру, как бог внушил «богобоязненным монахам» мысль прийти к Сергию в пустыньку, чтобы облегчить его многотерпеливую жмзнь. «Старейший архимандрит Симон», однако, не удостаивается от агиографа такой чести, как никому не ведомые монахи, не получает Высочайшей санкции на свое поселение в Сергиевой обители. И, наконец, еще одно попутное замечание о словесном искусстве анонимного агиографа. Мы знаем отношение агиографа к сакральным числам и легко поймем, почему он, найдя в Сергиевой общине двенадцать монахов, придал числу 12 смысл Божественного охранителя стабильности общины. И вдруг случайно обнаруживается сила, которая легко уничтожает эту защиту: «...пришел к ним Симон и сокрушил число двенадцать» (с. 334). Обратим внимание и на подбор глагола («разрушить» – сокрушить), и на то, что сокрушена именно стабильность общины. Слово «разрушити» еще одним точным штрихом дополняет неблагоприятный фон портрета обладателя «всех» добродетелей.
Ранее мы показали, что, вопреки мнению Анонима, только с приходом архимандрита Симона в Свято-Троицкий монастырь и возникла возможность создать 12-членную, апостольскую общину. И Сергий, и Симон, и все монахи стремились удержать общину именно в таком количественном составе: «Сь же число – двое на десятное обретшееся в них, сице живяху тогда и по два лета, и по три, ни же боле сего умножася, ни же менше сего умаляхуся. И аще ли когда единъ от них или умрет, или изыдет от обители, то пакы другой на его место брать прибудет, да не число истощимо обрящется» (с. 328). Конечно, сердца монахов согревало и дух их бодрило и возвышало подобие их общины апостольской общине; и это само по себе объясняет их устремление сохранять 12-членный состав общины. Однако, Сергий, возможно, смотрел на такое количество не только со стороны сакрально-символической, но и организационно-практической. «Систематически спаянная группа из 12 человек, может, поистине даже владеть мировыми явлениями... Расширение группы может ослабить ее, нарушая динамику построения» [95]. Создать такую спаянную группу людей очень трудно, и еще труднее сохранить ее в течение длительного времени. Агиограф не сторонник стабильного состава монастырской общины из 12 чел. Он не качеству коллектива радуется, а количеству, многочисленности насельников монастыря. Агиограф позволил себе слегка поиронизировать по поводу числа 12: «Но единаче въ едином числе двои на десятнем бяху пребывающе, яко некоторым от сего глаголати: «Что убо будет сь? Или повсегда двема на десяте мнихом быти въ месте сем, по числу 12 апостолъ, яко же писано: «Призва Господь ученикы Своа, и избра от них 12, яже и апостолы нарече» (Лк., 6:13); или по числу двою на десете колен Израилевъ; или будет по числу 12 источникъ водъ, или по числу избранных камений драгых 12 (Быт., 49:28), бывших на ризах архиерейскых (Иск., 15:7, 24:4) по чину Аароню» (с. 328). Смысл иронии: чему же подражали Сергий и монахи? Возвышали ли себя до апостолов, Сергия до Христа? Или, может, сравнивали себя с драгоценными камнями на ризе святителя? Ирония явственно ощущается сегодня, и тем более ощущалась, на наш взгляд, в тотально религиозом обществе. Этим ощущением мы объясняем, например, такой факт: «Житие Сергия», составленное арх. Никоном, чутким к другим библейским приуподоблениям, обходит полным молчанием все приведенные приуподобления, видимо, опасаясь согласием с агиографом-анонимом бросить тень на святого Сергия. Тем более, что агиограф далее одобряет разрушение 12-тичленной общины с чувством сдержанного удовлетворения: «...и оттоле (после прихода Симона. – А. К.) братиа множахуся от того дни боле, и уже числяхуся множайшим числом паче, нежели двою на десятным» (с. 328), то есть Свято-Троицкий монастырь стал походить на другие русские монастыри... Это и одобряет Некто.
Построение вместительной церкви и наличие своего священника в Свято-Троицком монастыре стало привлекать сюда все больше людей, ищущих спасения своей души. Это обстоятельство, а также стремление сохранить единство монашеской общины и побудило, мы думаем, Сергия и архимандрита Симона пополнить правила приема в монастырь и распорядка жизни монахов. Сергий не разрешал сразу постригать новичка, но «вначале повелевал одеть на него долгополую, из черного сукна свитку, и в ней довольно долго ходить, пока все устройство монастырской жизни не станет для него привычным. Только после освоения всех служб он получал монашескую одежду, и постриг, и мантию, и клобук» (с. 330). В древнеиноческих уставах такой прием в монахи был нормой, но в особножитных монастырях послемонгольской Руси дисциплина ослабла, хозяйственные, трудовые службы стали необязательны, и, наверное, поэтому агиограф посчитал необходимым подчеркнуть Сергиев порядок приема в монахи как новшество, как устрожение иноческого пути.
И для себя Сергий постановил теперь за правило ежедневно проверять поведение насельников монастыря в самое ответственное время – после повечерия, «в темные и долгие ночи». Он ходил от кельи к келье и наблюдал жизнь своих подопечных. Среди них не было полного единодушия. Сергий радовался, когда видел (слышал) молящихся или «читающих святые книги» (с. 331). Или занятых ремеслом. Когда же он видел «двух-трех беседующих или смеющихся, то... стучал в дверь или оконце и уходил... Утром он приглашал их к себе» (с. 331) на беседу, которую «вел с тихостью и кротостью, с намерением узнать их прилежание и устремленность к Богу» (с. 331). Он ограничивался беседою, если видел смирение провинившегося. Но если видел непокорность, нежелание признать свой грех, то прибегал к епитимье, т. е. к разным видам наказаний.
Соблюдение принципа справедливости в отношении к насельникам – соразмерности поступка и наказания, а точнее сказать, соразмерности мере наказания мотивов проступка и общего состояния души провинившегося – эта тщательная забота о справедливом отношении ко всем насельникам давала хорошие результаты. Заблудшие возвращались на истинный путь; агиограф не сообщает ни об одном случае изгнания или добровольного ухода из монастыря в этот период.
Среди явлений, которые особенно губительны для восхождения, нужно отметить половинчатое служение.
Живая Этика
Кроме несогласия монахов с Сергием из-за его нежелания принять сан священника, в «Житии» подробно рассказано еще о Двух острых конфликтах.
Первому посвящен рассказ, озаглавленный в Пространной редакции «О изобиловании потребных» («Об изобилии нужного для потребления»); в Первой пахомиевской редакции рассказ этот не имеет заглавия. Тема рассказа (одна из важнейших тем монашеской жизни во все времена) приобрела особую остроту в конце XV – первой половине XVI в. Несколько изменив заглавие рассказа, можно сформулировать его тему так: «Об источниках и путях жизнеобеспечения монахов». Прежде чем перейти к анализу содержания и смысла рассказа, надо решить хотя бы ориентировочно, когда случился описываемый конфликт в Свято-Троицком монастыре. Казалось бы, тут нет вопроса: и Пахомий, и Аноним поместили рассказ вслед за главой о принятии преп. Сергием официального сана игумена, что произошло в 1354 г. Кроме того, из рассказа видно, что жизнь в монастыре имеет келлиотский характер, откуда следует, что конфликт надо бы ограничить временем от 1354 года до 1355 – 1356 гг., когда в монастыре были введены общежительные порядки. Текст Пахомия не дает оснований для сомнений в таком определении времени, однако текст Анонима, напротив, побуждает к отказу от этого определения, так как содержит опровергающие его сведения и факты.
Агиограф Некто представил читателю рассказ, в три с лишним раза превышающий по объему пахомиевский; такой объем позволил внести в рассказ новые эпизоды и дать к нему пространное вступление. С него и начинаются наши сомнения. Аноним дважды, и при том различными способами, определяет длительность периода скудной жизни монахов, постоянной нужды то в хлебе, то в соли, то в масле, то в воске и свечах и т. д.:
1) «И сице жившим имъ донде же исплънишяся дние лет, яко, мню, множае пяти на десети» (с. 332);
2) «Пакы же по днехъ, непщую яко въ днех княжениа князя великого Ивана, сына Иваня, брата же Симионя, тогда начяша приходити христиане, и объходити сквозе вся лесы оны, и възлюбиша жити ту» (с. 332).
Первый хронологический текст ясен: если к 1344 г., когда начался приход монахов в лесную Сергиеву пустыньку, прибавить более 15 лет, то получим приблизительно 1359 год. Второе определение несколько ограничивает этот период: великий князь Иван Иванович княжил в 1354 – 1359 годах. Это означает, что начало заселения околомонастырских лесов начинается на пять лет раньше, правда, с одной немаловажной оговоркой: если первое определение просто констатирует конец периода всяческой нужды, то второе характеризует его как процесс, и, значит, в первые годы этого процесса, скорее всего, еще не было такой ситуации, когда из поселений вокруг монастыря несли монахам «многообразнаа и многоразличнаа потребованиа, им же несть числа» (с. 332).
Два хронологических фрагмента в одном небольшом тексте «говорят» о том, что исходный текст подвергался Анонимом переработке. Еще больше в этом убеждают три лексически близких фрагмента, характеризующих самое начало создания монастыря:
1) «Поне же убо испръва, егда начинашеся строити место то, тогда многы недостаткы бываху; лишение всех потребных последняго ради нестяжаниа...» (с. 332);
2) «Егда испръва начинашеся създаватися место то, егда немножайшим братиамъ живущим въ нем, егда немнози бяху приходящей и приносящей, тогда начасте скудости бывааху потребных, яко многажды на утриа и хлебу не обрестися» (сс. 332-333);
3) «Испръва, егда начинашеся строитися место то, овогда убо не достало хлеба и муки, и пшеници, и всякого жита...» (с. 333).
Повторение двух хронологических фрагментов и трех других словесных конструкций определенно свидетельствует о том, что исходный текст перекомпоновывался и что этим текстом не был текст Пахомия (ни первой, ни второй, ни третьей его редакции). Видимо, исходным текстом был епифаниевский протограф.
Анонимный агиограф не по невнимательности, а сознательно, намеренно трижды подчеркнул одними и теми же словами («испръва, егда», «егда испръва» и «испръва егда...»), что речь в рассказе «О изобиловании потребных» идет о самом начале Свято-Троицкой монашеской общины. Эти повторы имеют ясную художественную функцию: раз за разом усиливают впечатление нищеты и тяготы тогдашнего быта монахов. Чтобы уверить читателя в том, что он, читая, должен представлять себе самое первое время Свято-Троицкого монастыря, Аноним перед тем, как перейти ко второму и третьему (они следуют впритык друг за другом) фрагментам (мы их выше процитировали), вводит дежурную топосную фразу, типичную для многих и многих древнерусских житий: «Но мы до зде сию речь оставльше, а на предреченную беседу обратимься...» (с. 332). Кажется, теперь все ясно: рассказ следует переместить из одной главы, в которой он находится у Пахомия и у Анонима, в главу «О прогнании бесов молитвами святого», ибо в ней и говорится о начальном периоде Свято-Троицкого монастыря. Выходит, что исследователь увидел то, чего не видел агиограф, увлекшийся переделкой епифаниевского оригинала. Так, конечно, бывает порой. Но не таков Аноним: он весьма внимателен, образован и опытен. Он задает читателю еще одну загадку.
Переходя непосредственно к сюжету рассказа, агиограф окончательно определяет время его действия: «И случися въ иное время сицево искушение, поне же съ искушением бывает и милость Божиа: некогда не достало бысть хлеба и соли у игумена, но и въ всем монастыри бысть оскудение всех брашенъ» (с. 333, выделено мною. – А. К.). В какое иное время? Агиограф, похоже, знает, ибо твердо говорит об этом, но читателю он своего знания не раскрывает. Второе определение (некогда), как и содержание рассказа, проясняет, почему так поступает агиограф: то, что произошло в монастыре (нехватка продуктов), общезначимо, может быть отнесено к любому времени и потому в хронологической привязке к году, десятилетию и столетию не нуждается, что и подтверждается рядом библейских аналогий (там же). Такая привязка ограничила бы дидактический смысл рассказа, сузила бы его значение. Такова мотивировка агиографа, мотивировка не словами, а итоговым смыслом рассказа. Но у нас иная задача, чем у него. Для нас дидактика важна, но еще важнее истинный ход событий. Нам надо как можно ближе к фактам, к епифаниевскому образу Сергия восстановить последовательность событий в его жизни. Мы видим, что в иных временных координатах, отличных от тех, которые обозначил Аноним, описываемое конкретное событие не могло быть. В самом деле, оно не могло быть до прихода монахов к Сергию (1344 г.) и не могло быть после 1355 г., так как к этому времени монастырь уже был общежительным, а по рассказу ясно видно, что события происходят в особножитном монастыре, история которого началась в 1344 г. и закончилась не позднее 1355 – 1356 гг. Мы заинтересованы в возможно более точном определении временных координат действия рассказа. И текст «Жития» позволяет это сделать. Обратим внимание на то, что в рассказе нет упоминания ни о церкви, ни о других монастырях. Свято-Троицкий монастырь живет по своим, введенным Сергием указам, более строгим, чем уставы удобножитных монастырей, из которых пришли к нему монахи. Сознание агиографа, повествующего о голоде, и сознание монахов свободны от какой-либо встроенности Сергиевой обители в церковную структуру, от какой-либо связи Сергия с внешними духовными лицами православной Церкви. С другой стороны, ситуация, в которой оказались голодающие монахи, хорошо вписывается в начальный период Свято-Троицкой обители, столь живописно изображенной в Пространной редакции: монахов еще совсем не много, Сергию они повинуются плохо, хотя обещали это делать, и он один зарабатывает себе кусок хлеба трудом, а ему никто не подражает в этом. Вся эта ситуация изолированного, неоцерковленного монастыря трижды внушительно подтверждается хронологическим акцентом на самом начальном этапе истории монастыря. В таком контексте слова Анонима об «ином» времени событий не означают отрицания его конкретных временных характеристик, а означают лишь то, что он хочет придать рассказу всеобщий смысл, не связанный с каким-либо определенным временем.
Итак, основываясь на вышесказанном, мы определяем временные рамки конфликта так: между 1344 г. и 1347 г., еще до создания просторной церкви и до установления двенадцатичленной общины, когда монахи уже сами себе кельи строили и трудились, стараясь сравняться с Сергием.
Возникает, однако, вопрос: зачем надо было правщику перемещать события из доцерковного в церковный период жизни Сергия? Это вполне понятно: ради того, чтобы чудотворное деяние Бога прикрепить к церкви, чтобы утвердить в сознании читателя важнейший для церкви смысловой блок – там, где церковь, там и Бог. Что это именно так, свидетельствует общая ситуация в «Житии Сергия»: все чудотворные деяния Бога и Сергия-монаха, исключая чудеса в утробном и раннем младенческом возрасте, помещены в церковный период его жизни. Это противоречит краткому, но выразительному указанию Первой пахомиевской редакции, относящемуся к самому началу монастыря: «Слышавше бо, рече, окрест живуще святого мужа добродетель и абие прихождаху к нему: овии хотяще ползевати, инии же моляху, еже жиги с ним. Он же с радостию овех ползеваше...» (с. 349). Молва о святом муже означала для мирян, что он обладает чудотворной силой духовно и физически помогать людям, исцелять болезни, делать предсказания и т. п. Слова «ползевати» и «польза» в «Похвальном слове» Епифания употребляются именно в таком широком значении (с. 274), и мы поэтому полагаем, что процитированный отрывок из Первой пахомиевской редакции донес до нас епифаниевский текст.
И, наконец, остается еще ответить на вопрос, весь ли текст рассказа «О изобиловании потребных» принадлежит Епифанию (так думает ряд уважаемых ученых). На наш взгляд, в нем имеются вставки, о которых можно уверенно сказать, что Епифаний их сочинить не мог, ибо они не вписываются в его образ Сергия. Мы рассмотрим эти вставки по ходу изложения, а сейчас займемся идейно-образным содержанием рассказа.
Автор начинает рассказ с указания на причины, породившие острый конфликт в Свято-Троицком монастыре. На первом месте стоит изолированность («беспутие») и отдаленность обители от окрестных поселений, предопределившая отсутствие «всякого утешениа» (с. 331), т. е. «приношений» от поселян (там же). Это серьезная причина, побудившая в свое время Стефана отказаться от пустынножительства. Но Сергий, а затем и монахи-поселенцы, следуя его примеру, ослабили действие этой причины давно известным, крестьянским способом: они завели свое огородное хозяйство, на котором сеяли также и зерновые культуры (с. 321). Однако теперь, в рассказе «О изобиловании потребных», агиограф ни слова не говорит об этом хозяйстве, оставляя читателя в недоумении. Может, был всеобщий неурожай? Или, может, братия не захотела физически трудиться, вопреки данному Сергию обещанию? Последнее более вероятно, ибо о такой ситуации уже писал агиограф (с. 321). Однако агиограф показывает не эту, а другую причину: «Бяше же заповедь преподобнаго игумена къ всем братиам сицева: аще когда съключиться таковое искушение, ...то не исходити того ради из монастыря въ весь некую или въ село и не просити у мирянъ потребных телесных, но седити тръпеливе в монастыре, и просити, и ожидати милости от Бога» (с. 333, выделено мною. – Л. К.). Заметим попутно, что о запрете Сергия попрошайничать по селам сказано и у Пахомия. Этот запрет, входивший в неписаный Сергиев устав обители, и есть единственная конкретная причина голодания монахов, о которой говорится в «Житии». Но сам запрет может быть понят как разумная мера нестяжательного устава Сергия, если опирается на общий труд, обеспечивающий «потребные» хотя бы в количестве, необходимом для поддержания жизни и здоровья. Невозможно представить себе, зная епифаниевский образ Сергия, ситуацию, описанную в рассказе: запрет есть, а физического труда монахов, дающего им «потребные», вовсе нет. Один Сергий, конечно, не в состоянии прокормить братию, пусть и «немногочисленную» («немножайшую» – с. 332). Исследователь Пространной редакции всегда должен помнить, что Аноним умалчивает о чем-то важном и умалчивает неспроста, а преследуя свою, особенную цель. Это наше наблюдение находит убедительное подтверждение и в рассказе «О изобиловании потребных».
Отношение преп. Сергия к лишениям и трудностям совершенно иное, чем отношение других монахов: «Преподобный же Сергий всяку нужю ону, и тесноту, и всяку скудость, и недостаткы тръпяще съ благодарениемъ, ожидаа от Бога богатыа милости» (с. 333). Мы подчеркнули несомненную, откровенную вставку агиографа Некто, разрушающую епифаниевский образ Сергия. Ранее Некто представлял лицемерным, эгоистичным смирение Сергия, теперь он говорит о расчетливом, эгоистичном терпении Сергия. Такой Сергий агиографу по душе; и действия, и речи Сергия теперь одобряются. А где же тогда подражание Сергия «своему владыке» Христу, связавшему воедино служение Богу со служением людям, а не с себеслужением? Аноним об этом не вспоминает.
И вот агиограф Некто начинает выстраивать сюжет в соответствии со своим пониманием терпения Сергия.
«Часть монахов голодала уже два дня», Сергий же «три или четыре дня ничего не ел» (с. 333), потому что он всегда ставил себя в худшие условия сравнительно с другими. Некоторые монахи все же имели продукты. К одному из них, старцу Даниле, который давно хотел пристроить к своей келье крыльцо, пошел Сергий и нанялся выполнить эту работу за хлеб. К вечеру крыльцо было готово, и Данила заплатил игумену хлебом, сказав, что больше ничего не имеет. Хлеб был такой заплесневелый, что от него «шел дым» (с. 334), когда Сергий разломил его и начал есть. Этот случай и стал той каплей, которая переполнила чашу терпения монахов. Один из них пришел к Сергию «и произнес свои обличения и поношения, говоря: «Плесневый хлеб! И нам все еще нельзя идти в мир просить хлеба? Вот мы на тебя смотрели, как ты учил нас; и мы были послушны, и вот мы пропадаем с голода. Из-за этого мы уйдем отсюда утром рано, чтобы найти себе пропитание. И потом мы уже не возвратимся сюда, мы уже не можем больше переносить нужду и недостатки, постоянно возникающие здесь» (с. 334, перевод мой. – А. К.). Монах говорит от имени какой-то части насельников, но агиограф пишет: «Не все роптали, но один из братии». Сергий же иначе оценил ситуацию в монастыре и потому не индивидуальную беседу провел с одним братом, а собрал всех монахов, ослабевших и печальных, и произнес поучительную проповедь. У него для этого было веское основание: никто из «печальных» монахов не пришел к нему и не сказал: мы, подобно тебе, хотим заработать трудом свой хлеб. Положительный пример Сергия никого не вдохновил на подражание. Но ни Сергий, ни агиограф за это монахов не порицают. Напротив. И Сергий, и агиограф дружно призывают монахов к терпению, обещая им милость от Бога. Полное согласие Сергия и агиографа есть следствие официального принятия Сергием игуменства (не забудем, что глава «О изобиловании потребных» помещена Анонимом после главы о принятии Сергия и Свято-Троицкого монастыря в лоно церкви).
Проповедь Сергия, чудо, последовавшее за нею, объяснение чуда – все это служит Анониму для того, чтобы создать свой образ Сергия, якобы убежденного защитника праздной, нетрудовой жизни монахов. Оцерковленный игумен Сергий становится как бы рупором Анонима.
Проповедь построена на пяти цитатах из Библии и святоотеческих сочинений. Ее главная мысль: перестаньте печалиться, «уповайте на Бога», «кръмителя всему миру и питателя вселенныа» (с. 334), терпите «с верою и со благодарением, на плъзу вам будет искушение то и на болший прибыток обрящется: поне же благодать Божиа всем бывает не без искушениа» (с. 335). В центре поучения Сергия приуподобление, взятое из Евангелия от Матфея (6:33, 6:26, 10:22): «Ищите и просите преже царствиа Божиа и правды Его, и сиа вся приложатся вамъ. Възрите на птица небесныа, яко ни сеють, ни жнуть, ни збирають въ житница, но Отець небесный кормить а: не паче ли вас, маловернии? Тръпети убо, тръпениа бо потреба есть: в тръпении вашем стяжите душа ваша; претръпевый бо до конца и спасется» (с. 334-335). Монахи, как это уже было однажды, снова уподобляются апостолам, а Сергий – Христу, но приуподобление, в отличие от притчи Христа, изымается из контекста действительной жизни, рассматривается вообще само по себе. От этого оно получает искаженный смысл. Вне требований Сергия к трудовому самообеспечению монахов, к служению ближнему вся его теперешняя проповедь становится апологией монашеского нежелания физически трудиться даже для самообеспечения. При цитировании Сергием Евангелия упускается из виду, что Христос определил апостолам полезное, общеблагое дело: «а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева; ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Мф., 10:6, 7, 8). Но монахи, пришедшие к Сергию спасать свои души, трудиться не хотят, проповедь в народ не несут, исцелять не могут; зато все помыслы свои устремили к даровому получению лично для себя изобильных потребительских благ. Это неудивительно: они пришли к Сергию из удобножитных монастырей. Удивительно другое: Сергий полностью якобы разделяет их взгляды, и Бог по его молению совершает потребительское чудо – вариацию на библейское чудо с манной небесной. Некий «христолюбец» привозит (после проповеди Сергия, утром следующего дня) три воза «благоуханных хлебов» (с. 335-336) и других продуктов. «И вот Бог показал преподобному Сергию плод терпения его и воздержания... За те гнилые хлебы такую сладкую еду послал Бог: вместо гнилых не гнилые, а свежеиспеченные, сладкие, благоуханные, вместо тленных – нетленные, радость наслаждения земными благами. И это все еще в настоящей жизни, но и в будущей Бог пошлет вместо земных, временных благ небесные, вечные...» (с. 336). Тут обосновывается наслаждение обилием земных благ как жизнь легкая, жизнь для себя. В уста Сергия вкладывается такой конечный вывод. «Видите ли, братья, как Бог своим помыслом не оставил места сего и рабов своих монашествующих, живущих на этом месте, работающих для Него день и ночь и страдающих с верой и благодарностью?» (с. 337). Бог «может и кормить, и одевать нас, и обо всем заранее о нас заботиться, и мы от него можем ожидать всего нужного, доброго и полезного для наших душ и тел» (с. 337). Мы видели ранее, как монахи были озабочены именно благами для тела, им хотелось бы, конечно, чтобы Бог не опаздывал с присылкой «благоуханной пищи». Агиограф знает и разделяет эти заботы и опасения. Он спешит заверить монахов, что Бог будет по отношению к ним столь же милосерден, как в свое время к «жестоким и строптивым израильтянам» (с. 337). О наказаниях израильтян Богом агиограф помалкивает; молчание значимо: роптание монахов на Сергия и их неверие в Бога будет им прощено. Так оно и получается. Соглашение «Бог – монахи» (мы на Тебя работаем, Ты на нас) лишается таким образом справедливой взаимообязательной основы: монахи, мол, как древние евреи, могут иногда и не соблюдать заветов Бога (например, в трудные времена), но Он все равно, невзирая на это, должен остаться щедро-милосердным кормильцем, подателем благ телесных и духовных.
Такие грубо-примитивные мысли не мог приписать Сергию Епифаний; они принадлежат Анониму, лично не знавшему Сергия и не связанному с ним сердечно. Лишь равнодушный и циничный человек мог от имени Сергия сделать такое вот итоговое умозаключение: «Сам ныне Тъй будет промышляай: ниже бо силою немощнейши ныне, ни же о еже промышляти ленивейши бысть, но яко же преже древле, тако и ныне нам всегда мощен есть пищу подаати» (с. 337). Перевод: «Сам ныне будет Тот «промышлять» (заблаговременно думать и заботиться. – А. К.) о нас: Он и не ослабел ныне, и не стал ленивее (!) в промысле своем, но как и прежде, в древности, так и ныне всегда имеет силу дать нам пищу» (с. 337). Разве справедливо думать и писать о Боге, как о нерадивом монахе, что он не стал ленивее, не стал немощнее? На богословском языке это называется кощунством. Мы бы назвали это духовной эксплуатацией. Если уж всерьез говорить о промысле Божьем, то его, истинно, можно увидеть в том, что время сохранило почти весь епифаниевский оригинал «Похвального слова» и дало потомкам верный критерий для определения искажений епифаниевского образа св. Сергия.
Такова квинтэссенция иждивенческой философии, проповедуемой анонимным агиографом и приписываемой им преп. Сергию, святым именем которого он хочет прикрыть нравственное огрубение мнимых служителей Бога. Отныне монахи могут спать спокойно, не опасаясь ни голода, ни холода, вообще никаких невзгод и тягот. «С этого времени монахи привыкли не впадать в уныние, когда случались печали и тяготы, или когда не хватало того, что надо для жизни, но все переносили с усердием и верой, надеясь на Господа Бога и имея «залогом» преподобного отца нашего Сергия» (с. 337). Тут бы агиографу вспомнить свои поучения о том, что Бог все знает и читает в сердцах человеческих, а, значит, от него не могут укрыться корыстные мотивы монахов, ставших расчетливо терпеливыми к невзгодам. Сокрытый двигатель их поведения не любовь к Христу, не стремление становиться подобными Ему душой, а устремление к гарантированному получению даровых «благоуханных хлебов». Примечательно для потребительских умонастроений, что уверенность монахов в сделке с Богом основывается не на собственных заслугах перед Ним, а на заслугах Сергия, который ценится ими как «залог» их наслаждений жизнью на Земле и на Небе. Теперь они готовы беречь и охранять его, как богатого, щедрого заложника.
Семнадцатистрочный монолог Сергия о манне небесной, израильтянах и прочем является, несомненно, вставкой Анонима. Переводчик этого текста для ПЛДР воздержался точно перевести «ленивейши» как «более ленивый» и прибегнул к эвфемизму («и заботы его не преуменьшились» – с. 351). Одно слово «ленивейши» краноречивее целого сочинения показывает, как глубоко вошла в сознание агиографа Некто и монахов привычка эксплуатировать Святое Имя для удовлетворения запросов своей плоти.
Таковы мораль и мечты насельника удобножитного монастыря, но не мораль Сергия и не его идеал Служения Богу. К духовно-нравственному облику подлинного Сергия эта мораль имеет разве то отношение, что он ее решительно отвергал.
* * *
Было ли «чудо» с хлебами в самом деле или агиограф выдумал его по аналогии с библейским? Мы вполне допускаем мысль, что хлеб и продукты были посланы в обитель Сергия каким-либо богатым христолюбцем, может быть, тем, кто жил недалеко от монастыря и позднее приводил к нему больного отрока – по своей ли собственной догадке или по внушению Свыше. Судя по тому, что продовольственные трудности затронули всех монахов, можно предположить, что тот год вообще был бедственным. Значит, христолюбивый человек, знавший о монастыре Сергия, легко мог сообразить, что монахи в это время непременно должны голодать. Он не захотел назвать себя, так как был истинно верующим христианином и сделал доброе дело вовсе не ради своего прославления. Рассказ (молву) о неожиданной помощи голодающим монахам целенаправленная фантазия агиографа возвела на уровень чудесной милостыни Бога.
Как небо бездонно, так сила ваша велика... Сверхъестественное не существует по всем мирам... Именно дух человека есть проводник всех высших энергий.
Живая Этика
С главы «О изведении источника»* агиограф начинает рассказы о «чудесах», совершенных Сергием: «Мы хотим вам, возлюбленные, предложить беседу о преславных чудесах, которые делает Бог своим угодникам...» (с. 354).
Первое «чудотворное» действие Сергия было вызвано необходимостью облегчить труд монахов по обеспечению Обители водой. Родник, из которого они брали воду, находился у подножия Маковецкого холма, не совсем близко от монастыря. Вначале Сергий сам носил господам монахам воду на коромысле. В общине двенадцати, надо полагать, каждый носил воду для себя, и монахи в это время работали, ориентируясь на Сергия и сообразуясь со своими силами. И все же община двенадцати не была еще вполне гармоничным коллективом. Одной из причин недовольства некоторых монахов была именно необходимость далеко ходить за водой. В «Житии Сергия» сказано, что он в течении 7 лет «терпел» упреки от монахов по этому поводу, пока «часть братии», поддавшись внушениям беса, не заявила Сергию «с укором»: «отче честный, сам убо веси великаго труда братскаго, воде далече сущи, яко да неции стуживше сии от братия таковые нужда не тръпяще и от монастыра разлучатся» (с. 354). Этот ропот, дошедший до высокой степени накала, произошел в 1351 году (1344 г. + 7 лет), наверное, в относительно стабильной общине двенадцати. Сергий не стал увещевать монахов проявить терпение, как он это делал ранее, а пообещал обратиться за помощью к Богу.
После молитвы Сергий вместе с монахом, «процветавшим в добродетелях» (с. 354), спустился с холма в лес, в то место, где были три канавы. В одной из них сохранилось немного дождевой воды. Над нею Сергий сотворил молитву, обращаясь к Вседержителю с просьбой «дать сюда воду» (с. 355). «И тут внезапно появилась вода по всей канаве и потекла рекой, которую мы и доныне видим». Вода была не только питьевой, но и целебной – «все... приходящие с верою тут исцелялись» (с. 355). Монахи «назвали эту реку Сергиевой», но сам Сергий был решительно против этого: «не я ведь создал эту реку, а Господь Бог» (там же). Это «чудо» подобно известному «чуду» библейскому, когда Моисей высек жезлом воду из камня во время блужданий еврейского народа в пустыне. Оно было вполне по силам и Сергию, у которого к этому времени, обрели полную мощь все психические центры. «Житие» дает основание считать, что в это время никого с ним не было: о монахе, которого Сергий взял с собой, не сказано, что он участвовал в этом действии.
Небольшой рассказ «О изведении источника» был помещен Пахомием в период оцерковленного бытия Обители. Понятно, зачем он переместил рассказ из периода общины двенадцати: Бог, мол, не благоволил Сергию до тех пор, пока он не был утвержден в игуменском сане по всем церковным правилам. Но совершенно непонятно, как Пахомий не заметил, что он впадает в явную ошибку, так как в рассказе есть хотя и непрямое, но ясное указание на «изведение источника» в 1351 г., то есть до перехода Свято-Троицкого монастыря в ведение Церкви. Если 7 лет отсчитывать не с 1344 г., а с 1354 года, то получим 1361 г., когда преп. Сергий жил в Киржачском монастыре, и, следовательно, тогда он не мог отворить родник около Свято-Троицкого монастыря. Семь лет терпения Сергия, датирующие отворение родника, подрывают замысел Пахомия показать отсутствие дара чудотворения у Сергия до его официального назначения игуменом. Замысел Пахомия проявился в его Первой редакции «Жития». Некие монахи упрекали Сергия за то, что он неудачно выбрал место для монастыря: «Неции же от братии поропташа сеа ради вины на Сергиа, глаголюще: «въскую не расужаа селъ еси и великы труды приать вътще, воде не близ сущи». И не единою, или двоищи, но и многащи досаждаху ему. Тъи же крепкыи душею тръпяше до седми лет; всегда ожидаа помощи от Бога» (с. 354, выделено мною. – А. К.). Семь лет Сергий якобы ожидал этой помощи от Бога, но ее не было. Почему же Бог не помог своему угоднику своевременно, не избавил его от семилетних «роптаний» монахов? Пахомий вопрос возбуждает, но прямого ответа не дает, хотя и помогает читателю найти его. Не в слове, но в композиции текста, в контексте выражен ответ Пахомия. Для этого он поместил рассказ о первом чудотворении Сергия в церковный период его жизни: пусть читатель соображает, что только теперь, когда Сергий принял сан игумена, он и получил дар чудотворения.
Но логика событий и характер епифаниевского Сергия подсказывают иной ответ. Сергий был человеком милосердным и, конечно, стремился к облегчению монашеской жизни с самого начала. Но года два-три в этом не было необходимости: он носил воду сам и сам же разносил ее по келиям. Понятно, что тогда монахи не роптали. Позднее, когда вместе с Сергием и Симоном число насельников возрасло до 13, и в монастыре установилась трудовая дисциплина, так что каждый обслуживал свои личные потребности сам, уже мог возникнуть ропот среди монахов. И Сергий, признавая их недовольство оправданным, не стал на годы откладывать исполнение их просьб, а отворил родник, как только сложились для этого подходящие погодные условия. Не важно, случилось ли отворение водного источника в 1347, 1348 или 1351 году, но очень важно, что это произошло до церковной «прописки» монастыря. Последнее обращение монахов к Сергию было не раздраженно-сердитым, а уважительным. И это показательно: слабые и крикливые, недовольные трудностями ушли от Сергия, а остались в 12-членной общине лишь те, кто служение Богу не обусловливали личными выгодами. В ответ на их просьбу Сергий и решил применить свою психоэнергетическую мощь, которая у такого Великого Духа, как он, была вполне достаточной для отворения родника там, где подземная вода протекала близко к поверхности земли. Именно такое место он искал и нашел: «...бяху же ту рови, и егда бяше зима или каково наводнение, и тогда ту на томь месте бываше вода, яко же рехом, от наводнение, живые же воды, иже от земля истичет, от искони на том месте не было, яко же и древний человецы о том ясно известишя. Обрет же святыи Сергие въ едином рову воду, яко же выше рехом, от наводнениа, над ним же став молитву творяще, и воду освящь и преклонь колени, начат молитву сице...» (с. 355).
Чудотворную реку назвали Сергиевой, но он был против этого: «...възбраняше всем иноком и белцем, рече: «яко да никогда же не услышу вас отныне глаголюще моим именем реку сию, не бо азъ проявих реку сию, но Богь» (с. 355).
* * *
Исцеление от неизлечимых болезней было одним из чудесных проявлений Сергиевой психоэнергетической мощи. Поскольку Пахомий упоминает о применении целебной силы Сергия еще до прихода к нему первых насельников, постольку оправдано наше предположение, что чудотворящий дар Сергия проявился уже в период отшельничества. Мы полагаем, что именно чудотворение прежде всего «повинно» в широкой популярности Сергия, в привлечении к нему насельников. Епифаний, придерживавшийся творческого принципа дать «от многа мало», не считал нужным (да вряд ли это было и возможно) описать все чудеса Сергия. Этим можно объяснить, почему на неоцерковленный период существования Свято-Троицкой обители «пришлось» всего два рассказа о чудесах.
Наше исследование, мы надеемся, показало, в каком направлении шла переработка епифаниевского «Жития» и какими методами она осуществлялась. Но о методах мы до сих пор сказали далеко не все, что следовало бы сказать. Теперь мы хотим восполнить этот пробел.
Начнем с небольшой иллюстрации. Весьма показательны различия между заглавиями «Жития Сергия» в редакциях Пахомия и Анонима.
Первая пахомиевская редакция: «Житие и жизнь преподобного отца нашего игумена Сергиа. Списано учеником его священноиноком Епифанием, в нем же имат от Божественных чудес его» (с. 343).
Пространная редакция: «Житие преподобнаго и богоноснаго отца нашего игумена Сергиа чюдотворца. Списано бысть от премудрейшаго Епифаниа» (с. 285).
Эти редакции, как известно, не принадлежат перу Епифания: первую сделал в середине XV в. – на основе позднее утраченного оригинала Епифания – Пахомий Логофет, а вторую, вероятно, на основе оригинала и различных редакций Пахомия составил и написал в 20-е гг. XVI в. анонимный агиограф. Текст Пахомия и текст Анонима весьма различны и по содержанию, и по форме. Достаточно сказать, что «Житие» в редакции Анонима в несколько раз обширнее Первой пахомиевской редакции. Оба редактора, опираясь на средневековую традицию и не обременяя свою совесть, переделали в соответствии с потребностями времени и требованиями заказчика епифаниевский оригинал. И этот оригинал... исчезает для мира и для читателя, а вместо него и от имени подлинного автора читателю предлагается переделка-подделка. Вот это деяние христианским и просто честным назвать нельзя. Обе подделки слабее, хуже оригинала: Епифаний тогда и потом был признан (за другие свои сочинения) самым талантливым литератором своего времени. И он был, видимо, самым ученым: не зря же он вошел в историю под прозванием Премудрый. Один из агиографов-переделывателей, Пахомий Серб, получал за свою работу денежную плату от заказчика. По этой или по другой причине он позднее на титульном листе стал писать только свое имя: «Житие и жизнь и подвиги преподобного и богоносного отца нашего игумена Сергея, въ нем же имать и от божественныхъ чудесь его. Списано от Пахомиа иеромонаха Святой Горы» (с. 165, Вторая пахомиевская редакция). Епифаний забыт, Пахомий сознает себя единственным автором «Жития Сергия», однако на этом изменения в формуле авторства не прекратились. Свою Третью редакцию Пахомий озаглавливает так: «Житие и жизнь преподобного и богоносного отца нашего Сергиа», а на верхнем поле дописано: «в нем же имат от божественных чудес его; списася от священноинока Пахомия от Святыя Горы и Епифа (ния), священноинока, духовника, ученикъ бывъ и послушник святого Сергиа» (с. 168). Такое заглавие отражает движение авторского самосознания от эгоистичного присвоения чужой интеллектуальной собственности к честному признанию авторства двух литераторов. Благой процесс развития сознания Пахомия завершился несколько позже, получив четкое и правдивое выражение в заглавии Четвертой редакции (Троицкий вид): «Житие и жизнь преподобного и богоносного отца нашего игумена Сергиа, въ нем же имать и от божественных чудес его. Прежде списано бысть от духовника мудрейшаго Епифаниа, послежде преписано бысть от священноинока Пахомиа Святыя Горы» (с. 176). В отличие от Третьей редакции здесь на первое место поставлен Епифаний, который и назван основным автором (списано бысть), а к себе Пахомий применил причастие «преписано» (от глагола «преписати»= перевести; переписать со значением и «скопировать», и «переделать»). Справедливость по отношению к Епифанию была восстановлена (по тогдашним понятиям), и читателю как бы предоставлялось право самому решать, что в «Житии» осталось от Епифания, а что изменено и сочинено Пахомием.
Обратимся к заглавию Пространной редакции. Епифаний, единственный автор, назван «премудрейшим»; получается, что он сам так возвеличил себя. При этом вообще отсутствуют спокойные, констатирующие наименования автора, например, «ученик Сергия» или «священноинок», как в «Похвальном слове» Епифания. Определение «премудрейший», как говорят газетчики, поставлено «глазасто», на него нельзя не обратить внимания. Но оно явно самохвально, и потому, конечно, принадлежит не Епифанию, человеку действительно умному и скромному, а Анониму, создателю Пространной редакции. По первому впечатлению определение «премудрейший» возвеличивает Епифания, но когда читатель осознает, что оно – самоопределение, тогда положительное мнение о Епифаний меняется на отрицательное. Ведь даже Бога величают просто «Премудрым». Для того, кто знает, что на самом деле Пространная редакция «Жития» – сочинение не Епифания, а некоего автора, пожелавшего скрыть свое имя, для знающено это читателя определение «премудрейший» есть ироническая насмешка над Епифанием, слегка прикрытая преувеличенной похвалой. Подлинное имя ироничного Анонима до сих пор не установлено: видно, он тщательно обдумал меры по сокрытию своего инкогнито, ибо осознавал неприятности и опасности, которые могла бы навлечь на него демаскировка. Мы показали на конкретных примерах, что Некто намеренно умалял, принижал не только образ Епифания, но и Сергия.
Словосочетание «премудрейший Епифаний» можно рассматривать как модель одного из главных методов переосмысления и подмены епифаниевского образа Сергия, как модель метода перехваливания, доведения хвалы и славы до иронии или до абсурда (все примеры аскезы «выше естества», от младенчества начиная; непригодные примеры символики числа 3; смирение до самоуничижения и т. п.). Метод этот понимается Анонимом всеохватно: любая критика святого или несогласие с ним должны быть только под покровом хвалы и лести; любой поступок Сергия, любое его размышление надо хвалить, исхитряясь при этом показать якобы характернейшее для Сергия качество – лицемерие, раздвоение души, умело им прикрываемое. Некто придумал и коварно применил от имени Епифания ряд способов неявного переосмысления образа Сергия:
1) прямая речь Сергия используется для его самодискредитации (спор отрока с матерью, спор в лесу со Стефаном, диалог с игуменом Митрофаном и т. д.);
2) неточные (усеченные или перемешанные) цитаты из Библии, меняющие их истинный смысл, или неверное приуподобление (когда их делает Сергий, то тень ложится на него, когда агиограф, то – на Епифания); примеров много, напомним цитаты из Нового Завета, в которых Сергий уподобляет себя Христу, а свое «малое стадо» – апостолам, и обещает ленивым монахам различные нетрудовые блага; напомним замену слова «вихрь» на «малодушие» в псалме Давида;
3) саморазоблачительная молитва отрока Варфоломея, в которой он жалуется Богу на своих родителей и требует себе места среди угодников Божьих;
4) в почти неразрешимых ситуациях Некто спокойно прибегает к помощи Бога, от имени Которого («Бог хочет» – несколько примеров) говорит сам, и при этом Сергий, ничего не зная о желании Бога и потому как бы невольно подрывая свой авторитет, продолжает делать ошибочные действия и заявления (например, в споре с монахами о священстве).
5) Подчеркнем, что все переосмысления библейских цитат и приуподоблений всегда преследуют одну цель – умалить или исказить образы Сергия и Епифания. Переосмыслений с другой целью (доброй) нет. О Епифании надо сделать одно конкретное добавление. Его метод объяснения чудес и укрепления веры в них постепенно выхолащивается (то свидетели чуда есть, то их нет; то приуподобление чуда удачно, то неудачно) и тем самым становится ненужным, необязательным.
Большое значение для переосмысления текста имеет метод композиционных перестановок и метод создания иллюзорного, чисто агиографического времени.
6) Композиционные перемещения крупных частей текста не наша находка. Мы лишь открыли у Пахомия и Анонима этот метод переосмысления текста и попытались осознать его значение и роль. Иногда переделыватели так прихотливо меняли композиционное построение, что, кажется, их «творчество» не поддается разумному объяснению. В Первой пахомиевской редакции беседа престарелого митр. Алексия с преподобным Сергием о том, чтобы Сергий согласился после смерти Алексия занять его престол, помещена – в полном соответствии с историческим ходом событий – до рассказа о победе над Мамаем на поле Куликовом: беседа состоялась в 1377 г. – в самом начале 1378 г., а победа была одержана, как известно, в сентябре 1380 г. Однако в Третьей редакции Пахомий переносит упомянутую беседу с ее прежнего места на другое – после рассказа о победе над Мамаем. Так же поступает почти 100 лет спустя и составитель Пространной редакции. Обе исторические даты они, конечно, знали точно; зачем же тогда намеренно, вопреки фактам, переместили с одного места на другое рассказ о беседе митрополита Алексия с Сергием, сдвинув историческое, действительное время беседы года на четыре позднее? Не ради ли того, чтобы бросить тень на Епифания и подорвать доверие читателя к самому факту (был – не был) отказа Сергия от поста митрополита, посеяв в читательском сознании мысль об ошибке Епифания? Так поступили Пахомий и Аноним с событием, отмеченным во многих летописях.
Стоит ли удивляться, что композиционное перемещение рассказов о событиях, хронологически нигде точно не зафиксированных (чудеса, сотворенные Сергием, или приход к нему архимандрита Симона) вообще не составляло для редакторов «Жития» серьезной проблемы? Что они, руководствуясь требованиями церковной, или политической конъюнктуры, или иными побуждениями всегда готовы были к соответствующей перекомпоновке «Жития»?
В принципе подход к композиционным перестановкам Анонима-составителя Пространной редакции одинаков с подходом Пахомия. Некто с помощью перестановок сильно сократил повествование о доцерковном периоде истории монастыря Святой Троицы; так же поступил ранее и Пахомий. Однако два существенных отличия композиционного реструктурирования Анонима от метода Пахомия мы должны тут отметить. Во-первых, сокращения в Пространной редакции менее объемны (в целом), чем в Первой пахомиевской, и потому менее заметны, во-вторых, значительно большая часть епифаниевского текста не изъята Анонимом, а переписана в контекст церковного периода монастырской истории; тем самым эта часть сохранена для потомков. Сохранена потому, вероятно, что сами по себе тексты рассказов «О изобиловании потребных», «Об архимандрите Симоне» и «О изведении источника» подходят как для возвышения авторитета Сергия (в любом контексте, на любом месте), так и для возвеличения церкви, священноначалия (в контексте перехода Сергия и монастыря в церковную структуру). Ради чего Пахомий и Некто сделали столь существенные композиционные перестановки в «Житии»? Ради умаления и искажения образа святого Сергия: об этом уверенно можно судить по результатам хирургических операций над композицией. Перестановка двух рассказов о чудесах лишала Сергия дара чудотворения, вернее, отодвигала дарование этой силы на более поздний, церковный период его жизни. Невнятное упоминание Пахомием того, что «святой муж» «ползевал» мирян, приходивших к нему в пустыньку, не лишало смысла композиционные перестановки, так как для осознания истинного значения пахомиевского упоминания нужен был предварительный семантический анализ текста. Но кто же тогда мог и хотел его делать? Перестановка рассказа об архимандрите Симоне в церковный период лишала «дикого», молодого игумена Сергия авторитетнейшей поддержки и ввергала его в трудный кризис, финансовый и богослужебный. Признание же Симоном духовного подвига Сергия было для него крепкой нравственной, религиозной опорой и санкцией; но это признание утрачивало всю ценность в том случае, когда Симон приходил «под руку» Сергия после того, как тот получил от церкви сан священника и игумена. Словом, композиционные перестановки трех рассказов обедняли духовную и трудовую жизнь Сергия и монахов, пришедших к нему. И тут как бы сам собою возникал вопрос: а что же может дать монахам неопытный и духовно бесплодный игумен? Может ли он спасти их души, если он не в состоянии наладить упорядоченную жизнь в монастыре?
Перестановка трех рассказов создала для агиографа Некто и отчасти для Пахомия значительные трудности в описании целого десятилетия неоцерковленной жизни Сергия и Свято-Троицкого монастыря. Надо было чем-то, какими-то делами заполнить эти годы. И решение было найдено. Нам предстоит его осознать и оценить.
7) И Пахомий, и Некто как бы поместили это десятилетие в хронологический вакуум в этот период не было времен года, счет шел только по дням, все события и происшествия носили локальный характер, – словом, в тексте не было никаких признаков длительного, многолетнего времени доцерковной жизни Сергия и монахов. Их жизнь была исполнена тягот, но тягот однообразных, и это позволяет охарактеризовать их, описав всего несколько дней или несколько событий. Пахомий, избравший путь многократного сокращения исходного текста, рассказал на двух рукописных страничках лишь о факте прихода монахов к Сергию, о споре монахов с ним по поводу священства и игуменства, и, кроме того, кратко перечислил добродетели Сергия. Агиограф Некто не принял столь резкого сокращения текста, ибо оно создавало несвойственный ему телеграфный стиль изложения. Некто пошел иным путем. Он стал заполнять хронологический вакуум двумя способами: художественными описаниями природы, и (в основном) беседами и спорами монахов с Сергием. Текст у Анонима получился в несколько раз длиннее пахомиевского. Но вместе с тем и у того, и у другого этот текст был значительно меньше текста, который им потребовался для описания двух лет предыдущей, отшельнической жизни. По этой причине возникал желательный эффект читательского восприятия житийного времени: текст короче – действительное время короче.
Агиограф Некто, в отличие от Пахомия, кое в чем запутался и не заметил этого. Так, на с. 318 он написал, что Сергий был очень крепок и мог работать за двоих («...могый за два человека...»), а на с. 322, что он изнурил себя до предела крайним воздержанием, так что «...плоть истни си и иссуши...». На с. 318 о монахах сказано: «И създаша себе кыйждо свою келию и живяху о Бозе...», но на с. 320 заявлено, что «...сам Сергий трие или четыре келий своима рукама създа», потому что монахи ленились, жили не по-божески. Возникло также противоречие с текстом Пахомия. Аноним говорит об общине из 12-ти человек и в доцерковный, и в церковный периоды монастырской жизни, Пахомий же относит двенадцатичленную общину только к церковному периоду. У Пахомия поэтому не возникает несоизмеримости между церквицей на двоих и тринадцатью монахами, молящимися в ней, а у Анонима такое противоречие возникает и возбуждает новый вопрос о его вмешательстве в исходный текст. Если бы Аноним не перемещал рассказа об архимандрите Симоне, тогда сами собой обозначились бы два этапа в доцерковной жизни монастыря, и тогда отпали бы два противоречия: 1) 3-4 кельи на первом этапе построил Сергий, а на втором – сами монахи; 2) на первом этапе жило, помимо Сергия, 3-4 монаха, а на втором –12.
8) Смешение двух этапов в доцерковной жизни монастыря было не случайным, а осознанным, целенаправленным: оно создавало новые возможности прикровенного искажения образа Сергия. В трактовке анонимного агиографа получилось, что Сергий якобы не руководит общиной, а монастырские общие дела пущены на самотек, так как он фанатично занят только своими духовными подвигами и борьбой с искушениями. Поэтому правила строгой жизни, принятые монахами добровольно, не выполняются ими. Сергий исступленно работает один на всех и за всех, как «купленный раб», и якобы ничего не может поделать с откровенно иждивенческими настроениями братии, хотя эти настроения и не нравятся ему. И в довершение всего в исключительно важном, спорном вопросе о священстве правы оказываются монахи, а не Сергий.
Так создавался образ фанатичного, эгоистичного и беспомощного Сергия, якобы не понимающего ни устроения церковной жизни, ни эффективных способов воспитания монахов.
Возможно, что агиограф, создавая хронологический вакуум, учитывал и психологическое различие в восприятии читательским сознанием длительности времени настоящего и времени прошлого, различие, известное каждому и тем не менее не вполне осознаваемое: равный срок в прошлом кажется и короче, и беднее событиями, чем в настоящем.
Вследствие композиционных передвижек в «Житии Сергия» и умелого создания иллюзорного восприятия времени Анониму относительно неплохо удается представить агиографический год с небольшим как десять реальных лет существования монашеской общины под началом Сергия. Но зачем были нужны все эти текстологические и психологические ухищрения со временем? Для переосмысления образа Сергия. В сознании читателя закрепляется: 1) сам по себе Сергий не смог должным образом управлять даже небольшой общиной монахов, но все переменилось к лучшему, как только он согласился признать руководство церкви; 2) где церковь, там не только успех, но и чудеса, а, значит, и истинный Бог.
Целенаправленные перекомпоновки текста начинаются с главы «О прогнании бесов». Отсюда замечается несоответствие между содержанием нескольких глав и их названиями. В указанной главе, кроме «прогнания бесов», речь идет еще: 1) об устройстве монастыря; 2) о болезни и смерти «приходящего попа» Митрофана и длиннющих спорах монахов с Сергием, не желающим становиться игуменом; 3) о беседах Сергия с епископом Афанасием и о перемене взгляда Сергия на священство.
Другими словами, в главе «О прогнании бесов...» помещены еще три главы, содержание которых не связано с изгнанием бесов.
К политематичным главам относятся также две главы, следующие за главой «О прогнании бесов»: главы «О начале игуменства святого» и «О Иване, сыне Стефана». В главу «О начале игуменства...» внесены также рассказы о становлении первоначальной Свято-Троицкой общины и о приходе к Сергию из Смоленска архимандрита Симона. Название главы «О Иване, сыне Стефана» относится лишь к 1/6 части ее объема. Помимо рассказа о пострижении Ивана, в этой главе оказались рассказы об образе жизни Сергия после получения игуменского чина, об истории заселения Маковецкого холма и новый рассказ о первоначале неофициального игуменства Сергия.
Переход от монотематических к политематическим главам, от соответствия содержания главы ее названию к несоответствию понадобился Анониму, как мы ранее старались показать, для одновременного решения двух задач: 1) для обеднения деятельности Сергия в неоцерковленный период монастыря; 2) для прикрытия перемещения важных событий из этого периода в следующий, оцерковленный.
Конечно, еще в главе «Начало житию Сергиеву» обращает на себя внимание некоторое несоответствие названия ее содержанию, вернее, несоразмерность составляющих ее частей. Почти все сюжетное повествование отведено рождению и первым младенческим месяцам жизни Варфоломея, в то время как остальному времени детства (почти 7 годам) отведено лишь 15 строк их 263-х. Причем из пятнадцати 11 строк – это краткий рассказ о начале учения Варфоломея; иначе говоря, о детстве есть лишь упоминание. В «Похвальном слове» о детской поре сказано так: «Сий убо преподобный отець нашь Сергие из детьска възраста, и от юны връсты, и от младых ноготь предасться Богу...» (с. 277). В «Житии Сергия», однако, есть только рассказы о прилежании Богу в младенчестве и юности, но детский возраст пропущен хотя канон преподобнического жития требовал рассказа о детстве. Отсюда можно сделать вывод, что соответствующий рассказ Епифания не был, видимо, включен в «Житие» ни Пахомием, ни Анонимом. Тем самым мы получаем основание считать изъятие рассказа о детстве первым вмешательством в композицию «Жития».
10) И Пахомий, и Аноним широко применяют для переосмысления текста метод умолчания или недоговаривания, как правило, о чем-то весьма важном. Напомним некоторые примеры: умолчание о крушении служебной карьеры Стефана (к выгоде Стефана и невыгоде Сергия), об одобрении Богом прихода Симона в Свято-Троицкий монастырь (к невыгоде Симона и Сергия), незаконченность размышления о двух путях монашества (в итоге к выгоде Анонима, так как не говорится, что же одобряется Свыше) и т. д. Отсутствие благословения Бога также является прикровенной формой авторской критики.
Сравнение двух редакций помогает выявлять искажения епифаниевского текста: у Пахомия Сергий, следуя древнеиноческим примерам, не желает принять сан священника, объединяя в своих руках власть над душами и телами монахов, и это понятно: но у Анонима Сергий не желает быть ни священником, ни игуменом, хотя на деле уже исполняет обязанности игумена, и такая позиция воспринимается как неоправданный каприз, как проявление пустого упрямства.
11) Аноним манипулирует различными обращениями-именами или титулами-званиями; например, желая показать смирение Сергия как самоуничижение, Аноним вкладывает в уста Сергия такие обращения к критикующим его монахам, как «отци мои и господие»; или Аноним называет Сергия святым лишь после утверждения официальным игуменом; или Сергий преувеличенно смиренно называет своего брата Стефана отцом и господином и т. д. Образ Стефана не столько интересует Анонима сам по себе, сколько как средство для умаления Сергия: когда братья изображаются вместе, то Стефану всегда отдается первое место или выказывается предпочтение.
12) Отметим кратко два изысканных способа переосмысления текста. Омонимы по своему определению как бы созданы для малозаметного перетолкования смысла текста, и Аноним этим ловко пользуется. Вспомним, как смысловая игра со словом «дом» в псалме Давида позволяет Анониму превратить церквицу и лесную пустыньку Сергия из его природного, уединенного дома в дом загробный еще при жизни, еще в цветущие годы молодости. Или вспомним, как слово «хлевина» умело употреблено в значениях «дом» и «хлев» с намеком на хлев, в котором родился Иисус Христос (наш разбор символики тройственных чисел. – А. К.). Второй способ мы назвали бы курьезом, измышленным на потеху читателя: Сергий совершенно серьезно стреляет в дьявола «чистотными» стрелами в ответ на стрелы, которые пускает дьявол в Сергия, стремясь разжечь в нем половые влечения.
13) Разумеется, Пахомий и Некто применяют и метод интерполяций в текст, но метод этот прост, хорошо известен, и потому мы не собираемся специально рассматривать его (наиболее характерный пример – хронологические интерполяции – мы уже разбирали).
14) Здесь нам хотелось бы отметить еще один тонкий способ переосмысления текста, который можно назвать лексической подменой. Некто, рассказывая о решении юноши Варфоломея отсрочить на неопределенное время уход в монахи ради ухода за старыми, больными родителями, характеризует решение не как естественное выражение почитания родителей и любви к ним (об этом Некто говорил раньше), а лишь как угождение родителям (с. 305), которое (в отличие от любви) может быть и бывает эгоистичным (Варфоломей угождал якобы для того, чтобы получить от родителей благословение).
Разумеется, мы не исчерпали весь редакторский арсенал методов и приемов переосмысления протографа. И не ставим себе такой задачи. Однако полагаем целесообразным дать, наряду с конкретным разбором каждого метода и средства, и общее представление о них и их месте в системе авторских изобразительных и выразительных средств.
8.10. Целесообразный компромисс
Во многих веках Учителя выполняли трудные задания. Каждый из них имел свою частную жизнь со всеми местными обычаями. Внутренняя сущность нередко восставала против нелепых пережитков, но для выполнения задания нужно было применить высшую меру соизмеримости.
Живая Этика
В главке «Быть или не быть игуменом?» мы показали, что не было девятилетней дискуссии об игуменстве Сергия и не было его капитуляции перед монахами. Но факт официального утверждения Сергия игуменом Свято-Троицкого монастыря, а, значит, и перехода монахов под юрисдикцию Русской церкви, конечно, был, и в этом никто не сомневался и не сомневается. Следовательно, возникает вопрос, каким образом и по чьей инициативе состоялось это важное событие. Пахомий, и Некто, и многие их последователи и многие ученые, исследовавшие жизнь Сергия, утверждают, что преп. Сергий под устрашающим давлением монахов принял их предложение пойти в Переяславль к епископу Афанасию, чтобы просить его дать им полноправного игумена. Частичная реконструкция епифаниевской композиции «Жития», проведенная нами, позволяет иначе взглянуть на историю официального посвящения Сергия в игумены.
Чтобы отчетливее представить себе ход событий, необходимо вжиться в тогдашнюю ситуацию монастырского строительства и особенно в жизнь монахов Свято-Троицкого монастыря.
С 1346–1347 года на Маковецком холме стояла новая деревянная церковь Святой Троицы – преемница церквицы, построенной в 1342 году руками Сергия и Стефана. Вокруг нее разместились домики-кельи, рядом с ними начиналась отвоеванная у леса земля-кормилица, скромные «владения» монахов, их поле и огород. Вся территория Обители была обнесена тыном с охраняемыми воротами. Обитель жила по Сергиеву уставу, который существенно отличался от тогдашних монастырских правил и даже от устава Киево-Печерской киновии: стяжание, т. е. получение доходов от чужого труда и даже попрошайничество, было запрещено; личный физический труд монаха почитался здесь наравне с молитвой. Слава, притягательная сила Свято-Троицкого монастыря, живущего особой жизнью, не как все, с годами так возросла, что это стало тревожить церковные власти: знаменитый монастырь, в который идут учиться из Смоленска, продолжал оставаться вне церковной ограды. Им управляли два монаха безупречной репутации – Сергий Радонежский и Симон Смоленский. Окрестные жители почитали Сергия как «святого мужа». Все трудности и проблемы, возникавшие в жизни монастыря, успешно разрешались при постоянной помощи Свыше. Монахи не уходили из Обители, на что, возможно, надеялся кое-кто из церковных начальствующих. Безмолвный вопрос – доколе же будет длиться параллельное, независимое существование двух различных монашеских устроений? – становился все неотложнее. Ни Сергий, ни Симон не проявляли стремления к включению монастыря в систему церкви. И вот наступил момент, когда власти от тактики пассивного ожидания (авось, жизнь как-нибудь сама разрешит болезненный вопрос) перешли к тактике активных действий.
На Руси происходили большие перемены. Умерли от чумы (Божья кара) в 1353 г. митрополит Феогност и великий князь Симеон. Наместник Феогноста, епископ Алексий, собирался ехать в Константинополь, чтобы, пройдя необходимые церковные инстанции, стать митрополитом всея Руси. В это время, на наш взгляд, церковные власти и решили присоединить монастырь Сергия Радонежского к церкви. Тактически было целесообразно осуществить это намерение тогда, когда Алексий будет в Константинополе: в случае неудачи, т. е. отказа «крепкого душой, твердого верой, смиренного умом, не поддающегося лести и не боящегося угроз» (с. 324) Сергия принять предложение церковной власти, можно было вернуться к вопросу снова, после возвращения Алексия в Москву в сане митрополита всея Руси. В намерения властей вряд ли могли входить какие-либо силовые действия (санкции) против Свято-Троицкого монастыря или Сергия; да и что власть могла сделать? Отлучить примерных христиан Сергия и Симона от церкви и дать «своего» игумена вместо них? Но за что, на каком основании? Церковь упустила время! Сергий стал настолько славным и широко известным подвижником, что столкновение с ним было явно нежелательным для властей. Поэтому они, на наш взгляд, были готовы пойти на компромисс. Но каким он может быть? Это заранее определить было невозможно. Это могло проясниться только во время беседы с Сергием, беседы с глазу на глаз: огласка ее возможного неблагоприятного исхода была нежелательной.
Есть четыре подтверждения именно такого развития событий. Монахи будто бы выдвинули идею беседы с епископом, и двое из них будто бы пошли в Переяславль вместе с Сергием, однако нет никаких следов ни их участия в беседе, ни даже их присутствия на ней. Во время беседы Сергий вел себя так, что ни по чему нельзя судить о его капитуляции, о его предварительном обещании монахам «не говорить против их воли». Епископ, получив, в конце концов, согласие Сергия на игуменство, проявил такую заинтересованность в деле, что в два дня лично провел Сергия через все низшие ступени, необходимые для получения сана игумена. И, наконец, епископ не потребовал от Сергия никаких изменений в его образе жизни и в уставе общины. Все в Свято-Троицком монастыре осталось по-старому.
Беседа между епископом и иноком Сергием представляет немалый интерес для исследователя. Еще до ее начала агиограф сообщает, что епископ Афанасий Волынский временно исполняет обязанности митрополита всея Руси Алексия, находящегося в Царьграде. Этим отмечается самый высокий уровень приема Сергия, уважение к нему. Одновременно определяется время беседы: «По сбивчивым летописным указаниям, Алексий ездил в Константинополь дважды, в 1353–1354 и 1355–1356 годах» (с. 102). Б. М. Клосс пришел к выводу, что беседа проходила в 1354 г. (с. 103). Со всей определенностью этого сказать нельзя, но все же есть доводы за то, чтобы отдать предпочтение именно 1354 году.
Сравнивая описание беседы Сергия с епископом в Первой пахомиевской и Пространной редакциях «Жития Сергия» (ее мы сейчас рассматриваем), можно заметить странную особенность композиции беседы. В Пространной редакции она дважды начинается и дважды заканчивается, что ясно говорит о компиляции разных источников, использованных автором. Первое описание кратко, и его можно привести полностью: «К нему же (Афанасию. – А. К.) прииде преподобный отець нашь Сергий, поим с собою два старца, и вшед сътвори поклонение пред епископомь. Епискоггь же Афанасий, видевъ и, благослови его, въпроси имени его. Он же Сергий именем себе поведа. Афанасий же слышавъ, радъ бысть, о Христе целование дасть ему, преже бо бяше слышалъ яже о немъ, начятькы доброго подвизания его, и церкви възгражения, и монастырю основаниа, и вся благородные детели, яже къ братии любы с прилежаниемъ, и многыа добрыя детели. И побеседова с ним духовно; и егда скончаста беседу, и абие сътвори поклонение пред епископом» (с. 324). Беседа (диалог) не освещена подробно и даже не пересказана; она лишь кратко охарактеризована. К епископу на прием пришли трое, но вошел к нему в кабинет только Сергий (его одного приветствовал епископ по христианскому обычаю). Как это понять? Самое простое и верное толкование, на наш взгляд, таково: епископ пожелал беседовать с глазу на глаз, без свидетелей. Значит, ожидалось, что беседа будет конфиденциальной. Именно такой она и была, ибо в протокольном (по стилю) сообщении ничего не сказано о содержании беседы. Вполне возможно, что в действительности Афанасий и Сергий беседовали дважды и что в протографе были рассказы о двух беседах. Но так как первая беседа, судя по «Житию», носила зондирующий характер, то редактор (составитель) посчитал возможным соединить обе беседы, однако сделал это не очень тщательно, и остался заметный шов от совмещения бесед: «И побеседова с ним духовно, и егда скончаста беседу, и абие сътвори поклонение пред епископом». Ясно, что беседа закончена. Однако далее она продолжается, без какого-либо обозначения перерыва: «Блаженыи отець нашь Сергий начат молити святителя, прося игумена, и т. д. (сс.324-325)».
Еще одно наблюдение о первой беседе может представить известный интерес. Собеседники раньше лично не были знакомы. Однако епископ, судя по его речи, знал о Сергии довольно много: и о его первых подвигах, и о построении церкви, и об основании монастыря, и о любви Сергия к братии и о многих других добрых его делах. Откуда мог все это знать епископ? Разумеется, от митрополичьих помощников, которые, по своим каналам получали сведения о Сергии. Отсюда следует, что не прав Б. М. Клосс, утверждающий, что «Сергий не мог быть известен ни митрополиту Алексею, ни тем более патриарху Филофею» (с. 104). Б. М. Клосс забывает, что митрополит Алексий когда-то жил в Богоявленском монастыре вместе со Стефаном, старшим братом Сергия, и от Стефана, конечно, знал об особом монашеском пути его брата все или почти все.
Итак, у нас есть основание сделать вывод о том, что в протографе «Жития Сергия» Епифаний рассказал не об одной, а о двух беседах Сергия с епископом Афанасием Волынским.
Вторая беседа началась по-деловому: «Блаженый отець нашь Сергий начат молити святителя, прося игумена, дабы далъ наставника душамъ их» (с. 325). К этой беседе епископ хорошо подготовился: вооружился нужными цитатами из Библии, четко определил тактику беседы и ее конечную цель, и, вероятно, принял также и двух старцев, пришедших с Сергием (в конце второй беседы есть такие слова: «И все сказали «Аминь»). Характер и тональность второй беседы были иными, чем в беседе первой. Это видно по той уверенной, жестковатой манере, в которой епископ повел беседу. Отвечая на просьбу Сергия «дать монастырю игумена», епископ выстроил цепь соображений (с опорой на цитаты из Библии) о том, что лучший кандидат – сам Сергий. При этом епископ проявил поразительную осведомленность (в первой беседе ее еще не было) о том, что Божья благодать снизошла на Сергия еще тогда, когда он был в «утробе матери». Однако Сергий стал отказываться от предложенной ему чести. Но епископ был и к этому готов, и, стремясь к своей цели, он перешел в наступление, повысил тон и напряжение беседы: «Възлюбленне! Вся стяжал еси, а послушаниа не имаши» (с. 325). Эта часть беседы у Пахомия (в Первой редакции) изложена полнее и стилистически гораздо ближе к Епифанию. Приведем из нее отрывок: «Видев же епископъ непреклонна еже о священьству, и рече к нему: «Сладчайший сыну, вся убо стяжаль еси, токмо послушаниа не имаши, иже есть корень всемъ добродетелем, преслушание же всему злу начало. Тем же, чадо, подобаше тебе корень добродетелем имети и напоити его водою послушаниа» (с. 351). Вопрос поставлен епископом предельно жестко: либо зло, либо добро – выбирай. Что было делать Сергию? Переубеждать епископа? Зачем? Ссориться с епископом? Это было нецелесообразно: мы уверены, что Сергий знал, какая ответственная миссия ему предназначена, и понимал, что ее выполнение не должно быть осложнено конфликтом с церковной властью. И Сергий тут же, руководствуясь высшей целесообразностью, принимает решение: согласиться на игуменскую должность. Чтобы не впасть в крайность, заметим, что инок Сергий был пострижен православным священником, и что Сергиев устав монашеской жизни был основан на учении Христа. Следовательно, у Сергия не было принципиальных религиозных расхождений с православием. Разногласия касались вопроса о пределах игуменской власти, которые в конечном счете, на практике, определялись самим Сергием, что и подтвердилось позднее. И это соображение тоже могло быть принято Сергием во внимание, когда он давал согласие на игуменский чин.
После того как Сергий в ускоренном порядке, при личном участии епископа Афанасия, был поставлен в игумены, епископ снова пригласил его к себе на беседу, третью по счету, которая носила подчеркнуто учительный характер. Показательно, что епископ не высказал никаких претензий к образу жизни Сергия, не потребовал от него каких-либо уступок в монастырских правилах. Агиограф же «подает» последнюю беседу с епископом как прлный отказ Сергия от своего прежнего, якобы эгоистического взгляда на соединение власти духовной с административной, как решительную духовно-нравственную победу епископа: «Епископ же Афанасий в сторону отвел его и повел беседу о правилах апостольских, и об учении отцов церкви и о совершенствовании и исправлении души: «Следует тебе, возлюбленный, как говорит апостол, немощи немощных носить, а не себе угождать. Во благо ближнему каждый угождать должен». И в послании к Тимофею Павел говорит: «Это передай верным людям, которые были бы способны других научить». И еще: «Друг друга бремя носите и таким образом исполните закон Христов». Сергий не возражает, и это, по мысли Анонима, должно означать согласие Сергия с наставлениями. Все эти упреки – творчество Анонима, которое опровергается всей предыдущей жизнью Сергия и его жизнью в целом.
И Аноним, и Пахомий употребляют в принципе одинаковую форму согласия Сергия на игуменство:
Аноним: «Яко Господеви годе, тако и буди; благословенъ Господь въ векы» (с. 325);
Пахомий: «Азъ, владыко честный, яко же хощеши, сътворю, аще Богу тако изволшу» (с. 351)
Это общепринятая формула. Главное в ней – отождествление желания епископа (власти) с волей Бога. Конечно, сравнительно с Пахомием Аноним огрубляет формулу. Но не в этом суть, а в том, мог ли ее высказать Сергий? В принципе – да, но без уравнения воли епископа с волей Бога, ибо такое отождествление несоизмеримо с образом Сергия. У святого нет повелителей на Земле, и он не боится никого и ничего. Бесстрашие – неоспоримое качество Сергия, подтвержденное им не раз до и после беседы с епископом и хорошо понятое Анонимом. Судя по последующим событиям и поведению Сергия, его беседы с епископом закончились достойным компромиссом: Сергий принял сан игумена, узаконил «свой» монастырь в структуре православной церкви, но сохранил в неприкосновенности свой образ жизни и введенный им распорядок монастырского быта. Значит, от своих убеждений и от «своего Владыки», Христа, Сергий ни в чем не уклонился. Церковная власть примирилась с его особыми требованиями к устроению жизни монахов в обители Святой Троицы, ибо требования находились в полном соответствии с Учением Христа.
В пахомиевском наставлении епископа, данном Сергию, мысль о послушании властям поднята выше всех добродетелей. Конечно, это не евангельское понимание. В противном случае невозможно объяснить, как без послушания – «корня всех добродетелей» (с. 351), утвердилось столько благих качеств у переменивших веру апостолов, у Сергия, у обладателя «всех добродетелей» Симона, оставившего смоленскую братию, конечно, без согласия начальства и т. д. Столь крайняя точка зрения, как у Пахомия, пришлась не по вкусу анонимному агиографу, и он, позаимствовав у Пахомия основную формулу, опустил все остальное. Понятно, почему он так поступил: в его время была принята церковью иная, меньшая мера послушания. Полное заимствование пахомиевского текста о послушании было бы обвинением во зле заволжских старцев, оставшихся в оппозиции к церковной власти по нескольким важнейшим вопросам тогдашних религиозных дискуссий.
Епископ, агиограф, монахи – все говорят от имени Бога, притом запросто, по-свойски обращаясь с Великим Именем, но (вот парадокс!) Святому, лишь ему, агиограф отказывает в этом высшем аргументе. Как объяснить такую одностороннюю направленность мысли? Мы видим причину (главную) в том, что Сергий не был еще официально назначенным игуменом, что избранный им путь служения Богу и ближнему в то время не имел церковного благословения, словом, в том, что подвиг укрепления веры в Бога Сергий предпринял на свой страх и риск. В списке «Жития Сергия» по Пространной редакции, сохранился ценнейший фрагмент, восходящий, наверное, к епифаниевскому оригиналу (этого фрагмента нет у Пахомия). Приведем его здесь: «...яко не о себе игуменьство взя, но от Бога поручено бысть ему начальство. Не бо наскакивал на се, ни же превъсхыщалъ пред некым, ни посуловъ сулилъ от сего, ни мъзды давал, яко же творят неции санолюбци суще, друг пред другом скачюще, врътящеся и прехватающе». Перевод: «...не по своей воле Сергий игуменство принял, но Богом оно было дано ему. Он не захватывал этот сан, не перехватывал его у кого-либо, посулов за него не сулил, мзды не давал, как некоторые властолюбцы, вертящиеся, хватающие и вырывающие его друг у друга...» (сс. 325-326). Живая сатирическая картина ажиотажа среди духовенства, конечно, не явного, не шумного, как на бирже, но прикровенно-лицедейного, коррумпированного карьеризма тех, кто изо всех сил домогаются быть духовными пастырями. А что же сказать о тех, кто принимает мзду и посулы, кто торгует дарами священства и игуменскими чинами, привычно прикрываясь именем Бога, кто ответственен за создание торга в коридорах высшей власти? Они еще большие христопродавцы, чем те, кто покупают чины. Может ли взрасти в атмосфере симонии нелицемерное смирение? Или любая другая истинно христианская добродетель? Конечно, у автора процитированной филиппики ассоциативная связь между Сергием и криводушными, любоначальными претендентами на сановные «благоуханные хлебы» возникла от противного, по контрасту. Но сам факт острой критики, негодующий тон автора показательны: видно, что это зло наболело в его душе. В коррумпированной атмосфере настоящий владыка есть золото, а не Христос. Мы не хотим сказать, что Сергий, справедливо удостоенный священства «...чистоты ради житиа его...» (с. 326), был единственным исключением из правила, но, судя по филиппике, по движению стригольников, и даже по решению собора 1505 г., запретившего получение «мзды» за поставление в церковные чины, его честное назначение правилом тоже не было. В пахомиевских редакциях сатирической филиппики нет, как нет и вообще критики церковной иерархии. Но отсюда вовсе не следует, что филиппику написал агиограф XVI в., а не Епифаний Премудрый. Тяжкий грех симонии свойствен церковной власти, потому что он есть следствие курса на стяжание имущества, которое плодит и размножает золотолапых микробов души. Независимо от того, кто был автором филиппики, сам факт ее опубликования в Пространной редакции «Жития» требует объяснения. Мы думаем, что зло симонии, коррупции было не только внутрицерковной, но и государственной и общественной проблемой, к решению которой стремились и Нил Сорский, и Иосиф Волоцкий, и высшие духовные, и высшие светские власти. Поэтому о ней можно было писать в то время, писать... безадресно, вообще. Конечно, кто критикует всех, не критикует никого, но это уже другой вопрос; мы же сейчас говорим не об эффективности критики, а о ее допустимости, хотя бы в общей форме. Пахомий не мог, вернее, заказчик не позволил бы ему оставить в тексте обличение мздоимцев, ибо это могло быть воспринято как поддержка антицерковных выступлений стригольников, с которыми тогда все еще шла борьба. Анонимный автор Пространной редакции, напротив, заранее был уверен в поддержке тогдашней церковной и светской власти и потому мог написать свою филиппику. В контексте борьбы иосифлян и нестяжателей критика симонии сторонником иосифлян воспринималась как их стремление бороться за очищение властных структур церкви от греха симонии и, следовательно, поднимала их авторитет в глазах верующих.
* * *
С того времени, как Сергий утверждается официальным игуменом, и Пахомий, и Некто (у него особенно заметно) изменяют свое отношение к Сергию:
1) после признания на беседе с епископом Афанасием своей неправоты в понимании власти, после признания высшей церковной власти, Сергий из критикуемого становится восхваляемым всерьез, а Некто вскоре изобразит его защитником иждивенческой морали монахов, чудотворцем (теперь Бог сразу же выполняет его молитвенные просьбы);
2) Некто, называвший Сергия ранее «преподобным» и «блаженным», теперь величает его «святым», соглашаясь, наконец, с Епифанием и с Пахомием.

Невозможно представить себе злотолкования, которыми сопровождается каждое великое Служение!
Живая Этика
После назначения Сергия игуменом епископ Афанасий сказал ему поучение из послания апостола Павла (Рим., 15:1). «Чадо, подобает тебе, по апостолу, носить немощи немощных, а не себе угождать» (с. 325). Агиограф не смог воздержаться от этого полуприкрытого обвинения Сергия в самости – вот что, оказывается, вменяли ему в вину власти, вопреки известным им фактам жертвенного труда Сергия. Не успел еще Сергий уйти от епископа в свой монастырь, как получил от лицемерно-смиренного агиографа незаслуженное оскорбление. Аноним, пытающийся представить достойный компромисс с церковью как полную капитуляцию Сергия, на мгновение перестал скрывать свое чувство превосходства над ним.
9.1. Перемена без изменения сути
Больший из вас да будет вам слуга.
Библия
Три дня прошло с тех пор, как преп. Сергий ушел из монастыря. Естественно, что, когда он вернулся, монахи с нетерпением ждали рассказа о беседе с епископом. Агиограф Некто весьма старательно изобразил необычайное умиление Сергия его приобщением к Церкви: «...вшед въ церковь, паде лицем на земли и съ сльзами молитву творяше...» (с. 326) и т. д. в том же однообразно-этикетном стиле. Что рассказал Сергий монахам? Что он принял честь и обязанности священника и игумена, но устав жизни монахов и игумена остался прежним. Сергий вспомнил о древнеиноческих порядках и о своих предшественниках. «Житие» приводит их славные имена: Антоний Великий, и великий Евфимий, Савва Освященный, Пахомий ангеловидный, Феодосии общежитель. Об отношении Сергия к ним сказано просто и весомо: «Храня в сердце их жития, блаженный молился Святой Троице о том, чтобы неуклонно идти по стопам этих преподобных отцов» (с. 327).
Главное же было в том, что игумен и священник Сергий нимало не изменил правила своего «чрьнечьскаго, на памяти имея рекшаго (Библия, Мф., 23: 11): «Иже кто въ вас хощет быти старейши, да буди всех менши и всем слуга» (с. 330). Он по-прежнему раньше всех выходил на работы и раньше всех приходил в церковь. Кроме того, – это было в духе Сергия – он добавил к своим трудовым обязанностям еще несколько. Поскольку теперь сам вел литургию, причем каждый день, то он сам стал печь для причащающихся просфоры, никому другому он не отдавал этой работы, стремясь «быть учителем и делателем» одновременно. «И кутью сам варил, и свечи лил, и кануны готовил» (с. 330). Можно себе представить, как косо смотрели на Сергия другие игумены, не делавшие ни этой и никакой другой физической работы.
Служение Богу и ближнему, жертвенный труд и смиренномудрие по-прежнему составляли для Сергия нерасторжимое единство.
9.2. Возвращение Стефана, или Троянский конь
...Так проявляются законы тьмы. Ведь и там свои законы. Очень наблюдают за опасным Великим Служением. Приложим бывшие примеры ко всем дням.
Живая Этика
Главное в этом рассказике затенено, как и в названии главки («Об Иване, сыне Стефана»). И это показывает, что агиограф придает ей особое значение. Рассказ об Иване по объему составляет всего 1/6 главки, что возбуждает вопрос: почему именно 1/6 часть поставлена во главу угла? Вероятно, для привлечения к ней внимания читателя. Так будем же внимательны к коротенькому рассказу «Об Иване, сыне Стефана».
О чем этот рассказик? О пострижении Ивана в монахи. Но ни обряд пострижения, ни его символический смысл не интересуют теперь агиографа, как было в рассказе о пострижении Варфоломея. Весь рассказик сводится, в сущности, к обсуждению возраста Ивана. «Игумен же Сергий постриг его и дал ему монашеское имя Федор. Старцы же, видевшие это, подивились вере Стефана, который не пощадил своего сына, в сущности, отрока, и с младенчества отдал его Богу, подобно тому, как древний Авраам не пощадил своего Исаака. Федор с молодых ногтей был воспитан в постничестве, и во всем благочестии, и в чистоте, чему научился от своего дяди, был украшен всеми монашескими добродетелями, хотя и не достиг еще зрелого возраста.
Одни говорили, что он пострижен был в 10 лет, другие – что в 12» (с. 329).
Чтобы определить возраст Ивана поточнее, займемся вычислениями. Судя по «Житию», Сергий постриг племянника вскоре после своего утверждения игуменом, значит, событие это логично было бы отнести к 1354 году. В таком случае Ивану вряд ли могло быть менее 17 лет. Если, как мы говорили ранее, Стефан женился в 16–17 (1329–1330 год), жил с женой «немного лет» допустим, лет 7–8, и «вскоре» после ее смерти ушел в монастырь, то Иван мог родиться самое позднее в 1338 году. Следовательно, в 1354 г. ему было лет 16–17. Но этот возраст не «устроил» агиографа, которому ради возвеличивания Стефана понадобилось его приуподобление библейскому Аврааму, собравшемуся зарезать (принести в жертву) 12-летнего сына Исаака, в доказательство своей верности Богу. Выходит, приуподобление должно «доказать» неколебимую, жертвенную веру Стефана в Бога. Если же принять всерьез утверждение агиографа, что постничеству Иван научился от Сергия, (значит, до его ухода на Маковец) то дату рождения Ивана надо будет отодвинуть года на четыре раньше; и тогда получится, что он родился в 1334-м, и стал учиться постничеству в 8 лет (хотя бы!), следовательно, и постриг принял он не в 12, а в 20–21 год (1354 – 1334 = 20). Но вопрос-то в том, что, зная Сергия, невозможно поверить в его согласие обучать восьмилетнего племянника постничеству. Скорее всего, и малолетний постриг, и малолетнее воздержание Ивана просто измыслены агиографом с единственной целью возвысить, приуподобить поступок Стефана поступку Авраама. Такое высокое приуподобление понадобилось, чтобы подготовить сознание читателя к нужному восприятию очень важного события в дальнейшей жизни Сергия и Стефана: к выступлению Стефана против Сергия. Стефан – главный персонаж рассказика, который поэтому вернее было бы назвать «О Стефане и его сыне Иване».
Примечательна экспозиция к рассказику: «Стефан же, родной брат Сергия, пришел из города Москвы, приведя с собой своего младшего сына по имени Иван. И вошел в церковь, взял за правую руку своего сына, передал его игумену Сергию, повелев постричь его в монахи» (с. 329). Пришел, вошел, передал, повелел... и исчез; остался ли Стефан вместе с сыном в Троицком монастыре, где он вскоре станет главным противником Сергия, или появился там позднее? Об этом агиограф помалкивает. Появился – и точка, остальное знать не надо, хотя оно и важно. Почему повелел, а не попросил? Потому что старший брат? Но ведь это не вяжется ни с возрастом Сергия, ни с его игуменским саном? Стефан ведь тоже имеет этот сан, обязывающий к обходительному обращению с игуменом, да еще с таким знаменитым. Тем более, что с 1342 года, когда Стефан так не по-братски, не по-христиански поступил, оставив Сергия одного в лесной пустыньке, ведь с тех пор братья не виделись. Стефан быстро сделал впечатляющую карьеру, вращался в самых высоких сферах власти, и при дворе великого князя Симеона Гордого, и при дворе митрополита Феогноста, вращался по совершенно другой орбите жизни, чем Сергий: по орбите, сверкающей золотыми блестками, вовсе не соприкасающейся с замкнутым крутом маковецких «братьев» во главе с их вечно трудящимся подвижником.
Почему и зачем внезапно, как снег на голову, пришел он снова на затерянный в лесу Маковецкий холм? Разве у Стефана не было лучшей возможности, чем Сергиев монастырь, лучшего монастыря с лучшей, вполне обеспеченной, легкой и приятной жизнью для его насельников? Конечно, была такая возможность: ведь Стефан сам был игуменом весьма почитаемого московского Богоявленского монастыря. Стефан, как мы знаем, страшился подвижнической жизни «без приноса» насущных благ от мирян. Означает ли его внезапный визит к Сергию, что Стефан в корне изменил свой взгляд на монашеское подвизание и потому решил поставить сына на Сергиев путь подвига? Агиограф любит возбуждать жизненноважные вопросы, предпочитая, чтобы читатель сам искал на них ответы. Впрочем, кое-какие подсказки он сделал.
Обратим внимание на следующую подробность в экспозиции к рассказику – Стефан п р и ш е л, а не прибыл, не приехал из города Москвы на Маковец, но ведь путь-то не близкий, идти надо дня полтора-два. Почему же Стефана и Ивана не привезли на лошадях? Ведь освящать лесную церквицу на Маковце священники приезжали, а не приходили. Наверное, правы те исследователи, которые предполагают, что после смерти Симеона Гордого Стефан, его духовник и духовник всех знатных бояр, лишился этого привилегированного положения и был освобожден от игуменских обязанностей в Богоявленском монастыре. В качестве причины напастей рассматривается версия о том, что митрополит Феогност, не разрешивший третий брак Симеона Гордого, был недоволен одобрительным отношением его духовника Стефана к этому браку. Возможно, что и так. Конечно, не случайно Стефан пришел в монастырь к Сергию, и не по своей воле он сам, как мы полагаем, остался тогда в этом монастыре [96]. Понятно и поведение Сергия: он не мог отказать Стефану, когда тот был в беде, хотя, несомненно, отдавал себе отчет в неслучайности прихода завистливого брата, любителя легкой монашеской жизни, в свой, теперь уже славный и узаконенный монастырь. Мне не кажется неуместным и словечко «повелел», которым агиограф лаконичнейше охарактеризовал отношения между Стефаном и Сергием: Сергий, дескать, продолжает признавать Стефана старшим, который соответственно этому и разговаривает с младшим братом, младшим и по возрасту, и по духовному опыту. Аноним хочет уверить, что отношения между Стефаном и Сергием остались такими же, как и много лет назад. Конечно, агиограф на самом деле вряд ли так думает: ведь он знает, сколь драматически взорвутся эти отношения через несколько лет по вине старшего брата, но агиограф заранее заботится о том, чтобы ответственность за будущий конфликт возложить на обоих братьев, а не на одного Стефана. По этой причине агиограф и превозносит веру Стефана в Бога, создавая звено, недостающее для приуподобления Стефана Аврааму. Прав был Гоголь, когда говорил, что вымысел – это не воображение, а соображение. Действительно, любое воображение рождается на реальной почве, а не в отрыве от нее. «Именно воображение есть лишь отображение. Ничто из ничего не рождается» [97].
Соображение может быть как правдивым и даже глубоко правдивым, т. е. типичным, объединяющим в себе много отдельных правдивых фактов, но соображение может быть и ложным, искажающим то, о чем оно повествует, хотя и верно отражающим лживость автора такого соображения.
Сергий постриг Ивана и дал ему монашеское имя Федор, значит, Сергий нарушил введенный им в Обители порядок: он принимал каждого, «хотящего быть монахом, ...но не сразу постригал его, а прежде повелевал ему одеть длинную свитку, сшитую из черного сукна, и в ней ходить вместе с братьями довольно продолжительное время, до тех пор, пока для него не станет привычным весь монастырский уклад жизни. Только после этого облачался он и в монашескую одежду, то есть лишь после освоения всех служб (послушаний) и получал постриг, мантию и клобук» (с. 330). Ни сват, ни брат, ни даже епископ, замещавший митрополита, никто не мог заставить Сергия изменить уставные порядки. Особенно родной брат не мог рассчитывать на исключение, так как тогда Сергий совершал бы новый грех – грех двоемыслия, лицемерия. Нет, Сергий был человеком, как мы сказали бы ныне, принципиальным. И агиограф это знал, но именно поэтому особенно хотел усреднить его до нормы. Сам же агиограф приводил цитату из Евангелия о том, что ради Христа ученик должен оставить и мать, и отца, и брата, и сестру, т. е. о том, что Учение Христа и его заповеди надо, не задумываясь, предпочесть таким нравственным ценностям, как родственные отношения, а теперь Сергий, не сомневаясь, якобы нарушает этот завет. Епископ повелел – Сергий отказался от своего взгляда на власть и смирение, Стефан повелел – Сергий отказался от завета Христа, и вместо непреклонного борца с поднятым духовным мечом перед нами образ приспособленца. Так, Некто левой рукой разрушает тот словесный портрет Сергия, который Епифаний создает правой. Но факты, но дела Сергия встают на его защиту и сокрушают химерное построение анонимного сочинителя.
Что же после нашего разбора остается истинным от рассказика о Стефане и его сыне Иване? Только дело: Стефан приводил к Сергию Ивана, и Сергий принял его в свой монастырь, но на общих основаниях. В этом состояла одна цель визита. Просматривается и вторая: Стефан узнавал, сможет ли он сам жить в Свято-Троицком монастыре и на что, на какое положение может рассчитывать. Ему, вероятно, был дан ответ: он может стать монахом. И Стефан, наверное, согласился, остался в монастыре. Этот вывод опирается на последующие драматические события в Обители, в которых Стефан был одним из главных противников Сергия, и на то, что нет другого упоминания, кроме вышеприведенного, о приходе Стефана к Сергию.
Означает ли приход Стефана, что он был в безвыходно бедственном положении, и новый митрополит Алексий, с которым Стефан когда-то рядом стоял и пел на клиросе, не хотел дать ему какой-либо должности в своем служебном штате? Возможно. Особенно в том случае, если позиции Алексия и Стефана не совпадали в ходе борьбы вокруг третьего брака Симеона Гордого. Вероятных ответов несколько, недопустимо лишь предположение, будто Стефан пошел к Сергию монахом вследствие пересмотра своих взглядов на подвиг и желания искупить свой предательский поступок по отношению к Сергию в 1342 году. Эта мотивировка невозможна потому, что противоречит поведению Стефана во время конфликта в Свято-Троицком монастыре.
Настанет время, и оно не за горами, когда врачи будут воскрешать мертвых, если тонкое тело не успело еще отделиться совершенно от своей плотной оболочки.
Е.И.Рерих
Кажется, что рассказ «Воскрешение отрока молитвами Святого»* может быть отнесен как к десятилетию независимого от церкви существования Свято-Троицкой обители, так и ко времени более позднему. Все же есть в рассказе одно место, которое позволяет отдать предпочтение второму варианту. «Был, ведь, говорят, некий христолюбец, живший в окрестностях Сергиева монастыря, и имел этот человек большую веру в Сергия» (сс. 355-356). Несколько раньше агиограф, рассказывая о постепенном заселении монастырских окрестностей, сказал, что это происходило, «...полагаю, в дни княжения князя великого Ивана, сына Ивана, брата же Симеона» (с. 340), т. е. в период с 1354 по 1359 гг. Еще раньше агиограф дал второе вместительное определение времени заселения: «...окрест же монастыря того все пусто, со всех сторон лес, всюду пустыня: пустынями ведь эти места назывались и в самом деле. И так вот они жили,... полагаю, более пятнадцати лет» (с. 340), т. е. с основания Обители (1342 г.) до 1357 или 1358 года. Следовательно – редкий случай! – оба косвенных хронологических указания подтверждают друг друга. Выходит, христолюбец был одним из таких поселенцев, и даже, вероятно, одним из первых, так как пришел сюда, движимый «большой верой» в Сергия.
Сюжет рассказа прост. К Сергию принесли тяжело больного мальчика. Его отец, «христолюбец», умолял Святого вылечить сына. Сергий молчаливо согласился и стал «творить» молитву, однако мальчик вскоре умер. Сокрушенный горем отец попросил Святого причастить умершего. Сергий же, отправив отца поскорее «приготовить все необходимое для погребения сына» (с. 357), снова стал «молить Бога о воскрешении отрока. ...И внезапно отрок ожил, начал двигаться и руки простирать, словно и не болел» (с. 357). Тут возвратился отец с гробиком. Сергий, желая «скрыть чудо от людей» (с. 357), сказал, что мальчик не умер, «но жив». Отец вначале не поверил, но, убедившись, что Святой сказал правду, стал его благодарить. Сергий запретил христолюбцу говорить людям, что мальчик был воскрешен из мертвых.
Каждый, кто знаком с Библией, согласится, что рассказ является вариацией на тему библейского рассказа о воскрешения Лазаря Христом. Однако рассказ о воскрешении отрока подпорчен то ли полностью вставным, то ли основательно отредактированным диалогом Сергия с христолюбцем. Образ Святого снова дан, в конце концов, в ложном освещении. Агиограф «заставляет» Святого обманывать потрясенного горем отца, а затем угрожать ему страшными наказаниями в случае несохранения тайны о воскрешении. Мы воспроизведем и прокомментируем разговор Сергия с христолюбцем, чтобы показать, каким образом агиограф умаляет Святого, усредняя, типизируя его поведение.
Христолюбец, увидев, что его сын умер, стал от горя как безумный: «Что же мне делать? Что может быть горше и лютее, чем эта смерть?..» и т. д. Сергий, отвечая на причитания, лишает отца всякой надежды на воскрешение мальчика: «Кто из людей может воскрешать мертвых? Только один Бог... Ты же не медли, но быстро сделай все, что необходимо для погребения твоего сына, ибо я спешу еще отслужить... святую литургию» (с. 356). Как только отец ушел, Святой служить не пошел (первая ложь), а «стал на молитву, прося Бога за отрока» (с. 356). И свершилось чудо: отрок ожил и выздоровел. Святой решает утаить чудо от людей и, оправдывая себя этим намерением, лжет возвратившемуся отцу вторично, пытаясь убедить его в том, что отрок не ожил, а был жив, что он не умирал, что он «был болен, озяб, затем согрелся в тепле, поспал и пробудился. Ты же, будучи в скорбной кручине, не рассмотрел хорошенько, что к чему. Никому же не говори «сын мой был мертв и ожил», но молчи, чтобы весть не разнеслась по миру» (с. 357). Однако христолюбец, не допускающий даже в мыслях, что Сергий может врать, никак не может взять в толк, почему Сергий усиленно склоняет его к обману. Из ответа христолюбца видно, что сам он – правдивый человек: «Ты мне говоришь: не рассмотрел хорошенько. Если бы я не видел своими глазами, я бы погребальное не приготовлял. Вот тут и свидетель, небольшой гробец – я его сделал» (с. 357). И Сергий якобы не устыдился своей лжи, а, «увидев непреклонность отца, взял с него именем Божиим клятву, что он никому об этом не расскажет. И так сказал ему: «Если ты кому-нибудь скажешь, то великая беда постигнет дом твой, и в добавление к ней ты потеряешь еще и этого отрока» (с. 357). Выходит, Сергий лжет сам, склоняет ко лжи христолюбца и в усугубление этих грехов требует от него под угрозой страшного заклятия о соблюдении тайны. О чем? О том, что Божья благодать заслуженно пролилась на истинно верующего человека. Требование ложной клятвы от беззащитного христолюбца не хуже ли греха клятвы зряшной и всегда лукавой, осужденной Христом в Нагорной проповеди? «Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: не клянитесь вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий, ни Землею, потому что она подножие Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» [98]. Слово же, речь Сергия в представлении агиографа исполнена лукавства, именно поэтому она должна быть переадресована ее сочинителю. Простота, правдивость Сергия была его важнейшей добродетелью. Хотя она и не значится, возможно, не случайно в перечне агиографа, который мы раньше рассматривали, но наличие у него других добродетелей (особенно «совершенной любви» и добротолюбия) невозможно мыслить без принадлежности к их семье правдивости и отвращения к лукавству. О правдивости Сергия бесспорно свидетельствует его поведение в течении жизни, «Похвальное слово» Епифания, Живая Этика. «Сих же (древних отцов. – Л. К.) стопамь последуя и житию их ревнуя, всякъ путь неправды възненавиде и истину възлюби» (с. 272); «...чистоте хранитель» (с. 273); «упасе бо порученое ему от Бога стадо въ преподобии и правде, образъ во всем бывъ своимь ученикомь» (с. 275). Можно было бы привести и еще цитаты из «Похвального слова», но не видим в этом необходимости.
Лукавство агиографа обличается им самим. Почему-то ему показалось, что он истратил на портрет Святого мало серой краски. И он завершает рассказ об отроке следующей лукавой оценкой мнимого заклятия Сергия: «Человек же этот (отец мальчика. – А. К.) дал обещание никому ничего не рассказывать о чуде, поклонился и тут же пошел домой, – молчать ведь он не мог, сказать кому-либо не смел, и так вот, удивляясь про себя, воздавал хвалу Богу, творящему через своего угодника Сергия дела чудные и неудобные для оглашения» (с. 357). Выходит, будто Сергий своим заклятием, якобы не сознавая того, породил в душе бедного христолюбца смущение и недоумение, опасные для веры. Не потому ли христолюбец и спешит откреститься от душевного смятения, успокоить себя, воздавая хвалы Богу еще по дороге домой?
Если мы, отдав агиографу агиографово, посмотрим на воскрешение отрока как на чудесное дело Сергия, то мы должны будем признать его «доброрассудным». И вполне посильным Сергию. Всякий присутствующий при его психоэнергетическом воздействии мог помешать ему несоответствием своих вибраций. Сергий реанимировал мальчика, «накачав» его своей тончайшей энергией. Сергий торопился, зная, что время работает против него, и потому он спешил отослать отца за похоронными принадлежностями.
Вставки, искажающие образ Сергия (об обмане, о клятве и пр.), есть уже в Первой редакции Пахомия. Они сочинены, чтобы усреднить образ Сергия, приписав ему некоторые широко распространенные человеческие слабости. Сравнивая диалог Сергия с христолюбцем в редакции Пахомия с диалогом в Пространной редакции, мы замечаем, что ее составитель кое в чем поправил Пахомия, не меняя, однако, его принципиальной установки. Так, например, составитель снял акцент на том, что Сергий «именем Божиим» потребовал от христолюбца клятвы. Это выражение у Пахомия производит на христианина тягостное впечатление, ибо находится в очевидном противоречии с поучением Христа о клятве. Аноним предпочитает прикровенные методы «исправления» текста протографа и принижения епифаниевского образа Сергия. Приведем еще один пример изощренного лукавства автора Пространной редакции.
Пахомий так объясняет чудо воскрешения мертвого тела: «...вижду тя, человече, – говорит Сергий христолюбцу, – от печали неразумием одръжима, кто бо может от человекъ мертвыя воскрешати, токмо единъ Бог владеа живыми и мертвыми. Господь бо мертвит и живит...» (с. 356). Однако затем преподобный Сергий, отослав опечаленного отца за гробиком, «...ставъ на молитве, моляше Бога о отрочати, и внезапу отроча оживе, и дух его възвратися, начат же и подвизатися и рукы простирати, яко и не болевши» (там же). Факт воскрешения отмечен агиографом со всей определенностью. Слава чудотворения всецело оставляется за Господом, действовавшим через своего угодника Сергия. Чтобы эту славу не приписывали Сергию, он сам принимает решительные меры: стремится убедить отца, что ребенок не умирал, а от холода окоченел и уснул; когда же отец не поверил, то Сергий под угрозой страшной клятвы категорически потребовал от него молчания. Возникает, однако, вопрос: как раскрылась тайна воскрешения? Пахомий, предусмотревший вопрос, дает такой ответ: «Иже от служащаго ему (Сергию. – А. К.) брата уведено бысть чюдо сие» (там же). А от кого узнал о чуде этот брат? Только от самого Сергия. Выходит, что Сергий и раскрыл тайну воскрешения отрока – таким образом он якобы сам принижает себя. Если Сергий доверил тайну ненадежному человеку, то Сергий оказывается непроницательным человеком; если же Сергий знал о болтливости «брата», то можно назвать легкомыслием излишнюю доверчивость Сергия. В любом случае его действия могут быть расценены читателем как непоследовательные и внутренне противоречивые: вначале под угрозой страшной клятвы он требует молчания от отца воскрешенного ребенка, а потом сам же этот запрет и нарушает. Такова пахомиевская критика Сергия. Запомним, что Пахомий сам факт воскрешения не подвергает сомнению.
Анонимный агиограф действует иначе. Он присоединяет следующее дополнение к пахомиевскому объяснению воскрешения: «Преже бо обьщаго въскресения», – убеждает Сергий христолюбца – «не мощно есть ожити никому же» (с. 362). Понятно без пояснения, что воскрешение Лазаря Христом тут в виду не имеется: ведь Христос – Бог. Но Сергий – человек, и, следовательно, приняв аргумент Анонима, читатель волей-неволей ставит под сомнение сам факт воскрешения ребенка, то есть способность Сергия совершить такое чудо.
Можно по желанию окружиться силою огненною... У Нас это качество настолько исилено, что ложно читать при своем свете.
тивая атака
Рассказы об изгнании бесов (одержателей) из бесноватого (одержимого) часто встречаются в житиях святых. Бесноватые не перевелись со времен Христа. Одержание – мучительная болезнь. В смутные, напряженные времена, как наше нынешнее или Сергиево, количество одержимых стремительно возрастает. «...Разновидности одержания неисчислимы [98]... Одержания могут быть неизлечимые. Мозг и сердце перерождаются от двойственного давления» [99].
Бесноватый боярин, о котором идет речь в рассказе «О беснующемся вельможе»*, «жил на р. Волга». Он относился к разряду свирепых и обладал громадной силой. «...Бес люто мучил его, ...день и ночь. В железных оковах боярина держали 10 человек. Но он... и от оков освобождался: одних бил руками, других рвал зубами. Иногда он убегал в степь, и там люто терзался бесом, пока его не находили и, связав, не приводили домой» (с. 357-358).
Родные боярина, слышавшие о чудесных исцелениях Святого Сергия, собрались вместе и решили отвезти бесноватого в Свято-Троицкий монастырь. Но он не хотел даже слышать о Сергии. Пришлось применить силу.
С большим трудом удалось привести бесноватого в монастырь. Когда «Преподобный вышел навстречу одержимому, неся в руке крест и крестя ему лоб, уста и грудь, тот, рыкнув громким голосом, сразу же отскочил и бросился в лужу» (с. 358). «С этого часа он исцелился благодатью Христовой, и разум к нему возвратился. Начали его спрашивать: «Что было и что ты видел, когда вопил? Он отвечал: «Когда меня привели к Святому Сергию и когда он начал меня крестить честным крестом, тогда увидел я, будто воссияло от креста второе солнце и тут же вылетело оттуда большое пламя, которое окружило меня всего с головы до ног. Потому-то я и бросился в воду, подумав, что должен буду сгореть от этого пламени» (с. 358). Точное описание, красочное. Нам же оно интересно и важно как свидетельство «Жития» об огненной, очень высокой степени духовного восхождения Сергия, о его громадной психоэнергетической мощи. Не обладая ею, нельзя было выходить на поединок со свирепым бесноватым: в припадке бешенства черный одержатель направляет свою силу против того, кто изгоняет его. Одержатель – слуга темных, которые часто используют его в своих целях [100]. Поединок с бесноватым должен был воскресить в памяти Сергия то время, когда он, будучи начинающим иноком, отбивал смертельно опасные нападения нечистой силы. Борьба продолжается. Изменяются лишь ее формы и обличия исполнителей злой воли Князя тьмы.
Боярин с Волги еще «несколько дней находился в монастыре» (с. 358). Преподобный, наверное, наставлял его, как вести себя в дальнейшем, так как хорошо знал, что «выход одержателя недостаточен для излечения. Около тысячи дней опасность повторения не иссякает, больной должен пристально следить за мыслью своей» [101].
В житиях других святых нередко встречаешь упоминание о разных дарах (движимых и недвижимых) монастырям, подносимых благодарными богатыми жертвователями, такими, как эти волжские бояре. Но нет подобных сведений в «Житии Сергия», хотя, ясно, что агиограф с радостью привел бы их и поместил бы на видном месте... Больного из боярской семьи вряд ли привезли бы в Свято-Троицкую обитель в то время, когда ее настоятель еще не был законным сыном православной церкви: этикет, честь боярская, неодобрение духовных властей – все это стояло на страже у выхода за нормы поведения правящего сословия. Но как только церковная власть почтила Сергия даром священника, и он из пасынка стал сыном церкви, барьер был устранен, и мягкий, чудотворный лик Сергия, его слава целителя стали притягивать в Обитель и сановитых людей. Поэтому мы полагаем, что вельможу с Волги привезли в Свято-Троицкий монастырь, скорее всего, когда Сергий стал официально узаконенным игуменом.
Рассказ «О бесноватом вельможе» написан (почти целиком) в реалистическом ключе, талантливо, ярко; действие развивается динамично, драматично, самые «зрелищные» картины даны, как в кино, крупным планом. Рассказ написан мастерски. Именно поэтому мы склонны признать его почти целиком творением Епифания.
Наше «почти» относится к описанию встречи бесноватого в монастыре. Она подпорчена измышлением автора о том, что укрощение бесноватого началось с молебна монахов, отчего бесноватый «начал утихать». Только тогда его смогли «привести в монастырь». Необходимо ясно представить себе, что вымысел агиографа – следствие ограниченности его представлений расхожими церковно-учительными стереотипами. Сколько бы ни было молящихся монахов, их молитвы не могли иметь никакого влияния на одержателя. «Даже сам крест бессилен без сердца» [102], т. е. без открытого сердечного центра. Все дело только в этом, только в утонченной огненной психоэнергии Сергия, жгучее воздействие которой не может переносить одержатель. «К одержимости следует отнестись научно... Лишь вмешательство третьей воли, твердой и чистой, может нарушить это беззаконие, которое поражает людей вне возраста и положения» [103]. Но почему одержимость – беззаконие? Живая Этика уделяет первостепенное внимание духовно-нравственным законам развития мира и человека, а «каждая одержимость проникает, в первую очередь, через канал безнравственности» [104], иначе говоря, проникает в тонкое тело человека, нарушающего нравственные законы.
Компилятивный характер издания «Жития» архимандритом Леонидом имеет свои плюсы и минусы сравнительно с редакциями Пахомия. Во второй половине «Жития» минусов значительно больше, чем в первой. Это касается и рассказа «О бесноватом вельможе». И дело не только в том, что в Первой пахомиевской редакции этот рассказ и стилистически, и лексически лучше, чем в Пространной редакции. Концовка рассказа испорчена вставным фрагментом (от слов «Отсюду бо великъ бяше...» и заканчивая словами «...яко единого от пророкъ» – 364 с), который по содержанию не связан с рассказом. Кроме того, к рассказу подверстан другой («О видении братства»), тематически не относящийся к нему и не отделенный от него другим названием, как это вообще принято делать в издании арх. Леонида.
9.5. Человек смотрит на лицо, Бог – в сердце
Для путеводительства к знанию, для откровения и обнародования скрытого и выдуман образ.
Иоанн Дамаскин
Пришло время выполнить наше обещание рассказать о добродетели «худость ризная» (бедная одежда). Только ей из всех названных добродетелей Сергия посвятил агиограф отдельный рассказ. И это странно. Разве ношение бедной одежды является добродетелью, пусть даже носит ее богач, а не бедняк, игумен, а не монах? Добродетель – это всегда качество души, достоинство, относящееся к внутреннему миру человека, а не к внешнему облику, не к лицу или фигуре, и тем более не к одежде. Однако агиограф не зря считает, что «худость ризная» – добродетель из важнейших: он понимает, что внешнее всегда связано с внутренним, душевным состоянием человека. Понимает ясно агиограф и то, что связь внутреннего с внешним может выявляться по-разному. Эта связь тщательно прослеживается в рассказе «О худости порть Сергиевыхъ и о некоемъ поселянине» («О бедности одежды Сергия и о некоем деревенском жителе»).
Первый вопрос: к какому периоду жизни Сергия относятся события, описанные в рассказе? Мы придерживаемся здесь традиционной точки зрения и полагаем, что действие рассказа происходит в годы игуменства преп. Сергия. За это «голосует» социальный контекст рассказа: привычно ожидаемый визит князя в монастырь, поклонение князя Сергию, народная молва о нищенски одетом игумене, предполагающая его признание церковной властью. Что удивительного было бы в бедной одежде инока лесного монастырька, существующего вне церковной ограды и живущего трудом от огородного участка и от лесных даров? Совсем другое дело, когда славный игумен одного из монастырей Русской церкви, пренебрегая привилегиями сана, ведет «чернечьский» образ жизни, бросая тихий вызов всем священно-начальникам, живущим по общепринятому обычаю.
Мы намерены обстоятельно проанализировать рассказ «О бедной одежде...», так как считаем его моделью истолкования образа святого Сергия, предназначенной для научения православных пастырей. В идейном отношении рассказ – ключ к осмыслению отредактированного образа святого Сергия, а в литературном – образец изощренного умения создавать подтекст. Свою задачу мы видим в том, чтобы конкретно показать нашему читателю, каким образом Пахомий и Некто достигают того, что содержание рассказа получает один смысл (явный) для неграмотного слушателя, простеца, и другой (скрытый) – для знающего читателя, духовного пастыря.
Мы начнем анализ с Первой пахомиевской редакции. В небольшом рассказе пять образов: игумена Сергия, безымянного крестьянина, некоего князя, групповые образы монахов и княжеских слуг. В центре изображения игумен Сергий, и только его образ является индивидуальным. Подтекст создается исподволь и весьма экономными средствами. В Новом Завете изложено целое учение о взаимоотношении благодати, закона и дел человеческих; сердцевиной учения является утверждение, что о человеке надо судить не по словам, а по делам его. Выстраивание подтекста у Пахомия и у Анонима опирается на эту истину. Рассмотрим поэтапно движение мысли Пахомия, а потом – Анонима.
Картина первая: в монастырь приходит поселянин, чтобы увидеть святого игумена, так как «...многа слышав яже о нем» (с. 359). Что именно он слышал о святом, раскрывается не сразу, но примечательно, что поселянин приходит не беседовать, не лечиться, а просто «увидеть святого»; отсюда уже можно заключить, что слава святого Сергия как-то связана с его внешним видом.
Картина вторая: крестьянин рассказывает встретившим его монахам о желании увидеть святого и получает их согласие. Они только просят его подождать немного, так как святой сейчас «...въ ограде копает землю...» (там же). Это известие о святом игумене, занятом крестьянским трудом, так заинтересовало поселянина, что он захотел тут же взглянуть на святого.
Картина третья: крестьянин приник к забору и, «...зрит святого скважнею... в худой ризе и зело раздранне и многошвенне» (там же). Облачение святости в одежду из лохмотьев потрясло крестьянина, и он не поверил монахам, решив про себя, что видит не святого Сергия, а кого-то другого. Тут Пахомий приступил к подготовке сознания читателя для восприятия своего, весьма отличного от епифаниевского образа преп. Сергия. До сих пор не было сказано в «Житии», что он ходил в рваной, заплатанной рясе, и этим резко выделялся среди игуменов и монахов. О бедной одежде вскользь упоминалось как об одной из добродетелей Сергия. И только. Среди святых отцов, которым, по словам Пахомия, подражал Сергий, не было приверженцев ношения нищенской одежды. Они, напротив, предписывали монахам и игуменам ношение одежды недорогой, но чистой и удобной для работы, и указывали особо на то, что по одежде монах не должен отличаться от простых людей, выделяя себя из их среды [105]. Сергий же, если верить Пахомию, устремлялся именно к особенному внешнему виду, к одежде нищенской.
Картина четвертая: крестьянин снова обращается к братии с просьбой «да скажут ему искомаго от него», но получает прежний ответ: «его же скважнею виделъ еси, тьи есть» (с. 359). Крестьянин им не поверил. Его упрямое неверие пробуждает мысль о том, что он представляет себе внешний облик святого Сергия иным, совсем отличным от облика человека, работающего в огороде.
Картины пятая и шестая. Пахомий приступает к созданию своего образа Сергия. Крестьянин упрямо стоит «при дверех отнекудь жды его», святого. Сергий появляется из-за ограды, и братия в третий раз говорит поселянину: «человече, тьи есть, его же желаеши». Однако крестьянин и в третий раз не верит монахам. Столь упрямое неверие вызывает в памяти читателя евангельский образ Фомы неверующего из притчи о воскресшем Христе и побуждает к сопоставлению (приуподоблению) рассказа притче. Образованный читатель, приученный к рассмотрению приуподоблений, конечно, легко установит сходство крестьянина с Фомой, и различие между ними, а также сходства и различия между Христом и Сергием. Сегодняшнему читателю мы хотим сказать, что сознание средневекового образованного читателя на Руси было воспитано на изучении (с детства) Библии (и особенно Нового Завета), и он был обучен всей практикой церковной жизни умению делать сопоставления событий текущей жизни и литературы (особенно житийной) с событиями библейскими. Сегодняшнему читателю мы напомним вкратце притчу о Фоме неверующем (Ин., 20:19-29). Фома, услышавший от других апостолов, что Христос воскрес и они Его сами видели, не поверил им, сказав: «...если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус (это его третье появление. – А. К.), когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие». Отметим совпадения, необходимые для приуподобления:
1) воскрешение Христа – «дивная вещь», и игумен в одежде нищего – «дивная вещь»;
2) Христос, отошедший в мир иной после распятия на кресте, появляется в физическом теле перед учениками – Сергий, ушедший из монастыря за ограду копать землю, появляется перед своими учениками и поселянином;
3) Апостол Фома Близнец не верит другим апостолам, ранее видевшим воскресшего Христа – крестьянин не верит ученикам Сергия, утверждающим, что Сергий и есть тот работник, который копал землю.
Отметим и различия между приуподобляемыми «дивными вещами»:
1) Чудо воскрешения из мертвых – подлинное, великое чудо, а нищенски одетый игумен – всего лишь диковинка, удивительное явление;
2) Христос духовным прозрением узнал, что говорил Фома другим ученикам о воскресении Христа, Сергий же от монахов узнал, что сказал о нем поселянин;
3) Христос прошел сквозь запертые двери невидимый и неслышимый, внезапно проявился в физическом теле и стал среди учеников – Сергий, как всякий смертный, встретил поселянина в своем монастыре, правда, в диковинной одежде нищего, а не игумена;
4) Фома, увидев Христа в физическом теле с отверстиями от гвоздей, которыми он был прибит к кресту, тут же уверовал в его воскресение – крестьянин же, увидев Сергия, не поверил монахам, говорившим ему, что перед ним стоит Сергий.
Весь дальнейший рассказ построен на показе того, каким образом крестьянин признал в игумене Сергия. О том, почему крестьянин не поверил монахам, мы узнаем от него самого: «...я на пророка пришел посмотреть, а вы указали мне на простого человека и даже на нищего, и потому я воистину понял, что зря трудился прийти сюда. Я ведь как слышал, так и надеялся увидеть Сергия, уважаемого человека, в славе и величии, и теперь я вижу нищим того, на кого вы указываете: нет ни почитания, ни величия, ни прекрасной одежды, которую обыкновенно носят славные люди, ни свиты, ни слуг, ни воздающих почести, но все выглядит по-бедняцки, все являет образ нищеты» (с. 359). Агиограф излагает здесь устами крестьянина не только его личное, но общее для жителей села («яко же слышах») представление о пророке Сергии. По Пахомию, простонародный образ святого Сергия есть образ пророка и господина в одном лице; такого славного человека простецу легко отличить от других, ибо все воздают ему должные почести. Однако образ нищенски одетого трудяги, вышедшего из огорода, где он только что копал землю, находится в резком несоответствии с крестьянским образом Сергия. К тому же монахи не кланяются ему. Не удивительно, что крестьянин, простой человек из глубинки, отказывается верить монахам, и в сердцах поворачивается к Сергию спиной.
Попробуем разобраться, верно ли Пахомий передает крестьянские представления об образе святого Сергия. Обратимся к «Похвальному слову» Епифания. Его святой Сергий был человеком «чистой жизни», человеком, в котором и тело, и душа находились в гармонии; у Епифания не найти и намека на господский облик и тем паче на господский образ поведения преп. Сергия. Вместе с тем простые люди глубоко уважали и почитали его, и это впечатляюще описано в «Похвальном слове». Но причиной почитания было духовное богатство преп. Сергия, его подвижнический труд на благо людей, его деятельная забота обо всех униженных и труждающихся, его борьба со «сребролюбцами», «похыщниками» (с. 277), «чюжаа грабящими, лихоимцами» (с. 274). Пахомий усиленно нагнетая конфликт между поселянином и монахами, тем самым возбуждает вопросы: Кто же прав, монахи или крестьянин? Каков же в самом деле святой Сергий? В последнем вопросе выражена суть спора монахов с крестьянином и суть главного конфликта рассказа. Точка зрения крестьянина формулируется Пахомием еще раз и снова в прямой речи поселянина: «...немощно есть таковому мужу славну и чесну в нищете пребывати» (с. 359). Тут в спор вступает сам автор, который категорически отвергает итоговое суждение крестьянини: «Внешняа же взираше, а не внутреняа» (с. 359). Так Пахомий оценивает сознание крестьянина, якобы неспособного отличить внешнее от внутреннего, явление от сути.
Но в чем же состоит внутреннее содержание святого Сергия? Каковы побуждения, заставившие его носить нищенскую одежду, побуждения, скрытые, по мнению Пахомия, от поверхностного взгляда простеца? Объяснение Пахомия таково: «Ведь все время с тех пор, как он стал иноком, Сергий жил как страстотерпец, он не носил ни шубы, ни какой-либо иной одежды, могущей согреть его тело в холодные зимы, но он переносил, страдая, и солнечную жару, и зимнюю стужу» (с. 359). Значит, Сергий – аскет, страстотерпец с давних пор, и он по убеждению испытывая себя, зимой и летом, в мороз и в жару, ходил вообще без какой-либо верхней одежды. Объяснение агиографа не имеет никакой опоры даже в его собственном описании жизни Сергия вплоть до этого рассказа. Не находит оно опоры и в тех преподобнических житиях святых, которые ценил святой Сергий. Если судить по уставам Пахомия ангеловидного и Василия Великого, то в них бедной одежде придовалось немалое значение, но совсем иное, чем в представлении Пахомия. Одежда (внешнее) должна была находиться в гармонии с устремлением к духовному восхождению. Этому основному требованию соответствовала бедная одежда простых людей, не возбуждавшая в монахе тщеславия и ни у кого не порождавшая зависти. Вместе с тем одежда должна была быть удобной для работы, чистой (как и душа монаха) и приспособленной к местным климатическим условиям [106]. В иноческих уставах, известных нам, повседневная одежда монахов не связывается с телесными испытаниями, со страстотерпчеством. Для этой цели предназначалась власяница, но ее ношение – особый случай, не приложимый к жизни преп. Сергия. Пахомий Логофет сам, без опоры на традицию, увязал (зачем?) одежду преп. Сергия с «прохождением страстотерпческого жития», о котором упоминается только в рассказе «О бедной одежде». Комментарий Пахомия не убедителен по сути: можно ведь быть аскетом-страстотерпцем и притом ходить не в лохмотьях, а в обычной монашеской одежде, пусть простой и бедной. Епифаний в «Похвальном слове» также пишет о страданиях и тяготах жизни Сергия, иногда даже почти теми же словами, что и Пахомий, но пишет все же совсем иначе, вовсе не увязывая страдания и лишения с ношением нищенской одежды и не употребляя слова «страстотерпческий»; «...подвигь многь съвршивъ, и труд великъ подъять, тяготу вара дневнаго понесъ, и зной полудневный доблестовне въсприятъ, и студень зимную велми пострада, и мразы лютыа и нестерпимыа претрьпе имени ради Божиа» (с. 275).
Пахомий, на наш взгляд, впал в грубую ошибку тогда, когда устами поселянина дал общую характеристику простонародного представления о святом Сергии как о славном господине в почете, в богатом одеянии и в окружении слуг. Весь рассказ держится на ином, прямо противоположном побуждении крестьянина – увидеть игумена в нищенской одежде. В противном случае поселянину не стоило отправляться в далекий путь, чтобы увидеть то, что он ежедневно наблюдает вокруг – богатую, нетрудовую жизнь господ в красивых одеждах, господ светских, церковных и монастырских. Завязка сюжета и развитие конфликта в пахомиевском рассказе держится на ложном, якобы народном представлении об образе святого Сергия и русского святого вообще. Христос или святой в богатых одеждах – это господское, а не крестьянское представление о них [107]. Крестьянин же сам одет бедно, сам тяжко трудится, и таким он представляет себе святого и даже Христа, защитника «труждающихся и обремененных». Вместе с тем утрированный образ святого Сергия, одетого в рванину, тоже не крестьянский, не епифаниевский, не древнеиноческий образ подвижника или преподобного, а второй, сугубо пахомиевский вымысел, преследующий определенную цель.
Картина седьмая. Монахи предлагают игумену Сергию: «хощеши ли, отженем сего, иже тебе длъжную честь не въздающа» (с. 359). Из этих слов следует, что они могли сделать такое предложение, и это означало, что: 1) в Свято-Троицком монастыре существовал обычай воздаяния должных почестей игумену мирянами, посещавшими обитель; 2) допускалось даже изгнание из монастыря тех посетителей, которые проявляли непочтение к игумену.
Такое отношение к ближнему не могло быть в монастыре, которым руководил преп. Сергий. Напротив, ворота монастыря были открыты для мирян, что хорошо видно по «Похвальному слову» Епифания. Ответ Сергия на предложение монахов и радует, и огорчает. Радует потому, что он отклоняет это предложение, и огорчает потому, как отклонил и по какой причине. Преподобный даже не пожурил монахов за нехристианское предложение, а, напротив, ласково назвал их «детушки», тем самым подтвердив существование в монастыре порядков, из наличия которых исходило по-своему заботливое предложение монахов. Еще более несовместимо с епифаниевским образом Сергия якобы его полное согласие с представлением крестьянина о нем. Сергий был «смиренъ сердцемъ, высокъ житиемь добродетельным» (с. 274), и ему были чужды и тщеславие, и честолюбие. И вряд ли под его началом долго пребывали бы монахи, подобные тем, кто с легким сердцем готовы были изгнать из монастыря искренне верующего, но в чем-то заблуждающегося крестьянина.
Полное согласие Сергия с суждением о нем поселянина, который будто бы один говорит о нем правду, а все остальные заблуждаются, порождает вопросы и требует пояснения. Если Преподобный приемлет как истину суждение о себе поселянина, то почему и зачем носит, в отличие от остальных игуменов, нищенскую одежду и занимается физическим трудом? В последующих картинах Пахомий дает развернутые ответы на эти вопросы.
Картина восьмая. Преп. Сергий отклонив предложение монахов об изгнании крестьянина, тут же совершает неожиданный поступок: «Предварив же его (крестьянина. – А. К.), святыи с великим смирением сътвори ему поклонение и о Христе целование дав ему» (с. 359). Поступок, противоречащий порядкам, принятым в монастыре. И Пахомий, предугадывая возможные различные истолкования поступка Преподобного, упреждает их своим комментарием: «О сем бо, любимици, – обращается агиограф к монахам, – разумеем, колику имаше простоту и любовь нелицемерну, иже такова человека, невежду суща и неискусна, с любовью прият и излише паче възлюби его. Яко же бо гръдии честем и хвалам радуются, тако смереномудрии о своем бесчестии и уничижении радуются» (сс. 355-360). Дадим перевод этого важного, доверительного слова Пахомия: «Это же, любимые, я разумею так: какую же простоту и любовь нелицемерную имел тот, кто такого человека, сущего невежду и невежу, с любовью встретил и даже излишне возлюбил его! Так вот гордые радуются почестям и похвалам, а смиренномудрые – бесчестию и уничижению». В комментарии привычно противопоставлены гордость и смиренномудрие, и святой традиционно назван смиренномудрым, но настораживают два слова «излише» и «радуются». Почему и в чем конкретно Сергий чрезмерно возлюбил грубоватого и простоватого поселянина? И почему якобы с радостью принимает святой Сергий свое бесчестие? Пахомий вскоре представит разъяснения и по этим вопросам.
Картина девятая. Преподобный не только с радостью принял поселянина, не оказавшего ему должных почестей, но и «...поим его и посади одесную себе, ястием же и питием насладитися нудяше, честию же и любовию учреждение сътворяше ему» (с. 360). Крестьянин не понимает, что его угощает сам святой Сергий, и Пахомий снова объясняет это непонимание «неверием»: «Тъи же еще неверием одръжим бываше, мня, яко не виде Сергиа» (с. 360). Тут Пахомий лукавит: ведь монах в нищей одежде, прислуживающий поселянину за трапезой, себя не назвал, а поселянин, скромный человек, вряд ли принял поклонение себе и угощение как должное. Преподобный Сергий, «проразумевъ же помыслъ» гостя, «рече ему: «чадо, не скръби, его же ищеши, въскоре будет ти» (с. 360). Однако и теперь преп. Сергий не называет себя, ожидая чего-то, что будет «вскоре». Пахомий держит паузу и не комментирует больше ни поведение преп. Сергия, ни его загадочное обещание, побуждая тем самым читателя к размышлению, к самостоятельной разгадке поведения святого Сергия.
Картина десятая. И вот разгадка наступает: «И еще святой продолжал говорить (во время угощения. – А. К.), как некий князь въехал в монастырь с великой гордостью и славой, в сопровождении и в окружении целого полка конных, и впереди него – бояре и охрана. Князь еще издали сошел с коня и до земли поклонился святому Сергию. Святой же, благословив, по-христиански поцеловал его. И так сели они только вдвоем, а все остальные стояли» (с. 360). Это кульминация рассказа. Встречаются гордый и смиренномудрый. Князь, в славе и величии, ведет себя смиренно, а смиренномудрый Сергий, гордо стоит, спокойно, как должное, принимая нижайший поклон от высокого посетителя. Только что святой Сергий и поселянин сидели вдвоем за трапезой, а братья-монахи, предлагавшие изгнать поселянина из монастыря, где-то были неподалеку; наверное, они почтительно стояли поблизости, поскольку не сказано ничего об их уходе в свои кельи. И вот теперь (картины меняются резко, переходы от одной к другой опускаются – таков экономный стиль Пахомия) Сергий и князь сидят, а «все прочий» стоят вокруг. Обе картины «говорят» о самом главном, причем языком, понятным для средневекового простого человека: на иконах стоят всегда самые почитаемые (Лица Святой Троицы, Богородица), а остальные стоят, как кому положено, кто ближе, кто дальше. Место святого Сергия – рядом с князем, гордость, слава и величие которого становятся гордостью, славой и величием Сергия: княжеские бояре, охранники, слуги и монахи – все толпой окружили Сергия и князя. Но где же поселянин?
Картина одиннадцатая. «Ранее названного человека взяли за плечи и куда-то далеко отбросили» (с. 360). Кто же его далеко отшвырнул от князя и святого Сергия? Об этом не говорится, ибо и без слов ясно: отшвырнули охранники князя. Когда они это учинили? Взяли крестьянина прямо из-за стола, за которым с ним только что сидел сам святой игумен? Или крестьянин пошел вслед за преп. Сергием навстречу князю, и тут его охранники заметили и отбросили «куда-то далеко»? И что же святой Сергий не оборонил своего бедного гостя? Для Пахомия эти и подобные вопросы настолько несущественны, что он не тратит слов на их разъяснение. Важно другое: крестьянина нет даже среди тех, кто кольцом стоят вокруг сидящих господ. Но где же место крестьянина? «Человек же тот, который перед этим гнушался Сергия, теперь весь исполнился одного желания – видеть его, и, приникнув, спросил одного из окружавших Сергия: «Кто же тот инок, что сидит по правую руку от князя, скажи мне?» И получил ответ: «Или ты не знаешь преподобного игумена Сергия, это он разговаривает с князем» (с. 360). Вот место крестьянина: смотреть на господ в щелку из-за живой ограды их свиты, охранников и слуг.
Ни одного из перечисленных поступков епифаниевский Сергий сделать не мог бы: ни уйти от крестьянина, не закончив беседы, ни честолюбиво восседать с князем в окружении стоящих бояр и слуг, ни позволить «отрокам» князя отшвырнуть крестьянина в сторону. Тут Пахомий отклоняется от епифаниевской характеристики преп. Сергия: «И всех вкупе равно любляше и равно чтяше, не избирая, ни судя, ни зря на лица человеком» (с. 277). Пахомий пишет так, будто ведет скрытую полемику с Епифанием: поступки пахомиевского Сергия отрицают именно равенство его любви к крестьянину и князю, изобличая в Сергии тщеславие и честолюбие. И хотя Пахомий уверяет, будто святой Сергий отнесся к крестьянину с «простотой и любовью нелицемерной» (с. 259), это уверение можно воспринять лишь как иронию, потому что оно опровергается последующим поведением Сергия. В его поступках нет ни простоты, ни любви. Любовь заменена дипломатическим, внешнепоказным почитанием, простота – лукавством. Смысл многозначительного инкогнито пахомиевского Сергия, имплицитно содержащийся в его поведении, читателю предлагается раскрыть самому. Тут ему, как всегда, приходит на помощь Священное Писание, и Пахомий знает это, и, более того, заранее это учитывает.
И, действительно, в Новом Завете описана (как по заказу!) ситуация, аналогичная ситуации, создавшейся в «Житии», разумеется, не без участия Пахомия. У апостола Иакова есть поучение о том, как следует христианину принимать гостя богатого и гостя бедного: «Братья мои! Имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, не взирая на лица. Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног моих, – то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби ближнего твоего, как самого себя, – хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон, и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем» [108]. По первому впечатлению, которым и удовлетворяется незнающий, преп. Сергий встречает и принимает бедного, никому не известного крестьянина так же, как и богатого, славного князя: со всем почетом, целованием и пр. И даже, пожалуй, крестьянину оказываются такие личные услуги (пиршество с игуменом), какие князю не оказываются; правда, знающий может подумать: а зачем князю игуменское угощение, оно ему не нужно, оно для него – лишь потеря времени. Но главное различие в приеме бедного и богатого в притче и в «Житии» замечается не вдруг: игумен Сергий принимает поселянина и князя не вместе, а порознь. Это позволяет Пахомию создать атмосферу загадочности поведения Сергия, а приезд и прием князя представить как разгадку, раскрывающую истинную сущность души Сергия. Теперь святой Сергий предстал перед взором поселянина в славе и величии, каким он якобы и представлялся поселянину еще до прихода в монастырь. Этот образ Сергия и есть якобы истинный образ: вспомним оценку им высказывания поселянина («он один говорит обо мне истину» – с. 258). И тут крестьянин прозрел. Гром грянул – княжеская охрана отшвырнула мужика от князя и от игумена – и мужик, прирожденный Фома неверующий, начал «креститься». Он мгновенно все осознал и стал послушен.
Картина двенадцатая. Когда князь со свитой отбыл из монастыря, крестьянин, кланяясь издалека (подобно князю), стал робко приближаться к св. Сергию, «прося у него прощения» (с. 360). О какой же «итоговой пользе» (там же) поучал крестьянина Святой? Ответ, также оставленный Пахомием на усмотрение читателя, теперь прояснился. Крестьянин «просветился», и истина в его сознании утвердилась в новом виде: священноначальники, например, игумен Сергий, могут одеваться, как нищие, и трудиться по-крестьянски, но их следует почитать так же, как князей. Таков урок византийца Пахомия всему верующему населению Руси, но прежде всего поселянам.
Поучение о «пользе» получили и монахи. Им дан пример лукавой, целенаправленной дидактики. Во-первых, нельзя изгонять из монастыря простецов-паломников, невеж и невежд, потому что они распространяют в народе добрую молву и о Сергии, и о монастыре, и от них, значит, зависит прославление монашества и церкви. С простецами надо обходиться по-христиански, показывать им любовь к ближнему. Во-вторых, знающий читатель, конечно, судит о человеке, как того требует Новый Завет: по делам, а не по словам. Дела же, поступки пахомиевского Сергия не оставляют сомнений в том, что он честолюбив, лукав и лицемерен в любви к ближнему. Однако эту его внутреннюю суть не понять простецам. Как именно следует просвещать простецов – учитесь у Пахомия Логофета. Следует оберегать от простецов тайну истинного образа святого Сергия: то, что в душе он тщеславен и честолюбив, что его нищенская одежда и физический труд – обдуманная, хитрая тактика, целожизненное добровольное испытание ради славы своей и Церкви. Но как же Служение Богу? Ведь оно же не терпит суеты, сиречь никакой показушной любви и веры? Бог не присутствует в рассказе и не выносит Своего суда над происходящим, хотя в других случаях Пахомий обычно прибегает к его санкции для утверждения своей правоты. Но на этот раз Пахомий «забыл» о Боге. И не случайно: ведь Пахомий в глубине души сознает, что он сам, сделавший из истинного подвижника, епифаниевского Сергия двоедушного лукавца, подлежит Высшему Суду.
Чему рассказ учит светских властителей? Поведению, подобному тому, которое демонстрирует князь, посетивший монастырь Святой Троицы. Но содержится в рассказе и поучение, адресованное обеим ветвям власти, и светской, и духовной: их общая задача – воспитывать простецов в духе почитания власти – успешно разрешается лишь при их согласии и взаимопонимании, при сочетании государственной силы с церковной проповедью и демонстрацией любви к простецам. Соответствует ли Учению Христа этот метод обучения почтению к властям? Разумеется, не соответствует, так как искренняя любовь к ближнему подменяется любовью лицемерной, расчетливо прикрывающейся нищенской одеждой, а честные, откровенные отношения с народом – лукавой тактикой управления детски наивными душами неграмотных поселян. Такие отношения и такая тактика в перспективе медленно, но верно готовят подрыв авторитета церковной и светской власти. Пахомий не прозревает будущего, и потому его перо, не останавливающееся перед нравственной дискредитацией Святого, напитывает души людей опасным ядом, разрушающим, в конце концов, их веру в Бога. Чем совершеннее искусство Пахомия, чем тоньше и незаметнее для жертвы действует отрава лукавых, лицемерных слов, тем шире раскидывается сеть зла, которое в конечном счете поражает и самих отравителей.
Мог ли Епифаний, создавший в «Похвальном слове» чистый, высоконравственный образ преп. Сергия, написать что-либо в ключе его пахомиевского изображения? Разумеется, не мог. По образу Сергия, созданному Пахомием, видно, что ему было поручено заказчиком не только понизить уровень святости Сергия, но и показать Сергия, обремененного такими человеческими слабостями,как честолюбие, тщеславие и лукавство.
Подтекстовый, критический план изображения преп. Сергия, прояснившийся в ходе «расчистки» пахомиевского слоя палимпсеста – на совести Пахомия Логофета и его заказчика, оплатившего криводушие агиографа. Почему же криводушие? Потому что эта редакция выдается и Пахомием, и заказчиком за оригинальный текст Епифания.
Метод недоговорок, намеков, неявных аллюзий с Библией – характерная особенность пахомиевского рассказа.
Конец – всему делу венец: и лукавство, и тщеславие, и честолюбие пахомиевского Сергия, и грубое насилие над крестьянином – все якобы оправдано полезным результатом воспитания крестьянина (значит, вообще простецов) в духе почтения к игумену Сергию, а тем самым к любому священноначальнику, не взирая на то, как он одет, бедно или богато, трудится ли он физически, с лопатой в руках, или не трудится.
Пространная редакция «Жития Сергия» представляет тот же самый рассказ «О бедной одежде...» в расширенном варианте. Что же было изменено?
Сохранился сюжетный каркас, и это дает весомый аргумент атрибутировать Епифанию основу сюжета. Сохранились (в целом) оба плана пахомиевского изображения Сергия, хотя тут надо отметить некоторые новшества. Аноним не вуалирует границы между планами, а оттеняет их. И подтекст местами раскрывается, становясь вполне понятным текстом – в результате усиливается контраст между внешним и внутренним образами Сергия.
Аноним создает новое вступление к рассказу, обширное, со своим сюжетным стержнем. Рассказ начинается с описания одежд, которые преп. Сергий не носил. Это описание кажется избыточным для создания образа Сергия, но только на первый взгляд. Автор, используя метонимию и контраст, изображением видов одеяний замещает характеристику сословий, точно определяя место, которое занял среди них игумен Сергий. Высшие сословия («дома царские» в широком смысле слова – с. 338) носят одежды мягкие, цветные или белые, или из сукна немецкого, монахи носят простые, грубые одежды, не цветные, не светлые и не щегольские, и тем, понятно, явно отличаются от принадлежащих в высшему сословию. Сергий же резко выделяется своей одеждой даже из монашеской среды, так как носит лишь старую суконную одежду, «ветхую, шитую-перешитую, немытую, запачканную и пропотевшую, а иногда и латаную, причем не один раз» (с. 338). Тем самым Преподобный с самого начала выделен из всего общества. Он исключение. Он необычен и тем привлекателен. От преп. Сергия отчуждаются, по замыслу Анонима, не только представители высших сословий, но и простые, «сермяжные» люди, что видно по двойному авторскому нажиму на слово «токмо» в характеристике одежды Сергия: «Но токмо от сукна проста (носил Сергий одежду. – А. К.), иже от сермяги, от влас и от влъны овчаа спрядено и истькано, и то же просто, и не цветно, и не светло, и не щапливо, но токмо видну шръстку, иже от сукна ризу ношаше, ветошну же, и многошвену, и неомовену, и уруднену, и много пота исплънену, иногда же другоицы яко и заплаты имущу» (с. 338).
Таким образом, преп. Сергий со всей очевидностью демонстрирует свою близость к самому низшему, нищенствующему слою общества. Чтобы утвердить эту мысль, Аноним сочиняет микроновеллу о соревновании монахов в ношении самой скверной одежды. Соревнование возникло случайно: откуда-то попало в монастырь «...сукно злотворное, невыделанное, выброшенное, буроватого цвета, и все монахи с возмущением, гнушаясь, отвергли его» (с. 338). Семь монахов один за другим отказались от этого тряпья, и лишь преп. Сергий «...взял его... и сшил рясу, в которую не погнушался одеться» (там же) и носил ее целый год, пока она на его теле не изорвалась и не «распадеся». Как истолковать этот факт? Агиограф, по примеру Пахомия, спешит на помощь читателю: «И из этого случая видно, какую рачительность проявил он смиренномудрия ради, чтобы идти по жизни в нищенском образе» (с. 338). Аноним дал свое, совершенно иное, чем у Пахомия, объяснение Сергиева решения ходить в одежде нищего оборванца, но оно не менее странно, чем Пахомиево. Можно ли ношение злотворной (эпитет-то какой выразительный!) ветоши считать проявлением смиренномудрия? Не походит ли на иронию такое утверждение? Аноним довел до абсурда бедность, убогость одежды Сергия, чтобы создать такой его образ, которому вряд ли кто захочет подражать. Но, как говорится, Бог шельму метит. Агиограф в раже забыл о своих прежних одобрительных оценках Сергиевой добродетели, несовместимой с пристрастием к грязной, рваной одежде: по словам Анонима, преп. Сергий «...чистоту душевную и телесную бес скверны (безукоризненно. – А. К.) сьблюдаше» (с. 312) и «...бяху же добродетели его сице:... чистота душевная и телесная» (с. 320).
Пахомий, как мы отмечали ранее, тоже страдал странной забывчивостью, но он все же не изображал Сергия победителем в соревновании мелких, сорных тщеславий. За скобками авторского комментария остается вопрос: почему не участвовали в соревновании другие монахи? Из предыдущего повествования известно ведь, что их число далеко перевалило за 12 вскоре после прихода к Сергию архимандрита Симона. Почему не участвовал и Симон? Очевидно, что среди монахов не было ревнителей нищенствующей аскезы, и ношение рваной и грязной одежды они отвергали – в отличие от Сергия. Тут Пахомий и Аноним отрывают монахов от Сергия и делают это вопреки ясному суждению Епифания: «...он воспитал (упасе) порученное ему от Бога стадо в преподобии и правде, будучи во всем примером для своих учеников» («образъ во всем бывъ своимь ученикомь» – с. 275). Аноним же нажимает на то, что Сергий надел на себя гнусное тряпье не по необходимости, а по убеждению, ибо так он поступал ранее и будет поступать до конца жизни. Устрашающая перспектива для монахов, но особенно для игуменов, которые пожелали бы идти путем святого Сергия! Словом, Сергий якобы обычно носил одежду, какую носят убогие странники или чернорабочие. «И единою просто реши: толико бе худостны порты ношаше, яко хуже и пуще всех чернецевъ своих...» (с. 338, выделено мною. – А. К.). Утрированный образ «смиренномудрого» Сергия вызывает в памяти известное изречение, что не смиренен тот, кто подчеркивает свое смирение. Эту мысль и старается внушить читателю Аноним.
В отличие от Пахомия, Аноним не оставляет у читателя сомнений в том, что именно нищенский вид преп. Сергия был причиной его колоссальной популярности: «...иже от различных град и странъ (в таком контексте слово «странъ» означает, скорее, не «стороны», а «страны». – А. К.) посещающе его прихожаху, желающе поне токмо видети его, и елици видевший его възвращахуся въсвояси и друг другу поведающе яже о нем, дивляхуся» (с. 338). Сергий – диковинка, и потому люди валом валят в монастырь, лишь бы только поглазеть на него. Так представляет дело анонимный агиограф. Что у Пахомия было выражено намеком, в подтексте, у Анонима подается открыто, с акцентом. Почему? Судя по тексту Анонима, популярность Сергия в народе к 20-м гг. XVI века сильно возросла, и его слава великого пророка, чудотворца и притом убежденного нестяжателя тревожила воинствующих иосифлян-победителей. И анонимный агиограф, который был их рупором, нашел, как ему думалось, эффективный способ борьбы с влиянием святого Сергия.
Клин клином выбивают: новый образ Сергия, приемлемого для властей, для иосифлян, должен был вытеснить из народного сознания образ Сергия – нестяжателя, простого и мудрого праведника – борца за общее благо, любящего и Бога, и ближнего, бесстрашного подвижника, словом, образ истинного, епифаниевского Сергия. Новый образ Сергия, лицемерного смиренника-дипломата, умело прикрывающего свое истинное лицо (честолюбец и гордец), показной любовью к нищим, был полезен для прославления церкви и монашества, а потому признавался агиографом. Но только как исключение. Анонимный агиограф старается обнажить те особенности в образе Сергия, которые отбили бы желание подражать ему. Ношение вонючей, злотворной рванины вместо бедной, чистой одежды сближало Сергия с юродствующими праведниками. Его новый образ заполнял нишу между юродивыми и нормальными святыми митрополитами, князьями, игуменами, носившими одежды, сообразные с их местом в обществе. Аноним, истолковывая ношение Сергием рванины как проявление смиренномудрия, примитивизировал, огрублял его образ, вызывая к преп. Сергию отвращение, подобное отвращению монахов к гнусной одежде из тряпья. Но вина за пробуждение такого чувства возлагалась... на самого Сергия. Лицемерие Пахомия и Анонима ярко проявилось в том, что они превозносили Сергия за то, что заслуживало отвержения и с чем сами они были не согласны. Аноним, открывая мнимые противоречия в душе Сергия, показывает, как он смирением маскирует утаиваемые страсти – тщеславие и честолюбие. В изображении Анонима Сергий – насильственный скромник и смиренник – мог пробуждать в людях только чувство гордыни, ибо он и сам в душе был, де, гордецом. Самоуничижение паче гордости – вот какую оценку якобы доминирующего свойства Сергиевой души всеми способами вносит Некто в сознание читателя.
После нового вступления, сочиненного Анонимом, сюжет рассказа развертывается в той же последовательности, что и в Первой пахомиевской редакции. Но прежде чем перейти к дальнейшему сопоставлению редакций, обратим внимание на предварительную характеристику крестьянина: «...некто человекъ, христианинъ, поселянинъ, чином орачь, земледелец, живый на селе своем, орый плугом своим и от своего труда питаася, пребываше от далече сущих мест, иже от многа желания и слышания въсхоте видети его» (с. 338). Аноним дает точную характеристику социального положения поселянина: земледелец, пахарь, живущий своим трудом.
Картины первая, вторая, третья весьма близки к пахомиевским. Одно лишь ново: Некто показывает, в соответствии с своим замыслом, отчетливее грубость, невежество земледельца, который ходит по монастырю в поисках Сергия и громко спрашивает: «Кто есть Сергий, и где есть чюдный и славный онъ мужъ, о нем же аз слышу таковаа? И како хощет ми показанъ быти» (с. 339). Монахи указывают ему Сергия, и далее все описано, как у Пахомия, иногда теми же словами: мужик видит за оградой нищего землекопа в рванине и не верит монахам.
Картины четвертая, пятая и шестая: мужик снова просит монахов показать ему Сергия, они повторяют то, что сказали раньше, но мужик опять не верит им, становится у ворот ждать Сергия. Землекоп выходит из-за ограды, монахи говорям мужику: «Се тоть есть, его же вжелелъ еси видети». И тут мужик отворачивается от него «и начят смеятися и гнушатися его» – это место Аноним сакцентировал сильнее, чем Пахомий, в соответствии со своим, более огрубленным образом крестьянина. И далее, агиограф, приводя филиппику разобиженного крестьянина, во многом воспроизводит пахомиевский текст. Во многом, но не во всем. Текст Анонима отличается обширностью и полемической заостренностью: «...и въ правду рещи поселянинъ, акы невежа сый и не смотряй внутрьнима очима, но внешнима, не ведый книжнаго писаниа, яко же премудрый Сирах рече: «Человекъ смотритъ в лице, а Богь зритъ въ сердце». Сий же внешняа обзираше, а не внутреняа, но и телеснаго устроенна худость ризную блаженаго видевъ, и страду земную работающа, и добродетель старчю и нищету укаряше, никако же верова того быти, о нем же слыша. В помысле же его бяше некое неверьство, помышляше бо в себе глаголя: «Не мощно таковому мужу, честну и славну, в нищете и худости быти, его же въ мнозе величьстве, въ чти же и въ славе слухом преже услышах» (с. 340). Аноним приводит новое приуподобление. По мысли оно также отчасти ново. Как и у Пахомия, крестьянину отказано в способности увидеть за внешним обликом душу человека, но тут указана причина: отсутствие книжного знания у земледельца.
Картина седьмая. Монахи просят у Сергия изгнать крестьянина из монастыря и получают отказ – только это и осталось здесь от пахомиевского текста. Но и это подается как единичный случай, без какого-либо намека на то, что в Свято-Троицком монастыре был обычай почитания игумена паломниками и что непочтительных посетителей можно было с согласия игумена изгонять из монастыря. Сами монахи теперь блюдут дистанцию от игумена: «Не смеем рещи и боимся тебе, честный отче,...» (с. 340). Усилена мотивировка причин, обусловивших предложение об изгнании: «...а гостя твоего отслали быхом отсюду акы безделна и бесчьстна, понеже невежда бе и поселянинъ: ни тебе поклонится, ни чти достойныя воздастъ, а нас укаряет и не слушает, акы лжуща мнит нас» (с. 340). Иначе, чем Пахомий, обосновывает Аноним несогласие игумена с монахами: снимается признание истины в суждении крестьянина о почитании славных людей, выдвигаются новые мотивы (он не виноват, «дело бо добро съдела о мне»), и на первое место ставится нечто совсем другое – наставление игумена монахам о том, как надо воспитывать впавших «в некоторое прегрешение» (с. 340). Со ссылкой на апостола Павла преп. Сергий учит монахов исправлять таких «смирением и тихостью» (с. 340) и тут же показывает, как это надо делать.
Картины восьмая, девятая и десятая. В трактовку образа Сергия Аноним, сравнительно с Пахомием, вносит поправку, назначение которой отчетливее проявить сущность души Сергия. Если пахомиевский Сергий «съ великым смерением сътвори ему поклонение и о Христе целование давъ ему», то у Анонима Сергий делает это преувеличенно уничижительно: «...с великым смирением поклонисяему до земля, и с многою любовию о Христе целование дасть ему, и благословивъ, велми похваляше поселянина, яко сице о нем разсудивша» (с. 340, выделено мною. – А. К.). Столь же явно нажимает Аноним и на лукавство преп. Сергия. Если пахомиевский Сергий «прозревает» желание крестьянина увидеть его, и потому как бы сохраняет право на инкогнито, то у Анонима «опечаленный» гость прямо говорит игумену Сергию, что «Сергия ради, ради его же и потрудился я сюда прийти, чтобы его увидеть» (с. 340). Однако Сергий и теперь не называет себя, и читателю, даже невнимательному, становится ясно, что он расчетливо лукавит, преследуя какую-то цель. В ответ преп. Сергия Аноним, кроме того, внес ноту самомнения, похвальбы: «Не печалуй! Зде есть милость Божиа сицева, да никто же печаленъ исходит от зде. И о нем же печалуеши и его же ищеши, в сий час дасть ти Бог того, его же желаеши» (с. 340). Сам о себе игумен Сергий говорит, что увидеть его – немалая милость Бога (!), и так как он, игумен, этого хочет, то его воля будет немедленно исполнена Богом.
Картина одиннадцатая: ожидавшийся Сергием приезд князя в Свято-Троицкий монастырь описан, как у Пахомия, но с добавлением одной характерной подробности: не намеком, а прямо сказано, что Сергий видел, как грубо поступили охранники князя с его дорогим гостем из села: «Идущие впереди князя телохранители и глашатаи схватили этого поселянина за плечи своими руками далеко отбросили его от лицезрения князя и Сергия» («от лица княжа и Сергиева», с. 341, выделено мною.– А. К.). Святой Сергий видел самоуправство княжеских слуг... и не защитил крестьянина, хотя их действия он мог бы остановить кротким словом, обращенным к князю. И насилие над «самовластной» христианской личностью было бы предотвращено. Но Сергий промолчал. И потому его задушевные слова о воспитании заблуждающихся кротостью и тихостью (по совету апостола Павла) теперь, после рукоприкладства охранников князя, воспринимаются с оговоркой: монахов он этому учит, а князя – учить не хочет. Анонимный агиограф – ив этом его существенное отличие от Пахомия – старается дискредитировать образ святого Сергия не только в восприятии образованного читателя, но и в глазах простецов. Для этого и выводится нередко в текст то, что у Пахомия содержится лишь в подтексте. Проявление Анонимом подтекста должно было показать и показало: святой Сергий на деле не выполняет заповедь о любви к ближнему. Не надо даже быть христианином, чтобы осудить Сергиево отношение к своему гостю, к крестьянину. Преп. Сергий оказывается «преступником закона» в том смысле, который придал этому выражению апостол Иаков в послании, процитированном нами ранее. Двойной, лицеприятный стандарт поведения преп. Сергия продемонстрирован с достаточной откровенностью.
Беседа Сергия с князем изображена так же, как у Пахомия; добавлены несущественные подробности.
Картина двенадцатая, завершающая. Князь уехал из монастыря. Поселянин подошел к Сергию, «кланяясь до земли» и прося прощения. Сергий простил его и благословил. «И с тех пор человек этот до конца своей жизни глубоко верил в Святую Троицу и в преподобного Сергия, а спустя несколько лет вернулся в монастырь и постригся в монахи, и так несколько лет провел в покаянии, в исповедании, и в монастыре скончался» (с. 341). По сравнению с Пахомием в концовке рассказа есть новшество: крестьянин возвращается в монастырь, постригается в монахи, замаливает свои грехи и тут умирает. Это новшество усиливает пахомиевский мотив осознания крестьянином своего прегрешения, прощения его святым Сергием и мотив душевной пользы, полученной паломником от беседы с игуменом. Таким образом отблеск славы Сергия ложится и на монастырь
Подведем итоги. И сюжет, и основной конфликт рассказа построены на упрямом неверии крестьянина в то, что знаменитый игумен Свято-Троицкого монастыря, «святой муж Сергий», ходит в нищенской одежде. Однако в концовке рассказа (по обеим рассматриваемым редакциям) нет ни слова о том, как было разрешено основное противоречие в сознании крестьянина. Может показаться, что концовка рассказа неорганична, так как в ней нет даже упоминания об одежде Сергия, и это создает впечатление отрыва концовки от темы и идеи рассказа. Но такое впечатление неверно. Концовка приводит к завершению мысль, заявленную в рассказе и связанную с неверием крестьянина в дивное явление, – мысль о невежестве крестьянина, об отсутствии у него книжного, высшего разумения жизни, опережающего, превосходящего природный ум. Концовка логично заключает два различных уровня разумения жизни и два соответствующих им уровня ее восприятия – неучами-простецами и учеными книжниками. Простец обучается жизнью, книжник утверждает свое разумение на Священном Писании, данном Учителями Жизни. Невежественный поселянин, получив от столкновения с реальнои жизнью поучительный урок, понял свое прегрешение и пошел к игумену Сергию просить прощения. Сергий радушно принял его, кающегося, побеседовал с ним о спасении души – и крестьянин, умиротворенный, отправился домой, не держа на сердце обиды ни на монахов, ни на княжеских слуг. Игумен, как это видно по тексту, ясно понимал, что крестьянин ни в чем не виноват и, значит, прощать его не за что (он ведь был прав); однако игумен принял покаяние крестьянина как должное, сделал ему «душеполезное» внушение и, довольный собой, приступил к своим делам. Агиограф тоже доволен. Он образно, убедительно внес в сознание читателя главную идею: всяк сверчок знай свой шесток. Игумен не стал просвещать темного крестьянина и не испытал раскаяния за свою вину перед ним (лицемерная любовь, лукавство, попустительство охранникам князя). «Пример такой на свете не один» [109]. На церковных соборах такие священники (игумены) и особенно их грехи, их страсти, их несоответствие своему высокому назначению и долгу не раз осуждались. Все это известно «разумеющим книжное писание». Посему агиограф надеется на их доверие к его образу игумена Сергия: он, мол, по своему сознанию – типичный представитель духовенства, хотя по страстотерпческому образу жизни он оригинален, удивителен и даже исключителен. Что ж, каждому – свое. Главное, по мысли агиографа, состоит в том, что игумен Сергий усердно и успешно исполняет свои обязанности, наставляя простецов на истинный путь доверия к властям и веры в Бога. Ни Пахомий, ни Аноним не задаются вопросом, соответствует ли двойной стандарт измерения мыслей и поступков игумена Учению Христа и не приведет ли в перспективе расхождение с Учением к падению веры в Бога и к революционным потрясениям основ жизни.
Каков же в итоге получается образ святого Сергия у Пахомия и у Анонима? Один образ для простеца: дивный святой игумен в рубище. Второй образ для знающих Писание: честолюбец, лукавец, ловко играющий роль истинного христианина – страстотерпца и самомнительно считающий себя любимым угодником Божьим. Оба образа фальшивы, оба искажают епифаниевский образ Сергия. Оба заряжены одной и той же идеей: погасить желание подражать преп. Сергию, желание идти его путем. Простецы, и те не любят оборванцев, монахи – тем более. Агиографы (оба) советуют монахам признать и понять Сергиев пример служения Богу как исключение из правила, полезное, однако, для церкви и государства.
Такой вот образ преподобного Сергия преподносится читателю Пахомием и Анонимом, переделывателями епифаниевского «Жития Сергия Радонежского». В сущности, ими сделана двойная подмена:
1) тема бедной одежды Сергия (любого монаха), желающего сгармонизировать свой внешний облик с внутренним на основе подражания Христу, подменена темой грязной, рваной, вонючей одежды Сергия (тут подражателей не нашлось), устремленного к достижению тщеславного первенства среди жестоких аскетов – страстотерпцев;
2) образ великого подвижника, праведника Сергия, святого по благодати, претворявшего в жизнь Учение Христа, подменен образом ловкого, честолюбивого, лукавого пастыря-себялюбца, готового ради своей земной славы, ради популярности ходить в нищенской одежде и заниматься физическим, крестьянским трудом.
Рассказ «О бедности одежды...» играет особую дидактическую роль в «Житии»: учит знающего Писание, как надо читать и понимать «Житие», чтобы за внешними похвалами Сергию, расточаемыми обоими агиографами, видеть и оценивать те мысли и поступки Сергия, которые, по их мнению, выражают сущность его характера и сознания, открывают истинный смысл его деятельности.
* * *
По рассказу (особенно по вступлению к рассказу в варианте Пространной редакции) видно, что образ преп. Сергия пользовался большой любовью среди простецов, то есть среди громадного большинства жителей Руси. Концовка рассказа неопровержимо свидетельствует, что в народе жил и был любим образ «святого мужа» Сергия, подобного крестьянину по одежде и по занятиям физическим, землядельческим трудом. Интересное подтверждение этому мы находим в употреблении слова «святой» применительно к преп. Сергию.
Пахомий называет Сергия «святым» впервые сразу же после его пострижения в монахи, причем (в уже рассмотренных нами рассказах) 31 раз от себя и 6 раз в суждениях безымянных персонажей, то есть как бы от имени жителей, народа. Аноним ни разу от себя не называет Сергия святым, а именует его по-разному: Сергий, отец наш Сергий, игумен Сергий, блаженный Сергий, преподобный Сергий. Исключение – название главки «О начале игуменства святого». Мы считаем, что название дано не Анонимом: в противном случае он хотя бы два-три раза должен был употребить слово «святой» в тексте «Жития». Лишь однажды агиограф Некто прилагает к Сергию определение «святой», но в прямой речи поселянина: «Аз свята мужа Сергиа яко же слышах,тако и надеахся видети его...» (с. 339). Такое словоупотребление весьма показательно именно в тексте Анонима: оно означает, что почитание и величание Сергия святым шло от народа и началось задолго до его церковной канонизации, и продолжалось после смерти Сергия Радонежского. Такое словоупотребление полностью совпадает с епифаниевским, и оба они (Епифаний и поселянин) исходят из того, что Сергий святой по благодати, от Бога.
Весьма интересно и употребление слова «святой» Пахомием. Он в первый раз переделывал «Житие Сергия» уже после того, как состоялась т. н. малая канонизация преп. Сергия в качестве местного святого (1422 г.). Видимо, если судить по факту, в середине XV в. допускалось (разрешалось) называть посмертно канонизированного подвижника «святым», начиная со времени принятия им иночества. Именно так и поступает Пахомий. Этим он отличается от Епифания, считавшего преп. Сергия святым по благодати, то есть от рождения. Пять случаев именования преп. Сергия не самим Пахомием, а различными персонажами «Жития» заслуживают отдельного рассмотрения. Первый раз святым называют Сергия (тоже после принятия монашеского пострига) жители селений, приходившие к нему либо лечиться, либо вместе с ним жить в лесной пустыньке: «Слышавше бо, рече, окрест живуще святого мужа добродетель и абие прихождаху к нему: овии хотяще ползевати, инии же моляху, еже жити с ним» (с. 349). Здесь зафиксирован факт, относящийся к народному сознанию; и хотя это свидетельство отнесено агиографом к Сергию-монаху, но по логике текста ясно, что простые люди (в отличие от агиографа) величали молодого отшельника «святым» за его способности (добродетели), полученные от Бога, то есть считали его святым по благодати. Дважды называет Сергия святым «христолюбец» в рассказе о воскрешении мертвого ребенка (с. 356, 357), один раз боярин, излеченный от одержания, (с. 358), один раз монахи Свято-Троицкого монастыря (с. 359) и один раз князь, посетивший этот монастырь (с. 360), – словом, святость Сергия была фактом сознания самых различных слоев русского народа. Говоря иначе, «Житие» свидетельствует, что преп. Сергий стал действительно народным святым примерно с 30-летнего возраста, т. е. лет за 80 до его малой канонизации. Поэтому его можно назвать также святым, посланным Руси как знак благоволения к ней Высших Сил. Так же считал и Епифаний: «И его же Бог прослави, кто может похвалу его сокрыта?» (с. 272). Кто хочет – Епифаний знал хорошо, в том числе и по личному опыту. Если бы Епифанию дано было воскреснуть лет через 30 после своей смерти, узнать судьбу своего творения о Сергии Радонежском и правдиво написать об этом, то это сочинение было бы весьма драматическим.
В конце концов, Епифаний оказался прав: слава Преподобного растет и растет, но злоба и лесть все еще не оставили своих попыток омрачить его душу (с. 281). Борьба за воссоздание истинного образа святого Сергия продолжается.

Добро твори не порывом, а устремлением.
Живая Этика
Две небольшие главы, о которых пойдет речь, составляют единое композиционное целое, хотя может показаться, что первую логичнее присоединить, как часто и делается, к рассказам о чудесах. Назовем главы, которые мы здесь исследуем: «О видении ангела, служащего с блаженным Сергием», «О введении общего жития».
«Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат» – новое понимание реальности пространства Невидимого уже есть шаг к действительности.
Живая Этика
Глава «О видении ангела» не имеет постоянного места в «Житии». В издании архимандрита Леонида (1885 г.), повторенном в ПЛДР (1981 г.), она стоит после возвращения Сергия из Киржачской обители в Свято-Троицкую. Из-за этого возникает грубая смысловая неувязка: преп. Сергий служит литургию вместе со Стефаном, который перед этим возглавил бунт против Сергия и был потом, наверное, изгнан митрополитом Алексием из монастыря. Назначение совместного служения совершенно ясно: таким образом снимается со Стефана грех его выступления против Сергия и ответственность за смуту в монастыре, а также показывается, что якобы и Сергий, и сам Бог простили ему прегрешение. Весьма любопытна в этой связи приписка в конце главы: «Сиа же сказаниа пред ним последують, о составлении монастырей от ученик святого, ему же на Дубенке, сему же монастырю начало сказанию сие» (ПЛДР, с. 386). Перевод: «Эти рассказы о создании монастырей учениками святого должны быть перед ним (т. е. перед рассказом «О видении ангела...». – А. К.), а об основании монастыря на Дубенке, о его начале рассказ такой». Этой приписки нет в Первой пахомиевской редакции, как нет ее и в изданиях «Жития Сергия», осуществленных Н. С. Тихонравовым в 1863 г. и в 1892 г. Видимо, автором приписки является Аноним. Впрочем, совершенно точно это может быть установлено только после изучения всех редакций и всех списков «Жития», изготовленных до Пространной редакции. Из приписки ясно: что издателя этой редакции, архимандрита Леонида беспокоит, что рассказ «О видении ангела...» может быть помещен раньше рассказов о Киржачском, Андрониковеком и Симоновском монастырях. А беспокойство издателя, скорее всего, и вызвано тем, что в раннем издании «Жития Сергия» Н. С. Тихонравовым (1863 г.) глава «О видении...» помещена не перед главой об основании монастыря на Дубенке, а перед главой «О введении общежития», потому что по смыслу обе эти главы тесно взаимосвязаны.
В 1892 году Н. С. Тихонравов издал «Древние жития преподобного Сергия Радонежского». Во всех представленных тут редакциях глава «О видении...» стоит перед главой «О введении общежития». В 1991 году, к 600-летнему юбилею со дня смерти Преподобного, вышло издание под редакцией В. В. Колесова, в которой глава «О видении...» также предшествует главе «О введении общежития». Но тут получилась другая неувязка: в главе «О видении...» сказано «прежде названный Исаакий», а о нем до этого речи не было. Неувязка отпадает сама собой, если точно воспроизвести текст издания Н. С. Тихонравова 1892 г., в котором отсутствует «прежде названный Исаакий». Этого текста главы «О видении...» мы и будем придерживаться.
По содержанию она является прямым продолжением рассказа «Об Иване, брате Стефана». Если представить главу и рассказ как единое целое, то снимается недоумение, о котором мы упоминали при разборе рассказа «Об Иване...»: становится ясно, что Стефан не только привел сына к Сергию, но и сам остался у него. Значит, к этому времени Стефан потерял своего покровителя – великого князя, все посты и привилегии. Сергий, естественно, принял брата, простив таким образом его малодушное поведение в 1342 г. и высокомерное равнодушие к Сергию в течение всего времени, когда Стефан жил в Москве и был в почете и славе, т. е. в течении 1342 – 1354 гг., а Сергий в борьбе, труде и бедствиях прокладывал новую подвижническую тропу, основав в 70 верстах от Москвы монастырь на Маковецком холме.
Когда Стефан был высажен из колесницы власти и оказался в опале, он бежал из Москвы к Сергию на тот самый Маковец, где покинул его когда-то. Стефана звали, как и всегда Стефаном, Сергия – Сергием, но имена их теперь наполнены были различным смыслом и различным резонансом в обществе. Имя Сергия было освещено лучами народной славы Божьего избранника, чудесного целителя, пророка, бесстрашного подвижника. Эти лучи скрещивались, боролись с неприязненными лучами, исходящими от церковной иерархии, с лучами нетерпимыми ко всему необычному, неканоническому, дерзновенному. Радужные лучи славы пересилили темно-алые лучи отвержения, и церковь вынуждена была, приняв Сергия под свою крышу, оставить за ним и его Обителью право жить по-прежнему. Ни церковь, ни Сергий не сдали своих позиций. Они заключили компромисс. И жизнь каждого потекла по своей колее. Это предвещало новую борьбу между ними.
...Содержание главы «О видении...» таково. Однажды преп. Сергий служил литургию, и с ним в алтаре были Стефан и Феодор. Исаакий-молчальник и отец Макарий, находившиеся в это время в церкви, – наверное, вместе с другими монахами Обители, хотя об этом в «Житии» не сказано, – увидели в алтаре еще одну человеческую фигуру, «ангелообразную, в блистающих ризах и несказанном свете»*. После литургии, наедине, Исаакий и Макарий спросили Сергия об этом видении: «Скажи нам, отче, Бога ради, кто этот неизвестный священник, служащий с тобой». Блаженный, желая это утаить, сказал: «Стефан и Феодор служили со мной. Больше никого с нами не было» (с. 114). Но когда они стали настаивать, говоря, что «ясно видели» четвертого в алтаре, Сергии сказал: «Так как Господь открыл вам, то и я не утаю: «Вы видели ангела Божия, сослужившего с нами, и не только сегодня, но и всегда» (с. 114). Вот и все содержание. Маленькая глава, но не мало ее композиционное и идейное значение. Посещение Ангела есть благословение Неба. Сергий укрепляется им в предвидении новой тяжкой борьбы, которая ему суждена. Стефан и Феодор не заслужили такой высочайшей чести, и она предоставляется им по замыслу агиографа: Стефану, чтобы прикрыть и перетолковать (и это агиограф осуществит) новое предательство брата, которое он через некоторое время сделает, Феодору, будущему епископу, чтобы дать небесное обоснование предстоящей церковной карьере.
Возможно ли такое явление Ангела? В этом не сомневается каждый, кто признает т. н. посмертную жизнь людей в надземных сферах. Возможно и появление Ангела (его лучше назвать Вестником) в светоносном теле, которое глаз обычного человека не видит, так как его телесная материя груба, не утончена длительным самосовершенствованием духа. Светоносная материя, как учит Живая Этика, бывает весьма различной.
Пахомий и Аноним, не знавшие, похоже, ничего о свойствах такой материи, сделали серьезную ошибку: «ввели» в алтарь Стефана и Феодора, не показав сильнейшего потрясения, которое они должны были бы испытать от присутствия рядом Высокого Духа, носителя тончайшей энергии. В этом мы видим технический, психоэнергетический довод за то, что в епифаниевском описании явления Ангела не было ни Стефана, ни Феодора. Отметим еще одну подробность видения: Стефан и Феодор не видели лучезарного Ангела, и это также означает, что материя их тел, включая ауру, была другой. В таком случае их соседство с Ангелом должно было привести к шоку, к падению «замертво», без чувств, на пол, как это случилось позднее, лет через 20 с келейником Сергия Михеем, вышедшим посмотреть на явление Богородицы. Епифаний, описавший это явление Пречистой, знал (наверное, от Преподобного) о проникающей силе лучей, исходящих от Ее огненного тела.
Пахомий и Аноним не удержались, чтобы не навести тень на светлый лик Сергия. Не в первый уже раз агиограф вкладывает в уста Сергия лживые слова: настоящий Сергий не мог обманывать никого, тем более своих учеников. Не мог Сергий и хвастать своими сокровенными знаниями («Ангел всегда с нами (!) сослужит...»). Во-первых, «не всегда», ибо Вестники посылаются редко и с каким-либо важным значением. Кроме того, «с нами», т. е. еще со Стефаном и Феодором, Ангел сослужить «всегда» не мог, так как они лишь недавно появились в Обители. В Пространной редакции вместо «с нами» написано «со мной», что свидетельствует о спутанности, неоригинальности этого места в рассказе. Пахомий тут, в стремлении возвысить Стефана, близкого ему по духу, утратил чувство меры. Как ни старается Пахомий, не удается ему полностью упрятать концы в воду: так мстит за себя, мы полагаем, раздвоенность его сознания – и начальству надо угодить (это безусловно), и надо бы по возможности создать логичный, внутренне непротиворечивый текст.
10.2. Духовная трудовая община монахов
Мы решительно против монастырей как антитезы жизни; лишь рассадники жизни, общежития лучших выявлений труда найдут себе Нашу помощь.
Живая Этика
В литературе давно уже была высказана мысль о том, что сам митрополит Алексий, хорошо знавший далекую от идеала жизнь монахов в удобножитных монастырях, был сторонником организации на Руси общинножитных обителей. Поэтому во время пребывания в Константинополе (1353 – 1354 гг.) он, вероятно, договорился с патриархом Филофеем о его послании к Сергию и о включении в послание рекомендации основать киновию. Свидетельств о такой договоренности нет. Но «Житие» дает основания полагать, что Е. Е. Голубинский прав, считая, что инициатива послания Сергию исходила от митр. Алексия [110]. Обратим внимание на странные особенности описания того, как было получено послание патриарха в Свято-Троицкой обители, как с ним ознакомился митрополит Алексий, и на содержание самого послания.
Два порученца Константинопольского патриарха Филофея «в один из дней» пришли прямо в Обитель, минуя митрополита Алексия. Допустим, что такой визит в обход высшего церковного иерарха, действительно состоялся, как об этом сообщается и в Первой пахомиевской, и в Пространной редакциях. Может, митрополит Алексий, когда был в Константинополе, посоветовал посланцам направиться прямо к Сергию? А если не так, то как иначе можно объяснить нарушение этикета посланцами патриарха? Агиограф изображает визит обыденно-просто, словно патриарх Константинопольский жил в Москве, хорошо знал состояние дел в Свято-Троицком монастыре и игумена этого монастыря: «Однажды пришли греки из Константинополя и, поклонившись святому, сказали: «Патриарх Вселенский архиепископ города Константина Филофей благословляет тебя». Тут же дали ему и подарки от патриарха – крест и параманд, и схиму, дали ему и послание от патриарха» (с. 362). Сам факт визита ныне почти никто не ставит под сомнение, хотя, кроме «Жития»*, о нем пока не найдено сведений ни в русских, ни в византийских источниках [111]. Мы тоже принимаем визит за действительное событие, несмотря на то, что его описание порождает немало недоуменных вопросов. Чрезвычайный характер визита подчеркивается символически значащими подарками, один из которых (параманд), как принято думать, сохраняется в ризнице Троице-Сергиевой лавры. Это не просто подарки, а награды, знаки высокого отличия подвижнических заслуг Сергия. Особо следует отметить схиму – символ высшего монашеского отречения.
Может показаться, что поскольку известно время патриаршества Филофея, то не представляется затруднительным более или менее точно определить и время визита. Но это не так. Дело в том, что патриарх Филофей занимал святой престол дважды: в 1353–1354 гг. и в 1364–1376 годах. Невозможно допустить мысль, что ни Епифаний, ни Пахомий Серб (византиец), ни церковные иерархи Руси, курировавшие работу агиографов, не знали сроков владычества Филофея. Знали, конечно. Следовательно, агиограф намеренно умалчивает о сроке визита.
Дважды Пахомий выражает сомнение в том, не ошиблись ли посланцы патриарха, придя к игумену Сергию. Вначале сомневается сам Сергий, считая себя недостойным патриарших наград. Но когда выясняется, что посланцы знают точно, к кому они пришли и знают даже, что Сергий, по их словам, «живет в Радонеже» (с. 363), тогда сомнения отпадают. Сергий повелевает поставить перед ними угощение, а сам, не мешкая, отправляется пешком в Москву, к митрополиту, захватив с собой дары и непрочитанное послание. Почему преп. Сергий нарушает этикет, и, не разделив трапезы с высокими гостями [112], так поспешно покидает их, словно находится под властью какого-то ожидания или стремится предотвратить какую-то беду? Агиограф изображает поведение Сергия как должное, как совершенно естественное. Сергий же торопится, хотя он не знает содержание патриаршего послания, которое могло ведь быть сопроводительным письмом к присланным наградам. Естественно было бы ожидать от Сергия исключительно уважительного отношения к посланцам патриарха, как естественно было бы их желание пойти вместе с ним к митрополиту Алексию. Но этикет нарушается во имя какой-то нам пока не ясной цели. Сергий пускается в двухдневный путь один.
Митрополит Алексий принял Сергия то ли один, то ли в присутствии каких-то духовных лиц – в списках «Жития» встречаются оба варианта. Митрополит, не обратив никакого внимания на подарки, прочитал послание патриарха вслух, чтобы ознакомить с ним преп. Сергия. По содержанию послания видно, что патриарх знает состояние дел в Свято-Троицкой обители, высоко ценит духовный подвиг «Сергия и братии» и, опираясь на библейские поучения, дает совет ввести в монастыре общее житие. Тут агиограф, спохватываясь, вспоминает об этикете и пишет так, будто он своими глазами видел, как «Святой Сергий, преклонив колена, поклонился святому патриарху за его поучение и спросил святого митрополита: «Ты же, владыка святой, что повелеваешь?» (с. 363). Митрополит говорит: «Как патриарх повелевает, так и я благословляю» (с. 363). Только теперь становится возможным объяснить поспешность преп. Сергия, с которой он покинул послов патриарха: вероятно, предвосхищая содержание послания, он опасался, что ознакомление монахов с ним д о решения митрополита может возбудить различные толки. Дальнейший ход событий подтвердил это.
Какие-то лица, присутствующие на беседе митр. Алексия с преп. Сергием (это были, конечно, сановные лица), весьма оригинально выразили свое отношение к посланию патриарха: «Некий (в некоторых списках «многие». – А. К.) удивились, как это вдруг Радонеж стал славен в Царьграде, так что сам патриарх пишет послание Сергию, живущему в Радонеже. До Сергия Радонеж не был славен и знаменит, но благодаря Сергию, живущему в нем, он стал славен» (с. 363). Эта реплика (она есть в Первой пахомиевской редакции) «неких лиц» все окончательно запутывает. Ошибочное выражение «Сергий, живущий в Радонеже», акцентируя, дважды употребили послы в устной беседе с Сергием, состоявшейся в монастыре. В письме патриарха этого выражения нет – ни в одной из рассматриваемых редакций. Посланцы патриарха на беседе преп. Сергия с митр. Алексием не были. Откуда же «некий» (многие) узнали об этом выражении, изобличавшем посланцев патриарха в незнании того, что преп. Сергий в Радонеже давно не живет? Бог весть. Но приближенные митрополита с тонкой иронией дважды вставили в свою реплику это выражение, дав тем самым понять, что они сомневаются в осведомленности патриарха относительно преп. Сергия, а, следовательно, и в том, что ему принадлежит инициатива постановки вопроса о введении общежительства в Свято-Троицкой обители. Почему Аноним исключил реплику из своей редакции? Не потому ли, что она порождала сомнение в версии, будто патриарх по своей инициативе направил послание и дары преп. Сергию, и тем самым легко могла привести к раскрытию замысла митр. Алексия и преп. Сергия о введении общежительства в русских монастырях? Отсюда ведь шла логическая цепочка рассуждений о том, что митрополит все обговорил с патриархом, намереваясь его авторитетом усмирить оппозицию общежительству в церкви. Значит, оппозиционеры были достаточно сильны, что и подтвердилось, когда в Свято-Троицкой обители несколько лет спустя вспыхнул бунт против Сергия.
Переход от особножительства к общежительству – трудное дело. За 100 с лишним лет монахи на Руси привыкли к жизни легкой и нетрудовой, к жизни с удобствами и услугами. У них сложилась психология индивидуалистическая: все было «особь», кроме общих церковных богослужений. Переход к общему житию требовал преображения сознания. Возникала община, коммуна, где все было коллективным: имущество, труд, кельи. Богатые и бедные уравнивались в правах. Психологические и организационные трудности возрастали оттого, что в Византии этого времени все монастыри были особножитными. Те, кто обдумывали создание общежительных монастырей на Руси, ясно сознавали многотрудность отказа (пусть постепенного) от сложившейся традиции особножительства.
Свято-Троицкий монастырь более всех других подходил для первого опыта создания общего жития монахов:
1) Сергиев устав, допускающий жизнь монахов в отдельных кельях и их материально-финансовую самостоятельность, вместе с тем понуждал монахов к общему труду в монастырском огороде, в заготовке дров, к личному физическому труду при постройке келий и обеспечении себя водой, к полному самообеспечению продуктами питания (нищенство было запрещено настоятелем);
2) Сам Сергий высоко чтил древних основателей общежительства в египетских монастырях и на Руси;
3) После прихода архимандрита Симона на Маковецком холме установилась двенадцатичленная монашеская община, явно подражавшая апостольской общине Христа, в которой, как известно, была общая казна и подлинно братские взаимоотношения;
4) Сам настоятель Свято-Троицкого монастыря был после довательным приверженцем Христа во всех отношениях, в том числе в образе жизни (трудился и одевался, как чернец, ни в чем от монахов не особился).
Все это в совокупности создавало хорошие предпосылки для возобновления общего жития именно в Свято-Троицком монастыре, предопределяя его выбор для начала трудного монастырского эксперимента. Так митр. Алексий и игумен Сергий оказались единомышленниками в проведении принципиально важной монастырской реформы на Руси, встретившей, как и ожидалось, сильное сопротивление и потому растянувшейся на многие-многие десятки лет. Руководство церкви на Руси имело веские основания для того, чтобы, подкрепляя свои усилия, заручиться авторитетнейшей поддержкой Константинопольского патриарха, что и осуществил митр. Алексий во время своего первого пребывания в Царьграде. В этот замысел был, видимо, посвящен епископ Афанасий, который в спешном порядке принял Свято-Троицкий монастырь и его настоятеля в лоно церкви как раз тогда, когда Алексий был в Царьграде.
Если под этим углом зрения посмотреть на приезд посланцев патриарха Филофея к Сергию и на все последующие его поступки, то не странными, а обдуманными, четкими представятся они нашему мысленному взору. После возвращения митрополита Алексия из Константинополя он сам или кто-либо из его доверенных лиц посвятили в свой замысел реформы игумена Свято-Троицкого монастыря преп. Сергия и, конечно, получили его согласие на это. Он знал (и это позднее подтвердилось), что в монастыре есть потенциальные противники общего жития.
Вот почему Сергий, приняв посланцев патриарха действовал быстро и энергично: ему надо было выиграть время. После беседы у митрополита он «тотчас же возвратился в свои монастырь и велел позвонить в било». Рассказав монахам о послании патриарха и беседе у митр. Алексия, Сергий спросил их: «Что вы об этом думаете?» Монахи высказались «за». Но единодушия среди них не было: «некоторые недостойные... ушли из монастыря» (ПЛДР, с. 363).
Преп. Сергий безотлагательно принялся за «устроение» общежительства: «...распределил братию по службам: одного – келарем, другого – поваром, некоторых – пекарями, иных – прислуживать больным. Повелел он также: никому и ничем не владеть, ни малым, ни большим, ничего не называть своим, но все иметь общее» (с. 363, выделено мною. – А.К.). Очень скупы на слова Пахомий и Аноним, когда речь заходит о порядках, установленных преп. Сергием в киновии. Но все же главное сказано, причем такое главное, которое останется характерной особенностью устава Свято-Троицкого общежительного монастыря: 1) всеобщий труд на основе сотрудничества; 2) отказ от собственности как малой, так и большой. Под «большой» надо иметь в виду недвижимую собственность монастыря, прежде всего, именно ее – какая же «большая» собственность могла бы еще быть у монаха?
Многого не назвали агиографы, говоря о распределении труда, но среди перечисленных служб необходимо отметить «прислуживание больным» (у Пахомия этого упоминания нет) как послушание, для выполнения которого от монаха требовалось и смирение, и терпение, и полное забвение своей выделенности из мира: ведь речь, как явствует из дальнейшего рассказа, идет не только о больных братьях, но и о больных нищих, о больных странниках. Эта служба предъявляла к монашескому послушанию требование подлинной самоотверженности.
В некоторых списках и изданиях «Жития», в том числе в издании арх. Леонида, рассказывается о широкой благотворительной деятельности монастыря. Была построена для нищих и больных странноприимница. Преп. Сергий придавал особо важное значение постоянной заботе о несчастных, связывая с ними благоволение Бога и дальнейшее процветание монастыря. Аноним образно сказал об этом так: «...была рука его раскрыта для нуждающихся, как река полноводная с тихим течением» (ПЛДР, с. 369). Однако далее агиограф весьма расширительно толкует заповедь преп. Сергия о помощи тем, кто действительно нуждался в ней. Отметив, что она соблюдается и «до сих пор» (с. 369), т. е. до 20-х гг. XVI в., агиограф пишет: «Так как монастырь лежал на распутье дорог, то князья, и воеводы, и воинство бесчисленное, – все получали подобающую, достаточную, справедливую помощь, словно из неисчерпаемой кладовой, и, отправляясь в путь, получали в нужном количестве необходимую пищу и питье» (ПЛДР, с. 369). Кладовая, разумеется, не была бездонной, и потому благотворительная щедрость по отношению к богатым и к государству (воины) ограничивала возможности помощи больным и несчастным. Таково было явное нарушение Сергиева завета. Оно не случайно.
После смерти Сергия Свято-Троицкая обитель постепенно стала богатым землевладельцем и свои огромные доходы получала от труда крестьян, что было отказом от важнейшего принципа нестяжательного общежития, утвержденного преп. Сергием. Помощь богатым и воинам, находящимся на содержании князей или бояр, становилась по сути дополнительным монастырским налогом на несчастных крестьян-христиан, благодаря которым монастырское начальство имело возможность щедро орошать и питать из «полноводной реки» тела сильных мира сего. В итоге подлинно христианская заповедь Сергия искривлялась. Извращенное понимание и применение завета Сергия оказывало вреднейшее влияние на духовно-нравственный облик самих монахов, ставя их в положение господ по отношению к крестьянам, нарушителей завета о любви к ближнему.
Тот тип общежительного монастыря, который был в 1355–1356 году воплощен в Свято-Троицкой общине, положил начало тихому перевороту уклада монашеской жизни на Руси. Основной формой служения Богу и главным путем спасения души становился труд, а не молитва. И этот труд делился на три части: первая – Богу, вторая – общине, третья – несчастному ближнему. И во всем была личная доля каждого монаха. В корне изменилось понимание духовного самосовершенствования, так как теперь оно было неотделимо от сотрудничества монахов и помощи ближнему. Значение хозяйственного устроения обители выходило за монастырские стены: в нем был заложен великий всемирный образец, принципиально новый подход к ведению хозяйства вообще. В нем был заложен зов к переустройству жизни по Христу, и воссозданы были ее древние духовные и организационные основы:
1) искренняя любовь к Христу и ближнему в их неразрывном единстве. Живым примером единения в любви, вере и труде был игумен, «учитель и делатель»;
2) все монахи, члены общины – духовные братья с равными правами и обязанностями, возложенными ими на себя по доброй воле;
3) община духовных братьев есть сотрудничество на основе кооперации и разделения труда между ними, от послушника до игумена включительно;
4) отказ от всяческого стяжания, от владения собственностью, как движимой, так и недвижимой. Основа жизнеобеспечения общины – личный труд каждого;
5) к Общему Благу относится и содержание странноприимницы;
6) разумное самоограничение потребностей членов общины; крайние формы аскетизма не поощряются, но и не запрещаются.
Существование Свято-Троицкой духовной, трудовой киновии было вызовом Церкви – и практическим, и теоретическим. Этот вызов вначале осознавался далеко не всеми деятелями церкви. Именно преп. Сергий заложил фундамент для борьбы нестяжателей и стяжателей (XVI в.), предвосхитил движения по созданию трудовых общежитий, возникавших на основе учения Феодосия Косого, староверчества, духовных христиан. Принципы построения этих трудовых коммун в главном были те же самые, что и принципы Свято-Троицкой общины [113]. Не имеет значения, сознавали или не сознавали руководители позднейших коммун свое родство с Сергиевой духовной трудовой общиной.
Такая община имела предшественников: в буддийских и древнеиноческих монастырях (преп. Пахомий, Василий Великий и др.) и в индийских ашрамах, а на Руси – Киево-Печерскую лавру, правда, с одной оговоркой: в ней не возбранялось владение недвижимой собственностью. Следовательно, Киево-Печерский монастырь нарушал традицию древнеиноческих монастырей, а вместе с нею и завет Христа о любви к ближнему. Ведь монахи монастыря, владевшего землями, промысловыми угодьями и пр., были коллективным господином, а крестьяне вообще работники во владениях монастыря – его холопами.
В Свято-Троицкой обители ни игумен, ни послушник не имели правовых и экономических преимуществ перед мирянами, и потому соблюдение или несоблюдение заветов Христа было делом совести каждого монаха. Монастырь был огражден забором, но забор не изолировал его от окружающей жизни, и люди знали, что жизнь и труд в монастыре строятся на принципиально иных основах, чем жизнь и труд монахов-келлиотов. Свято-Троицкий монастырь не навязывал своих принципов жизни, но само их существование и укрепление тревожило сознание людей: для одних оно было предерзостным вызовом и даже подкопом под порядки особножитных монастырей, для других заманчивым приглашением к новой, чистой жизни во Христе. Свято-Троицкая обитель была духовным оазисом, и преп. Сергий был в нем родником духовной силы.
Итак, с одобрения константинопольского патриарха Филофея и по инициативе и при поддержке митрополита всея Руси Алексия в Свято-Троицком монастыре впервые на Руси учреждено нестяжательное общежительство. Свершилось событие исключительного значения. Читатель предвкушает духовную трапезу, т. е. обстоятельный, неторопливый рассказ о том, как общее житие способствовало духовному самосовершенствованию монахов, служению Богу и ближнему, спасению души. Но читателя ждет глубокое разочарование. Этой теме в дошедшем до нас «Житии Сергия» не посвящено ни одной строки. Об общем житии написано очень мало: кратко о новых порядках и о странноприимнице (не во всех изданиях). О тридцати семи годах деятельности уникального духовного сообщества людей под руководством величайшего Святого Руси в «Житии» едва ли наберется страничка текста! Причем эта страничка отнесена к начальному периоду бытия. Все остальное, десятки страниц, – о другом! О бунте в Обители, об устроении других монастырей, о новых «чудесах», о явлении Пресвятой Богородицы (замечательный рассказ) и прочем, но не об общинной жизни монахов, не об их проблемах и достижениях на пути духовного восхождения под руководством Сергия. Родник Сергия столетия питал общественное движение на Руси, монашескую колонизацию русского Севера (и об этом написано много книг), но о самой Общине – родоначальнице, о ее бытии в течении 37 лет написана одна страница. Немыслимо, но это так. Так надо было! Кому? Если б церковь хотела, если б агиограф хотел рассказать о духовной деятельности Сергия по воспитанию общинников, об их (и Сергия) духовном воздействии на народ – кто бы мог помешать им, церкви и агиографу? Некоторые духовные писатели видят этот зияющий провал в «Житии Сергия» и спешат прикрыть его, увести читателя от размышлений: «Но это сказано о делах, а житие об этом пространно повествовать не должно» (ПЛДР, с. 368). Но ведь обо всех делах общины, а, значит, и Сергия, и о духовных, в первую очередь, ничего не рассказано в «Житии», кроме того, что уместилось на одной страничке. В лучшем случае. В популярном издании 1904 г. (переиздано в 1990 г.), составленном архимандритом Троице-Сергиевой Лавры Никоном, рассказывается о хозяйственных порядках Общины, о должностях начальствующих монахов и прочем, но о внутреннем мире монахов, о духовно-нравственных устремлениях и заботах самого Сергия написано очень мало. Да и откуда арх. Никон мог взять необходимые сведения, если их нет в сохранившихся редакциях «Жития»? В издании Колесова В. В. (1991 г.) нет даже рассказа о странноприимнице, а глава «О введении общежития...» заканчивается всезаменяющей и неточной строкой: «С тех пор и до сего дня устанавливается общежительство – во славу Святой Троицы» (с. 69). После этой строки в «Житии» нет ни слова об общежительстве. Значит, эта тема исключена вполне сознательно. Кем? Епифанием? Наверное, не им, а редакторами протографа: Епифаний с благоговением относился к святому Сергию и ко всем его деяниям.
10.3. Жертва – власть над умами
Если не будет доверия, то сотрудничество превратится в банку скорпионов.
Живая Этика
Проигнорировав почти полностью весь четырехлетний период становления общежительства в Свято-Троицком монастыре, Пахомий и Аноним приступают к краткому сообщению (тексты обеих редакций одинаковы по смыслу) о т. н. бунте Стефана против Сергия: «Не по мнозе же времени пакы въстает млъва. Ненавидяй добра враг, не могый тръпети яже от преподобнаго блистающю зарю, зряй себе уничиждаема от преподобнаго...» (ПЛДР, с. 368). Перевод: «Спустя немного времени снова встает молва: ведь ненавидит враг доброе, не может сносить идущее от преподобного блистающее сияние, не может видеть себя униженным...». Инициатором конфликта назван дьявол. Но он за сценой, а кого он держит за веревочки? Один Стефан, один против всех? Это абсолютно невозможно. Сочинитель не договаривает, и потому конфликт погружен во мглу. Первый неясный вопрос: как понимать выражение «Снова встает молва»? Слово «молва» употреблено здесь в значении «недовольство, ропот людей». До сих пор в «Житии» были три рассказа о недовольстве монахов Сергием: первый о его нежелании быть священником, второй об острой нехватке в монастыре продуктов питания и третий об отсутствии близкого источника питьевой воды. Может быть, агиограф намекает на один из этих случаев? Но почему он тогда пишет, что молва появилась «спустя немного времени»? Все прежние роптания братии на Сергия были еще до его официального утверждения игуменом, т. е. до 1354 года, а нынешнюю молву мы относим к 1358 – 1359 годам. Пять и более лет никак нельзя обозначить словами «немного времени». Единственный возможный ответ мы видим в том, чтобы связать нынешнее недовольство с тайным уходом из Обители «недостойных своего звания монахов» (с. 368) после введения общежительства. Только при таком понимании развития событий в Троицкой обители становится вполне понятной фраза «Спустя немного времени снова встает молва...» Та предшествующая молва, тот ропот недовольства привел к тайному уходу из монастыря «недостойных», которые, несомненно, рассказали о своем возмущении общежительством. Вот почему новая молва была, наверное, молвой не только внутри, но и вне монастыря, и причиной ее было, значит, общежительство.
Упоминание о «враге» (дьяволе), ее вдохновителе, отводит внимание читателя от земных носителей и возбудителей конфликта. Далее автор о «враге» не вспомнит, хотя его помощь была бы очень нужна исполнителям его инициативы позднее, когда замысел «врага» стал терпеть неудачу. Прежде, чем расстаться с «врагом», мы должны отметить еще одно важное обстоятельство. Лишь благодаря его козням, мы узнаем, что в Свято-Троицкой обители после установления общежития дела пошли так хорошо, что «враг» почувствовал себя «униженным», и ему стало невмочь терпеть «идущее от преподобного блистающее сияние». Если б не «враг» и не бунт Стефана и других, то мы так и не узнали бы, что Свято-Троицкая киновия стала процветать, утверждая свою истинно христианскую репутацию. Прямо, от своего имени, агиограф не сказал об этом ни полсловечка, будто это и не имело никакого отношения к подвигу преп. Сергия.
Приходится постоянно быть начеку, чтобы не упустить из виду слона, которого агиограф вдруг начинает превращать в муху и рассказывает о ней подробности. Вот, например, как бы важно было узнать, когда, в каком году завязался конфликтный узел, приведший к антихристианскому поведению Стефана и его сторонников, в каком году случился сам этот скандал в тихой обители, так круто изменивший быт преп. Сергия, но, видимо, нет для этого у агиографов слов. Зато они, будто компенсируя читательское любопытство, сообщают другие подробности, например, что скандал призошел «в субботу, во время пения вечерни», что «Сергий... был в священническом одеянии» (с. 370). Читатель и без напоминания знает, что Сергий был именно так одет, потому что он был в алтаре и вел службу. «Субботу» агиографы «запомнили», а год, когда случилось важное событие в жизни его героя, они не могут вспомнить даже приблизительно, даже по своему излюбленному методу – «это был год, когда пришла рать Ахмыла» или «это было в год, когда умер князь Иван...» и т. д. Зигмунд Фрейд был убежден, что для определения мыслей человека важно знать, о чем он «забывает» сказать из того, что ему надо бы сказать. Ученый был убежден, что это «забытое» забыто пусть не намеренно, но вовсе не случайно, что оно всегда связано с какой-то тайной этого человека. Наш опыт анализа «Жития» убеждает, что хронологическая «забывчивость» агиографа не случайна, как не случайны и многие другие его приемы затуманивания смысла текста.
Слово «молва» в древнерусском языке означало «молву», «смятение, возбуждение умов» и даже «ропот толпы». И тогда, в XVI в., и сегодня ясно, что когда речь идет о молве, имеются в виду многие люди, а не один человек. Именно так и следует понимать фразу агиографа о молве в Свято-Троицком монастыре, которая предшествовала вероломному выступлению Стефана против игумена Сергия. Следовательно, текст «Жития Сергия» не позволяет изображать недовольство многих как бунт одного Стефана, как следствие его раздражения оттого, что Сергий без его согласия дал канонарху книгу и т. п. В молве, понятно, конкретный виновник неустановим. С давних пор и поныне это тайное оружие пускается в ход темными силами на стадии подготовки очередной атаки на доброе и светлое, на то, в чем они усматривают для себя угрозу. Агиограф, как это видно по тексту, не относит людей (кроме Стефана) к инициаторам монастырской междоусобицы, а называет лишь дьявола. Но агиограф проговаривается: «И в помыслы (отметим множественное число. – А. К.) вложил враг – не терпеть старейшинства Сергия» (сс. 368-370, ПЛДР).
С отъездом митр. Алексия в свои литовские епархии (1359 – 1361 гг.) [114] ропот, понятно, усилился, и желание «не терпеть» Сергия в качестве игумена овладело помыслами конкретных исполнителей заговора по его свержению. Идеальной фигурой главаря «бунта» был, конечно, Стефан, который имел все данные, чтобы потом возглавить монастырь (мы предполагаем, что это было ему обещано). Такой кандидатуре обрадуется всякий враг и Сергия, и Руси: дьявол, и монгольский хан, и литовский сосед, и, понятно, прислужники «врага» в церковной и монашеской среде. Не будь за спиной у Стефана и сообщников сильной поддержки – не восстали бы они против решения патриарха и митрополита и не действовали бы так нагло. Тут мы должны привести полный текст, впрочем, недлинной цитаты: «Однажды, это было в субботу, шла вечерняя служба. Игумен Сергий был в алтаре, в священнической одежде, Стефан, его брат, стоявший на левом клиросе, спросил кинонарха: «Кто дал тебе эту книгу?» Тот ответил: «Игумен дал ее мне». Стефан сказал: «Кто тут игумен? Разве я не первый насельник этого места?» И произнес еще кое-что, что было нехорошо. Святой, находящийся в алтаре, слышал это и ничего не сказал. Выйдя из церкви, святой не пошел в келию, но тут же ушел из монастыря, и никто не знал, куда; он же направился в сторону Кинелы» (с. 370). Злоба и зависть слышатся в словах Стефана. Автор признается в нежелании рассказывать то, что еще хуже характеризует Стефана. Знает, но не хочет, и не объясняет, почему не хочет. Впрочем, причина ясна и без комментариев: он блюдет авторитет Стефана, защищает его путь служения Богу. И пренебрегает тем, что своим умолчанием оскорбляет преп. Сергия, которому завистливый Стефан, его союзники и покровители обдуманно нанесли удар в спину – так «отблагодарил» опальный Стефан родного брата за его милосердный прием в Обитель вместе с сыном.
Стефан и его сообщники (их имена агиограф не назвал) тщательно продумали атаку на Сергия. Мы не можем не оценить их комбинаторские способности. Опора Сергия, митрополит Алексий, вмешаться не мог (сидел в литовской тюрьме). В этом был главный козырь заговорщиков. Момент атаки выбран верно: Сергий, служащий в алтаре, вынужден молчать, и Стефан невозбранно мог сказать все, что было заготовлено. Предлог для атаки – пустяковейший, чтобы все, и посвященные и непосвященные в заговор, поняли: дело не в «книге», а в том, что пришло время свергнуть преп. Сергия и что уже есть подходящий кандидат на его место. Оскорбительные лично для Сергия «нехорошие» слова Стефана, о которых умышленно умолчал агиограф, должны бы были разгневать Сергия, вывести его из себя, чтобы зажечь скандал – и тогда пошло-поехало, там включатся силы церковные, сановитые, и они не пойдут против желания монахов вернуться к освященной традиции. В любом случае скандал завершится расколом монахов, развалом монастыря на виду у всей Руси. В любом случае скандал нужен темным и не нужен светлым силам. Наглость Стефана поразительна. И эта наглость – бесспорное свидетельство, что перевес сил был на стороне Стефана. Он идет напролом: я – игумен, я – основатель монастыря, хотя монахам известно, что он не игумен этого монастыря и не основатель, что он сам когда-то ушел от Сергия, оставив его одного «на месте сем». Ответ преп. Сергия был неожиданным и решительным. Он покинул монастырь и, никому не сказав ни слова, ушел неизвестно куда. Один. Не было ли такое решение преп. Сергия верным с точки зрения Учения Христа? Аноним занял хитроумную позицию: одобряя уход, он в то же время тонко, непрямо укоряет преп. Сергия за то, что он, «пастырь», оставил пасомых овечек, а они так любили его, что измучились от страданий... за него. При этом агиограф делает хорошую мину при плохой игре, и делает это профессионально. Чтобы оценить по достоинству изобретательные извивы авторской мысли, мы должны очень внимательно отнестись к каждому его слову. Игра начинается таким образом: «Сергий же (заметьте этот редчайший в «Житии» случай употребления имени без всякого эпитета, пример тонкой, невысказанной укоризны Сергию. – А. К.), как мы раньше сказали, ушел из монастыря и не был найден» (с. 370). Раз «не был найден», значит, его кто-то искал, но не нашел, хотя Аноним не сказал, кто и почему искал. Это были поиски по доброй воле, потому что следующие за ними будут по приказу. «Тогда ужасошася зело и распустивше повсюду братию искати его: овех по пустынях, овех же въ град. Не бо тръпяху таковаго пастыря разлучитися» (с. 370). Перевод: «Тогда (после того, как Сергий «не был найден». – А. К.) испугались очень и распустили повсюду братию искать его: одних – по лесам, других – по городу. Ведь они не выносили разлуки с таким пастырем». Кто же эти они? Догадайся, читатель, сам. Вероятно, те, кто пошли искать. Переводчики «Жития», изданного в ПЛДР, написали «все весьма встревожились и отправили повсюду братию...» (с. 371), добавив за автора слово «все» и не заметив того, что добавление обессмысливает текст: все не могли распустить братию на поиски – это мог сделать только игумен, а в его отсутствие тот, кто стал вместо него, то есть, наверное, завистливый Стефан. Но почему агиограф употребил множественное число глаголов «ужасошася зело и распустивше»? Снова читатель обречен на выстраивание догадок, то есть поставлен агиографом на зыбкую почву.
Логично будет, думается, предположить, что Стефан не был еще утвержден игуменом, и в сумятице первых бунтарских дней, осложненных исчезновением Сергия, монастырем управляла группа заговорщиков во главе со Стефаном. Они взяли на себя коллективную ответственность за события и их последствия, потому-то, вероятно, агиограф и употребил глаголы «ужаснулись и распустили» во множественном числе, которое для нас стало верным грамматическим свидетельством того, что он знал о своеобразии временного управления монастырем и потому невольно проговорился. По точному смыслу фразы те, кто распустили, те и ужаснулись, те и «не выносили разлуки», но все дело в том, что не может быть строго определенного смысла в заведомо туманной фразе. Можно ведь агиографа понять и по-другому: ужаснулись не только те, кто распустили братию, но и другие насельники монастыря, то есть вся братия, и что они же и не могли вынести разлуки со своим пастырем. Можно понять и так, и эдак, подождем, однако, делать окончательный вывод, посмотрим, куда Аноним поведет нас.
Один из монахов, отправленных на розыски Сергия узнал, что он «ушел в дальнюю пустыню», намереваясь «основать там монастырь» (с. 370). Монах «очень обрадовался» такой вести. С этого места «Жития» все начинают бурно радоваться, словно отражая радостное состояние души агиографа, нашедшего то самое золотое слово, которое ему было необходимо для характеристики преобладающего настроения, возникшего в связи с установлением местонахождения преп. Сергия. Этот монах «...от радости хоте ити къ святому; но абие пакы възвращается в монастырь, яко да и братию утешит от скръби, еже за святого. Братиа же яко слышавше о святемь, зело възрадовашеся, и начата приходити къ нему овогда два, овогда три, овогда и множае» (с. 370). Перевод: «от радости хотел идти к святому (преп. Сергий снова величается «святым». – А. К.), но неожиданно тут же возвратился в монастырь, чтобы утешить братию, скорбящую о святом. Братия же, как только услышали эту весть о святом, очень обрадовались, и начали приходить к нему – иногда по двое, иногда по трое, иногда и в большем количестве». Эта подчеркнутая мною формулировка, которая впервые была употреблена агиографом, когда речь шла о приходе в лесную пустыньку к отшельнику Сергию монахов из других монастырей, снова повторяется в слегка измененном виде. Тогда она означала, что лед тронулся, и некоторые, наиболее смелые монахи, не удовлетворенные служением Богу в удобножитных монастырях, стали время от времени уходить оттуда и приходить на Маковец. И прежняя формулировка вспомнилась агиографу не случайно, а по аналогии: как тогда, так и теперь речь идет не о массовом исходе монахов, а о небольших групповых переходах из монастыря в монастырь. Формулировка ухода подтверждает то, что следует из заговора против Сергия, из бесцеремонного поведения Стефана, из того факта, что после скандала далеко не все монахи перешли к Сергию: у Стефана было немало сторонников, и они не помышляли уходить из монастыря.
Хорошо ли оставлять овечек без пастуха? Ясно, что плохо. Волки съедят их. Следовательно, плохо, не по-христиански поступил Сергий, оставив монахов, страдавших от разлуки с ним, без своего руководства, на растерзание мысленному волку, дьяволу, – к этому выводу и подводит агиограф читателя, избегая при этом отрицательных высказываний о Стефане-враге. Много позднее иерархи православной церкви нашли такое объяснение уходу Сергия от паствы, которое полностью, по их мнению, обезвреживало заложенный в этом поступке дух непослушания церковному закону. «Но вот что недоуменно: почему не вразумил он брата по долгу игумена? Как, за одного человека, оставил всю братию и служение, в которое поставлен священною властью?.. Есть особенные пути святых... пути, пред которыми все должны благоговеть, поелику они особенною благодатию Божиею управлены и оправданы в своих последствиях, но по которым не всякий имеет право последовать, потому что было бы дерзновенно, если бы каждый стал приписывать себе ту же благодать. Таков случай теперь рассматриваемый» [115]. Мысль митрополита московского Филарета, высказывание которого мы здесь привели, просто и имеет обобщающее значение: Святой – исключение из правила, несвятые, т. е. почти все, не могут ему подражать. На самом деле нет даже и этого «почти»: ни один подвижник не утверждался святым при жизни, значит, все должны повиноваться церковному закону. Казалось бы, напротив, Святой для того и приходит в мир, чтобы другие брали с него пример и улучшали себя и свое поведение. Ан нет! Что уж тогда говорить о подражании Христу! Забытым оказалось его поучение, что «Я есть путь» (Ин. 4:6). Но мысль митр. Филарета не блещет оригинальностью. За триста лет до него автор «Жития Сергия» внедрял эту мысль в сознание читателя, но, не прямо, не в лоб, как митр. Филарет, а окольным путем. Агиограф капля за каплей, методично внушает, что преп. Сергий – исключение, и что, следовательно, с него нельзя брать пример обыкновенным подвижникам, но нельзя его и осуждать за что бы то ни было, так как он Святой... Есть ли в прикровенной укоризне агиографа, адресованной «пастырю овечек» Сергию, хотя бы малая толика правды? Не лучше было бы для пользы дела применить власть и удалить зачинщиков из монастыря? Чтобы правильно понять поступок преп. Сергия, надо ясно представить себе противоречивость ситуации, в которой он был сделан, и помнить об отношении Сергия к власти и к жертве. Вопрос о применении или неприменении власти – главный вопрос всего конфликта. Если бы преп. Сергий применил власть, то даже в случае победы (это, на мой взгляд, было маловероятно в отсутствии митрополита Алексия) он потерпел бы серьезнейшее духовно-нравственное поражение. Он сам разрушил бы свой идеал власти – жертвы, дискриминировал бы саму идею жертвенного служения Богу и ближнему. Преп. Сергий не мог не видеть, что применение власти против родного брата неминуемо вело к разжиганию страстей, ставило конфликт в один ряд с политическими усобицами. Что могло быть желанней для врагов единства Руси, от хана до дьявола, чем отравление атмосферы в духовной области, до сих пор не затронутой братовраждебной борьбой за власть? Применение власти преп. Сергием привело бы к расследованию конфликта соответствующими органами церковной власти, а расследование превратило бы Свято-Троицкую общину в полицейский участок, погубив в накипи страстей все возможности самостоятельного осознания монахами подлинных причин конфликта и личной ответственности каждого за его возникновение. К великой радости лукавого врага рода человеческого, возбуждение страстей положило бы конец духовному самосовершенствованию многих, ибо «рост духа не терпит насилия» [116]. Оно положило бы конец и духовной трудовой общине, так как ее смысл в едином помысле о развитии мира. Думается, что именно на такое завершение конфликта рассчитывали его инициаторы и исполнители. Зная настроения среди монахов, они надеялись, что большинство предпочтет легкую жизнь трудовой, встанет на их сторону, и тогда по их волеизъявлению обитель вернется к особному житию. Тем самым будет нанесен сильнейший удар по всем будущим киновиям на Руси и лично по Сергию Радонежскому.
Отказ от применения силы предоставил души честных монахов грызущей работе совести, а души заговорщиков – разъедающему действию империла. «Зло возникает вместе с империлом, но этот яд может дать лишь первую очень сильную вспышку. Затем он переходит в разложение и постепенно разрушает своего же нородителя... Потому так советую выдержать первый натиск зла, чтобы предоставить его собственному пожиранию, ...но только полное сознание может ободрить противостояние злу. Полезно помнить это и собрать не только силы, но и терпение, чтобы побороть уже сужденное к разрушению» [117]. Преподобный Сергий действовал в полном согласии с этим советом Учителя. Если воинственный натиск Стефана опирался, как мы полагаем, на веру в теневую поддержку церковной власти, то решительные, ответные действия Сергия опирались на веру в поддержку Небесной Светлой Иерархии – только в Ней была гарантия его победы.
Истинной жертвой для Сергия был не отказ от власти, а отказ от результатов своего многостороннего самоотверженного труда, вложенного за долгие годы в создание Обители, от учеников, близких ему по духу. Главное оправдание его ухода в том, что он поступил так в силу необходимости, что в его распоряжении не было иного достойного выхода из создавшейся ситуации. Применить власть и вступить в борьбу со Стефаном и его сообщниками, как мы показали, он не считал целесообразным. Остаться и молча смириться с узурпацией его власти – означало бы содействовать злу. Так поступить он тоже не мог. Призвать своих сторонников немедленно уйти вместе с ним, чтобы основать новый монастырь, он, думается, также посчитал нецелесообразным: он «как бы налагал новое испытание на свою духовную паству, чтобы тем ярче выявить негодных и отобрать лучший элемент...» [118]. Возможно, что он к тому же считал неверным влиять на чью-либо свободу выбора: в накаленной атмосфере любое слово могло стать искрой для разжигания страстей, последствия которых трудно предсказать.
Преп. Сергий не просто отказался от применения силы, сложив руки на груди, самоустранившись от борьбы с силами тьмы. Напротив, он занял активную, творческую позицию противления злу, но не насилием, а добрым делом энергичного строительства нового общежительного монастыря. «Агни Йога есть доброслужение» [119].

Вы ставите светоч – и немедленно из тьмы устремляется к нему множество насекомых. Вы утверждаете психическую энергию – и немедленно к ней прикладываются различные обстоятельства, малые и великие, дальние и близкие... Явите стремление к будущему – и многие силы невольно послужат вам.
Живая Этика
Киржачский этап в восхождении духа Сергия весьма знаменателен. Со всей ясностью обнаружились его глубокая убежденность в своей правоте и непреклонная воля в отстаивании своих взглядов, – с принятием всей полноты ответственности на себя. Одно дело в двадцать восемь лет идти на подвиг отшельничества, другое – в сорок пять повторять его, отказавшись от главного своего творения, монастыря Святой Троицы. Самоотверженный поступок преподобного Сергия ясно показал, что дух его мудр, бесстрашен и тверд в достижении поставленной цели, и потому Сергий нашел оригинальный путь разрешения сложного конфликта.
По дороге на р. Киржач преп. Сергий переночевал, как в далекой юности, под небом, и утром пришел в монастырь к Стефану Махрищскому. От Стефана-предателя, родного брата, пришел к Стефану-другу, но вообще не родственнику, пришел в беде и получил от него помощь, какую просил. Не только на Руси так бывает сплошь и рядом, но и всюду на Земле – ведь и Христос не с братьями по крови, а с братьями по духу вышел на борьбу за новую веру и новую жизнь. Тем самым было заповедано духовное родство ценить выше родства кровного.
11.1. Обитель в честь Богородицы-Владычицы
Многие препятствия вызываются нашим стремлением. Тот же процесс привлекает к нам неожиданные части противоположной силы. Будут они очень сильны – тогда и наш удар развивается соответственно. Главное, чтобы встречные токи были сильны, ибо тогда происходит наше воспламенение.
Живая Этика
Вместе с монахом, которого дал Сергию игумен Стефан Махрищекий, «обошли они много мест, пока, наконец, нашли вид очень красивый. Была и река поблизости, называвшаяся Киржач» (с. 370)*. Красота (кто бы подумал это?), красота, прежде всего, предрешила вопрос о выборе места основания нового монастыря, который и «поныне там стоит» (с. 370). Сергий, не теряя времени, энергично берется за новое дело. Как и в молодые годы, он начинает с постройки келий, чтобы «в них принимать покой от великого труда» (с. 370) – такой сладкоречивой фразой спешат агиографы позолотить пилюлю, словно за «покоем» и пришел сюда преп. Сергий. «Потом он посылает двух своих учеников к всесвятейшему митрополиту Алексию, прося благословения на основание церкви. И получив благословение, немедленно начинает возводить церковь» (с. 370). Как понять это сдержанно-деловое сообщение? Преп. Сергий почему-то не пошел к митрополиту сам, а послал двух учеников, просто «учеников». Так поступить преп. Сергий не мог – и не только потому, что по церковному этикету ему надлежало идти к митрополиту, но и потому, что митрополит и он были единомышленниками в новом деле введения общежительного устройства монастырей. А еще и потому, что у Сергия была единственная возможность рассказать митрополиту о бунте в Свято-Троицкой обители. На самом же деле митрополит в это время находился не в Москве, а в литовской тюрьме, косвенное подтверждение чему мы видим в умолчании агиографа о том, кем было дано благословение на строительство церкви. Неужели митрополит одобрил бы уход Сергия, спокойно дав благословение на постройку церкви во вновь создаваемом монастыре, словно и не произошло чрезвычайного происшествия в старом? Мы уверены, что он решительно изгнал бы Стефана и других заговорщиков из Сергиева монастыря, чтобы Сергий с Киржача мог вернуться на Маковецкий холм. Поступая же так, как изображает дело сочинитель, митрополит изменял себе, подрывая свой авторитет. Невозможно представить, что за необходимость могла бы заставить его пойти на это, будь он в Москве. Кроме того, ему ведь было ясно, что он нанес бы таким поступком тяжкую обиду преп. Сергию. В изображении сочинителя получается, что митрополит принял сторону Стефана, но как можно подумать, что глава русской церкви пошел против важнейшего начинания, одобренного им самим и согласованного с патриархом Константинополя? Нет, этого не могло быть. Последующая история взаимоотношений Сергия и митр. Алексия также подтверждает наше категорическое «нет».
Только одну глухую строку отвели агиографы для сообщения об отношении митр. Алексия к просьбе Сергия об основании церкви, но двадцать строк – строительству церкви, в том числе десять – молитве Сергия перед ее заложением. Молитва весьма показательна для характеристики душевного состояния, умонастроения Сергия – в понимании агиографов. Интересна молитва и в литературном отношении как пример новой формы приуподобления. Приводим ее текст: «Господи Боже сил, иже древле Израиля многыми уверивый великыми чюдесы и законодавца своего Моисея многыми и различными известивъ знаменьми, иже Гедеону руном образъ победы показавый! Сам ныне, Владыко вседетелю, услыши мене, грешнаго раба Своего, молящегося Тебе! Прими убо молитву мою и благослови место се, его же благоизволи създатися въ славу Твою, в похвалу же и честь Пречистыя Ти Матере, честнаго ея Благовещениа, да и в томь всегда славится имя Твое, Отца, и Сына, и Святого Духа» (с. 370). Перевод: «Господе Боже сил, древле Израиль обративший к вере многими великими чудесами и законодателю своему Моисею давший многие и разнообразные знамения, Гедеону с помощью руна победу предсказавший! Ныне Ты Сам, Владыка вседеятельный, услышь меня, грешного раба Твоего, молящегося Тебе! Прими же молитву мою и благослови место сие, которое Ты соблаговолил создать во славу Твою, в прославление и в честь Пречистой Твоей Матери, ее честного Благовещенья. Да и тут пусть всегда славится имя Твое, Отца, и Сына, и Святого Духа!» (с. 370). Главный смысл приуподобления в том, что Сергий будто бы молит дать ему победу над врагами, посрамить их, как были посрамлены враги Моисея и Гедеона. Смысл молитвы еще и в том, чтобы Бог дал Сергию для поднятия его духа чудесное знамение о том, что Сергий, в конце концов, победит своих врагов.
Приуподобление ясно показывает, что оба агиографа оценивали бунт в Троицком монастыре не как случай или вспышку внезапного гнева Стефана, а как акт борьбы давних и сильных врагов Сергия против нового начинания – общежительства. Поскольку агиографы увязали в единой молитве приуподобление со строительством церкви Благовещения, то тем самым самой церкви придается значение постоянного, зримого символа победы, подобного руну Гедеона – символу его решительной победы над врагами.
«Новые возможности растут на понимании проявленного» [120]. Создание Киржачского монастыря шло ускоренным темпом: «Множество людей приняло участие» в строительстве, «и монахи, и миряне, – одни келий рубили, другие делали разные необходимые дела. Иногда приходили и князья, и бояре, вносили значительные вклады серебром на устроение монастыря. И таким образом Благодатию Божией церковь была построена» (с. 372). За восемнадцать лет (с 1342 г.) как изменились люди, а, значит, и время! Сергий, уйдя, как иногда говорят, в добровольное изгнание, не только не оказался в одиночестве, но получил такую помощь, о которой он вряд ли и мечтал. Эта помощь стала, по сути, первым знамением Бога о конечной победе Сергия над врагами, а для них, для понимающих, поучительным примером деятельной любви к Сергию в разных слоях народа, а, может, еще и тревожным знаком ожидающего их поражения. Сколь утешительна была для Сергия такая помощь! Мы можем себе представить ныне, что две причины подвигли мирян на это дело: далеко распространившаяся слава об истинном подвижничестве Сергия и отзывчивый характер русского человека. Сергию так помогали потому, что он оказался в беде, весть о которой разносили его ученики-единомышленники, ушедшие из обители. Но почему же не было помощи от церкви, ведь преп. Сергий был игуменом, утвержденным официально? Потому что тот, кто остался вместо митрополита Алексия во главе церкви, был, вероятно, против такой помощи, так как поддерживал Стефана и его сообщников. Иного ответа мы не находим. В этом мы видим еще одно подтверждение того, что заговор в Свято-Троицком монастыре относится ко времени литовского пленения митр. Алексия, а не к 70-м гг., как считают многие исследователи.
Конечно, келии строились прежде церкви: надвигалась зима. Церковь же можно было строить и в зимнее время. Освящение церкви должно было привлечь и мирян, по крайней мере, тех, кто участвовал в ее воздвижении, в строительстве келий, и тех, кто жертвовал деньги. Сергий не мог не пригласить их. Как жаль, что об этом знаменательном, радостном событии в жизни Сергия агиографы не сообщили ничего! Рассказывая о возведении монастырских строений, вообще о материальной стороне дела, агиографы не преминули упомянуть о князьях, боярах и даже о том, что их вклады были сделаны серебром, а о духовной сути события, об освящении церкви во имя Богородицы, т. е. о самом главном, не сказали ни словечка. Мы не можем упрекнуть агиографов в грубом неумении отличить малое от великого, и потому предполагаем, что у них были веские основания для того, чтобы умолчать о главном, вытеснив саму мысль о нем из сознания читателя путем ее замещения подробностями о малом.
Создание нового общежительного монастыря в пятидесяти верстах от прежнего стало первым важнейшим итогом драматических событий в обители Святой Троицы. С точки зрения Стефана и его сторонников получилось совсем не то, к чему они стремились. Преп. Сергий оказался во главе новой киновии, в короткий срок построенной солидарным трудом монахов (видимо, перебежчиков из Свято-Троицкой обители) и мирян, при участии некоторых бояр и даже князей. В итоге получилось, что преп. Сергий не поражение потерпел, а одержал новую победу. «Когда тверд ход, тогда благотворны противодействия» [121]. Оказалось, что он вернее заговорщиков оценил ситуацию в Свято-Троицкой обители, а, главное, настроение и симпатии общества. Вот тогда-то и должны были снова призадуматься противники Сергия и их вдохновитель, «враг».
Сколько времени прожил преп. Сергий в Киржачском монастыре? Точно неизвестно, предположения разные – от года до четырех. Предание, о котором сохранилось упоминание в Краткой Истории управления Благовещенского Киржачского монастыря, говорит: «около четырех лет» [122]. Можно обосновать этот срок. Митрополит Алексий отсутствовал в Москве около 3-х лет. Чудом освободившись из заключения (тут вряд ли дело обошлось без помощи Высших Светлых Сил), он вернулся в Москву, вероятно, в начале 1361 года, где его ожидал ворох накопившихся государственных и церковных дел. Приведение их в порядок заняло определенное время. На каком-то этапе у него дошли руки и до Свято-Троицкой обители, и он дал соответствующие поручения и получил затребованные сведения. Тут он, несомненно, решил вмешаться и вернуть преп. Сергия в обитель. «Житие» представляет его инициативу как следствие, как ответ на ходатайство «множества братии», среди них «некоторые (значит, меньшинство. – Л. К.) были от монастыря Святой Троицы» (с. 372), то есть надо понимать это упоминание буквально: от монастыря, в котором игуменом был узурпатор Стефан, брат Сергия, а не так, что этими «некоторыми» были также и монахи, обитавшие в это время в Киржачском Благовещенском монастыре. Вероятно, были и эти монахи, но они входили в состав недифференцированного большинства депутации ходатаев. В «Житии Сергия» приводится речь (как бы коллективная), с которой члены депутации обратились к митрополиту, когда он принял их в резиденции. Конечно, Пахомий сочинил текст этой речи. Поэтому более или менее достоверным мы можем считать лишь сам факт беседы членов депутации с митрополитом Алексием. Судя по речи, в депутации были только иноки Свято-Троицкой обители: «Святой владыка! Тебе ведомо о нашем разлучении с духовным пастырем. Ныне мы живем, как овцы, не имеющие пастуха; священники, и старцы, и святое Богом собранное братство, не вынося разлучения с отцом, уходят из монастыря; и мы также не можем столь долго лишать себя лицезрения святого его вида. И потому если ты соизволишь, Богом данный нам зиждитель, вели ему возвратиться в свой монастырь, пока мы не до конца исстрадались за него» (с. 372). Извитие мысли строго выдержано в речи, но кое-что неложно свидетельствует о реальности. Поскольку митрополит Алексий знал («тебе ведомо» и т. д.) о судьбе Сергия и его обители до прихода депутации, постольку мы вправе предположить, что он, не дожидаясь ее, принял меры по нормализации положения в опекаемом им монастыре. Сергия там не было, а Стефана он уже удалил оттуда – такой смысл содержится, на наш взгляд, в сравнении монахов с овцами без пастуха и в упоминании монахами «священников» среди тех, кто ушли из Обители. Кроме того, в депутации – вопреки авторскому сообщению, предварявшему речь, – не было монахов из Киржачского Благовещенского монастыря: речь составлена только от лица тех, кто разлучился со «святым» и остался без его отеческого руководства. Митрополит Алексий – и святитель, и политик, и дипломат – прекрасно понимал, конечно, что присутствие в депутации монахов из нового Сергиева монастыря было бы понято как прикровенное ходатайство самого преп. Сергия о его возвращении в Свято-Троицкую обитель, значит, как полупризнание им ошибкой своего ухода оттуда – я не употребляю тут более определенных слов «раскаяние», или «признание своей вины». Именно раскаявшимся хотят представить преп. Сергия агиографы, что и проявилось в предварительной характеристике состава депутации и еще яснее обозначится в словах благодарности, которые вложены в уста Сергия, согласившегося (в ответ на просьбу посланцев митрополита Алексия) вернуться в свою материнскую обитель.
Как понять сожаление членов депутации, что «священники и монахи» уходят из Свято-Троицкого монастыря? О тех, кто ушел к преп. Сергию, монахи не стали бы так говорить, молчаливо противопоставлял их себе (противительная частица «убо» тут на месте). Следовательно они имеют в виду всех, переселяющихся в другие монастыри. Теперь отчетливее предстает перед нашим мысленным взором картина постепенного опустения Свято-Троицкой обители после ухода Сергия как следствие непрекращавшихся разногласий между ее насельниками. Стефан со своими сообщниками не смогли консолидировать монахов – и это было еще одним несомненным знаком поражения заговорщиков. Таким образом преп. Сергий одержал две победы – в Свято-Троицкой обители и в Киржачском Благовещенском монастыре. Обе победы – результат мудрого решения и великого труда Сергия. Вместо сдерживания общежительного монастырского уклада получилось расширение его воздействия; вместо междоусобной распри монахов (одних во главе со Стефаном, других во главе с Сергием), на раздувании которой рассчитывали нажить капитал темные силы, им остались в утешение лишь тлеющие угли догорающей ссоры внутри обители, покинутой ее основателем. Возвращение митр. Алексия на Русь погасило надежды темных на разжигание открытого внутрицерковного раздора.
Митрополит Алексий действовал обдуманно и решительно. Он отправил к Сергию двух архимандритов, Павла и Герасима, – и в этом был демонстративный знак его уважения к преподобному: оба порученца имели более высокий сан, чем Сергий. В «Житии» есть намек на то, что Павел и Герасим привезли с собой письменное послание от митрополита всея Руси – митрополит «вскоре направляет двух архимандритов, ...посылая Сергию поучения из Божественного Писания» (с. 372). Ведь не набор же цитат послал святитель Руси? Но его послание не сохранилось. Агиограф, скорее всего, знавший текст послания, не приводит его в «Житии», хотя по своему значению оно, конечно, важнее сочиненной им речи архимандритов, обращенной к Сергию. Наверное, общий смысл послания митрополита был ими сохранен. Их беседа с Сергием, судя по «Житию», проходила втроем, и, значит, носила доверительный характер. Павел и Герасим сообщили преп. Сергию, что митрополит поддерживает его, просит возвратиться в Свято-Троицкий монастырь и заверяет, что «изгонит оттуда» всех, «пакость ти творящих» (с. 372). «Пакость» – вот оценка митрополита предательству Стефана и всех заговорщиков, и такой она была бы с самого начала, если б митрополит находился в Москве, когда это предательство свершилось. И не пришлось бы тогда агиографу сочинять версию о благословении, якобы данном митрополитом на постройку церкви в Киржаче.
В речи архимандрита есть еще одно интереснейшее место: митрополит просит Сергия – «...но только не ослушайся нас» (с. 372). Судя по просьбе, митрополит опасался, что преп. Сергий, будучи глубоко оскорбленным отношением к нему церковных властей, откажется возвратиться в обитель Святой Троицы. Митрополит, наверное, имел основание так думать. Неожиданное подтверждение его опасения мы находим в тексте «Жития Сергия». Когда архимандриты сообщили митрополиту Алексию о согласии преподобного возвратиться в Свято-Троицкую обитель, то митрополит, «услышав это, очень обрадовался... (многоточие наше. – Л. К.) и вскоре послал священников. И они тут же освятили церковь во имя Благовещения Пречистой Владычицы нашей Богородицы...» (с. 372). Вот, оказывается, как развивалось дело с мнимым прежним благословением митрополитом Алексием этой церкви. Благословение в его отсутствие кем-то было дано, церковь вскоре была построена, а священников, которые должны были ее освятить, забыли послать. И стояла церковь года три неосвященная. Можно ли ждать от агиографа лучшего свидетельства недоброжелательного отношения к Сергию тех, кто управлял русской церковью без митрополита Алексия в 1358 – 1360 годах? Конечно, митрополит понимал, сколь оскорбительным, и притом незаслуженно, было пренебрежение к Сергию со стороны церкви, понимал, что у Преподобного была причина для обиды на того, кто исполнял обязанности Алексия. Вот пониманием-то, на наш взгляд, и было продиктовано опасение митрополита, что преп. Сергий может не послушаться и не вернуться в Свято-Троицкую обитель. Тут митрополит ошибся – все же он недостаточно хорошо чувствовал душу Сергия и его святое отношение к делу своей жизни. Обида... – преп. Сергий был выше такого малодушного чувства; он принимал жизнь, мир таким, какие они есть, спокойно, мудро и смиренно перенося и отражая все нападения темных сил: от дьявола и недоброжелательных властителей церковных до их вольных или невольных приспешников.
Как же внимательно надо читать хитроумный текст «Жития»! Вот и мы, много раз прочитав его , не вдруг осознали композиционную уловку автора, отделившего сообщение об освящении Киржачского храма от сообщения о его построении целой страницей текста, в которую он вместил года три жизни Сергия в новом монастыре. И до чего же незаметно инкрустировал Пахомий сообщение об освящении храма в инородный текст – «Он же (митрополит. – А. К.), услышав это (весть о согласии Сергия вернуться. – А. К.) очень обрадовался совершенному его послушанию и вскоре послал священников...» (с. 372). Но ведь до этого Пахомий, а позднее и Аноним и намеком не дали понять, что построенная церковь стояла неосвященной. Освящение церкви, которое мы с умыслом «поторопились» ранее описать как бы факт и как значительное событие в жизни Сергия, монахов и мирян, вложивших свой труд или свои деньги в его строительство, освящение на самом деле было настоящим триумфом, потому что оно стало символом победы Сергия в его конфликте со Стефаном и стоявшей за ним церковной верхушкой, по крайней мере, с ее весьма влиятельной частью. Оно стало призывом энергично идти вперед для всех, кто хотел утвердить на Руси идеалы общежительного строгого иночества, кто уже утверждал эти идеалы своим подвижническим трудом в монашеских пустынях. Агиографы же посвятили этому событию полстроки, запрятанной в инородный текст. И так тоже пишется история борьбы светлых и темных сил.
Нельзя пройти мимо еще одного примера: «Святой, услышав это (речь архимандритов. – А. К.), сказал им в ответ: «Вот что скажите господину моему митрополиту: «Все из уст твоих, как из уст Христа, приму с радостью, и ни в чем не ослушаюсь тебя» (с. 372). Не мог преп. Сергий уравнять с Христом ни митрополита, ни самого патриарха – и те, кто вложили эту мысль в уста Сергия, тем самым совершили двойной грех: принизили и Христа, и Сергия. И Сергия тоже, потому что представили его заискивающим дружбы митрополита и ради нее угодливо льстящим ему. Воистину лукавство и самомнение – прельстительные сети Сатаны, расставленные им специально для хитромудрствующих духовных особ. Ох, как хотелось им прямого, искреннего Сергия представить похожим на них! Находясь под их цензорским оком, агиографы снова (в который уж раз) жертвуют внутренней непротиворечивостью текста в угоду послушанию. Зная, что преп. Сергий в 1378 г. ослушается митр. Алексия в ответственный момент его жизни, агиографы лукаво вкладывают в уста Сергия такое заверение, уничижительное и опрометчивое одновременно: «и ни в чем не ослушаюсь тебя». Но ведь ослушался потом! Выходит, не знал хорошо ни митрополита, ни себя? Затаенная мысль агиографов: ошибся Святой, а мы молча простим ему это, а тем более, значит, простим всем несвятым и лесть, и самомнение, и ошибки, даже предательство. Так и слышится за этим принижением Сергия всеоправдывающая поговорка вечно грешащих и вечно кающихся – «все мы грешны, один Бог без греха».
11.2. Хроника жизни и Жития преподобного Сергия (1354–1361 гг.)
Теперь, когда мы показали сохранившиеся в тексте следы того, что заговор против Сергия был осуществлен в отсутствие на Руси митрополита Алексия, т. е. в 1358–1360 гг. [123], мы рассмотрим особо вопрос о датировке событий в жизни Сергия с 1354 года по 1361 год.
Митрополит Алексий и преп. Сергий, инициаторы коренного перестроения монашеского служения Богу и ближнему, потому заблаговременно заручились поддержкой патриарха Филофея, что знали о неизбежном сопротивлении своему начинанию монахов и влиятельных церковных кругов. «Житие Сергия» сообщает, что некоторые монахи тайком ушли из Свято-Троицкого монастыря после введения там общежития. Однако ушли не все противники общего жития, часть их осталась. Позднее, года через четыре, эти недовольные и стали, видимо, опорой подготовки заговора против Сергия. Срок (ок. четырех лет) мотивируется двояко:
1) общежитие было введено после прихода патриарших посланцев к преп. Сергию, т. е. в 1354–1355 гг.;
2) нужны были годы, чтобы Сергий добился «блистательных» успехов в строительстве общего жития монахов и тем разозлил «князя тьмы» до того, что тот «не мог далее терпеть» и внушил противникам общежительства, Стефану и другим, мысль о смещении Сергия с поста игумена.
За все время митрополитства Алексия (1354–1378 гг.) не было, кроме его тюремного заключения в Киеве (1358–1360 гг.), другого времени, которое так подходило бы для выступления противников монастырской реформы, благословенной самим константинопольским патриархом. Потому наиболее удобным (с точки зрения заговорщиков) для выступления следует считать время отъезда митр. Алексия в Литву и его пленения там, т. е. 1358 год. Положение самого митр. Алексия после его возвращения в Москву некоторое время было непрочным ввиду борьбы боярских группировок за влияние на десятилетнего Дмитрия Ивановича, получившего великое княжение после смерти отца (1359). В любое другое время Стефан и его покровители не рискнули бы бросить вызов митр. Алексию, твердый, волевой характер и проницательный ум которого они хорошо знали по личному опыту. Кроме того, Алексий был также фактическим главой государственной власти.
Мы не можем точно сказать, в каком именно году, в 1358 или 1359-м Сергий Радонежский ушел на р. Киржач и основал там новый монастырь. В источниках нет сведений, датирующих уход или основание монастыря. Однако, если согласиться со сроком (ок. 4-х лет), названным в предании, то логичнее будет отнести уход и основание монастыря на р. Киржач к 1358 году. В этом случае срок «около 4-х лет» может быть реальным, особенно если мы примем во внимание, что митрополит Алексий после возвращения из Литвы в Москву должен был неотложно погрузиться в борьбу за власть, вследствие чего у него вначале просто не было возможности заняться «делом» о событиях в опекаемом им Свято-Троицком монастыре.
Третья дата, которая нас интересует – возвращение преп. Сергия в Свято-Троицкий монастырь – с большой вероятностью может быть отнесена к 1362 году. Конечно, нельзя исключить и конец 1361-го года. Мы полагаем, что исполнительные чиновники митрополичьего дворца, исходя из своих личных интересов, не замедлили предоставить своему владыке информацию о конфликте между преп. Сергием и Стефаном сотоварищи и что умный, решительный митрополит сделал надлежащие распоряжение как о проверке информации, так и о мерах по подготовке своего вмешательства в конфликт. Однако надо принять во внимание, что на это потребовалось определенное время, которое в условиях чрезвычайной перегруженности митрополита могло «затянуться», так как разрешение конфликта вряд ли входило в число его самых срочных дел.
В 1360 г. великое княжение было отнято у московского князя и передано нижегородскому князю Дмитрию Константиновичу. Труднейшую борьбу за возвращение Москве великого княжения возглавил вернувшийся из плена митрополит Алексий.
В Троицком патерике (издание 1896 г., Свято-Троицкая лавра) на стр. 321 говорится, что Андроников монастырь был построен в 1361 году. Жаль, нет указания месяца, что мешает точнее определить время возвращения Сергия в Свято-Троицкий монастырь, как и время беседы с ним митрополита Алексия о строительстве Андроникова монастыря. Однако ясно, что позднее 1361 года не стоит относить ни возвращение Сергия в «свой» монастырь, ни его беседу с митр. Алексием.
Киржачская церковь была освящена и вступила в строй действующих, скорее всего, в 1361 году. Но как же монахи года три обходились без церкви? Молились по келиям: ничего другого им не оставалось. Но Богу это, видимо, не было неугодно, ибо ни их, ни преп. Сергия Он не наказал, а, напротив, позволил им одержать внушительную победу над противниками. И это, мы полагаем, еще раз доказывает, что для Него главное, как, а не где молится человек. Чистосердечная молитва Ему всегда угодна.
Длительное неосвящение Киржачской церкви, построенной всем миром, было наглядной, понятной каждому демонстрацией истинного отношения церковной верхушки к конфликту в Свято-Троицком монастыре. Оно без слов, но ясно говорило монахам: не приходите в Киржачский монастырь, не поддерживайте преп. Сергия. Монахам же Свято-Троицкого монастыря оно советовало: оставайтесь в монастыре, поддержите Стефана. Такое отношение к конфликту было возможно только в отсутствие митр. Алексия.
Некоторые авторы, например, архимандрит Троице-Сергиевой лавры Никон и другие обходят стороной вопрос о том, почему же Киржачская церковь так долго не была освящена. Они не могут это объяснить, так как датируют введение общежития в Свято-Троицком монастыре 1372 годом, когда митр. Алексий был в Москве и когда не могло быть препятствий для своевременного освящения церкви.
В конце 90-х годов XX в. на помощь ученым коллегам из Церкви пришел Б. М. Клосс. В книге о Сергии Радонежском он попытался доказать, что посланцы патриарха Филофея были в Свято-Троицком монастыре не в первый, а во второй срок его патриаршества (1364 – 1376 гг.), и что в таком случае житие в Свято-Троицком монастыре не могло быть введено ранее 1364 года. Строго говоря, доказательств нет, а есть лишь следующее общее соображение: «Филофей занимал патриарший пост дважды: в 1353 – 1354 гг. и 1364 – 1376 гг. Очевидно, что Сергий, поставленный в игумены в 1354 г. в момент отсутствия митрополита Алексия на Руси, не мог быть известен ни митрополиту Алексию, ни тем более патриарху Филофею. Следовательно, речь может идти только о втором патриаршестве Филофея, и мы получаем приблизительную хронологическую привязку для времени введения общежития в Троице-Сергиевом монастыре: 1364 – 1376 гг.» (с. 38). Ранее мы показали, что митрополит Алексий многое знал о Сергии и его подвиге от Стефана, брата Сергия, то есть начиная с 1342 года. За 12 лет (1342 + 12 = 1354 г.) о Сергии, а затем и о Свято-Троицком монастыре накопились в аппарате митрополита Феогноста множество сведений. Это следует из того, что слава Сергия широко распространилась по Руси. Пребывание епископа Афанасия Волынского в Переяславле (он замещал архиепископа Алексия, уехавшего в Византию за утверждением на посту митрополита) относится именно к 1354 году. Конечно, патриарх Филофей, скорее всего, не имел известий о преподобном Сергии, но это нельзя мыслить как условие для патриаршего послания Сергию. Послание (это давно уже предполагал Е. Е. Голубинский) было составлено с помощью митр. Алексия. Но есть и еще один, самый главный довод: в «Похвальном слове» Епифаний Премудрый называет Преподобного «начальным общежителем», т. е. основателем монашеского общежительства на Руси. Одно свидетельство Епифания перевешивает все позднейшие соображения и умозаключения. Б. М. Клосс высоко оценивает достоверность сведений, исходящих от Епифания (с. 23), но молчит о его определении Сергия как «начального общежителя». Такое молчание говорит, на наш взгляд, об отсутствии у Б. М. Клосса каких-либо аргументов против Епифания. Исторические события не бессвязные фрагменты из литературных текстов. Все, что делают люди и народы, соединено цепью причин и следствий. Заговор монахов во главе со Стефаном против игумена Сергия был заговором против введения общежительства в русских монастырях. Мы показали в предудущей главе, что поведение Стефана и гневное осуждение заговорщиков митрополитом Алексием – все это свидетельствует о том, что его не было на Руси в то время. Противники введения общего жития в русских монастырях, понимая свое затруднительное положение, точно выбрали самое безопасное время для срыва начавшейся монастырской реформы. У митр. Алексия было весьма мало шансов на освобождение из литовского заключения. Это, разумеется, понимали заговорщики. Но и в случае его освобождения (побега) он оказывался перед грудой острейших проблем, возникших в связи со смертью вел. князя (1359 г.) и, в частности, перед совершившимся фактом ликвидации Сергиевых порядков в Свято-Троицком монастыре. Каждый знает, что восстановление разрушенного гораздо труднее нового строительства. Время заговора выбрано весьма продуманно: других общежительных монастырей тогда не было на Руси, и, следовательно, ликвидация Свято-Троицкой киновии была равнозначна полному уничтожению общежительства. Что толку устраивать бунт в одном общежительном монастыре, когда уже действуют несколько других? Но именно такой вариант развития событий защищает Б. М. Клосс. Этот вариант исходит из недооценки противников общежительства. Они же были осмотрительны и умны. И если бы не вмешательство Высших Сил в судьбу митрополита Алексия, то заговор в Свято-Троицком монастыре мог бы закончиться победой противников монастырской реформы. Но история не знает сослагательного наклонения.
11.3. Возвращение в дом Святой Троицы
Я говорю вам: пусть пламя сердца вашего пылает огнем сострадания. В сострадании заложена великая жемчужина Тайного Знания. Все Бодхисаттвы, все святые, все подвижники устремлялись по этому пути.
Живая Этика
Это было, вероятно, в первой половине 1361 г. Читатель ожидает, что агиографы расскажут, как встретили монахи Сергия, в каком состоянии нашел он монастырь. Напрасные ожидания. Агиографы рассказывают с увлечением... о молчальнике Исаакии, словно он один и был в монастыре. Впрочем, мы не совсем правы. Аноним почувствовал зияющий пробел в повествовании и сочинил умилительную сцену встречи Сергия в Троицком монастыре. Она интересна тем, что является яркой иллюстрацией такого вымысла, который, по нашему мнению, вовсе не опирается на епифаниевский текст. «Слышано же бысть в монастыри святого приход, изыдоша братиа въ сретение его, его же и видевши мняху, яко второе солнце возсиавши. И бе от всех устъ слышати: «Слава Тебе, Боже, всех Промыслителю!» И бяше чюдно зрение и умиленна достойно: ови бяху руце отцу любызающе, инии же нозе, овии же ризъ касающеся целовааху, инии же предтекуще толико от желанна хотяще зрети на нь. Вси убо купно радовахуся и славяху Бога о възвращении своего отца. Что убо отець? Духовне и тьи радовашеся, чада своя зряй събранна» (цитируется по изданию ПЛДР. – А. К.). Перевод: «Прослышали в монастыре о приходе Святого. Вышла братия на встречу с ним. Когда они его увидели, словно второе солнце воссияло. И было слышно из всех уст: «Слава тебе, Боже, о всех промышляющий!» И было зрелище чудное, умиления достойное. Одни лобызали отцу руки, другие – ноги, одни целовали, прикасаясь, его одежду, другие пришли лишь для того, чтобы посмотреть на него. Все вместе радовались и прославляли Бога, возвратившего их отца. А что же отец? Духовно и он радовался, видя братию, собравшуюся тут» (с. 374). Экзальтация взвинчена так высоко, что вся сцена получила языческий характер. Сергий уподоблен Солнцу, главному Божеству древних русичей, его одежда – фетишу, встреча – утреннему молению восходящему Солнцу. Все – с Богом, и Бог – со всеми, все – неземное. Но Христа нет. И лишь в одном месте еле заметно дрогнула рука писавшего и сорвалось перо с умозрительной высоты – «А что же отец?» Просто «отец», не солнцеподобный, и даже не Святой, и не блаженный Сергий. Он, оказывается, радовался в духе, то есть про себя, не показывая своего чувства внешне. Он был углублен в себя: ему было о чем подумать, видя языческое ликование тех, кто без него жили под черным крылом завистника и ненавистника...
Каким было на самом деле возвращение преп. Сергия в монастырь Св. Троицы? Ответ плотно закрыт завесою времени. Можно лишь сделать предположение, что радость возвращения потому не нашла себе адекватного выражения, что она была неотделима в душе Сергия от сострадания к заблудшим, сбитым с толку, и даже к ненавидящим его монахам, включая в их число и родного брата Стефана. Умильно, взвинченно сентиментальная сцена встречи монахами преп. Сергия, которая по замыслу Анонима должна была бы продемонстрировать их ангельски чистую любовь к нему, настолько перенасыщена сиропом, что почти каждое слово в ней отдает фальшью...
А где же был племянник, Феодор, постриженный Сергием в монахи? О его уходе к Сергию, на Киржач, не сказано; наверное, он оставался с отцом. Однако отца он, видимо, не поддержал; в противном случае он ушел бы с отцом из монастыря, когда возвратился Сергий. Позднее, лет через 8-10, преподобный Сергий благословит Феодора на игуменство, на создание городского Симонова монастыря.
Независимо от того, как проходила встреча преп. Сергия с монахами Свято-Троицкого монастыря – торжественно, триумфально или совсем просто, без всяких церемоний – сам факт возвращения игумена Сергия в родной монастырь был настоящим триумфом. Противники монастырской реформы потерпели сокрушительное поражение. Плотина на пути развития общежительных монастырей была сметена. И начался их бурный рост именно в 60-е годы. Митр. Алексий и преп. Сергий были главными двигателями процесса создания киновий, о чем сохранились некоторые сведения и в «Житии Сергия».
К чему идти путем молчания? В жизни пей источник звуков и цвета – мозг крепнет.
Живая Этика
Невозможно сказать точно, где монашествовал Исаакий после ухода преп. Сергия на Киржач – в Свято-Троицком или в Киржачском монастыре. Если исходить из того, что речь о назначении Исаакия вместо преп. Сергия игуменом Киржачского монастыря заводится только после возвращения Сергия в Троицкую обитель, то придется согласиться с мнением о том, что Исаакий не уходил на Киржач. В этом случае он должен был, оставаясь под началом игумена Стефана, зарекомендовать себя верным и твердым последователем преп. Сергия. Эта версия лучше объясняет желание преп. Сергия оставить на Киржаче вместо себя игуменом Исаакия, доказавшего преданность Сергию в труднейших условиях – в стане его противников. Однако Исаакий не согласился на предложение преп. Сергия, и тут проявив твердость: он хотел пройти пожизненный искус «безмолвия и молчания» (с. 374). Сергий не настаивал: ему стало ясно, что Исаакий избрал стародавний путь самосовершенствования духа.
Агиограф с явной симпатией описывает, как подготавливалось и проходило благословение Исаакия на молчание. «Святой в ответ на просьбу (Исаакия. – А. К.) сказал ему: «Чадо Исаакий, если ты желаешь молчать, то завтра, после окончания божественной службы, приходи к северным воротам, и там я благословлю тебя на молчание» (с. 374). Почему именно у северных ворот монастыря? Думается, преп. Сергий вкладывал в это символический смысл. «Север» в древнерусском языке обозначался еще и словом «полунощь»; обоим этим словам было присуще переносное значение «страны (времени) безмолвия». Слово «север» к тому же сопрягалось с постоянными эпитетами «суровый», «холодный». И все смысловые обертоны невольно включались сознанием в сам акт благословения на трудное испытание молчанием, глухим и строгим, как северное ледяное безмолвие. И в некотором отношении холодным, ибо молчальник исключал себя из сферы человеческого участливого общения, отгораживаясь от мира и от монахов стеной добровольной немоты. И не видит такой аскет, что истинно христианская жизнь на людях и с людьми – более трудное испытание, более многосторонний закал духа, чем погружение в безмолвие. Не видит, хотя перед глазами сияющие примеры Христа и Сергия: так чисто по-детски хочется одним волевым усилием проложить путь к спасению души.
У северных ворот произошло следующее. «Святой старец, перекрестив его рукою, сказал: «Господь да исполнит желание твое». И тут же, как он благословлял его, видит он, как какой-то огромный пламень излился из его руки и объял всего прежде названного Исаакия» (с. 374). Ученый-позитивист, прочитав этот рассказ, усмехнется очередной выдумке щедрых на чудеса агиографов. Но мы не пойдем по легкому пути отрицания того, о чем позитивист не имеет реального представления. Все т. н. чудеса могут быть научно объяснены и поняты без отсылки к мистике. Многие наблюдали на себе или на других людях подобное световое явление, но очень слабо выраженное: поведет человек рукой по платью и под рукой вспыхивают, тут же угасая, разноцветные язычки легкого огня. Это светится тонкая энергия. Такой «фокус» удается лишь тому, чья психоэнергия находится в сравнительно утонченном состоянии. Если же в результате длительного самосовершенствования у человека открываются психические центры (чакры), то исходящее от них излучение энергии, достигая высокой степени интенсивности, может становиться видимым для глаза. Нимбы над головой святых взяты художником не «с потолка», а с натуры, когда излучение головных чакр дает светящийся венчик. Мощное свечение, выметнувшееся наподобие пламени из протянутой руки преп. Сергия, свидетельствуют о том, что у него были открыты и сгармонизированы психоэнергетические центры. Свечение было настолько ярким, что могло показаться Исаакию пламенем. «Не все могут принять и спокойно наблюдать нежгучее пламя, как вы видели его, хотя оно было вполне действительным, со всеми свойствами огня, кроме жгучести. Но нужно было иметь открытое сердце, чтобы стоять перед этим пламенем» [124]. Преп. Сергий видимо, не хотел привлекать внимание к этому феномену, и потому назначил Исаакию встречу у ворот монастыря и после окончания литургии, а не перед ее началом. В некоторых списках неверно утверждается, будто пламя-свечение было неожиданностью и для самого Сергия: он, конечно, хорошо знал свои психоэнергетические возможности. Сергий хотел, чтобы Исаакий стал на труднейший путь Служения Богу и ближнему в качестве руководителя общежительного монастыря, но Исаакий предпочел затворится в раковине изысканного аскетического самосовершенствования. В результате столь ценные качества души Исаакия, как неудержимая устремленность к цели и твердость веры, получили тупиковое направление: тут итогом его развития будет медленное, но неизбежное ослабление сознания. Искус молчания полезен для развития души, когда он – краткосрочное испытание силы духа и веры: тогда он укрепляет человека на пути служения Богу и ближнему.
«Отнесемся с уважением к древним молчальникам: они действовали при желании усовершенствования, но эволюция требует более широкого приложения сил человека. Пусть он действенно прилагает все свои возможности, пусть он живет в неограниченном познавании» [125].

До одиннадцати учеников преподобного Сергия явились, в большинстве случаев еще при его жизни, основателями монастырей. Все они святые, и все несут заветы преподобного Сергия в разные концы русской земли... Многие из основанных им обителей сами делаются центрами лучеиспускания, духовными митрополиями. Через них живая преемственность св. Сергия сохраняется в русской святости, по крайней мере, до конца XV столетия.
Георгий Федотов. «Святые Древней Руси»
Разве добродетель не является синтезом качеств?.. Добродетель не есть просто доброе деяние... Можно назвать много исторических примеров, когда даже полезные деяния не могли быть оправданы вследствие недостойного побуждения.
Живая Этика
Суровый край северных монахов-подвижников А. Н. Муравьев назвал Русской Фиваидой. Название красиво и точно запечатлело бессмертие и силу великой мысли египетских последователей Христа о духовном самосовершенствовании как единственном нетленном сокровище человека. Самосовершенствование сознания беспредельно, как сама мысль – и по способам, и по содержанию. Истинное подвижничество, или святость тем и ценно, что доказывает на деле беспредельные, божественные возможности развития человеческого сердца, духа. Обе формы древнего иночествования – отшельничество и общежительство – на Руси воскресил, и осуществил, и обогатил великий Сергий Радонежский.
В этой главе мы кратко расскажем о четырех общежительных монастырях, в основании которых он принял личное участие.
12.1. Образы русского духовного пастыря
Вскоре после возвращения преп. Сергия в Свято-Троицкую обитель ему пришлось принять участие в создании Спасо-Андроникова монастыря на р. Яузе, в 4-х км. от Кремля.
Необходимо кратко коснуться рассказанной в «Житии» предыстории этого монастыря. Корабль, на котором митрополит Алексий возвращался, видимо, из второй поездки в Константинополь (1356 г.), попал в сильнейший шторм. Пассажиры молили Бога о спасении, но ураган не прекращался. Стал молиться и святитель Алексий. Когда он дал обет построить церковь в благодарность за спасение, море перестало бушевать, и корабль благополучно пристал к берегу в праздник Христа Спасителя. Но лишь через несколько лет приступил митрополит Алексий к исполнению своего обета. Почему? В Первой пахомиевской редакции дан такой ответ: «И завещах поставити церковь, ...но забываю в делех церковных, ныне же хощу упразднитися и исплънити обет свои» (с. 371). Забывчивость в таком святом деле – явное и немалое прегрешение. Удивительно, как просто говорит об этом митрополит Алексий – и без всякого чувства вины. Аноним в своей редакции вообще обходит молчанием длительное неисполнение обета митрополита. Но сколько же лет прошло от обещания до исполнения? В «Житии» нет ответа. Предположительно можно установить этот срок. В «Троицком патерике» сказано, что Спасо-Андроников монастырь был основан в 1361 году [126], а в «Житии» есть указание на то, что Андроник 10 лет был иноком в монастыре Святой Троицы. Отнимаем от 1361 г. десять лет – получаем 1351 год, год пострижения Андроника в монахи. Возникает неувязка с тем, что Пахомий говорит о пострижении Андроника Сергием, но в 1351 году Сергий не был еще официально назначен игуменом и постригать в монахи не мог. Постриг в то время мог совершить только архимандрит Симон. Так оно и было, вероятно, в епифаниевском оригинале. Но Пахомий должен был заменить Симона Сергием, ибо приход архимандрита Симона «под руку» Сергия агиограф отнес (мы выше об этом подробно говорили) к тому времени, когда Сергий был уже официальным игуменом Свято-Троицкого монастыря. Митрополит Алексий дважды был в Константинополе: в 1354 г. и в 1356 году. Следовательно, от его обещания построить церковь до исполнения прошло либо 7, либо 5 лет. Учитывая ответственность и деловитость митрополита, можно отдать предпочтение пятилетнему сроку, который надо сократить до двух лет, так как с 1358 по 1360 гг. митрополит Алексий сидел в литовской тюрьме, а потом, прибыв в Москву, с головой погрузился в неотложные государственные и церковные дела. Итак, беседа митрополита Алексия с игуменом Сергием об Андронике, скорее всего, состоялась также в 1361 году. И этот год очень хорошо многое объясняет. Вполне возможно, что митрополит Алексий пришел к игумену Сергию впервые после своего побега из литовского плена и после возвращения Сергия в Свято-Троицкий монастырь из Киржачского монастыря. Им было что обсудить, и беседа была «продолжительной» (с. 371), и началась она не с вопроса о построении храма во имя Пречистого образа Нерукотворного Спаса, и не с обсуждения Андроника: «Седящима же има на долзе, пакы глагола Алексие...» об Андронике (с. 271), т. е. лишь после длительной беседы поднял митрополит вопрос об Андронике.
Мы последуем примеру беседующих и вслед за Пахомием начнем издалека. Рассказ об основании Спасо-Андроникова монастыря находится явно не на своем месте, то есть не на том месте в композиции, которое он занимал у Епифания. Нарушена последовательность изложения событий, епифаниевский принцип построения «Жития», ясно заявленный в предисловии. Рассказ Пахомия помещен после сообщения о смерти митрополита Алексия и даже после рассказа об основании Дубенского монастыря Успения Богородицы в знак победы над Мамаем. Причина такой композиционной перестановки не объяснена. Сопоставление с Пространной редакцией, в которой этот рассказ занимает иное, хронологически более обоснованное место в композиции и в котором совершенно иначе изображена беседа преп. Сергия с митрополитом Алексием, наводит на мысль, что Пахомий не случайно изъял рассказ с его места в сюжете.
По трем главным вопросам, поднятым в рассказе, позиции Пахомия и анонимного агиографа резко расходятся: по отношению святого Сергия к желанию Андроника основать свой монастырь, к просьбе митр. Алексия благословить Андроника на пост игумена митрополичьего, ктиторского монастыря и к самому уже созданному монастырю.
И Пахомий, и Аноним с большой похвалой пишут об Андронике, ученике преп. Сергия, отмечая его различные добродетели. Однако пахомиевский Сергий не одобряет его намерение стать игуменом и делает попытку склонить на свою сторону митр. Алексия: «Сергие же въпроси его (Алексия. – А. К.), глаголя: «Суть братия некая, егда приходят въ святыи иноческыи образ, тогда всего отрицаются, живше же 10 лет, ини же множае, потом санов хотят; ты же како повелеваеши, владыко святыи, благословити или ни?» (с. 370). Читателю «Жития» ясно, что имеется в виду Андроник, о котором чуть ранее сказано так: «...и тако пожив 10 лет въ всяком послушании. Прииде же ему сицевый помыслъ, еже изити из монастыра и сътворити свои монастырь» (с. 370). Преп. Сергий, предугадывая просьбу митр. Алексия, задает ему вопрос как дипломат, не раскрывая своих намерений и своего отношения к желанию Андроника. «Митрополит же к нему: «имаше от Бога дарованное ти разсуждение, его же видиши могуща пасти стадо Христово – не възбраняи ему, а его же видиши славы ради человеческыя – таковым възбранеи» (сс. 370-371). На дипломатический вопрос дан дипломатический ответ, оставляющий свободу различного истолкования ответа и свободу действий за митр. Алексием. Когда он прямо попросил преп. Сергия дать благословение Андронику на игуменский пост, то получил согласие, но согласие вынужденное: «...рех ти, его же аще требуеши, волен бо еси въ мне и в моей братии» (с. 276). Беседу, ведущуюся в такой тональности, нельзя назвать доверительной. Дальнейшие действия митрополита и преп. Сергия подтверждают это. Митрополит с Андроником находят место для монастыря, «и тако сътворше молитву, основаста церковь» (с. 371). Митрополит с Андроником обсуждают вопрос о посвящении церкви, и митрополит рассказывает Андронику историю спасения корабля, на котором он плыл из Константинополя в Русскую землю. Затем при большой помощи митрополита строится церковь во имя Христа-Спасителя, и монастырь, где Андроник славно игуменствует до своей смерти. Преп. Сергий никакого участия в основании монастыря и в его дальнейшем бытии не принимает.
Совершенно иначе освещены три вышеупомянутых вопроса в Пространной редакции. Анонимный агиограф так описывает отношения между преп. Сергием и митр. Алексием: «...ведь он (Алексий. – А. К.) всегда был исполнен любви великой к святому и был с ним в близости духовной, обо всем советовался с ним» (перевод ПЛДР, с. 379). Соответственно беседа между ними описана как беседа духовных братьев. Митрополит именно Сергию рассказывает о своем спасении на море и об обете построить в благодарность за это церковь во имя Христа. Рассказ заканчивается такой просьбой: «И я прошу у твоей милости дать мне возлюбленного твоего ученика и мне угодного Андроника». Святой же просьбой святителя не пренебрег и отдал ему Андроника» (перевод ПЛДР, с. 379). Когда церковь была построена и украшена и был создан общежительный монастырь, «пришел вскоре святой Сергий посмотреть сделанное учеником его на то место, и, увидев, похвалил его и благословил... И, дав полезные наставления, он назад возвратился в свою лавру» (перевод ПЛДР, с. 379). И обратился с молитвой к Господу о всяческом благословении новому монастырю.
Сопоставление текстов показало, что рассказ о Спасо-Андрониковском монастыре существует ныне в двух принципиально различных версиях, из которых версия анонимного агиографа соответствует епифаниевскому образу святого Сергия, а версия Пахомия искажает его. И искажение снова касается отношения преп. Сергия к сану игумена, но теперь оно под пером Пахомия получило характер индивидуальной особенности Сергиева сознания: он высоко ценит духовные достижения Андроника, но пытается помешать осуществлению его желания стать игуменом, подозревая в этом проявление санолюбия. При этом преп. Сергий показывает себя не очень умным человеком: свой вопрос об иноках-санолюбцах он задает митрополиту, который сам когда-то с иноческого послушания начинал свою блистательную служебную карьеру. И читатель «Жития» только что из другой беседы игумена Сергия с престарелым митрополитом, предложившим Сергию митрополичий престол Руси, узнал, с какой гордостью митрополит Алексий оценил свою двадцатипятилетнюю деятельность на высшем церковном посту. И преп. Сергий от этого поста отказался! Случай неслыханный. Труднообъяснимый. Потому-то, мы думаем, Пахомий и поместил тут рассказ об отказе Сергия от митрополитства, чтобы читатель, которого не удовлетворило формальное объяснение упорного, неколебимого отказа Сергия, нашел этому факту иное, идейно-психологическое объяснение, подсказываемое упрямым и теперь уже немотивированным возражением против получения сана игумена одним из своих лучших учеников. Пахомий тут же показывает, как жизнь опровергла неосновательность Сергиева упрямства: Андроник в высшей степени похвально управлял общежительным монастырем Христа-Спасителя. Таким образом учительный смысл и назначение пахомиевской редакции рассказа вполне проясняются: прав не Сергий, а митрополит в давнем споре о власти и ее пределах. Почему Пахомию нужно, а Анониму не нужно доказывать неправоту Сергия? Разное время – разные задачи. Пахомию надо было усреднить образ Сергия до уровня местночтимого святого, а перед Анонимом этой задачи не могло стоять, так как церковь примерно в середине XV в. уже признала Сергия общерусским святым. Задача Анонима, как мы показали выше, была в том, чтобы образ святого игумена Сергия сделать приемлемым для иосифлянского священноначалия церкви, и показ дружеских отношений между святым и митрополитом этой задаче вполне соответствовал.
О многоименитая Дева, Госпожа, Царица чинов небесных, вечная Владычица всей Вселенной и всей жизни человеческой Кормителъница!
«Летописная повесть о Куликовской битве»
Тебе, Матери Мира, закон Бытия явлен. Тебя, Владычица, Мы, Братья человечества, преклоненно чтим.
Живая Этика
В «Житии Сергия» рассказано еще о трех монастырях, в создании которых в 1370 – 1374 годах участвовал преп. Сергий – о Симоновском городском монастыре Рождества Богородицы, Голутвинском монастыре Богоявления, Серпуховском городском монастыре зачатия Пречистой Богородицы.
Самым заметным из монастырей стал Симоновский, игуменом которого со дня его основания (1370 г.) был племянник преп. Сергия Феодор, живший в Свято-Троицкой обители лет 16. В остром конфликте преп. Сергия со Стефаном, отцом Феодора, последний, похоже, был на стороне Сергия и потому остался с ним после изгнания Стефана из Троицкой обители. Преп. Сергий, благоприятствуя Феодору, разрешил уйти с ним в новый монастырь всем, кто пожелает. Сергий ходил в Москву выбирать вместе с Феодором место для его монастыря. Феодор ввел в монастыре общежитие, «как и подобает по преданию святых отцов» (с. 382); из этих слов можно заключить, что Симоновский монастырь жил по строгому уставу, и какое-то время его игумен не принимал в дар недвижимости. Добрые отношения, существовавшие между преп. Сергием и Феодором, похоже, сохранились и тогда, когда Феодор стал быстро восходить по служебной лестнице. В канун Куликовской битвы он стал духовником вел. князя Дмитрия Ивановича, спустя три года получил сан архимандрита и, пользуясь расположением Константинопольского патриарха, сделал Симоновский монастырь ставропигиальным. Феодор принял активнейшее участие в борьбе, развернувшейся вокруг кандидатов в митрополиты Руси.
Из дошедшего до нас предания известно, что преп. Сергий уделял особое внимание Симоновской обители. Бывая в Москве, он пользовался радушным гостиприимством монахов этой обители (у него была тут своя келья), вместе с ними «возделывал землю для огородов, насаждал деревья, копал пруды и кладязи» [127]. Один из этих прудов, вода которого имела целебные свойства, называется «Сергиевым» [128]. В монастыре жил инок Кирилл, к которому преп. Сергий питал большую симпатию: «он... (Сергий. – А. К.) приходил в пекарню к... Кириллу и наедине с ним проводил долгое время, беседуя о пользе душевной» [129]. После смерти преп. Сергия, Кирилл оставил Симоновский монастырь и ушел в вологодские леса, основал там Белозерский общежительный монастырь Успения Богородицы, прославился и был канонизирован как общерусский святой.
Свято-Троицкий монастырь стал кузницей руководящих кадров для церкви, а по примеру преп. Сергия его лучшие ученики также стали уделять большое внимание воспитанию священноначальников. Сам преп. Сергий, по свидетельству его «Жития», принял личное участие в создании еще нескольких монастырей, в которых его ученики стали первыми игуменами. Об одном из монастырей, Высоцком, точно известно, что он был основан до Куликовской битвы, в 1374 году, на высоком берегу р. Нары, близ Серпухова, по инициативе Серпуховского князя Владимира Андреевича. Преп. Сергий вместе со своим учеником Афанасием выбрали место для монастыря, и Сергий благословил Афанасия, сторонника общежительства, на игуменство. Афанасий стал духовником князя.
В том же 1374-м году преп. Сергий ходил в Голутвин, где по просьбе вел. князя Дм. Ивановича основал Богоявленский монастырь, в котором игуменом стал Григорий, ученик Сергия.
В деятельности преп. Сергия явно прослеживается устремленность к расширению и упрочению культа Божьей Матери. Из пяти названных в «Житии Сергия» монастырей три были посвящены Богородице; при этом мы должны учесть, что посвящение Андроникова монастыря было всецело определено митр. Алексием, а Голутвинского – вел. кн. Дмитрием. Следовательно, все три обители, в создании которых принял участие преп. Сергий как самый авторитетный священник, были названы в честь Богородицы. Такую целеустремленную ориентацию мы можем объяснить лишь тем, что преп. Сергий, предвидя драматические события 1380 года и исключительную роль Богородицы – Царицы Небесной – в их успешном завершении, заблаговременно укреплял духовные узы с Нею.
Создание любых киновий было делом полезным как для повышения духовно-нравственного уровня монахов, так и для укрепления доверия трудового народа к монастырям, а, значит, и для укрепления его веры в Бога. А без веры в Бога нечего было и думать о вере народа в освобождение от татаро-монгольского ига, о том, чтобы народ дружно поднялся на борьбу с угнетателями. В это время религия и политика были завязаны в один узел. И преп. Сергий ясно и полно осознавал эту зависимость, делом содействуя ее упрочению. Понятно, что, активно участвуя в осуществлении монастырской реформы, преп. Сергий использовал ее и для того, чтобы создавать, где возможно, трудовые киновий нестяжательного типа – его идеал, прообраз будущего истинного Служения Богу и ближнему. Такое служение разворачивало монастырскую трудовую общину лицом к трудящемуся верующему человеку, сближая его с общиной крестьянской и по образу мышления, и по образу жизни, что открывало новый канал благого духовно-нравственного влияния монашества на народ.

13. ИГУМЕН СЕРГИЙ – СЫН РОДИНЫ
Иерархическое начало является основанием всех строений... Силы Иерархии объединены в двух Мирах: Начало Ведущее и Начало, исполняющее Великую Волю, являются Единым Источником.
Живая Этика
Первоисточники различно освещают тесное сотрудничество преп. Сергия с высшими властями Руси в укреплении государства и сплочении русских княжеств вокруг единого центра – Москвы. «Житие Сергия» (во всех редакциях) молчит об активном участии преп. Сергия в труднейшем и важнейшем деле преодоления княжеских междоусобиц, в деле создания главного условия для построения централизованного государства. Летописи же прилежно отмечают все т. н. миротворческие походы преп. Сергия в Ростов, Нижний Новгород и Рязань, дают немало ценных сведений о его участии в духовно-нравственной подготовке Куликовской битвы. Однако и летописи (и «Житие» тоже) молчат об одном существенном периоде в жизни преп. Сергия (1366 – 1374 гг.), молчат столь «глухо», что исследователю почти не за что ухватиться, чтобы определить отношение преп. Сергия к драматическому московско-тверскому узлу событий 1366 г., породивших войны с Литвой и Тверью. «Похвальное слово» Епифания, естественно, в силу жанровой специфики, не рассказывает и не должно рассказывать об этом. Вместе с тем Епифаний не обошел отношения святого Сергия к светской власти, лапидарно охарактеризовав в трех глубоких высказываниях главные аспекты этой темы. Первое высказывание носит самый общий характер, и потому мы начнем с него: оно «подходит» для нашего вступления.
«Наказатель вождемь» (с. 273) – что это означает? В издании ПЛДР (с. 411) это определение переведено «предводитель вождям»; думается, лучше было бы перевести «наставник вождей». Имеются в виду вожди светские, потому что к духовным относится словосочетание «пастыремъ пастырь», обдуманно поставленное Епифанием рядом с определением «наказатель вождемь». Мы можем назвать (по «Житию») конкретные имена «вождей», которые после бесед с Сергием Радонежским признали его правоту и переменили политику вражды с Москвой на политику мира и сотрудничества. Это ростовский князь Константин Васильевич, нижегородский – Борис Константинович и рязанский – Олег Иванович. Разумеется, первым среди «вождей» должен быть назван московский великий князь Дмитрий Иванович, духовником которого был преп. Сергий. Перечень «вождей» можно значительно расширить за счет тех князей, с которыми Сергий Радонежский беседовал во время княжеских съездов в 1374-м и 1375-м годах. Хотя мы не знаем их имен, но тем не менее можем присоединить их к списку «вождей», так как знаем проникновенную силу убеждения, которой обладал преп. Сергий, духовидец и прозорливец. Легкое ли дело быть наставником вождей? Конечно, одно из самых трудных. Тем более, что для преп. Сергия наставничество не было исполнением служебных обязанностей и даже не было исполнением пастырского долга, а было частью его Служения Богу и ближнему, Служения, в котором он неуклонно руководствовался заветами Христа. В целесообразном приложении заветов к жизни заключалось все смиренномудрие Преподобного, возвеличиваемое агиографами как его первейшая добродетель. Он знал, как и когда надо было, соединяя принципиальную твердость с тактической гибкостью, развязывать узлы противоречий. Это мудрое искусство мы постараемя показать на конкретных примерах.
Живая Этика высоко оценивает деятельность Сергия Радонежского, «самого преданного миротворца» [130], особо отмечая его ориентацию на защиту достоинства человека и оборону Родины. Е. И. Рерих в очерке о жизни и творчестве Сергия Радонежского так писала о значении миротворческой работы Преподобного: «Страшны были татары, но еще страшнее и губительнее для Земли Русской были все еще продолжавшиеся раздоры между князьями. Как известно, некоторые из них в своем противодействии укреплению Московского великого князя вступали даже в союз с врагами – татарами и литовцами» [131].
Сергий Радонежский глубоко понимал, что для освобождения Родины от чужеземного ига надо было общими усилиями властей и народа вырвать корень зла – преодолеть межкняжескую рознь – основную земную причину завоевания Руси Батыем, главное, нержавеющее оружие всех недругов великой России. Сергий Радонежский, как и его безымянный далекий предшественник, Автор «Слова о полку Игореве», представлял себе объединение Руси на основе принципа построения Небесной Иерархии – вокруг одного князя, вокруг одного центра. Преодолеть центробежные устремления – означало преобразовать их в устремления центростремительные: иначе невозможно разорвать гибельный порочный круг местничества. Космический закон един: как наверху, так и внизу. Следуя ему, преп. Сергий твердо придерживался стратегии объединения Руси вокруг единого центра – Москвы.
13.2. Единение народа – дело Богоугодное
Сколько человечеству нужно перестрадать, прежде чем оно догадается о пользе единения. Самые разрушительные силы направлены, чтобы омрачить зачатки объединения. Каждый соединитель подвергается лично опасности. Каждый миротворец похуляется.
Живая Этика
В 1363 году преп. Сергий отправился, как всегда, пешком в родные ростовские края. Вряд ли среди единомышленников митрополита Алексия был в то время лучший, чем преп. Сергий, кандидат для переговоров с Ростовским князем: историю Ростовского княжества и его правителей он, надо полагать, знал с юных лет не только по книгам, но и от родителей. Нам неизвестно, да это и неважно, кто был инициатором мирного разрешения назревшего конфликта между Москвой и Ростовом, святитель Алексий или игумен Сергий. Существенно было иное: их единодушное согласие на эту дипломатическую акцию. Неважно также, был или не был у Сергия чисто религиозный повод (моление или что-либо иное) в качестве прикрытия подлинной причины его прихода в Ростов. Возможно, что святитель и игумен сочли целесообразным придумать такой повод, чтобы отвести в сторону внимание ханских шпионов и их приспешников. В любом случае ростовский князь не мог не принять знаменитого игумена Свято-Троицкой обители, происходившего из древнего рода ростовских бояр. Во время такого приема преп. Сергию удобно было договориться о личной беседе с князем наедине, чтобы откровенно обсудить непростые вопросы московско-ростовских взаимоотношений. Чем беседа с неофициальным духовным лицом лучше беседы с уполномоченными митрополита или великого князя? Беседа с Сергием щадила самолюбие ростовского князя, освобождая его от каких-либо (пусть устных) обязательств, давая ему время и возможность спокойно все обдумать, взвесить и самостоятельно принять решение. Преп. Сергий проявил уважение к Ростовскому князю и древним традициям Ростова, согласившись на участие в освящении Борисоглебского монастыря: святой Борис, ростовский князь, был гордостью и славой ростовчан и всей Руси. Преп. Сергий, по-видимому, жил в монастыре какое-то время. А это означает, что он имел возможность рассказать монахам об опыте Свято-Троицкой киновии и, в свою очередь, узнать от них, что ему надо было, о состоянии дел в Ростовском княжестве.
Дипломатическая миссия преп. Сергия увенчалась успехом. В 1364 году ростовский князь Константин Васильевич принял решение уступить свои права племяннику, князю Андрею Федоровичу, которого поддерживала Москва, а сам уехал жить в Устюг. Это был не просто успех, это было открытие нового, эффективного пути развязывания затянувшихся узлов межкняжеских раздоров. Это было поражение ханской дипломатии, расчетливо предоставившей, как полагают историки, в начале 1360-х г. большую самостоятельность Ростовскому князю в надежде на его освобождение из-под московского влияния.
Прежде чем перейти к рассказу о следующем, Нижегородском общественно-политическом деле преп. Сергия, необходимо рассмотреть эту сторону его деятельности с точки зрения Учения Христа.
Мы уже раньше сказали, что Четвертый Вселенский Собор принял постановление, запрещающее всякое участие монахов в мирских делах. Мироотречение было основным условием монашеской жизни. Но, быть может, Василий Великий, жизнь и сочинения которого преп. Сергий знал и почитал, придерживался тут иной позиции? Нет, Василий Великий проповедовал полное мироотречение. «Одно убежище безопасное – удаление от мира. Совместить то и другое невозможно. Невозможно... в одно время иметь успех и в том, и в другом, – ив делах мира сего, и в жизни по Богу» [132.1]. И еще одну цитату приведем: «Посему отречение от мира, как видно из сказанного, есть разрешение уз этой вещественной и временной жизни, свобода от человеческих обязательств, делающая нас более способными начать путь к Богу» [132.2]. Преп. Сергий пошел иным путем, взяв на себя важнейшее из тогдашних человеческих обязательств на Руси: борьбу за освобождение Родины от иноземного ига. Всей своей жизнью преп. Сергий доказал, что возможно иметь успех «и в делах мира сего, и в жизни по Богу». Знал ли преп. Сергий, что он встал на путь нарушения постановления Вселенского Собора и почитаемого им монастырского Устава Василия Великого? В этом вряд ли можно усомниться. Почему же он пошел на это нарушение? Он был, конечно, убежден, что действует в полном согласии с Учением Христа. На наш взгляд, видная всему народу патриотическая деятельность преп. Сергия опиралась на такой завет Христа: «И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» [133] (выделено мною. – А. К.). Преп. Сергий был убежден, что, работая на укрепление единства Руси, он делает доброе, богоугодное дело, а так как важнейшее гражданское дело делает он, монах-подвижник и игумен, служащий Богу, то таким делом он, Сергий, еще и укрепляет народную веру в Бога, – Отца людей, а не только монахов, – и тем делом он еще и прославляет Отца Небесного. Преп. Сергий очищал заветы Христа от односторонних толкований. Самоотверженное служение Христу не означало для преп. Сергия отказа от человеческих обязательств. Монах не переставал быть ни человеком, ни гражданином. И пример такого Служения Богу показал сам Иисус Христос, решительно выступивший против фарисейского выхолащивания, искажения законов Моисея, за их полное применение в жизни, и за их дальнейшее расширение в соответствии с требованиями новой эпохи. В самой русской церкви преп. Сергий был до 1378 г. надежно защищен митрополитом Алексием, который в то время фактически руководил всей государственной политикой Руси. Если бы не Алексий, а, к примеру, Киприан возглавлял тогда митрополию Руси, то патриотическая общественная деятельность преп. Сергия была бы пресечена в самом начале. Поэтому преп. Сергий, несомненно, не раз возблагодарил Бога за то, что именно Алексий руководил русской церковью.
Святитель, в свою очередь, мог благодарить Бога за то, что в важнейшем государственном деле объединения Руси у него оказался такой мудрый помощник, как преп. Сергий. Спустя примерно год после ростовского «похода» Сергия, летом 1365 года, митрополит снова обратился к нему за помощью. На этот раз дело, которое поручалось преп. Сергию, было значительно труднее, чем ростовское.
13.3. Мудрость прекращает междоусобицы
Каждое событие есть битва.
Живая Этика
Дело это – улаживание усобицы между Московским и Нижегородским князьями – было почти загублено неудачными дипломатическими действиями Москвы в 1364 году. Послами Москвы были полномочные представители митрополита архимандриты Павел и Герасим, те самые, которые три годы назад привозили преп. Сергию в Киржачский монастырь послание митрополита Алексия. В Нижнем Новгороде они должны были убедить князя Бориса Константиновича прибыть в Москву на третейский суд со своим старшим братом Дмитрием, у которого Борис силой отобрал Нижний Новгород. Но князь Борис не внял их совету и отказался ехать в Москву. Тогда «они церкви закрыли, и князь Дмитрий Московский дал свою рать князю Дмитрию Константиновичу». Дело подвинулось к междоусобной войне – ханские дипломаты, предоставившие в 1360 г. ярлык на великое княжение не московскому, а нижегородскому князю Дмитрию Константиновичу и тем вбившие между ними новый клин, могли потирать руки от удовольствия: их надежды сбывались. Но не сбылись. В это время московские правители вспомнили о преп. Сергии. В дело вмешался великий человек, и война между Москвой и Нижним Новгородом была предотвращена.
Когда преп. Сергий отправился в Нижний Новгород, в Северо-Восточной Руси свирепствовала чума, из-за чего долгий путь становился очень опасным. «Тако во всех градах и странах и в всех пределах их (Нижнего Новгорода, Коломны, Переяславля, Москвы. – Л. К.) был мор великий и страшный» [135]. Чума не остановила преподобного дипломата-путешественника: его аура была надежной защитой от всех заразных болезней. Он пришел в Нижний Новгород тогда, когда междоусобная война вот-вот могла разразиться. Под городом стояла московская рать и рать Дм. Константиновича; нижегородский владыка Алексий поддерживал князя Бориса, и потому почти вся Нижегородская епархия была переподчинена самому митрополиту и это (вдобавок к закрытию церквей) породило широкое недовольство действиями Москвы. Обе насильственные меры были крупным просчетом посланцев митрополита, несправедливо наказавшего всех верующих и тем подтолкнувшего многих в стан кн. Бориса.
В нашей исторической литературе не раз обсуждался вопрос: был или не был преп. Сергий причастен к закрытию церквей, о чем прямо сообщается в некоторых летописях. В 1980 г. В. А. Кучкин установил, что эти сообщения, скорее всего, надо рассматривать, как компиляцию разнородных известий о Сергии Радонежском [136] и закрытие церквей надо отнести не к нему, а к митрополичьим боярам, архимандритам Павлу и Герасиму. Их неудачная силовая акция порождает естественный вопрос: почему им, а не Сергию Радонежскому, так успешно снявшему с ханской повестки дня конфликт Москвы с Ростовом, были поручены переговоры с князем Борисом Константиновичем? Логично предположить, что митрополит Алексий, обсуждая со своими советниками способы разрешения московско-нижегородской распри, столкнулся с отрицательным отношением Сергия Радонежского к насильственным мерам, затрагивающим ни в чем не повинных верующих, и что, не приняв совета преп. Сергия, святитель остался при своем мнении и отправил вместо Сергия приближенных бояр. Когда же их беседы с кн. Борисом и закрытие церквей в Нижнем Новгороде не дали желаемых результатов, московские правители снова вспомнили о Сергии Радонежском и предложили ему попытаться убедить кн. Бориса уступить Нижегородское княжество Дмитрию Константиновичу, не доводя дело до вооруженного конфликта. Преп. Сергий сумел решить эту задачу. Кн. Борис Константинович оставил Нижний Новгород старшему брату и переселился в Городец. Так мудрость одержала победу над междоусобной враждой.
В 1366 году Московский великий князь Дмитрий Иванович и Евдокия, дочь кн. Дмитрия Константиновича, сочетались браком и тем закрепили союз Нижнего Новгорода и Москвы. Восточный рубеж Руси получил твердую защиту. И как раз во-время: в 1367 году на Нижний Новгород совершил набег ордынский князь Булат Темир, но его рать была разгромлена объединенным войском трех князей, Дмитрия, Бориса и младшего Дмитрия...
Великое дело сделал Преподобный, предотвратив войну между Москвой и Нижним Новгородом. Случись эта трагедия, Москва, наверное, победила бы. Но с обеих сторон погибли бы тысячи русских воинов и мирных жителей – к радости Орды и Литвы. Кроме того, образовался бы новый, третий очаг противостояния – в дополнение к Рязани и Твери. Все это нанесло бы серьезный урон стратегии накопления сил для решающей битвы с Ордой.
Чтобы глубже осознать субъективные причины, побудившие Сергия Радонежского порвать с почитаемой монашеской традицией – мироотречением, мы кратко охарактеризуем, опираясь на Учение Живая Этика, ту степень духовного восхождения, которой он, похоже, достиг к 45-50 годам. «Никакое ясновидение не равняется знанию духа. Истина может приходить через это знание. Понимание нужд времени идет лишь этим путем.
Пророческий экстаз минует точность времени и места, но знание духа предвидит качество события. И путь знания духа цветет без видимых признаков, но основан на открытии центров.
У жрецов знание духа считалось высшим проявлением, ибо не могло быть достигнуто никакими телесными упражнениями, но слагалось наслоениями прежних жизней» [137].
Из сказанного мы выделяем сейчас мысль о способности понимать истинные нужды времени. Это яснопонимание с бесспорной силой проявилось у преп. Сергия в том, что он верно построил долголетний план своей жизни. Он знал, что Руси не миновать решающей битвы с Ордой, и потому загодя расширил сферу своего влияния, активно работая на упрочение единства русского народа.
Миротворческий путь разрешения конфликтов между русскими князьями имел, мы полагаем, сильное благое влияние на умы русских людей, включая правителей Руси. Однако поперек этого пути стояли два серьезнейших препятствия: консервативность человеческого мышления, почитающего силу, и целенаправленное противодействие Князя тьмы. И потому для закрепления миротворческого пути, увы, потребуются новые большие жертвы и новые мощные потрясения сознания людей.
Мудрее дать учиться на явлениях жизни... Мудрость признает добро, откуда бы оно ни происходило. Мудрость порицает зло, откуда бы оно ни порождалось...
Живая Этика
Успехи, видимо, вскружили голову московским правителям. И они принципиальный просчет в своей «западной» политике. Мечтая покончить с тверской проблемой, митрополит Алексий, глава боярской думы, и в. кн. Дмитрий Иванович (ему было около 17 лет) придумали, как им казалось, хитроумный план. Великий князь позвал на третейский суд молодого тверского князя Михаила Александровича и, чтобы успокоить его, поклялся на кресте не чинить над ним насилия. Но, когда князь прибыл в Москву (1367 г.?), его тут же взяли под стражу, а вместе с ним и сопровождавших его бояр. Летописи молчат о том, какие конкретные цели преследовали при этом московские правители – то ли они хотели угрозами «выжать» от тверского князя выгодный договор, то ли припугнуть смертью. Нам нужно отметить сам факт насилия и клятвопреступления, так как преп. Сергий в тверской акции не участвовал и, надо полагать, не случайно, а потому, что митрополит, зная отрицательное отношение Сергия к подобным методам разрешения споров между своими, не пригласил его принять участие в укрощении Твери. Судя по всему, митрополит Алексий переоценил роль силовой поддержки миротворческого похода преп. Сергия в Нижний Новгород, и теперь желал показать, что можно успешно разрубать запутанные узлы противоречий одним ударом, сочетая вероломство с насилием. Так со всей наглядностью проявились два пути прекращения междоусобиц и сплочения Руси вокруг одного центра (Москвы): путь преп. Сергия, отвергавшего насилие, твердо стоявшего за методы убеждения, вразумления, и путь митрополита Алексия, путь московских правителей – путь грубого насилия и вероломного обмана. Руководство Русской церкви явно обнаружило – и это особенно прискорбно для святителя Алексия – свое маловерие. С точки зрения преп. Сергия (в этом невозможно усомниться) тверская акция была кощунством, и, подобно бумерангу, она должна была ударить по ее вдохновителям. Но если б были наказаны только они! По закону космической справедливости преступления правителей ложатся тяжким испытанием не только на них, но и на народ. Никакое замаливание преступления тут не поможет: злое действие нейтрализуется только равнозначным добрым действием, а не словом раскаяния, хотя бы и самым искренним. Преп. Сергий, обладавший знанием духа и даром яснопонимания, знал, к чему приведет и чем закончится план московских правителей. План позорно провалился. Высокоименитого пленника отпустили в Тверь. Причину историки все еще не установили, ибо летописные известия об этом неопределенны. Как ответ на свой кощунственный план московские правители получили четырехлетнюю войну с Литвой, на стороне которой, естественно, боролись тверские полки. Повод для войны дала Москва, а литовский князь Ольгерд, дочь которого была супругой тверского князя, охотно воспользовался столь выгодной ситуацией. Дважды Ольгерд подступал к стенам Москвы, Москвы не взял, но опустошение вокруг учинил такое страшное, какое, по свидетельству летописца, не делали и татары...
Хан получил прекрасную возможность разыграть тверскую карту, и в 1371 году он дал тверскому князю ярлык на великое княжение... История, действительно, повторяется, хотя логика повторений не всегда укладывается в известную формулу: первый раз – трагедия, второй – фарс. В 1067 году сыновья Ярослава Мудрого, нарушив клятву крестоцелования, заманили своего противника, полоцкого князя Всеслава в ловушку и упрятали его в тюрьму, как они надеялись, на долгие годы. Но злой дух предательства развернулся и набросился на тех, кто спустил его с цепи. Князь Всеслав завладел Киевским столом и развязал длительную междоусобную войну с Ярославичами. Есть в мире Грозный Судья (как бы его ни называть), и Он не прощает вероломства и предательства, платит за зло или добро по справедливости.
Три разрушительных «литовщины», порожденных антихристианскими действиями московских правителей, преподали суровый урок как им самим, так и вообще русским князьям и народу Руси. Митрополит Алексий, крупно просчитавшись, утратил, видимо, в глазах великого князя Дмитрия Ивановича ореол безупречного наставника в политике, в то время как вера в прозорливость преп. Сергия должна была возрасти. Дмитрию Ивановичу пришлось пойти на рискованнейший поступок, последствия которого были трудно предсказуемы: он вынужден был, скрепя сердце и собрав все мужество, поехать в Сарай на поклон к хану, чтобы выпросить и выкупить у него ярлык на великое княжение. Либо пан, либо пропал – московский князь вернулся на Родину великим князем, «паном», но вполне мог и «пропасть». На ошибках, конечно, учатся, кто способен, учатся основательно, но такое учение дается дорогой ценой. К следующему, решающему противоборству с Тверью и ее союзниками (1375 г.) московские правители подготовились всесторонне и выиграли его малой кровью.
С 1366 г. по 1374 г. источники молчат о каком-либо личном участии преп. Сергия в политических действиях Москвы. Видимо, так оно и было. Конечно, преп. Сергий глубоко переживал трагическое непонимание московскими правителями истинного пути объединения Руси и не скрывал от них своих взглядов, но как мог он помешать им ввергнуть страну в страшное несчастье? В силу сложившихся обстоятельст преп. Сергий сосредоточил свои усилия на строительстве новых киновий и на совершенствовании Свято-Троицкой обители, прекрасно понимая великое значение этой работы для укрепления веры народа в Бога.
13.5. На чаше весов судьба Руси
Конечно, нужно представить себе напряженность организма при духовном труде. Как магнит, впитывает он окружающее, желая помочь. Не сказка перенесение чужой боли на себя.
Живая Этика
1374 год можно считать годом возобновления дружеских отношений между преп. Сергием, великим князем и митрополитом. События, разнообразные и трагические – три жесточайших «литовщины», пожар Москвы, два голодных года, два моровых поветрия – подтвердили правду Сергия, правду укрепления межкняжеских отношений на основе справедливости, веры в Бога, любви к ближнему. Тяжкие страдания народа, беды, затронувшие семью великого князя (смерть сына и матери, потеря ярлыка на великое княжение, рискованнейший визит в Орду за новым ярлыком), усиление веры в Бога привели к изжитию срочной Кармы правителей Руси и к улучшению положения на Руси. Авторитет преп. Сергия возрос. Великий князь Дмитрий Иванович нашел в себе внутренние силы для преодоления кризиса в отношениях с преп. Сергием и первым сделал важные шаги к сближению. За приглашением Сергию основать Голутвинский монастырь (1374 г.) последовало приглашение на Переяславский съезд князей Северо-Восточной Руси (декабрь 1374 г.) и приглашение крестить третьего сына Великого князя, Юрия (январь 1375 г.). Преп. Сергий откликнулся на приглашения, подтвердив свою принципиальную линию активного участия в важнейших делах Руси.
В съезде князей участвовал, конечно, и митрополит Алексий, который так же, как и Сергий, считал объединение и освобождение Руси важнейшей задачей власти. Разногласия, возникшие между ними, касались тактики достижения целей, но не самих целей. Сергий утверждал совершенно новый тип монаха-патриота и гражданина, и митрополит Алексий продолжал русскую традицию, идущую от митрополита Иллариона, традицию тесного сотрудничества духовной власти со светской в решении государственных задач. Съезд князей проходил в глубокой тайне: неслучайно летописцы ничего не рассказали о его содержании. Но все тайное становится явным. Судя по событиям, последовавшим за съездом, на нем решался важнейший вопрос Руси – быть или не быть ей независимым государством, что означало тогда: готовиться или не готовиться к решающей, судьбоносной битве с Ордой. Ничего конкретного об участии преп. Сергия в съезде князей ни летописи, ни другие письменные источники не сообщают; эта страница его деятельности остается пока закрытой для исследователя. Мы можем с уверенностью сказать, что он сделал не съезде все, что мог, для укрепления единства Руси на основе Учения Христа и веры в освобождение Родины от татаро-монгольского ига.
Съезд князей проходил напряженно, в обстановке противоборства сторонников курса на подготовку войны с Ордой и сторонников прежней политики повиновения Орде. О накале борьбы и ее сути говорят факты: проведение двух съездов подряд, болезнь преп. Сергия и активизация ордынских шпионов. Вскоре после возвращения из Переяславля в Свято-Троицкую обитель, примерно в середине марта 1375 года, преп. Сергий тяжело заболел: «Того же лета болезнь бысть тяжка преподобному Сергию игумену, а разболеся и на постеле ляже в Великое говение на второй неделе, и нача омогатися и со одра воста на Семень день, а всю весну и все лето в болезне велице лежал» [138]. Так кратко сообщено о болезни преп. Сергия в Никоновской летописи. Пять с половиной месяцев больной не вставал с ложа: да, действительно, его болезнь была очень тяжелой. Но чем он болел? Признаков опозновательных не названо. Чем может болеть Высокий Дух? Обычные человеческие болезни, и самые заразные, к нему не пристают. Преп. Сергий невредимым прошел в 1365 году через зачумленные районы в зачумленный Нижний Новгород. Известны случаи заболевания йогов от нервного перенапряжения особого рода, вследствии длительного общения с людьми-носителями грубых вибраций. Н. С. Борисов в книге «...и свеча бы не погасла» сделал предположение, что в период пребывания в Переяславле Сергий Радонежский был измотан «огромным нервным напряжением» [139], которое и было «причиной» его болезни. Исследователь предполагает далее, что причинами перенапряжения были, во-первых, осада знаменитого чудотворца Сергия людьми, желающими получать от него наставления и исцеления, и, во-вторых: «Оказавшись среди пестрого сообщества приглашенной на торжества светской и духовной знати, он постоянно ощущал на себе пристальные и далеко не всегда почтительные взгляды. Любая оплошность могла вызвать ликование недоброжелателей» [140]. Обе причины, на мой взгляд, вполне реальны. Стоит, пожалуй, добавить, что и в том, и в другом случаях действовало одно и то же: утонченная психическая энергия преп. Сергия находилась в состоянии непрерывного борения с темной, грубой, а тем более злой психоэнергией его недоброжелателей и врагов; заградительная сеть Сергия, отражая атаку темных, и особенно черных излучений, работала в режиме перенапряжения, причем (что очень важно) перенапряжения переменного и разнообразного по вибрациям. Результатом стала огромная усталость как следствие перерасхода психической энергии и истощения нервной системы. Зная характер преп. Сергия, можно сказать, что в период съездов он шел навстречу всем опасностям и испытаниям. Скорее всего, преп. Сергий никакой обычной болезнью не болел, а просто, погрузившись в глубокий отдых и в полный покой, «ремонтировал», восстанавливал израненную ауру и нервную систему. Отсутствие в летописи каких-либо признаков телесной болезни говорит в пользу нашего предположения. Приведем показательное высказывание Владыки Земли о болезни его друга: «Мой друг в свое время заболел при выполнении нескольких заданий. Причина заболевания была в чрезмерном напряжении психической энергии. Не забудем, что Мой друг вышел с усиленным запасом психической энергии, и, несмотря на это, заболел» [141].
Только Сергий и тот, кого агиограф эвфеминистически называет «врагом» и кто действительно был его непримиримым и самым сильным врагом, только Светлая Иерархия, преп. Сергий и Сатана знали определенно, сколь тяжко отозвалась бы на судьбе Руси смерть Сергия, земного представителя Высших Сил Света, самого мощного проводника их воздействия на ход русских событий. И сам Сергий, и его Враг знали также, чем закончится для Сергия участие в съезде князей, как знали они и то, что преп. Сергий не мог уклониться от участия в съезде: ему необходимо и целесообразно было восстановить (в предвидении надвигающихся битв с внешними и внутренними врагами) добрые отношения с великим князем, митрополитом и их союзниками. Борьба есть борьба, в ходе ее возникают узлы напряжения, через которые надо, подчиняясь действию законов необходимости и целесообразности, пройти бесстрашно, спокойно, с сознанием своей силы, достоинства, ответственности за исход борьбы. Из этого противоборства, на наш взгляд, самого опасного за всю жизнь преп. Сергия, не исключая и периода непосредственной подготовки Куликовской битвы, он вышел победителем. Конечно, мы должны ясно себе представлять, что в тех случаях, когда Сатана сам подключался к атаке на преп. Сергия, последний обращался за помощью к Высшим Силам и, несомненно, получал ее. О том, что такое «подключение» бывало (причем в самый напряженный момент) у нас тоже не должно быть сомнений: противника, тем более князя тьмы, вредно недооценивать.
Сергий победил, враг потерпел поражение, но борьба продолжалась. И усиливалась. И обострялась.

Для предвидения событий нужно сочетание многих условий. Кроме астрологических знаков, нужно содействие Высших Сил, но еще нужна и мысль человеческая.
Живая Этика
1375 год – год переломный. К лучшему. Но через новые мучительные страдания. Необходимо коснуться некоторых важнейших событий, чтобы почувствовать ветер перемен, ощутить новую складывающуюся атмосферу вокруг преп. Сергия.
Различна карма нападающего и обороняющегося. Можно показать, насколько все нападающие подвергаются тяжким последствиям... Они отяжеляют свою карму не только убийством, но и засорением атмосферы, которое происходит при каждой войне.
Живая Этика
На двух княжеских съездах, которые можно, исходя из их сути, рассматривать как один с перерывом примерно в два месяца, как съезд объединения князей, был выработан и закреплен новый политический курс на активное противостояние Орде. Русь, пользуясь внутренним ослаблением Орды, готовилась помериться с ней силами, что в перспективе неизбежно вело к большой войне. Однако и Орда не дремала. Ее тайная агентура нанесла первый удар Москве уже 5 марта 1375 года. В этот день из Москвы в Тверь ушли два человека, прекрасно информированных о новых замыслах Москвы – Иван Вельяминов, сын главного военачальника (в недавнем прощлом) Москвы, т. е. тысяцкого, и Некомат Сурожанин, грек, богатый купец, судя по его действиям, резидент ордынской разведки. От Михаила Тверского эти двое отправились в Орду, а сам Михаил – в Литву. Москва и ее союзники поняли, что их планы, их новый военно-политический курс вскоре будет известен двум главным противникам – Орде и Литве.
Закономерным следствием нового военно-политического курса Москвы стали в конце марта 1375 г. нижегородские события. 31 марта нижегородские дружины под командованием княжеского сына Василия напали на ордынский отряд во главе с послом Сарайкой и истребили его полностью. Перчатка была брошена в лицо Мамаю, и Русь поняла, что надо готовиться к отражению монгольской рати, так как ханы никогда не прощали оскорбления, а тем более убийства своих послов. Гибель Сарайки в глазах Мамая была, конечно, лучшим доказательством того, что агенты Вельяминов и Сурожанин принесли верные вести.
Михаил Тверской, действуя как союзник Орды, первым нанес упреждающий удар, отняв у Москвы и Торжок, и Углич. Это случилось после того, как Некомат Сурожанин передал ему ханский ярлык на великое княжение. Так Орда поощрила Тверь на объявление войны Москве, которая стала быстро готовиться к ответному удару. Маховик войны раскручивался с обеих сторон. Однако, в отличие от усобицы 1368-72 годов, симпатии 18 русских князей были теперь на стороне Москвы, и потому в. кн. Дмитрий Иванович смог собрать внушительное объединенное войско, которое в начале августа 1375 года окружило Тверь. Штурм Твери закончился неудачей: она была хорошо укреплена. Началась осада, сопровождавшаяся разорением тверских владений. Тверь ждала помощи Орды или Литвы, но помощь не приходила: в обоих государствах были серьезные внутриполитические проблемы, и Москва, видимо, знала об этом. В начале сентября, месяц спустя после штурма, Тверь пошла на мирные переговоры, которые закончились заключением выгодного для Москвы договора о дружбе и любви. В договоре был исключительно важный пункт о том, что ни Москва, ни Тверь не будут прельщаться посулами Орды и не дадут ей никаких шансов снова поссорить Тверь с Москвой. Михаил Тверской сам отказался от ханского ярлыка на великое княжение и подписал обязательство впредь никогда не покушаться на это. Более того, тверской князь, круто изменив политический курс, целовал крест в подтверждение того, что и он, и его родственники отныне и впредь будучи участвовать во всех походах московских князей против Орды или Литвы. Тверь стала важнейшим союзником Москвы, и признала «московского князя руководителем общерусской политики» [142]. Так московско-тверской договор получил серьезное общерусское и даже международное значение, стал вкладом в морально-политическое объединение Руси. Стал фактором наращивания ее мощи и внутренней крепости в один из самых критических периодов ее истории.
Такой фактор появился не внезапно, а как следствие изменения сознания правящего слоя и народа Руси, которое само было следствием многолетних разнообразных усилий, направленных на достижение единства Руси. Тут мы должны отметить как усилия тех светских и духовных князей Руси, которые понимали суровую необходимость объединения сил, так и менее заметные, но очень важные действия духовных руководителей среднего уровня. Особую роль играл Сергий Радонежский. Он раньше всех ясно понял, что в основе морально-политического единства Руси лежит единство духовно-нравственное, которое, в свою очередь, строится на базе укрепления искренней веры в Бога. На основе Заветов Христа Сергий Радонежский и его сподвижники ковали союз с Высшими Светлыми Силами – основу основ сотрудничества земных сил Руси. Сергий Радонежский смело включился в борьбу по политическому объединению Руси, спокойно, но решительно презрев как помеху церковные постановления о неучастии в мирских делах. За десять лет до тверского владыки Евфимия, посредника примирения Твери с Москвой в 1375 г., Сергий прозорливо начал миротворческую деятельность. По содержанию и целям ее можно охарактеризовать как духовно-гражданскую дипломатию. Владыка Евфимий шел по проложенному Сергием следу. Вот почему мы можем утверждать, что в заключение московско-тверского договора 1375 года была вложена мысль и энергия также и преп. Сергия, хотя он непосредственно не мог в этом деле участвовать, так как был болен.
14.2. Сергий Радонежский и стригольники
Стригольники – русские гуманисты XIV столетия.
Б. А. Рыбаков
В последней трети 1375 года (точная дата не известна) в Новгороде Великом произошло событие, на первый взгляд, местного значения, получившее, однако, общерусский резонанс: казнь пятерых вождей религиозного движения «стригольников». Оно интересует нас потому, что его духовно-нравственные принципы и цели во многом близке тем, которые на деле осуществлял преп. Сергий. Оно, конечно, было известно преп. Сергию, хотя письменных свидетельств пока не найдено. Сопоставление деяний преп. Сергия и стригольников проливает дополнительный свет на него, на них и на само время.
Новаторство Сергия и движение стригольников было основано на Учении Христа, на очищении его от церковно-догматических искажений [143]. Сергий начал свою работу лет на 30 раньше стригольников, но вряд ли они знали о нем что-либо до середины 50-х годов, точнее, до перестройки Свято-Троицкой обители в общежительный монастырь, что, конечно, получило широкую огласку благодаря посланию Константинопольского патриарха, адресованному преп. Сергию и активно поддержанному митрополитом Руси Алексием. И хотя Сергий вышел в путь раньше стригольников, и хотя и он, и они исходили из Учения Христа, у нас нет оснований говорить ни о побудительном влиянии Сергия на возникновение стригольничества, ни о его влиянии на их мировозрение. Во всем «виновато» время, которое властно потребовало от русского народа возрождения искренней веры в Бога и любви к ближнему во имя объединения Руси и ее освобождения из-под монгольского владычества. Откликом на эту общенациональную потребность и стали подвижнические деяния Сергия и движение стригольников.
Варфоломей (Сергий) был пострижен в монахи игуменом Митрофаном, и это означало, что молодой отшельник, устремившийся к возрождению древнеиноческого подвига, оставался в православной церкви. Благодаря этому вызов Сергия неблагочестивой жизни тогдашнего монашества не был протестом против института монашества. Однако внутренний смысл нового пути, прокладываемого Сергием, затрагивал коренные интересы церковной власти. Этот смысл, ракрываясь в жизни Сергия, многим становился все яснее и яснее. Было показано на деле, что для служения Богу и спасения души верующий не нуждается в посредниках, что можно, как в первохристианские времена, вступать в прямое общение с Богом. Чтобы идти путем Христа, надо, подобно Сергию, подражать Ему в делах, надо держать Его в сердце, а не на языке. Молитва в духе, покаяние в духе, а исправление, самосовершенствование на деле, – все это вполне соответствовало Учению Христа. Сергий создал для Него храм в сердце и церковку в лесу, а второй храм – под Небом, в самой Природе был изначально создан Творцом для всеобщего братства людей и зверей, образно говоря, для Сергия, великого князя... и медведя. Сергий слил воедино служение Богу со служением народу, объединил небесное с земным, не отступая от Учения Христа, не выхолащивая его сладкоречивой, пустозвонной хвалой Господу. Жизнь Сергия стала (по своему духовному смыслу) непрерывной евхаристией, то есть внутренне-внешним, духовно-материальным движением по пути Христа, истинной жизнью во Христе. Обряд (просфора, вино и пр.) причащения в лесных условиях вряд ли мог соблюдаться и потому утрачивал всякое значение. Внутренняя евхаристия, сердечное приобщение к Христу и жизнь по Христу не зависели от внешних признаков их проявления. Таинство евхаристии получило смысл тайны невидимого, сокровенного преображения души. Это было главным, и это главное не зависело от обряда причащения. Обряд мог быть или не быть, но процесс духовного приобщения к Христу, самосовершенствования человека шел непрерывно. Сергий (как и стригольники) не боролся за отмену таинства евхаристии, потому что в этой борьбе не было смысла: он был занят действительным самосовершенствованием человека в труде и в действии. На своем целожизненном подвиге он показал, что это значит и как это можно делать. Сами условия отшельнической жизни, когда у него, как сказано в «Житии», часто не было то хлеба, то вина для совершения причастия, обнажили необязательное, внешне-условное значение обряда. Принципиально идентичное понимание евхаристии находим мы в Живой Этике: «Ты, смотрящая, тебе Даю: прибавь каплю Моего дела в питье и обмакни хлеб в вино знания, подвига, давая пищу приходящим» [144].
Стригольники, в сущности, боролись за то же самое, что и православные соборы 1287 – 1312 гг., т. е. за очищение духовенства от скверны невежества, пьянства и корыстолюбия. Различие в том, что стригольники вели борьбу последовательно и искренне, требуя отстранения и замены неподходящих священнослужителей, а церковные верхи ограничивались поучениями; что стригольники начинали с себя, а сановники себя считали вне критики; стригольники были нестяжателями, а церковная власть и не думала становиться на этот путь. Стригольники, исходя из неотложной необходимости всенародного очищения от грехов и спасения от мучений в загробной жизни, считали, как и Сергий, возможным и канонически оправданным внецерковное покаяние, непосредственное обращение к Богу с молитвой о помиловании и отпущении грехов [145]. При этом стригольники не отвергали обрядовые процедуры, а только упрощали их с целью повышения действенности, тем самым нарушая, конечно, некоторые любимые церковные обычаи. Но более всего церковникам претило решительное требование стригольников заменить недостойных священнослужителей верующими из низших слоев клира и даже из мирян. В этом была прямая угроза для священнослужителей среднего и высшего звена. Как и Сергий, стригольники делали упор на «чистой жизни» человека, на его самосовершенствовании, которое и было главным основанием для отправления обряда евхаристии. Стригольники осуществляли свои идеи в общеновгородском масштабе, на площадях и за городом – ив результате много недостойных священнослужителей оказались отстраненными от всего процесса покаяния и евхаристии. Кто из них не был ни пьяницей, ни невеждой, ни стяжателем? Новгородцы шли к стригольникам. Потому-то священники и составили, наверное, ядро оппозиции, непримиримой к тем, кто лишал их работы, доходов и славы.
Как только преп. Сергий взялся за создание общежительства, так резко усилилось противодействие ему в церковной и монастырской среде, которое через несколько лет привело к организованному выступлению против него. Он был вынужден вторично уйти в лес, еще дальше от Москвы и там начать все сызнова. Лишь заступничество Светлой Иерархии и митрополита Алексия помогло ему вернуться победителем в Свято-Троицкий монастырь. С этого времени (1361 г.) его деятельность протекала в более благоприятных условиях. В том же 1361 году был утвержден на кафедре новгородского архиепископа ключник Софийского собора Алексей, представитель низшего клира [146]. Новый владыка прекратил гонения на стригольников, выработал с их вождями разумный компромисс о сотрудничестве с целью укрепления искренней веры в Бога.
Однако ни противники стригольников, ни противники Сергия не сложили оружия, но лишь затаились в ожидании подходящего момента для нового наступления. В Новгороде глубоко законспирированный заговор, направленный одновременно и против стригольников, и против архиеп. Алексея, оформился к середине 70-х годов. Как показал Б. А. Рыбаков, противники, умело использовав недовольство языческой части сельского и городского населения, вызванное бедствиями от обратного течения вспять р. Волхов [147], сумели взбунтовать Торговую сторону Новгорода. Мятежники, за спиной которых прятались, видимо, православные священники, оказавшиеся без прихожан, нанесли неожиданный беспощадный удар: сбросили с моста в Волхов пятерых стригольников (1375 год, осень), в том числе священнослужителей Карпа и Никиту. Язычники, которых было много в епархии, видели в этом, конечно, умилостивительную жертву хозяину реки, а церковные оппозиционеры – отмщение своим врагам. Софийская сторона (боярство) не оказала противодействия исполнителям казни, ограничившись созерцанием страшного зрелища, другими словами, стала фактическим соучастником расправы. В этой ситуации архиепископ Алексей решил покинуть свой пост и удалился в пригородный монастырь. Но тут вмешались в события широкие слои городского населения и потребовали вернуть владыку на Софийскую кафедру. В результате перевес сил оказался на их стороне. Делегация новгородцев, а затем и сам архиеп. Алексей, побывали в Москве у митрополита Алексия, получили его поддержку, и архиепископ вернулся к своим обязанностям. Он не изменил политики по отношению к стригольникам, и это убеждает в том, что он не был в числе заговорщиков и ничего не знал о подготовке расправы с т. н. ересиархами, и в том, что ни он, ни митрополит расправы не одобрили.
Мы не знаем, как отнесся к расправе со стригольниками Сергий Радонежский. Логично предположить, что, будучи противником насилия как средства прекращения распрей и разногласий внутри страны, он не одобрил и новгородской вспышки жестокости. Можно предположить также, что после смерти митрополита Алексия, когда возобновились нападения на стригольников, Сергию Радонежскому, зная его дипломатическое искусство, предлагали поехать в Новгород и умиротворить их. Он, конечно, должен был ответить отказом: его гонители и гонители стригольников были те же самые (по духу) консерваторы, церковные сановники, отвергавшие любые искренние устремоения к очищению церкви от невежественных и безнравственных служителей. «Для религиозных людей средневековья моральная стойкость с опорой на принципы христианства, на примеры из жизни праведников и мучеников прошлых лет была очень нужна как противостояние княжеским распрям... Стригольники не разрушали общественных устоев, они не собирались отменять или ниспровергать церковь, не выступали против икон и богослужения, они не посягали ни на одно из положений православия, хотя калики-паломники приносили с Востока сведения о десятках ересей» [148].
От бездеятельного ханжества до жестокости – все находит себе место под маской добра... Так будем на полном дозоре, чтобы добро не несло ущерба.
Живая Этика
«2 декабря 1375 года патриарх Филофей поставил на Русь еще одного митрополита, иеромонаха Киприана, болгарина по происхождению, долго жившего в Византии и ставшего одним из самых доверительных лиц патриарха» [149]. Это был крутой поворот в политике патриарха Филофея и в его отношении к действовавшему митрополиту Алексию и великому князю Дмитрию Ивановичу. Почему и как это произошло? И что за человек был Киприан? Обстоятельный и убедительный ответ на эти важные для Руси и всех православных вопросы мы нашли в «Истории русской церкви» митрополита Макария. «Успех Казимира (короля Польши. – Л. К.), который угрозой вынудил патриарха Филофея дать Галиции особого митрополита, подействовал на литовского князя Ольгерда. Обращался ли он снова в столицу Греции или вследствие еще прежнего его письма, только через два года (1373) Филофей счел нужным отправить в Россию своего посла, инока Киприана, чтобы он разобрал обоюдные жалобы князя Ольгерда и митрополита Алексия и постарался примирить их. Но Киприан не оправдал доверия патриарха и с самого начала принял тайное намерение во что бы то ни стало свергнуть митрополита Алексия и занять его кафедру. С этой целью Киприан прежде всего удалил от себя посланного вместе с ним в Россию сотоварища, чтобы последний не был свидетелем его действий и не воспрепятствовал ему. Потом прибыл к митрополиту Алексию, странствовал с ним в Тверь и другие города, убедил его не ездить в Константинополь и не ожидать себе оттуда ничего неприятного, сам вызвался хлопотать за него, обещал ему особенные милости и, получив от святителя множество даров, отправился в Литву. Здесь, оставаясь довольно долго, сумел войти в ближайшее доверие и любовь Ольгерда и других князей, приготовил ложные записи, наполненные обвинениями против Алексия, и сам составил от лица литовских князей грамоты к патриарху, в которых они убеждали его сделать для них митрополитом Киприана и угрожали, что если желание их не будет исполнено, то они станут просить себе митрополита у латинской Церки (подобно польскому королю Казимиру. – А. К.). Филофей и на этот раз уступил, поверив обвинениям против Алексия, и в 1376 г. (тут митрополит Макарий несколько неточен. – А. К.) рукоположил Киприана в сан митрополита Киевского (хотя Киев доселе считался за московским митрополитом) и Литовского с правом и на всю Россию после Алексия. Киприан добивался, чтобы Алексий был немедленно низложен, но не успел в своих замыслах. Отпуская от себя Литовского митрополита в Россию, патриарх послал с ним новых своих уполномоченных проверить обвинения, взведенные на Алексия, и внимательно исследовать его жизнь. Посланные донесли священному Собору, что все обвинения эти оказались совершенною выдумкою и клеветою» [150]. Решение патриарха, якобы продиктованное заботой о лучшем «окормлении» православных, живущих в Литве, было возмутительно бесцеремонным как по форме, так и по существу. Не считаясь ни с традицией, ни с достоинством великого князя и митрополита, патриарх, введенный в заблуждение Киприаном и шантажируемый литовским князем, именно Киприана и назначил митрополитом Руси – при живом митрополите Алексии, без предварительного совета с великим князем Дмитрием. Назначил сразу на два поста. Пост митрополита Киевского, пастыря всех православных, живших в Литве, означал, что все епархии, перешедшие после смерти митрополита Романа под власть митрополита Алексия, немедленно отнимаются от него (вместе с доходами) и передаются Киприану. Это означало также упрочение международного авторитета и внутренней власти литовских князей в ущерб авторитету Руси, которая к тому же лишалась канала воздействия на православное население Литвы. Назначение Киприана на второй пост митрополита всей Руси, которое вступало в силу после смерти митрополита Алексия, было оскорбительно именно великому князю Дмитрию, так как оно ставило его перед фактом полного лишения прав при выборе кандидата в митрополиты Московской Руси. Взамен отнятых прав патриарх и Киприан сулили великому князю журавля в небе: совершенно призрачные возможности усиления русского влияния (на деле – византийского, только об этом и печалились Филофей и Киприан) на русское население, жившее на обширных землях, покоренных Литвой. Не удивительно, что решение патриарха Филофея вызвало гнев великого кн. Дмитрия, и, думается, митрополита Алексия (хотя об этом и нет прямых летописных свидетельств). Не одобрял, конечно, это решение и преп. Сергий, который не только ясно видел, что в дополнение к военно-политическому «розмирию» с Ордой оно вызовет религиозное «розмирие» с Византией, но и предвидел то, что оно кладет начало длительной церковной смуте на Руси, то есть наносит удар по объединению ее сил в самое неподходящее, напряженно-критическое время резкого обострения отношений с Ордой. Следовательно, упомянутое решение Филофея лило воду на мельницу ордынской политики подрыва внутреннего единства Руси. История подтвердила оценку Киприана, данную митрополитом Макарием: там, где появлялся самозваный митрополит Киевский, Литовский и всея Руси, за ним, как шлейф, тянулись клевета и раздоры, вероломство, своекорыстие и шантаж.
Весной 1376 года, вскоре после получения известия о злополучном решении Филофея, великий князь Дмитрий предпринял ответные меры, защищавшие и его достоинство, и авторитет Руси: он решил бороться за своего кандидата в митрополиты, которым стал его личный духовник и хранитель его печати, бывший Коломенский священник Дмитрий, вошедший в историю под именем Митяя. Судя по быстрому продвижению Митяя со ступеньки на ступеньку монашеской карьеры (он получил сан архимандрита Чудовского монастыря спустя несколько месяцев после пострижения в монахи, в нарушение всех действующих правил), митрополит Алексий вначале одобрял княжеский выбор своего преемника и содействовал его стремительному продвижению по служебной лестнице. Однако, приглядевшись к нему внимательнее, митрополит изменил свое мнение о Митяе, и стал подыскивать другую кандидатуру.
14.4. Светоносец, а не золотоносец
Желаю же и пекуся о сем, кто будет таковый, могый пасти стадо Христово. И о всех недоумевая, тебе единого обретох, достойна суща таковыя благодати, могуща исправити слово истины.
Митрополит Алексий. «Житие Сергия»
Выбор пал на преп. Сергия. Действительно, невозможно было найти на Руси лучшей, более достойной и авторитетной фигуры священноинока. Но митрополит ошибся в одном – в отношении преп. Сергия к его назначению на высший церковный пост.
Митрополит Алексий послал своего приближенного боярина в Свято-Троицкую обитель с поручением пригласить преп. Сергия на беседу. Сергий, по обыкновению, незамедлительно отправился в Москву, в резиденцию митрополита. Описание встречи в «Житии»* показывает, что митрополит тщательно подготовился к ней, продумал ее ход и придал ей характер торжественного театрализованного действия (в первой части), сменившегося потом искренним, доверительным разговором. С самого начала беседа была пронизана внутренним драматизмом, который ощущается и сегодня в простых фразах агиографа, чуждых словесных ухищрений. После взаимных приветствий и ясно высказанного смирения Сергия «митрополит приказал принести крест, действительно прекрасный, украшенный золотом и драгоценными камнями, а также почетный параман» (с. 368). Один из бояр встал, взял это все и протянул святому Сергию, говоря: «О досточтимый отче, отец твой Алексий, митрополит, благословляет тебя и дарует тебе крест с парамандом, которые достойны твоего святого преподобия». Он же, поклонившись, сказал: «Прости меня, владыка, но смолоду не был я золотоносцем, теперь же, в старости, тем более хочу пребывать в нищете и таким пройти оставшуюся жизнь» (с. 368).
Митрополит сделал все, чтобы затруднить преп. Сергию даже выражение простого несогласия. Еще при обмене приветствиями Алексий назвал Сергия «чадо», на что он имел полное право и как старший иерарх, и как старший по возрасту. Такое обращение к Сергию определяло их отношения как родственные по духу, причем Сергию отводилось положение сына и послушника, а Алексию – отца и наставника. Алексий пригласил бояр, что придавало беседе официальный, ответственный характер, затрудняя Сергию проявление непослушания, так как при свидетелях оно невольно приобретало демонстративный оттенок, что всегда претило душе Сергия. Благословение было объединено с преподнесением даров и потому отказ от их принятия означал бы отказ от принятия благословения, что само по себе было бы предерзостным нарушением общепринятого обычая и внутрицерковной дисциплины. Сам митрополит участвовал в сцене как наблюдатель и как режиссер-постановщик одновременно, который в случае недоразумения тут же вступает в права третейского судьи. Если бы преп. Сергий принял дар как должное, то он невольно оказался бы в ловушке, и его отступление – выход из нее был бы невероятно осложнен. Умен и опытен был митрополит Алексий, но он явно недооценил преп. Сергия, который, обладая даром яснопонимания, заранее знал о сути беседы с митрополитом и потому тщательно обдумал и свои ответы, и свое поведение. Золотоносный дар преп. Сергий тонко оценил как покушение на самую дорогую особенность его христианской жизни, которая помогает войти после окончания земного пути в Царствие Небесное. Ответ Сергия вызывал в памяти присутствующих образ Христа, нищего проповедника любви к ближнему. Согласие Сергия, выходит, означало бы отказ от Христа в себе. Что в сравнении с этим значила размолвка с митрополитом? Ответ преп. Сергия отнимал у митрополита все аргументы, кроме одного – принуждения. «Митрополит же отвечал ему: «Я хорошо знаю, какою жизнью ты живешь. Но яви послушание, прими это от меня, чтобы поминать меня в твоих святых молитвах». Святой же не мог его ослушаться, но сказал: «Владыка, есть на мне крест и параманд». Но он повелел снять их и сам надел на Сергия новые» (там же). Первый акт драмы закончился внешней победой митрополита, который, однако, прекрасно понимал, что заставить не значит убедить и что в следующем акте принуждение исключается. Знал это и преп. Сергий и потому принял дары.
Тут митрополит «приказав всем выйти и, оставшись наедине с Сергием» (с. 368), повел откровенный разговор по существу дела. Психологически чрезвычайно интересно начало разговора: «Знаешь ли, преподобный, зачем пригласил я тебя и что я хочу сделать для тебя?» Сергий отвечал: «Не знаю, господин мой». Похоже, что решительное нежелание Сергия принять почетные дары вызвало у проницательного митрополита догадку о том, что, быть может, преп. Сергий каким-то образом заранее узнал о его намерениях и потому, все обдумав, упреждающе готовит почву для окончательного отказа. Ответ Сергия на проверочный вопрос успокоил святителя, и он изложил кратко, ясно план поставления Сергия в митрополиты и причины, которые побудили Алексия избрать себе преемником именно Сергия.
Характеристика Сергия, данная митрополитом, даже в житийном пересказе сохранила бесценные оригинальные черты, и потому мы должны на ней остановиться. Первое, что необходимо особо подчеркнуть: никого, кроме преп. Сергия, не видит митрополит способным и достойным «пасти стадо Христово» и «могущим делом утвердить слово истины» (с. 368). Значит, ни Киприан, ни Митяй, по мнению митрополита, не были подходящими преемниками и не обладали ценнейшим качеством, необходимым для главы русской митрополии: умением подкреплять слово делом. Хотя в «Житии» не названы ни Киприан, ни Митяй, но именно их, конечно, имел в виду митрополит Алексий прежде всех других, так как они были уже определены как претенденты на митрополичий престол. Думается, мы должны отметить точность оценки Алексием общего обоим претендентам главного недостатка: не слово истины Христовой и не забота об утверждении ее на деле были сущностью их устремлений, а – как они ясно оба показали потом – амбициозный карьеризм. Мы могли бы добавить к оценке митрополита и другие их сходные характерные особенности – бесцеремонность, самовосхваление, гордыню, честолюбие. Это все бесовские «добродетели», а не христианские. Если уж признавать реальностью происки «врага рода человеческого», то надо ясно видеть, что в предвидении освобождения Руси из-под монгольского ига он развил бешеную энергию и на церковном поле деятельности. Неважно, игрою случая или под внушением «врага» выплыли на стрежень русской истории Киприан и Митяй, важно другое: оба они не подходили как для роли объединителей народа, так и для роли воспитателей глубокой искренней веры народа в Высшие Силы. Там, где появлялись они, там возникали смуты и раздоры, и в такой обстановке они чувствовали себя, как рыба в воде...
Упреждая возможный вопрос Сергия о княжеской поддержке его кандидатуры, митрополит сказал: «Я точно знаю, что сам князь великий и все бояре его очень хотят видеть митрополитом тебя» (с. 368). Свои аргументы и свое предложение митрополит, как водится, подкрепил цитатами из «божественных писаний». Думается, митрополит был уверен, что преп. Сергий не пойдет против воли правителей Руси. В русской истории не было подобного прецедента. Но митрополит ошибся. Сергий решительно отклонил предложенную ему высокую честь: «Прости меня, владыка, но это дело выше моих возможностей. Достоин ли я, худший из всех людей, грешный, такого сана?.. Я даже не достоин взирать на столь высокий пост. И я умоляю тебя, владыка святой, не говорить больше об этом ни со мной и ни с кем-либо другим» (с. 369). Довод, выставленный преп. Сергием, часто встречается в житиях, когда возникают подобные ситуации: похоже, что он был просто общепринятым выражением благочестивого смирения подвижников, и потому не принимался всерьез. Именно так и оценил митрополит возражение преп. Сергия, а потому долго еще уговаривал его дать согласие. Однако преп. Сергий проявил такую непреклонную твердость, что политичный, умный митрополит побоялся «перегнуть палку», оправданно опасаясь ухода Сергия в какую-либо «внутреннюю пустыню» (с. 369), его самовыключения из религиозно-общественной жизни Руси в ответственнейшее время. Похоже, что не столько доводы (во всяком случае не тот, который привел агиограф), сколько именно непреклонность Сергия убедили митрополита, что его собеседник не для проформы, а всерьез отказывается стать митрополитом. Жаль, что история не сохранила подробного освещения той части беседы митрополита Алексия с преп. Сергием, когда они остались вдвоем и когда, надо думать, рассмотрели саму суть высшей церковной власти на Руси в то время. Из-за этого умолчания исследователь попадает в трудное положение. Он не может признать убедительность доводов преп. Сергия, сообщенных агиографом, и в стремлении глубже понять причины отказа Сергия становится на путь логических умозаключений. Мы тоже испробуем этот путь.
Лет за тридцать до рассматриваемой беседы преп. Сергий, оказавшийся перед вопросом быть или не быть ему игуменом Свято-Троицкого монастыря, нашел такое решение, которое удовлетворяло его полностью и согласовывалось с Учением Христа: власть – это жертва, приносимая на алтарь любви к Богу и к ближнему. Вместе с тем и жертва дает власть, духовно-нравственную власть над сознанием людей, способствует силе чудотворения и силе яснопонимания того, кто идет путем духовного самосовершенствования. Сознавая эту суть всякой истинной власти, Сергий принял сан игумена-священника, но при этом ни в чем не изменил ни своего образа жизни, ни целевой установки на непрерывное духовное восхождение во имя Служения Богу и ближнему. Мы пишем Служение с заглавной буквы потому, чтобы вместить в это понятие все содержание, которое вкладывал в него преп. Сергий. Оно было для него не только благом монастыря или народа, к которому он принадлежал, но и благом ближнего, человека-землянина, что прямо следовало из любви к Богу, из сердечного единения с Ним, заботящимся о всех людях, где бы они ни жили. Значит, его благо было в то же время и Благом Бога, то есть Общим Благом людей, не противоречащим, а гармонически согласным с истинно христианским пониманием Бога. Оно было и Благом восхождения человека к Богу через подвиг. В конкретном приложении к жизни оно означало для Сергия очень многое: общее житие людей, основанное на любви к Богу и ближнему, на всеобщей обязанности трудиться, на вытекающих отсюда равных правах, т. е. прежде всего, на нестяжательстве – бескорыстии, на призрении нищих и больных, на просвещении и самосовершенствовании сильных и здоровых. Оно было Благом борьбы, а не идиллии, Благом борьбы с силами мрака и невежества. Долгие годы преп. Сергий шел по пути Общего Блага, много встретил препятствий и преодолел их с честью и достоинством, доказав тем самым реальную возможность общеполезного движения по этому пути. Высокая и ясная цель, а не традиция и не догма определяла все его мысли, намерения и действия, и потому он, монах, активно участвовал в политической жизни Руси, не отступая, разумеется, от принципа Общего Блага. У нас нет сомнений в том, что с точки зрения Сергия не принятие, а отказ от митрополичьего престола соответствовал этому принципу. Многие, понятно, не согласятся с нашим выводом. Но одно, по крайней мере, должно быть бесспорно: быть митрополитом непременно означало быть златоносцем – весь обиход и все торжественные православные церемонии немыслимы без этого. Кроме того, быть митрополитом непременно означало быть стяжателем, богатейшим владельцем земель и подневольных крестьян, ремесленников – и это в корне противоречило убеждениям Сергия. Сан игумена Сергий соединил с истинно христианским образом жизни, показав, что при желании это может сделать каждый игумен, но престол митрополита с таким образом жизни решительно не совмещался. Нищий митрополит – это была такая же невозможность, как и нищий князь.
Церковь – феодал, разве это не было вопиющим нарушением Учения Христа, прежде всего, завета о любви к ближнему? Следствием такого положения стало ханжество, разнообразнейшие формы лицемерия, которые должны были оправдывать в глазах верующих это нарушение. Под покровом «священного» права собственности на деле процветало право закрепощения человека. Оно, естественно, порождало не любовь, а ответную ненависть к высшим сословиям, и особенно к духовенству. Что посеешь, то и пожнешь. Ясно, что преп. Сергий, взойдя на митрополичий престол, волей-неволей стал бы проводником политики Церкви, забывшей о заветах Христа. Он отчетливо осознавал это, и потому не принял предложения митрополита Алексия. «Преподобный Сергий жил заветами Христа, но не церковными утверждениями. И его отказ от митрополичьего поста не происходил ли от того, что Дух Его знал все расхождения церкви с Истиной» (с. 151).
Но этим не исчерпывалась дилемма, разрешаемая преп. Сергием. Она была сложнее, потому что ему как духовидцу были открыты, явлены в умозрении предстоящие события, судьбоносные для русского народа. Сергий пришел в этот мир для выполнения миссий, возложенных на него Свыше, в том числе миссии содействия освобождению Руси из-под иноземного владычества. Ничто не должно было сорвать осуществление этой миссии. Меж тем враг рода человеческого делал все наперекор Сергию. Затеянная и направляемая им церковная смута преследовала цель – оставить правителей Руси без истинного духовного руководства, чтобы разрушить взаимодействие русских сил с Высшими Силами Света и лишить Русь их помощи в переломный момент ее судьбы. Митрополитство Сергия неизбежно сталкивало бы его с Митяем, Киприаном и стоящими за ними серьезными политическими и религиозными силами Руси и Византии, а значит, усугубляло бы рознь на Руси, ослабляло бы ее накануне Куликовской битвы. Искушение властью – одно из труднейших. Тут оно было осложнено тем, что власть предлагалась не Сатаной, как Христу, а другом, предлагалась с самыми лучшими намерениями. Это невероятно затрудняло для Сергия отказ от нее. Но он отказался, не уклонился от своего пути, не прельстился престолом. Отказ от наивысшего на Руси церковного поста был ошеломляюще неожиданным, но совершенно логичным продолжением жизненного подвига Преподобного, начатого 36 лет тому назад.
Весь личный опыт преп. Сергия, и особенно его четкие, решительные действия в наиболее ответственных ситуациях, убеждают в том, что он был глубоким мыслителем, выше всего ценившим такую мысль, которую надо и можно было применить к жизни, претворить в конкретное деяние, не уклоняясь от своей земной миссии. Но нельзя было применить в тогдашней действительности мысль митрополита Алексия о Сергии как о своем преемнике, не перечеркнув заветы Христа и самосознание Сергия. Эту непреложную истину отчетливо осознавал Преподобный, но вовсе не видел ее и не мог видеть митрополит Алексий, представление которого о власти и об образе владыки не выходило за традиционные рамки.
14.5. Киприан: «Моя митрополия!»
Не будет добра, когда нет противодействия злу.
Живая Этика
13 февраля 1378 года преставился митрополит Алексий. И снова, как сообщает Аноним, были предприняты исходившие от великого князя попытки «умолить Святого принять архиерейский сан. Но он, подобно алмазу, оставался непреклонно твердым» (с. 395). Тогда оба соперника, Киприан и Митяй, приняли энергичные меры, чтобы окончательно решить в свою пользу вопрос о митрополичьем престоле. Так как претенденты во многом были подобны по своему сознанию, то и методы их действий также были во многом подобны. Митяй явочным порядком, в нарушение церковных правил и постановлений водворился в митрополичьей резиденции, облачился в одеяние митрополита и принялся де-факто управлять митрополией – суды рядить, налоги собирать, чиновников назначать и т. п. Он делал это с согласия великого князя Дмитрия Ивановича, который таким образом дал ясно понять, что он – властелин Руси и что он не примет на митрополию никого, кроме своего кандидата. Киприан же явочным порядком, в нарушение элементарных правил взаимоотношений с правителем государства, где ему предстояло работать, пересек литовско-русскую границу и направился в Москву, чтобы согнать с митрополичьего престола Митяя.
Действия великого князя против Киприана можно понять и оправдать, если исходить из требований того времени и интересов Руси. В обстановке напряженного противостояния Орде и Литве для великого князя было бы опасным просчетом согласиться на кандидатуру Киприана, которого активно поддерживал великий князь литовский Ольгерд. Вероломное, в нарушение церковных канонов, назначение Киприана митрополитом всея Руси не могло не навести Дмитрия Ивановича на мысль о тайном сговоре за спиной Москвы между в. кн. Ольгердом, Киприаном и его единомышленником Филофеем, вселенским патриархом. Суровая необходимость иметь в трудное время своего надежного митрополита вместе с явной нецелесообразностью принять ставленника Литвы – вот что руководило, на наш взгляд, действиями великого князя Дмитрия Ивановича. Была еще и личная обида на игнорирование его патриархом, но – как показали события весны 1381 года – великий князь был способен не придавать личным чувствам решающего значения.
Конечно, Киприан, имевший на Руси своих надежных информаторов [152] знал, что великий князь решительно поддерживает Митяя, и прекрасно понимал свое положение. Киприан сознательно шел на громкий скандал. Но почему и зачем? Подобно в. кн. Дмитрию Ивановичу, Киприан тоже действовал в силу необходимости, но только его дилемма была другой. Смерть великого кн. Литовского Ольгерда (1377 г.) и уход патриарха Филофея в монастырь (1376 г.) поставили Киприана в трудное положение. Внутренние смуты в Византии и Литве были чреваты неожиданными сменами властей, и невозможно было предвидеть, будут ли перемены благоприятны для Киприана. Эта тревожная неопределенность плюс ущербное сознание того, что митрополичий престол был добыт им ябедой на митрополита Алексия и что тайное может стать явным, возбудили сердце Киприана, и он предпринял опрометчивый политический демарш, в который попытался втянуть и преп. Сергия, и игумена Симоновского монастыря Феодора.
Киприан стал действовать излишне самоуверенно. Силовой бесцеремонной тактике Митяя он решил противопоставить столь же бесцеремонную тактику, которая опиралась на постановление Константинопольского патриарха. Во второй половине мая 1378 года Киприан со свитой более чем в 40 человек выехал из Киева в Москву [153]. О своем намерении он не поставил в известность великого князя Дмитрия Ивановича, и в этом поступке, на первый взгляд, просто невежливом, отчетливо проявился коварный, целеустремленный характер Киприана. Чтобы осознать это, надо принять во внимание следующие факты. В 1374 году Киприан сочинил ябеду на митрополита Алексия по итогам своего пребывания на Руси в качестве официального посла Константинопольского патриарха Филофея. Эта ябеда и стала основанием для незаконного назначения Киприана в декабре 1375 года митрополитом Руси. Разумеется, Киприан умело скрывал от митрополита Алексия, великого князя Дмитрия Ивановича и их сторонников свою подлинную оценку церковной политики митрополита, засвидетельствованную в этой ябеде. Так как в 1374 – 1375 гг. тайная дипломатия Киприана позволила ему добиться своей цели – назначения митрополитом Руси, то и в 1378 г. он вторично возлагал надежды на это оружие, теперь нацеленное против Митяя и в. кн. Дмитрия Ивановича. Самоуправство Митяя и сама его кандидатура одобрялись многими духовными лицами, и поэтому Киприан рассчитывал, что они окажут ему поддержку, когда он появится в Москве и публично заявит о своих правах на митрополичий престол. Готовя себе общественную поддержку, Киприан, похоже, заранее разослал через доверенных лиц письма тем духовным сановникам, которые не симпатизировали Митяю; одно из писем, адресованное преп. Сергию и игумену Феодору, сохранилось. Оно представляет особый интерес для нашего исследования.
В содержательной книге Г. М. Прохорова «Повесть о Митяе» утверждается, будто преп. Сергий поддерживал Киприана в его намерении явочным порядком водвориться в митрополичьей резиденции [154]. Но это утверждение строится, на наш взгляд, на вольном прочтении одного места из письма Киприана от 23 июня 1378 г., написанном уже после его изгнания из Москвы. Вот это место: «И он (кн. великий. – А. К.) послы ваша разослал мене не пропустити и еще заставил заставы, рати сбив и воеводы пред ними поставив...» [155], то есть «и он послов ваших разослал, чтобы меня не пропустить, и еще устроил заставы, расставил войска во главе с воеводами...» Нельзя не видеть, что при таком переводе глагола «расълати», соответствующем его значению в древнерусском языке, получается явная бессмыслица: великий князь не мог ведь рассылать «послов» преп. Сергия и Феодора. Как же быть? Г. М. Прохоров нашел выход смыслового тупика, присвоив глаголу «расълати» значение «перехватить», которого этот глагол не имел. На вольном переводе он построил свою версию о том, что преп. Сергий и Феодор посылали (причем тайно) своих послов к Киприану, следовательно, оказывали поддержку в осуществлении его плана овладения митрополичьим престолом. Нам думается, что логичнее будет предположить иной подход к осмыслению процитированного места письма. «Древники» знают, что в рукописях часто встречаются описки и ошибки, и в рассматриваемом тексте, на наш взгляд, ошибочно написано «ваша» вместо «беша». Начало предложения, как мы полагаем, имело такой вид: «И он послы беша разослал мене не пропустити...», – давно прошедшее время тут вполне уместно, так как первым действием князя, предпринятым ранее других, была рассылка гонцов (послов) на предполагаемые пути-дороги Киприана и его свиты. Это прочтение можно подтвердить также и другими доводами. Киприан пишет о рассылке послов-гонцов как о первом из ряда действий великого князя, что и подкрепляется выражением «и еще заставил заставы» (второе распоряжение), «рати сбив и воеводы над ними поставив...» (третье и четвертое распоряжения князя). Таким образом великий князь построил два заграждения Киприану – подвижное, перемещающееся (гонцы-послы), и неподвижное, стоящее на дорогах (заставы с воинами).
Г. М. Прохоров толкует рассматриваемое нами место письма еще и так, что игумены Сергий и Феодор послали своих гонцов к Киприану, хотя в письме об этом не говорится. Таким образом, помимо произвольного перевода глагола «расълати», делается еще одно необоснованное допущение. Если согласиться с тем, будто игумены действительно тайно рассылали куда-то своих гонцов в то самое время, как Киприанова процессия двигалась к Москве, то не логичнее ли было бы предположить, что эти доверенные гонцы были посланы к другим духовным лицам, сторонникам Киприана, с тем, чтобы оказать ему поддержку по прибытии в Москву? Нам же думается, что вся версия об игуменских гонцах неудачна. Если принять ее, то надо будет согласиться с тем, что Сергий и Феодор состояли с Киприаном в некоем заговоре. Иначе как бы они могли узнать, что им следует послать «послов» к Киприану с каким-то поручением (целью)? Откуда могли бы они знать, когда и куда послать «послов», если б не было об этом предварительной договоренности? Ведь в первом письме Киприана к ним нет ни просьбы о посылке к нему «послов», как нет и сведений о его маршруте. На наш взгляд, версия Г. М. Прохорова не согласуется также и с образом преп. Сергия (об игумене Феодоре мы тут говорить не будем), который, безусловно, отдавал себе ясный отчет в том, что в. кн. Дмитрий Иванович не пойдет на унижение собственного достоинства и окажет противодействие «набегу» Киприана на Москву и что в итоге может получиться лишь обострение церковной смуты, новый разлад Руси. Отсюда следует, что вообще не остается аргументов для подкрепления мысли о тайном сотрудничестве преп. Сергия с Киприаном. Мы не должны забывать также, что Сергий был духовидцем и поэтому мог заранее знать как о намерениях Киприана, так и о намерениях и мерах великого князя Дмитрия Ивановича.
Вместе с тем бесспорно, что у Киприана был надежный тайный информатор. Возможно, и не один. Это следует из рассказа Киприана (в его втором послании игуменам Сергию и Феодору) о том, как он, узнав от кого-то о заграждениях на дорогах, сумел обойти их стороной и прибыл в Москву, но тут он наткнулся на отряд боярина Никифора, был арестован и заключен в темницу. Мы полагаем, что наиболее вероятным доверенным лицом Киприана был близкий ему человек, игумен Серпуховского монастыря в Высоком. С ним у Киприана, видимо, была устная связь через надежного посредника, как, нам кажется, и должно быть по требованиям строгой конспирации, – а переписка с игуменами Сергием и Феодором была открытой, что, помимо прочего, могло служить еще и прикрытием для подлинно тайных связей.
В первом письме Киприана к игуменам есть одно весьма показательное, слегка притененное противоречие, относящееся к его душевному состоянию. В начале и в конце письма ясно видна уверенность Киприана в том, что его поездка в Москву окончится успехом. Он дает советы и наставления игуменам, без тени сомнения говорит о том, что встретится с ними в Москве и «насладится» духовной беседой, называет великого князя Дмитрия Ивановича «сыном своим». Вместе с тем в письме есть три предложения, из которых «сквозит» предощущение неотвратимой беды, таящейся, по мнению Киприана, в ложном мнении «некоторых» о его политической ориентации и в отсутствии благорасположения к нему великого князя. Приводим эти предложения в оригинале и в нашем переводе: «Иду же, яко же иногда Иосиф от отца послан к своей братии, мир и благословение нося. Аще неции о мне инако свещают, аз же святитель есмь, а не ратний человек. Благословением иду, яко же и Господь, посылая ученики Своя на проповедь, учаше их, глаголя: «Приемляй вас Мене приемлет» [156] – «Я же иду, как некогда шел Иосиф, посланный отцом к своим братьям, – с миром и благословением. И если некоторые думают обо мне иначе, то ведь я святитель, а не военный человек. Я иду, опираясь на благословение, вот так же и Господь, посылая учеников своих на проповедь, учил их, говоря: «Приемлющий вас – Меня приемлет». Ключ к смыслу приведенного абзаца – в первом предложении. Иосиф был послан своим отцом Израилем к братьям, которые пасли скот далеко от Хеврона, чтобы узнать, здоровы ли они и благополучен ли скот. Но братья (все, кроме Рувима) не любили Иосифа и решили его убить. Они схватили его, раздели и бросили в ров, а затем (по предложению Иуды) продали за 20 сребреников измаильтянам. Отождествляя себя с Иосифом, Киприан нажимает на то, что он тоже идет к «братьям» с добрыми намерениями. Но второе предложение раскрывает еще один аспект отождествления, прямо не сформулированный, но выраженный как предощущение. «Некоторые», уподобленные братьям Иосифа, тоже, значит, способны переменить счастливую жизнь Киприана на несчастную, и он знает, почему: они видят в нем не святителя, а военного человека, преданного враждебной Литве (этот смысл будет обнажен во втором письме), а потому не только не верят в его добрые намерения, но и ожидают от него зла Руси, если он станет митрополитом всея Руси. Забегая вперед, заметим, что в числе «некоторых» оказался великий князь Дмитрий Иванович и что предощущение Киприана подтвердилось: его заключили в темницу, где в холодном помещении продержали, по его словам, около суток, а затем отправили туда, откуда он пришел. Киприан предчувствовал (а может, и знал), что в. кн. Дмитрий Иванович встретит его враждебно. Это предчувствие имплицитно содержится в последнем предложении вышеприведенной цитаты.
Ученики Христа (Господа) шли с проповедью его Учения к враждебно настроенным инакомыслящим (язычникам или евреям-иудеям), опираясь лишь на силу благословения Христа и на свою веру в истинность его Учения. Они знали заранее, что языческие жрецы и иудейские старейшины встретят их, как злейших врагов. Киприан тоже ожидал подобного отношения к себе старейшин Руси, то есть, прежде всего, великого князя Дмитрия Ивановича. Потому-то Киприан и надеется лишь на силу благословения патриарха Константинополя. Здесь мы не касаемся смысловой сути самоотождествления Киприана с апостолами, ибо оно ложно в самой основе: они несли людям свет новой веры, Киприан же нес на Русь свое властолюбие и раздоры. Нас интересует самоотождествление Киприана с апостолами как его нравственная самохарактеристика. Легко понять апостолов: они горели желанием пострадать за новое вероучение и тем спасти свои души для жизни в Царствии Небесном. У Киприана не было и не могло быть этого мотива: он шел защищать свои личные интересы, которые лицемерно выдавал за интересы русской церкви и русского государства. Но можно понять и Киприана: им, думается, руководил расчет, продуманный, беспроигрышный. Как видно из самоотождествления с Иосифом, Киприан был готов к тяжкому испытанию, но был уверен, что враги не пойдут на его убийство. Выгода же состояла в том, что за личные страдания от русских он получал любовь и доверие в Литве, а за смелое отстаивание решения Константинопольского собора – поддержку и доверие патриарха. И то, и другое было ему совершенно необходимо (вспомним, что Ольгерд умер, а Филофей ушел в монастырь), чтобы удержаться на престоле литовско-киевского митрополита. Своей цели Киприан достиг, и его, видимо, нимало не беспокоило, что провокационными действиями он усилил церковную смуту на Руси, обострив отношения между противниками и сторонниками Митяя. Более того, обострение, вредное для единства Руси, лично Киприану было полезно, что и подтвердилось в 1381 году. Надо признать, что Киприан был ловким, расчетливым дипломатом, умел и отстаивать, и прикрывать свои интересы. Такого человека бывает полезно иметь либо своим другом, либо своим врагом, но очень опасно иметь мнимым другом, особенно на таком ключевом посту, как митрополит. Это, несомненно, отчетливо осознавал Сергий Радонежский.
14.6. Если бы вас убили, то вы – святые
Много масок у человека, но одна из самых отвратительных будет личина единения.
Живая Этика
Второе письмо Киприана к игуменам Сергию и Феодору (написано 23 июня 1378 г.) открывает нам сознание Киприана полнее, чем первое, и позволяет внести уточнения в оценку морально-политической обстановки на Руси в 1378 году.
Непосредственными причинами написания второго письма послужили арест Киприана и его свиты и оскорбительное отношение к нему и его сопровождающим воеводы Никифора. Но содержание и цель письма шире, масштабнее, чем рассказ о самом событии. Это подтверждается тем, что письмо адресуется не только игуменам Сергию и Феодору, но и их единомышленникам. Означает ли это, что письмо было послано в двух экземплярах Сергию и Феодору по их адресам и что они должны были его распространить под страхом проклятия Киприаном каждого, «хто покусится сию грамоту сжещи или затаити» [157]. Возможно, что так и было дело. В этом случае Сергий и Феодор невольно оказывались в опасной роли распространителей подметных писем, что, конечно, должно было навлечь на них гнев Дмитрия Ивановича, выставленного в письме в неприглядном виде. Но возможен и другой вариант: Киприан, помимо писем Сергию и Феодору, послал еще какое-то количество писем по другим адресам, прежде всего, своим информаторам, от которых они могли попасть, куда те считали нужным, в том числе и в Литву, и в Орду, и в Константинополь. Киприан был заинтересован в возможно более широком распространении письма, но не им лично, а другими, потому что его скандальный арест и заключение, по словам Киприана, были ему на пользу: «Их бесчестие подняло мою честь по всей земле и в Царьграде» (там же). Письмо сохранилось в четырех разнящихся списках, что можно рассматривать как факт, подтверждающий наше второе предположение о способах распространения письма, особенно если принять во внимание, что во всех списках некоторые места кем-то частично зашифрованы (понятно, что таким образом привлекалось внимание властей Руси, Литвы, Орды).
Как же добивается Киприан столь желанного ему результата – повышения своей «чести» святителя и человека по всей Земле? Возбуждением сострадания к своим испытаниям, самовосхвалением, принижением противников и сокрытием подлинных мотивов своего «набега» на Москву. За всем этим стоит тонкий расчет на беспроигрышный личный результат, расчет, основанный на знании военно-политической ситуации и духовно-нравственной атмосферы на Руси, в Литве, в Орде и в Византии. Киприан, вращавшийся в высоких руководящих сферах Литвы, Руси и Византии и пользовавшийся доверием великого князя Литвы, князя тверского, видел, конечно, что назревает решающая проба сил между Русью, Ордой и Литвой и что невозможно точно предсказать, кто выйдет победителем. Поэтому он, думается, так написал свое письмо, чтобы при любом исходе противоборства этих государств он мог бы сохранить пост митрополита.
Конечно, ошибочно судить о человеке по тому, что он сам о себе думает и говорит, но ошибочно и сбрасывать со счетов его самооценку, потому что она является важной частью его самосознания. Киприан начинает представлять себя читателям с самого главного – «Киприан, милостью Божией митрополит всея Руси». Эта этикетная формула получает новый смысловой оттенок в силу того, что в. кн. Дмитрий Иванович решительно отверг претензии Киприана на такое титулование и тем самым показал его самозванство. Но Киприан не менее решительно настаивает на праве именоваться «митрополитом всея Руси», потому что не Дмитрий Иванович назначал его на этот пост, а вселенский патриарх, да к тому же «с соизволения» самого Бога. Нашла коса на камень! Каждый из них считал себя правым, а Дмитрий Иванович в особенности: он понимал, что назначение Киприана при живом митрополите Алексии было его оскорблением, и знал, что никто Киприана в Москву не звал. Киприан не довольствуется этикетной формулой титулования, но демонстративно подчеркивает ее божественную силу: «Яз Божиим изволением и избранием великого и святого сбора и благословлением и становлением вселенского патриарха поставлен есмь митрополит на всю Русскую землю, а вся вселенная ведает» [158]. Исключительно высокое самомнение, гордыня ярко чувствуется в процитированной фразе, особенно в последнем, доведенном до абсурда преувеличении. Но эта фраза приобретает особое значение для характеристики Киприана, если мы вспомним, что он получил высокий пост из дружеских рук патриарха Филофея на основе ябеды, сочиненной им против бывшего митрополита Алексия. Следовательно, сам Киприан (он ведь знаток церковных законов) должен был сознавать коварную бесчестность своего поставления в митрополиты и лицемерный обман митрополита Алексия, с которым он в 1374 г. распрощался подчеркнуто дружески. Таким образом, пышно-горделивая фраза о «божьем изволении» выполняет еще и роль благочестивой ширмы двуличия Киприана. Затем он уверяет всех в своем «чистосердечном, доброжелательном» отношении к « князю великому», в своей «любви к нему, к его княгине и его детям», не объясняя, однако, каким образом такое отношение совмещается в его душе с оскорблением великокняжеского достоинства Дмитрия Ивановича в 1375 году и с недавним непрошеным визитом в Москву и откуда родилась сердечная любовь к князю и его семье. «Много масок у человека, но одна из самых отвратительных будет личина единения. Нужно потонуть в грязи, чтобы посметь на такую ложь, чтобы показать улыбку единения, а в глубине сердца таить гримасу злобы. Нужно представить себе весь надлом духа, чтобы понять, насколько такой человек нарушает человеческое достоинство» [159].
Киприан сам заварил кашу, но хочет, чтобы ее расхлебывал великий князь. Поэтому он изображает себя невинным ангелом. Лицемерие Киприана простирается так далеко, что даже свои кривые, обманные дороги к Москве он выдает за заботу о душе и чести князя. На самом деле он сознательно шел на скандал, но ему был нужен громкий скандал в Москве, а не безвестное столкновение с княжескими слугами на глухой подмосковной дороге. Киприану с чьей-то тайной помощью удалось обмануть сыщиков князя и обойти его заставы. Но напрасны оказались все ухищрения Киприана. князь был человеком предусмотрительным, он расставил «заградотряды» и на подступах к Москве, один из которых задержал Киприана. Боярин Никифор и его люди обращались с Киприаном по пословице «незваный гость хуже татарина». Разумеется, оскорбительное обхождение с Киприаном было санкционировано в. кн. Дмитрием Ивановичем, но слуги в усердии, похоже, перегнули палку. Понятно, почему они раздели Киприана и его сопровождающих донага (искали тайные послания), но зачем они держали в заточении нагого Киприана целые сутки (если Киприан говорит правду)? Вред ли такое распоряжение исходило от великого князя. Боярин Никифор имел – и это, думается, видно по письму Киприана – распоряжение не устраивать скандала, провести без шума операцию по задержанию и высылке Киприана из Москвы. Потому-то ратные люди отобрали у киприановских слуг коней и одежду, надели ее на себя, сели на их коней и в «их седла» и проводили их, наверное, до границы Московского княжества. Эти меры говорят о том, что Дмитрий Иванович, похоже, разгадал (хотя бы частично) замысел Киприана и потому принял меры для предотвращения громкой «замятии» в Москве. Меры эти, судя по всему, оказались результативными: «Народ о происшедшем, по-видимому, ничего не узнал. Летописцы об этом событии молчат. Только соборное определение 1380 г. глухо говорит, что Киприан, «много претерпев, ничего не достиг» [160].
Но Киприан решил добиться своего другим путем – путем широкой рассылки письма от 23 июня 1378 г., того самого, которое мы сейчас разбираем. Думается, что великий князь Дмитрий Иванович, получив сведения об этом действии Киприана, организовал перехват и уничтожение писем от него и копий с писем. Похоже, что именно по причине княжеской предосторожности до нас дошло, по мнению Г. М. Прохорова, всего лишь четыре списка Киприанова письма, из них три испорченных. Киприан, думается, в целом верно рассказывает о грубом обхождении с ним и его слугами, но одно его утверждение вызывает решительное несогласие: будто бы великий князь велел убить Киприана и его сопровождающих – «еще же смерти предати нас немилостивно тех научи и наказа же» [161]. Если бы Дмитрий Иванович действительно отдал подобное приказание, то оно было бы, конечно, исполнено: кто же мог помешать этому? Можно утверждать, что такого приказания не было. Подобное убийство было совершенно не в интересах Дмитрия Ивановича, ибо оно вызвало бы широкое недовольство на Руси, в Литве и в Византии, да и во всех христианских странах. Дмитрий Иванович, разумеется, понимал это. Но зачем же Киприан написал так уверенно о столь жестоком, глупом приказании в. кн. Московского? У страха глаза велики. Кроме того, Киприан, похоже, настолько увлекся изображением себя страдальцем и мучеником, что своим опасениям придал силу реального факта. Тем более, что как раз в этом месте письма горделивое самолюбование автора превысило чувство меры. Но как Киприан мог ошибиться, полагая, что кто-либо на Руси поверит в намерение великого князя совершить столь неслыханное злодеяние? Тут можно дать объяснение. Например, такое: до нас дошла версия письма, предназначавшаяся для константинопольского собора, многие члены которого могли разделять распространенное в Византии мнение о Руси как о варварской стране, а потому и могли поверить в приказание в. кн. Московского. При любом объяснении, однако, остается в силе психологический факт: Киприан видит и изображает себя героем, не убоявшимся смерти, невинной жертвой искренней любви к врагу. А где же трезвая самооценка? Киприан ведь не романтик, не фантазер. Все его действия основаны на расчете, на понимании человеческой психологии, силы совершившегося факта. Он говорит как участник и самый авторитетный свидетель событий – кто же способен убедительно оспорить его точку зрения? Людям с гипертрофированным самомнением, как у Киприана, присуща недооценка способностей других. Киприан ошибся, полагая, что такие люди, как простой с виду преп. Сергий, не смогут проникнуть в суть его письма и разобраться в мотивах его поведения. В самомнении и увлечении Киприан заходит столь далеко, что рисует себя единственным человеком, пекущимся о спасении души великого князя и о добре для его отчизны? «Тако ли не обретеся никто же на Москве добра похотети души князя великого и всей отчизне его?» [162]. С этой мнимой, ходульной высоты он вдруг, не сознавая того, упадает до ничтожества, когда тут же принимается с обидой, мелочно перечислять ущерб, который великий князь причинил его коням, а, значит, и ему самому.
Бог шельму метит. Хвастливое самовозвеличивание до жертвенного героя, единственного «на Москве» защитника христианскои этики, внезапно, но не случайно срывается до мелочной обиды за неоплаченные грошовые убытки: «Створится князю великому, что клячи отданы (возвращены Киприану. – А. К.), а того не ведает, что от 40 и штий коний ни един не остался цел – все заморили, похромили, и перварили (запалили. – А. К.), ганася на них куды хотели, и нынече теряются» (издыхают. – А. К.) [163]. Это место в письме – наказание самоослеплением за гордыню, затмившую ум Киприана. Он, видимо, мнил себя человеком без недостатков, вернее, полагал, что ничто из свойственного ему не может считаться недостатком и быть зазорным в чьих-либо глазах. Отсюда – его саморазоблачительное бесчувствие и громкие сетования о вреде коням. Счет за убытки предъявляется великому князю, хотя тот, как видно из письма, не ведает о них. Ухо Киприана, увы, не слышит дисгармоничного соседства мелкого раздражения с дифирамбом, пропетым самому себе. Зато читателю дисгармония помогает осознать, что герой-мученик без страха и упрека, каким изобразил себя Киприан, стоит на ходулях собственного изготовления. Сойдя с них, он тут же утрачивает напыщенное величие и начинает не к месту говорить меркантильным языком. «Кто мучается земными вопросами, тот ответа о Небесном не получит» [164].
Когда же Киприан снова встал на сановные котурны и принялся с недосягаемо высокой, как ему казалось, позиции с апломбом поучать духовенство Руси, тогда ясно проступило непомерное самомнение высокопоставленного «духовного» сановника: «Вы же, отрекшиеся от мира сего, вы, служащие единому Богу, как вы, видя такую злобу, промолчали? Вам бы надо было разодрать одежду свою и говорить князю в лицо, не стыдясь! Если бы вас послушались, было бы хорошо. Если бы вас убили, то вы – святые!» [165.1]. И эту гневливую филиппику написал христианский святитель, который якобы с любовью в сердце шел на Русь, чтобы стать ее духовным пастырем? Разве Христос заповедал небрежение жизнью одного человека ради блага другого? Не вернее ли было бы Киприану воспринять все случившееся с ним и его свитой как Божье наказание за двойное, тайное и явное, самозванство? И смиренномудро успокоить себя, покаявшись в грехах? Особенно характерны для Киприана и в то же время замечательны как само дискредитация два последних предложения. Если прояснить их недовысказанный смысл, то отчетливо проявится жестокость киприановской натуры: «Если бы вас послушались, было бы хорошо. Если бы вас убили, (было бы еще лучше. – А. К.), ибо вы стали бы святыми». Но лучше всех было бы, конечно, Киприану, во-первых, потому, что возросла бы его слава, во-вторых, потому, что он мог бы насладиться несмываемым позором в. кн. Дмитрия Ивановича. В безрассудном гневе Киприан, путая добро со злом, провозглашает благом, угодным Богу, убийство двух духовных пастырей и неизбежное (после этого) обострение смуты на Руси, которая после такого злодейства выплеснулась бы, наверное, за церковные рамки. И ради какой святой цели должно было бы все это совершиться? Ради того, чтобы, взбунтовав крещеный мир Руси, Литвы и Византии, принудить великого князя посадить Киприана на митрополичий престол. Вот какая мысль грелась у сердца Киприана! Нет, не случайно написал он ябеду на митрополита Алексия, столь несправедливую, что ее не смогли поддержать даже византийские сановники, посланные с этой целью на Русь патриархом Константинополя. Она была насыщена, похоже, тем же ядом, что и киприановское «спасение» души великого князя.
Два процитированных предложения показательны и еще в одном, очень важном отношении. В них обнажился метод мышления Киприана... Вот перед ним ситуация – задача, возникшая ко времени написания второго письма:
1) Киприан, изгнанник Москвы, вернулся в Киев (Литву), не добившись одной из важнейших жизненных целей, но и ничего не потеряв из того, что имел перед «набегом» на Москву, если, конечно, не считать издохших лошадей; в Киеве он раздумывает, что и как рассказать о случившемся, чтобы укрепить свой авторитет;
2) в Москве вряд ли кто знает о его обиде, кроме великого князя, боярина Никифора и его ратных людей, которые будут рассказывать о встрече Киприана, как пожелает великий князь, а Дмитрий Иванович явно хочет скандал замять; значит, русское духовенство будет отчасти успокоено, отчасти введено в заблуждение – и то, и другое Киприану невыгодно;
3) что же ему делать, чтобы извлечь личную пользу из создавшейся ситуации?
Полагаю, что Киприан в общем имел ответ на этот вопрос, когда обдумывал «набег» на Москву и его возможные исходы – в первом письме, как мы показали, есть следы такого размышления. Теперь исход «набега» прояснился, но его итоги можно изменить к лучшему, и Киприан находит соответствующее средство – он пишет послание к тем же игуменам (по форме), а по сути – публицистическую статью (6 печ. страниц) для всеобщего ознакомления, направленную на дискредитацию Москвы (вел. князя – варвара, «мерзкого» Митяя и безгласного, трусливого духовенства), на возвеличивание мудрости константинопольского собора и патриарха (высшего начальства Киприана) и – в результате того и другого – на создание собственного образа идеального святителя, духовного рыцаря без страха и упрека. Патриарх Нил, хорошо знавший Киприана, в 1389 году охарактеризовал его как «человека, отличающегося добродетелью и благочестием, способного хорошо воспользоваться обстоятельствами и разумно устроить дела (или: и направлять дела в нужное русло)» [165.2]. И вот теперь Киприан, митрополит Литвы, на деле показал всем, что он действительно хорошо умеет извлечь пользу из, казалось бы, безнадежно плохой ситуации и направить дела в нужное русло. Киприан со страстью убеждает игуменов Сергия и Феодора, и других русских духовных лиц, посвятивших жизнь служению Богу, что т а ситуация (конфликт Киприана с Дмитрием Ивановичем) открывала перед ними прекрасную возможность активно действовать на благо самим себе. Мысль Киприана «обучена» разрешать любую жизненную дилемму к его выгоде, тому же он учит теперь своих московских, им самим избранных «друзей», упустивших, оказывается, редкий случай стать «святыми» ...как бы даже до церковной канонизации.
Сам по себе киприановский метод разрешения конфликтов вовсе неплох, если только при этом учитываются интересы обеих конфликтующих сторон, если этот метод не вешается, как жернов, на шею противников и не ведет к новому усугублению конфликта. Но для Киприана вся справедливость заключена в нем самом. Он явно не желает принимать во внимание иное, чем у него, положение Сергия и Феодора. Из безопасного далека он с гневом предъявляет им еще одно, новое обвинение в трусости – в связи с тем, что они не поднимают голоса против ставленника великого князя, Митяя, которого Киприан, перефразируя библейский стих, называет так: «Мерзость запустения, стояще на месте святем» [166]. Часть этой «мерзости» он тут же прилепляет духовным сановникам Руси, прежде всего, игуменам Сергию и Феод ору: «Разве вы не знаете, как грехи людей ложатся на князя, а княжеский грех – на людей?» [167]. Эта верная формула об общей ответственности властителей и подвластных перед Богом за «вины» каждого, понимается, однако, Киприаном по-своему. Эта формула становится для него, «духовного отца» русских, основанием для тяжкого проклятия «своих чад», которое он повесил на судьбу великого князя и других, причастных к оскорблению Киприана и поддержке кандидатуры Митяя в митрополиты.
В связи с новым обвинением Киприан опять переключает все внимание на себя, демонстрируя знание апостольских заветов, соборных постановлений и патриарших посланий на одну и ту же тему – о недопустимости «поставления» епископов, митрополитов, вообще любых духовных сановников за взятку или в угоду власть предержащим князьям, императорам. Возможно, русское духовенство и не знало всех этих церковных законов так хорошо, как Киприан, но зато оно очень хорошо знало, что взятка и протекция императора в самом Константинополе играют решающую роль при поставлении патриархов, митрополитов и прочих духовных персон. Конечно, и Киприан прекрасно знал это, в том числе по личному опыту: без поддержки в. кн. Литовского Ольгерда, к которому Киприан сумел войти в доверие, ему бы не удалось добиться постановления Константинопольского собора о своем назначении митрополитом Литвы и всея Руси. Но теперь Киприан разыгрывает другую карту, и в открытой политической игре у него другие козыри: «Они на деньги надеются и на фрягов, я же – на Бога и на свою правду» [168].
Его правда заключалась, во-первых, в том, чтобы показать Константинопольскому собору в истинном, т. е. весьма неприглядном свете фигуру Митяя, его наглое самоуправство, пренебрежение к авторитету собора и патриарха... Но была еще и другая правда, правда покойного митрополита Алексия, считавшего, что и Митяй, и Киприан – недостойные кандидаты на пост митрополита великой Руси. Эта правда была, на мой взгляд, и правдой преп. Сергия, от которого, конечно, не могло укрыться ни двоедушие Киприана, ни другие нехристианские особенности его натуры. Во-вторых, по посланию Киприана видно: его правда была еще и в том, что он, по его самооценке, лучше, чем покойный митрополит Алексий управлял православными епархиями Литвы, и что политическая линия на укрепление единой митрополии для великой Руси и Литвы якобы выгоднее Москве, чем линия в. кн. Дмитрия Ивановича на создание двух независимых митрополий – одной для Литовского княжества, второй для великой Руси. Однако Киприан неверно ставит сам вопрос об одной или двух митрополиях, отвлекаясь от реальной политической ситуации, от факта существования двух мощных, враждебных государств – Литвы и великой Руси. Но в. кн. Дмитрий Иванович, как и в. кн. Литовский, не могли игнорировать этот важнейший факт. Для них вопрос стоял иначе: чьим ставленником будет митрополит единой митрополии – московским или литовским? Чьи интересы он будет защищать? Ни Москву, ни Литву не устраивал политический нейтралитет единого митрополита, да и вряд ли они верили в саму возможность подобного нейтралитета. Что же касается Киприана, то в Москве было известно о его пролитовской ориентации, и потому он был для в. кн. Дмитрия Ивановича неприемлем. Лишь Византия была заинтересована в единой митрополии, так как при враждебных отношениях между Литвой и великой Русью Константинопольский собор и патриарх могла настаивать на том, чтобы единым митрополитом был византиец (грек, болгарин, серб...), лично независимый ни от Литвы, ни от Руси. Недаром Киприан в своем письме-послании возвеличивает константинопольского патриарха, императора и «великий собор».
В конце письма Киприан сообщает, что он вскоре уезжает в Царьград, чтобы защитить себя и отстоять на соборе свое митрополитство, как он думал, в противоборстве с Митяем. Послание Сергию и Феодору было также, мы полагаем, и его первой защитительной речью. И он, конечно, принял меры, чтобы патриарх заблаговременно получил это послание. Оно обеспечивало Киприану также поддержку в. кн. Литовского. Правители Орды были, наверное, рады ссоре Киприана с в. кн. Дмитрием Ивановичем. В посланиях Киприана была польза и для Руси: ее духовные авторитеты лучше узнали самого Киприана, и вряд ли у них могло теперь возникнуть желание умереть за него, чтобы стать святыми.
Никакое ясновидение не равняется знанию духа. Истина может приходить через это знание. Понимание нужд времени идет этим путем. ...И путь знания духа цветет без видимых признаков, но основан на открытии центров.
Живая Этика
По свидетельству Пахомия, «великим пророком» назвали Сергия Радонежского его современники. За всю историю Руси и России никто из ее великих людей не был удостоен столь высокого звания. Оно уникально в истории нашей страны, и очень редко в истории человечества. Оно выше не только «александрийского столпа», то есть великих правителей, но и выше гениальных писателей, ученых, художников и других великих людей нашей Родины, богатой разнообразными дарованиями. Нет ли преувеличения в народном величании преп. Сергия Радонежского?
До весны 1379 г. ничто, казалось, не предвещало плохого конца Митяя. По его плану великий князь собрал в Москве епископов, чтобы, минуя Константинополь, они, опираясь на прецедент в истории Руси, избрали Митяя митрополитом. Митяй уже считал дело решенным. В митрополичьем одеянии он сидел во дворце и вел все митрополичьи дела. Так хотел великий князь. Но на соборе произошла «осечка». Суздальский епископ Дионисий выступил против избрания Митяя, осудив его самозванство и все действия по продвижению к престолу митрополита как грубое нарушение церковных канонов и пригрозив разглашением соответствующих фактов на Константинопольском соборе. У Киприана появился, как видим, сильный союзник. Епископы заколебались. Замысел обойти Константинополь провалился. Епископов распустили, но Дионисия, препятствуя его поездке в Царьград, великий князь посадил под стражу. Митяй при щедрой поддержке Дмитрия Ивановича стал спешно готовиться к поездке в Константинополь.
Дионисий обратился к великому князю с просьбой разрешить ему «жить по своей воле» под честное слово, сказав, что он без согласия Дмитрия Ивановича не поедет в Константинополь. Но знаменательно, что его «честное слово» показалось, видимо, недостаточной гарантией, и Дионисий закрепил его поручительством преп. Сергия. Причем в летописях, как и в других письменных источниках нет и намека на то, что сам преп. Сергий дал на это согласие. Его авторитет в глазах великого князя был столь высок, что он выпустил Дионисия на волю. Тот уехал к себе в епархию, но оттуда тайком устремился в Константинополь. Вероломство Дионисия, как сообщает летописец, доставило Митяю минуты злорадного торжества. Он увидел в обмане князя доказательство того, что на Руси есть тайный заговор в поддержку Киприана. К этому времени относится, как мы полагаем, и угроза Митяя «погубить» Свято-Троицкую обитель и ответ преп. Сергия: «Когда святой Сергий услышал об этом, он тут же сказал перед всей братией, что похваляющийся погубить сие святое место не только не получит сана, которого он не достоин, но и Царьграда не увидит» (с. 395) – что и случилось, ибо, когда Митяй плыл в Константинополь, то заболел и умер на корабле, который вынужден был (из-за блокады Царьграда генуэзским военным флотом) пристать к турецкому, магометанскому берегу, где и был Митяй погребен. Предсказание преп. Сергия исполнилось с изумительной точностью: Митяй «не увидел» Царьграда не только живым, но и мертвым. В этом чудесном и страшном факте было неслыханно тяжкое посмертное наказание: вечное отлучение Митяя от Родины и от христианства. Оно вызвало на Руси потрясение в умах, что и отразилось в народном именовании преп. Сергия «великим пророком». Но его слава еще не достигла зенита: впереди были новые великие пророчества и великие деяния, и для их верной оценки у людей не было слов «по подобию». Поэтому в памяти русского народа преп. Сергий остался просто великим пророком, хотя по мудрости и делам своим вполне заслуживал еще более высокого титулования, более точной оценки. Она стала возможной в наше время, после издания в России всего корпуса книг, составляющих Новое Учение Живая Этика, в котором на строго научной, объективной основе всесторонне рассмотрен также и вопрос о величайших людях планеты «Земля». Их характеристика, взятая для эпиграфа к этой главе, на наш взгляд, вполне приложима к преп. Сергию Радонежскому.
Его всеобъемлющее дарование начало проявляться еще до отшельнического подвига. Мы уже писали о смелом и принципиально важном решении Варфоломея отложить на неопределенное время взлелеянный сердцем уход в монастырь и остаться в Радонеже, чтобы заботиться о больных, старых родителях – до самой их смерти. Этот поступок следует признать еще и мудрым, заложившим достойное основание, соизмеримое со всем его жизненным подвигом. В самом деле, разве не слилась в единое, неразделимое целое его верность и служение родителям с верностью и Служением Родине и человечеству? Ущербным было бы само Служение Богу, если б он, презрев просьбу, болезни и старость любимых родителей, замечательных, достойных людей, оставил их на произвол судьбы, безоглядно устремившись поскорее осуществить свою мечту? Это было бы не по-человечески, хотя и по-монашески, то есть в согласии с освященными традицией нормами монашеского благочестия. Вспомним, что старший брат Варфоломея Стефан ушел в монастырь, оставив в миру двоих малолетних сыновей на попечение родителей жены. Однако агиограф не порицает Стефана, а, напротив, постоянно хвалит его.
Сейчас нас интересует, было ли решение Варфоломея об уходе за родителями точным знанием духа или только верностью важнейшему завету Христа о любви к ближнему. Исходя из того, что Варфоломею было тогда года 24 и что, следовательно, не все его психоэнергетические центры были открыты и сгармонизированны, мы не склонны давать твердый, однозначный ответ. Вероятнее всего, его решение, кроме завета Христа, подкреплялось предощущением духа, вселявшим в сердце юноши чувство уверенности в своем будущем, полуосознанной веры в то, что он все успеет сделать: и о родителях позаботиться, как должно, по-христиански, с любовью и тщанием, и свою мечту осуществить. Все так и получилось – значит, его духовное предощущение было истинным. И достойным восхищенного удивления, ибо его родители перешли в мир иной как раз тогда, когда Варфоломею было примерно 28 лет и когда его дух обрел полноту и гармонию всех качеств души, могучую силу предвидения, безошибочного «понимания нужд времени», а значит, и определения верного направления жизненного пути. В предыдущих главах мы показали, что именно так и сложилась его жизнь, хотя поначалу многим, а не только старшему брату Стефану, представлялось, что ставки Варфоломея катастрофически велики и, скорее всего, приведут его к жизненному краху. Но все, кто так думали, просчитались. Со временем все больше и больше людей убеждалось, что решение Варфоломея (Сергия) о Служении Богу и людям в наитруднейших жизненных условиях было проницательным, мудрым выбором пути к величию духа Сергия, величию Руси и русского народа.
Преподобный Сергий предсказал кончину Митяя «перед всей братией» – это означает, что вскоре о пророчестве Сергия знала вся Москва, и раньше многих, конечно, великий князь. Поверил ли он предсказанию преп. Сергия? Судя по его действиям, не поверил. Князь оказал Митяю полное доверие, снабдив его в дорогу всем «потребным»: именитым сопровождением и чистым бланком с княжеской подписью, разрешающей кандидату в митрополиты делать денежные займы. Отсюда логически следует, что великий князь, как полагают некоторые исследователи, был недоволен преп. Сергием, давшим поручительство за Дионисия. Заметим, между прочим, что летописные (и другие) источники не подтверждают факт поручительства, но вместе с тем согласимся с предположением исследователей: источники, как известно, не отличаются полнотой. Но в этом случае перед нами встает такой вопрос: как же объяснить дружеский по отношению к преп. Сергию поступок великого князя, который осенью 1379 г. пригласил игумена опекать строительство великокняжеского ктиторского монастыря на р. Дубенка (Стромынского)? [169].
Г. М. Прохоров, сделав соответствующие расчеты, установил, что Митяй, уехавший из Москвы в Константинополь в июле 1379 г., примерно в конце сентября достиг на корабле бухты «Золотой Рог», но ввиду морской блокады Царьграда корабль вынужден был причалить к противоположному, турецкому берегу. При самых благоприятных обстоятельствах весть о смерти Митяя вряд ли могла дойти до ушей великого князя раньше конца 1379 г. – начала 1380 г. После этого, рассуждая логически, он должен был снова повернуться лицом к преп. Сергию и показать ему свое расположение. Но великий князь сделал это раньше, пригласив игумена Сергия благословить строительство Дубенского монастыря. Какова же была причина перемены отношения Дмитрия Ивановича к преп. Сергию? Ответа не находят.
Наблюдается такой парадокс: многие признают Сергия Радонежского духовидцем, пророком, но не признают за ним способностей, к примеру, болгарской ясновидящей Ванги. Но ведь духоразумение и великий пророческий дар свидетельствует ясно, что преп. Сергий был Великий Дух и что его дарования и познания гениально широки и глубоки. При желании он мог знать о факте смерти Митяя в тот же миг, как пресеклось его дыхание. Желание это, несомненно, у преп. Сергия было: предсказание обязывало. Исходя из этого, мы предлагаем такое объяснение поведения великого князя. Предвидя грозные события будущего 1380 года, преп. Сергий стремился сам восстановить дружеские отношения с великим князем. Поэтому, узнав о смерти Митяя, он, не теряя времени, отправился к великому князю и рассказал ему о том, что произошло на корабле с Митяем. Предсказание, сделанное во всеуслышание, – ответственный шаг. Чтобы решиться на него, надо быть действительно уверенным в силе своего дара. Это ведь понятно. Но когда преп. Сергий идет к князю и рассказывает ему свое видение о том, как было дело, то князь понимает и другое: Преподобный не пришел бы, если б не был абсолютно уверен в правоте и, кроме того, понимает, что Преподобный, великий пророк, пришел, как друг, предупредить князя от новых ошибочных шагов. После этого великий князь неожиданно для всех приглашает Преподобного опекать строительство Дубенского монастыря, чтобы очиститься от своего греха и публично снять с имени Великого Пророка тень княжеской немилости.
Когда же спустя месяца два Москва узнала от купцов или княжеских доверенных лиц, бывших в свите Митяя, весть и подробности о его смерти, то слава Великого Пророка прочно утвердилась за преп. Сергием. С этого времени он стал признанным духовным вождем Руси.

Промысел Божий ведет народы стезею Битвы.
Живая Этика
В Москве и в Орде прекрасно понимали, что назревает решающая битва. Москва устремилась к полному освобождению от чужеземного ига и созданию единого централизованного государства, Орда – к полному порабощению, разгрому и разорению Руси, к повторению результатов похода Батыя, как верно говорится в «Сказании о Мамаевом побоище».
Кто несет знание будущего, тот может смело идти даже по шатким камням.
Живая Этика
Подготовка сознания народа к освобождению от татаро-монгольского владычества началась, как мы показали ранее, с укрепления веры в Бога, то есть с отшельнического подвига Варфоломея (Сергия). Постепенно в целенаправленное духовно-нравственное воспитание народа энергично включается митрополит Алексий и те властители, которые сознавали, что разложение души и характера народа угрожает Руси бедствиями худшими, чем военное противоборство с врагами-поработителями. Но требовалось, помимо целесообразных мер по воспитанию народа, и великое долготерпение для накопления сил, для глубокого осознания происходящего, для выбора времени разумного применения сил.
Осенью 1379 года, как сообщают летописи, был построен на реке Дубенке у села Стромынь монастырь, и 1 декабря 1379 г. главный храм был освящен во имя честного Успения пресвятой Богородицы. «Можно думать, – пишет Н. С. Борисов, – что монастырь был устроен в память о победе над татарами в битве на реке Воже 11 августа 1378 г., за четыре дня до праздника Успения. Игуменом здесь Сергий поставил своего ученика Леонтия» [170].
Начиная с конца 50-х годов преп. Сергий уделяет особое внимание почитанию Богородицы как покровительницы Руси. Теперь, в 1379 г., Ее святому имени оказывается высшая честь: сам Великий Пророк Сергий и великий князь Дмитрий Иванович совместным делом укрепляют любовь к Ней. Символично их тесное сотрудничество в этом духовном акте, их дружба, которая продлится до конца жизни великого князя.
Строительство Дубенско-Стромынской церкви стало как бы сигналом, открывшим путь для спешного возведения еще нескольких каменных храмов с участием преп. Сергия, и, кроме одного, они были посвящены Пресвятой Богородице. Успенский храм в Симоновом монастыре, был построен у дороги, по которой двигались потом войска из Москвы на Куликово поле. В новых монастырях, возведенных с участием преп. Серигия, ввели общежительство, а игуменами были поставлены его ученики. В первой половине 1380 г. из Владимира в Москву привезли икону Дмитрия Солунского, христианского покровителя великого князя, и в торжественной обстановке поместили в Успенском соборе Кремля, где был предел во имя святого.
Из числа духовно-нравственных мер выделяются две, и обе они были приурочены к 15 июля. День этот был днем памяти святого Владимира, крестившего Русь, и днем знаменитой победы святого князя Александра Невского над шведами на р. Неве 15 июля; в воскресенье, в Серпухове был освящен во имя Святой Троицы новый собор. Святой Владимир, объединитель русских племен, был небесным покровителем серпуховского князя Владимира Андреевича, а Святая Троица была символом гармоничного единства и необоримой силы. Такое смысловое насыщение воскресных торжеств по самой сути отвечало главной задаче времени: единению народа, упрочению его веры в свои силы – и все это на почве сердечного устремления, любви к Высшим Небесным Силам.
В городе Владимире случилось «чудо» [171]. В Соборе Владимирского Рождественского монастыря, где находился гроб Александра Невского, посреди ночи зажглись свечи, два старца вышли из алтаря, и, подойдя к его гробу, призвали Александра Невского «восстать» из гроба и прийти на помощь в. кн. Дмитрию Ивановичу. Александр Невский встал и в тот же миг стал невидим, как и оба старца – таков был конец видения соборного пономаря. Смысл видения – воодушевление народа верой в победу над Ордой – отвечает все той же насущной потребности единения земных и небесных сил в преддверии решающего сражения с угнетателями Руси.
Однако и враждебные силы устремились к своей цели. Почти одновременно с «набегом» Киприана был предпринят другой набег, из Орды: царевич Бегич, опустошив нижегородские земли, двинул тумены на Москву. Когда в. кн. Дмитрий Иванович узнал об этом, он решил сам возглавить войско, выступившее навстречу Бегичу. На р. Вожа, в пределах Рязанского княжества, в яростной битве схлестнулись русские и татаро-монгольские воины. Ордынцы были разбиты, и царевич бежал с поля боя. Знаменательно, что это произошло 11 августа 1378 г., во время двухнедельного «богородицына» поста; а в праздник Успения Пресвятой Богородицы, 15 августа, в Коломне состоялись торжества в честь победы. Естественно, что православные верующие и на Руси, и в Литве восприняли победу с воодушевлением как знак высочайшего покровительства Богородицы русскому воинству и его предводителю, в. кн. Дмитрию Ивановичу.
В летописях сохранилось свидетельство о том, как Мамай встретил весть о поражении Бегича – «сильно разгневался и разъярился злобой». Той же осенью Мамай, «собрав... силы», «изгоном, не подавая вестей» [172], напал на Рязанскую землю и страшно опустошил ее, захватил и сжег несколько городов, включая Переяславль Рязанский, нынешнюю Рязань. Однако на Москву Мамай не пошел, и это означало, что силы его были недостаточно велики и что, следовательно, он будет их наращивать. Москва же за это время тоже должна позаботиться об усилении своей боевой мощи. Набег Мамая был для в. кн. Дмитрия Ивановича грозным свидетельством того, что ему надо готовиться к решающей битве с Ордой. Именно на этом и сосредоточил он свои усилия, что характеризует его как проницательного политика.
Везением, а вернее сказать, помощью Свыше отмечены еще два события 1378 – 1379 гг.: поимки тайных агентов Орды, «задания» которых имели непосредственное отношение лично к в. кн. Дмитрию Ивановичу. В августе 1378 г. был схвачен некий «поп», у которого нашли целый мешок ядовитых «зелий». Попа пытали, но сведений о результатах «дознания» в летописях не сохранилось. Ханский выбор лазутчика показателен: к священнику на Руси больше доверия, чем к мирянину. Символично, что был избран «поп» как мститель властителям Руси за непослушание: пусть, мол, борются за привилегии Церкви, дарованные ханами. Попа сослали на Север, на оз. Лаче; историки дружно полагают, что зелья-яды предназначались для правителей Руси, прежде всего, для Дмитрия Ивановича. Летом 1379 года дозорные службы Москвы поймали родовитого боярина Ивана Вельяминова, четыре года тому назад перебежавшего вместе с Некоматом в Орду. Он попался в руки двоюродного брата великого князя, Владимира Андреевича Серпуховского, который доставил его в Москву. Иван Вельяминов, предатель и агент Орды, был по «повелению великого князя Дмитрия Ивановича» казнен 30 августа, «мечем потят бысть на Кучкове поле у города у Москвы» [173]. Историки считают, что это была первая публичная казнь в Москве, явно в назидание другим возможным предателям, поскольку в предгрозовой обстановке того времени каждое предательство могло принести вред Руси. Предположительно (результаты расследования об Иване Вельяминове в летописях не нашли отражения) можно сказать, что он пришел на Русь не с диверсионным заданием (для этого был, видимо, послан годом раньше «некий поп»), а с идеологическим – внести разлад в ту группу русских князей, которая стояла за освобождение Руси от ига.
Доверительные отношения, установившиеся между Дмитрием Ивановичем и преп. Сергием, сыграли огромную роль в подготовке к Куликовской битве. Сергий мог и должен был теперь рассказать великому князю о всем, что ему дано было знать заранее о предстоящих важнейших событиях. Великий князь, имея проницательнейшего Пророка в качестве советника, мог действовать уверенно и планомерно, мог взять инициативу в свои руки.
В декабре 1379 года в. кн. Дмитрий Иванович организовал крупный поход в черниговские земли, бывшие под Литвой, и добился поставленной цели. Русское войско под командованием князя Владимира Серпуховского овладело городами Трубчевск и Стародуб – без боя. Правивший в Трубчевске литовский князь Дмитрий Ольгердович с женой и детьми вышел навстречу русскому войску, а затем «отъехал» на службу к Дмитрию Ивановичу, пойдя по стопам своего брата Андрея, ранее перешедшего на сторону Москвы и правившего Псковом. Дмитрий Ольгердович получил во владение Переяславль Залесский. Ягайло не смог выступить против московской рати в декабре 1379 года, так как его силы были скованы волнениями в Подолии и на Волыни, а также «розмирием» с родным дядей Кейстутом, – и эти обстоятельства, наверное, были известны в Москве. Но Москва знала и другое: Ягайло имел сношения с Ордой, смысл которых мог быть только один: союз с Мамаем в предстоящей битве с Русью.
День 23 июля, когда гонец от дозоров по границе с Ордой принес в Москву «поломянную» весть о движении Мамаевых войск, стал началом новых военно-политических и духовно-нравственных мер московских властей. Хотя рязанский князь Олег должен был от своих «сторожевых» раньше узнать о движении Мамаевой рати, все же первую весть об этом принес московский гонец. И этот факт говорит о том, что великий князь принял заранее особые меры по усилению пограничных дозоров, и, видимо, по их максимально возможному выдвижению вглубь вражеской территории. Весть от Олега Рязанского пришла позднее, правда, мы не знаем, в какой именно день и месяц.
Из Москвы рассыльные помчались во все концы трубить сбор войск в Коломне с 1 по 15 августа. Три недели (с 23 июля по 15 августа) были достаточны лишь для того, чтобы собрать уже снаряженные, как следует, войска из разных мест на Руси в Коломне. Затем проходил смотр войск, и 20 августа произошло событие, не военное, а духовно-нравственное, оказавшее большое влияние на подготовку русского войска к Куликовской битве, а значит, и на саму битву.
У людей всегда встает неразрешенная задача, как мог Миротворец посылать воинство на бой. Такая задача трудна человеку, если он положит в основание неверные ценности. Человек должен признать спасение и оборону родины и отказаться от порабощения. Пусть в сердце своем человек взвесит, где оборона и где порабощение.
Живая Этика
Посещение великим князем Дмитрием Ивановичем Свято-Троицкого монастыря перед Куликовской битвой – знаменательное событие. Оно нашло широкое отражение в тогдашней письменности: в летописях, в «Житии», в «Сказании о Мамаевом побоище» [174].
В этой главке мы рассмотрим в сопоставлении не два, а три текста: к рассказам Пахомия и анонимного агиографа добавим текст «Сказания о Мамаевом побоище» (далее «Сказание»), автор которого также пожелал остаться неизвестным.
Между сопоставляемыми текстами имеются существенные расхождения – и по смыслу, и по форме, и по информативности. Весьма примечательны различия, относящиеся к началу повествования.
1) Пахомий: «И оттоле имеаху люди святого яко некоего велика пророка. Некогда же приде князь великий в монастырь къ преподобному Сергиу и рече ему: "отче, велиа печаль обдержит мя: слышах бо, яко Мамай въздвиже всю Орду и идет на Русьскую землю, хотя разорити церквы, их же Христос кровию Своею искупи. Тем же, отче святыи, помоли Бога о том, яко сия печаль обща всем христианом есть"» (с. 369)*.
2) Анонимный агиограф (цитируем по ПЛДР): «Сей убо прииде къ святому Сергию, яко же велик» веру имеа къ старцу, въпросити его, аще повелить ему противу безбожных изыти: ведяше бо мужа добродетелна суща и даръ пророчьства имуща» (с. 386)*.
3) «Сказание»: «Князь же великий Дмитрей Ивановичь поимъ с собою брата своего, князя Владимира Андреевича, и вся князи русские, и поеде к Живоначальной Троици на поклонъ къ отцу своему, преподобному старцу Сергию, благословенна получить от святыа тоа обители» (сс. 30-31)**.
Различия между текстами, как можно заметить, весьма широкие и глубокие. Собственно говоря, не совпадают даже определения цели приезда. По Пространной редакции «Жития» ясно видно: авторитет преп. Сергия в августе 1380 г. был столь высок, что его слово имело для великого князя силу приказания. Это означало, что прежде всего от преп. Сергия зависело быть или не быть роковой битве с Ордой. Именно такой и была – согласно «Похвальному слову» Епифания, вспомним тут об определении Сергия как «наставника вождей» – сила духовно-нравственного влияния преп. Сергия на правителей Руси.
По «Сказанию» великий князь со свитой поехал за благословением – «к Святой обители», а к преп. Сергию он поехал лишь поклониться как к «своему отцу», т. е. своему духовнику. И только. Ни в одной из известных нам редакций «Жития» не имеется такой странной формулировки и формы благословения (от монастыря в целом). Как это осознать? Ясно, что автор «Сказания» (по нашему мнению, оно создавалось в 90-х гг. XVI в. скриптории митрополита Киприана) не использовал в своей работе епифаниевский текст «Жития». Почему? Он еще не был написан. В формулировке «Сказания» отразились две характерные особенности этого памятника:
1) пребывание (выдуманное) Киприана в Москве, у которого великий князь и должен был (по своему рангу) получить (и якобы получил) благословение на битву с Ордой;
2) своеобразное объяснение причины поездки великого князя в обитель Святой Троицы как почтительного визита к своему духовному отцу, как визита этикетного; поэтому и говорится, что к преп. Сергию великий князь приехал поклониться, а не получить благословение.
Две нелепости, возникшие при истолковании цели поездки великого князя к преп. Сергию, заранее списаны на невежественных сочинителей «Сказания». Нелепости эти таковы: 1) благословение дается лично священнослужителем, независимо от того, говорит ли он от имени монастыря или всей Русской церкви; 2) если бы первой целью великого князя был визит к своему духовнику, то в этом случае совершенно незачем было брать ему с собой всех князей – участников предстоящей битвы с Ордой; тем более, что до этого он уже дважды (по версии «Сказания») был у митрополита Киприана и получил от него благословение.
В обеих редакциях «Жития» с великим князем беседует только Сергий Радонежский, а о Киприане нет даже упоминания, что находится в полном соответствии с исторической действительностью: Киприан был тогда в Киеве, а не в Москве, и потому он не мог благословить великого князя на битву с Ордой. Редакция Пахомия, в отличие от Пространной редакции «Жития», семантически одинаково со «Сказанием» формулирует цель похода Мамая на Русь как сокрушение христианства. Сравните процитированную ранее формулировку Пахомия с определением цели в «Сказании»: «И начал подстрекать его (Мамая. – А. К.) дьявол, и вошло в сердце его искушение против мира христианского, и подучил его враг, как разорить христианскую веру и осквернить святые церкви, потому что всех христиан захотел он покорить себе, чтобы не славилось имя Господне средь верных Богу» (перевод ПЛДР, с. 133 ). Смысловая зависимость текста пахомиевской редакции «Жития» от «Сказания» не вызывает сомнений. Явное подобие между ними в рассказе об этом событии наблюдается еще и в том, что великий князь, хотя и не просит у преп. Сергия благословения, но чуть позже его фактически получает. Сравните:
1) Пахомий: «Преподобный же отвеща: «Иди противу их и Богу помогающу ти победиши» (с. 369);
2) «Сказание»: «Преподобный Сергий окропил его священною водою... и осенил великого князя крестом Христовым-знамением на челе. И сказал: "Пойди, господин, на поганых половцев, призывая Бога, ...победишь, господин, супостатов своих"» (с. 147).
Идейную зависимость Пахомия от автора «Сказания» можно объяснить тем, что он, как и его современники, знал, вероятно, о происхождении «Сказания» из скриптория митрополита Киприана и понимал, что текст сочинения был им одобрен.
В обеих редакциях «Жития» и «Сказания» говорится о пророчествах преп. Сергия, но говорится весьма различно – и по сути, и по форме. В «Житии» святой Сергий предсказывает победу Руси над Ордой и возвращение Дмитрия Ивановича с поля битвы в Москву живым и здоровым (с. 369 и сс.386-387). Это были пророчества, которых, думается, с нетерпением ожидала Русь от Преподобного. И они были произнесены. Мобилизующую и вдохновляющую силу пророчества мы, в наше прагматическое время, вряд ли сможем оценить по достоинству. Чудеса, видения, вещие сны – всего этого, надо полагать, было немало в то время, насыщенное религиозным экстазом, но на всю Русь был только один Великий Пророк, в простых, но высочайше ответственных словах спокойно, убежденно возвестивший исход предстоящей судьбоносной битвы: «Иди против безбожных и при помощи Бога ты победишь и здоровым, и с великой славой возвратишься в свое отечество» (с. 386). Сбывшееся пророчество о Митяе явилось теперь гарантией исполнения новых пророчеств. В «Сказании» преп. Сергий предсказывает победу Руси над супостатами, смерть великого князя «через несколько лет», но ничего не говорит ни о том, что он вернется в Москву невредимым и с «великой честью». Оба умолчания не случайны. По «Сказанию», Дмитрий Иванович в самом начале битвы получил тяжелое ранение, в результате которого всю битву пролежал на обочине Куликова поля, под деревом, где его и нашли после разгрома Мамая, и поздравили с великой победой, угодливо, но несправедливо приписав ему всю славу победителя. Образ великого князя Дмитрия Ивановича, созданный автором «Сказания», находится в вопиющем противоречии с исторической правдой, с его образом в «Житии Сергия» и в «Повести о Мамаевом побоищи».
Вместе с тем в «Сказании» рассказано о некоторых фактах, которые прошли мимо внимания Пахомия и анонимного агиографа. Во время посещения великим князем Дмитрием Ивановичем и другими русскими князьями Свято-Троицкой Обители состоялась божественная служба – моление о победе над врагом. Не была ли она самой представительной и самой значительной из всех, состоявшихся перед походом? Наверное, была. Мы не располагаем сведениями, которые могли бы поставить под сомнение это утверждение. Понятно, почему так сложились события: митрополита на Руси не было, и никто в русской церкви не мог тогда сравняться авторитетом с преп. Сергием.
В «Сказании» сообщается также еще об одном замечательном действии Преподобного, о котором он, судя по форме сообщения, заранее договорился с великим князем: о благословлении на битву двух иноков, Пересвета и Осляби, в прошлом знаменитых воинов и знатных брянских бояр. Было обусловлено (тоже, судя по беседе, заранее), что они выступят в поход в монашеских схимах (с крестами на груди, на плечах, спине и на головном уборе), чтобы войско воочию видело в них знак святого благословения Руси на битву.
Четвертый Вселенский собор принял постановление о том, что монах не должен нести военную службу под страхом отлучения от церкви [175]. Но не в правилах Бог, а в правде. Преп. Сергий, как всегда, действовал обдуманно и целеустремленно. Какая же необходимость побудила его нарушить правила?
Н. С. Борисов, на наш взгляд, верно ответил на этот вопрос: надо было создать вокруг предстоящей битвы с Ордой ореол священной войны против «безбожных», чтобы тем самым поднять общенародное воодушевление и позволить великому князю собрать сильное ополчение, и, добавим мы, вызвать мощный прилив энергии у войска, придав смерти воина на поле боя смысл и значение спасительного, жертвенного подвига во имя Бога. Таким образом необходимость освобождения Родины согласовывалась с главной жизненной целью христианина – с освобождением от грехов путем искупительной жертвы и со спасением души. В действиях преп. Сергия мы находим понимание русской души, осознание великого значения духовно-нравственного настроя воинов, т. е. морального фактора, как принято говорить в наше время.
Молва о новых пророчествах преп. Сергия и благословении им русского войска на битву птицей-вестницей полетела по Руси.
Собрав войско в Коломне, великий князь Дмитрий Иванович увидел, что далеко не вся Русь идет вместе с ним в поход: не было тут полков новгородских, тверских, рязанских, смоленских, нижегородских, суздальских, то есть около половины всей русской силы. Тверской князь Михаил Александрович нарушил подписанный с Дмитрием Ивановичем в 1375 г. договор о дружбе и взаимопомощи, а рязанский князь Олег Иванович вступил в соглашение с литовским князем Ягайло о совместных действиях против Москвы, в поддержку Мамая. Между тремя союзниками были согласованы и день (1 сентября), и место встречи. Дмитрий Иванович знал, конечно, об измене рязанского князя и о тройственном союзе Орда-Литва-Рязань, знал он (от преп. Сергия) и о времени соединения союзнических войск. Этим и объясняется, на наш взгляд, стратегическое решение идти навстречу войску Мамая сквозь рязанские владения, преследуя одновременно две цели: затруднить связь и соединение рязанских и литовских полков и прийти на место битвы раньше литовцев. Но действительность превзошла ожидания великого князя. Олег Иванович – и, надо думать, Мамай и Ягайло также – не ожидали, что Дмитрий Иванович, уверенный в победе, смело пойдет в глубь Степи, один против троих. Когда Олег Иванович узнал о глубоком рейде великого князя, он забеспокоился: «И начал Олег рязанский остерегаться, переходить с места на место со своими единомышленниками, говоря: «Если бы нам можно было послать весть многоразумному Ольгерду Литовскому о таком неожиданном событии и узнать, как он об этом думает, но путь нам перерезан. Я думал, как раньше, что не следует русским князьям противостоять восточному царю. Но ныне как мне все это понять? И откуда получил он такую помощь, что против нас трех «въоружился», т. е. отважился выступить?» (Повесть о Куликовской битве, с. 57). Стратегический план Дмитрия Ивановича застал союзников врасплох. Подобный вывод следует также и из показаний ордынских «языков» о том, что Мамай кочует в степи, поджидая союзников, но не ожидая войск Дмитрия Ивановича. Бояре так ответили рязанскому князю: «Нам, княже, поведали от Москвы, мы же устыдехомся тебе сказати: како же в вотчине его есть, близь Москвы, живеть калугер (монах. – А. К.), Сергием зовут, вельми прозорлив. Тъй паче въоружи его» («Повесть о Куликовской битве», с. 57). Чем мог преп. Сергий «въоружить» великого князя? Пророчеством. Знанием будущего. Но именно это и «испугало» Олега Ивановича, который, связав глубокий рейд великого князя в Степь с сообщением бояр, сделал, видимо, вывод о том, что Сергий предсказал великому князю победу. Именно поэтому рязанский князь «взъярился» на бояр, утаивших от него столь важную новость, и стал срочно пересматривать свою военную политику, решив выждать исхода битвы с Мамаем, чтобы потом присоединиться к победителю. Нейтралитет Рязани был выгоден Руси и не выгоден Орде. Литовский князь, узнав о том, что «Олег убоялся» и не идет на помощь Мамаю, остановил свое войско у Одуева и тоже стал ожидать исхода предстоящей битвы Руси с Ордой. Таковы были весьма значительные последствия молвы о пророческом даре Преподобного. Молву, однако, можно воспринять как с согласием, так и с пренебрежением. Одинаковое отношение к молве столь разных по сознанию и вероисповеданию людей, как Олег рязанский и великий князь литовский Ягайло, говорит, думается, о том, что и тот, и другой испытали одинаковое внушение Свыше. «Истинное пророчество предусматривает лучшую комбинацию возможностей, но их можно упустить... Исполнение пророчества требует настороженности и устремления» [176]. Пророчество Сергия Радонежского, возвещенное им в. кн. Дмитрию Ивановичу и легло в основание наступательной стратегии, а значит, и в основание победы Руси над Ордой на поле Куликовом. Такой вывод не является преувеличением, так как Русь потерпела бы поражение, если б на стороне Орды сражались литовские и рязанские полки. Тут уместно отметить, как закономерно стратегическая инициатива нашла завершение в инициативе тактической – в решении перейти Дон, в упреждающем выборе поля боя по своему усмотрению и в решении спрятать в дубраве засадный полк, чтобы в критический момент битвы снова перехватить инициативу и нанести неожиданный удар.
В канун Куликовской битвы в. кн. Дмитрий Иванович получил от Преподобного ободряющее послание, текст которого (неодинаковый) приводится, помимо «Сказания» и «Жития», еще и в Летописной «Повести о Мамаевом побоище». Мы процитирует здесь «Житие»: «Без всякого сомнения, господин, дерзновенно иди против их свирепства, не страшись, и Бог всячески поможет тебе» (с. 386). Преподобный Сергий, тонко понимая взволнованно-напряженное состояние духа Дмитрия Ивановича непосредственно перед решающей битвой, не только подтверждал свою полную ответственность перед Богом и людьми за благословение на битву, но и мощно укреплял волю предводителя войска к победе.
15.3. Поединок: победительная ничья
Именно огнем и мечом очищается планета. Как же иначе проснется сознание? Стремление человечества тонет в земных вожделениях.
Живая Этика
Монахи-воины... В мире это явление не ново, но на Руси оно было неведомо до Сергия Радонежского. Знал ли он, как сложится на поле боя судьба Пересвета и Осляби? Знал, несомненно. И это не остановило его благословляющую десницу, ибо на личном опыте знал он и другое: «подвиг есть осознание необходимости» [177] и «кратчайший путь самосовершенствования духа» [178]. Так он и воспитывал своих учеников в бесстрашии и безграничной вере в Бога. Теперь в этом должна была убедиться Русь: иноки вышли на боевое служение Богу в одежде схимников, без лат и кольчуг. В «Сказании» ярко изображен поединок русского и монгольского богатырей: «Уже близко сходятся сильные полки, выехал злой печенег из великого полку татарского, показывая свое мужество перед всеми. Подобен он был древнему Голиафу: пять сажен высота его, а трех сажен ширина его. Увидев его, старец Александр Пересвет, который был в полку Владимира Всеволодовича, выехал из полка и сказал: «Этот человек ищет равного себе, я хочу встретиться с ним». Был на голове Пересвета шлем архангельского образа, вооружен он схимою по повелению игумена Сергия. И сказал: «Отцы и братья, простите меня грешного. Брат Андрей Ослябя, моли Бога за меня, сыну моему Иакову мир и благословение». Бросился он на печенега, говоря: «Игумен Сергий, помогай мне молитвою». Печенег устремился против него. Христиане же все воскликнули: «Боже, помоги рабу своему!» И ударились крепко копьями, едва земля не проломилась под ними. И упали оба с коней на землю и скончались» (сс. 68-69, перевод М. Н. Тихомирова). В изображении поединка есть явная параллель с библейской легендой: печенег сравнивается с Голиафом, размеры тела печенега неестественно велики. От русских сказок, от фольклора берет начало гиперболический образ сотрясения земли от удара упавших тел поединщиков. Идея поединка заимствована тоже из арсенала устного народного творчества; возникает уподобление поединку Мстислава с Редедею, описанному в русских летописях и упомянутому в «Слове о полку Игореве». Автор «Сказания» переработал оба легендарных прообраза. Печенег изображается сказочно огромным великаном – ни Голиаф, ни Редедя не гиперболизированы в такой степени. Этот сказочный мотив создает из печенега Челубея (Телабуги...) символ многократного количественного превосходства ордынского войска над русским. Смерть обоих поединщиков на Куликовском поле становится новым символом – символом равенства сил Орды и Руси, понятого в широком обобщении и исторически подтвержденного потом нашествием Тохтамыша: общий счет двух поединков Руси и Орды в 1380 и 1382 гг. стал ничейным. Более того, типизирующая мощь символа позволяет нам выйти еще и на другое обобщение: противоборство Руси и Орды завершилось лишь в 1480 году «стоянием на Угре», очевидной победительной ничьей, ознаменовавшей подлинное окончание монголо-татарского ига, полную внешнюю независимость Руси. В этом обобщении и состоит особенная идейно-художественная ценность легенды, особенная пророческая мощь истинно художественного символа. Второстепенное значение имеет при этом сам исторический факт, переработанный силой творческого воображения писателя (летописца, сказителя). Так или иначе, но почвой для воображения всегда являются действительные события: на пустоте воображение не работает. «Кто-то думает, что точное значение будет венцом мысли, но вернее сказать, что увенчает мысль легенда. В легенде сложится смысл созидательной энергии и в сжатой формуле выразятся чаяния и достижения... В легенде выражается воля народа, и мы не можем назвать ни одной лживой легенды» [179].
Пересвет и Ослябя значатся в списке погибших среди известных участников Куликовской битвы, и, следовательно, невозможно отрицать их историческое бытие. Вопрос сводится, собственно, к тому, что конкретно автор «Сказания» почерпнул из былей того времени, а что домыслил в соответствии со своей идеей. Исчерпывающего ответа не может быть. Домысливание происходит уже при самом восприятии событий, так как неадекватность восприятия действительности, та или иная степень «отлета» отображающего акта сознания от подлинного факта есть свойство человеческого сознания. Вопрос, следовательно, сводится к определению этой меры в каждом конкретном случае. Мог ли быть в действительности поединок между Пересветом и Челубеем? Вполне. Такие поединки – в природе вещей, они происходят во множестве при любых конфликтах и состязаниях. Можно ли отрицание поединка или любого другого художественного факта «Сказания» основывать, как это делают некоторые историки, на том лишь, что об этих фактах не сохранилось упоминания в летописях и других т. н. документальных письменных источниках? Ни в коем случае не можем мы признать эти источники исчерпывающе полным отображением хотя бы главных действительных событий. Для исследователя задача часто сводится к тому, чтобы понять своеобразие художественного языка автора и своеобразие его метода отображения действительности, а, поняв, восстановить с относительной, разумеется, точностью саму действительность.
Мог ли поединок закончиться одновременной смертью обоих богатырей? Вряд ли кто возьмется оспаривать такую возможность. На реальном ли основании построена гипербола о страшном сотрясении земли от удара о нее двух упавших богатырских тел? Вполне. Очевидной гиперболизацией автор хотел лишь подчеркнуть тяжеловесность обоих поединщиков, особенно печенега. Есть ли какое-либо действительное основание фантазии, наделившей печенега столь гигантским телом? Народное сознание, сохранившее в преданиях память о гигантах, некогда живших на земле. Сами же эти предания, добавим, донесли до нас весть о далеком прошлом человечества, когда жители имели нормальное для того времени тело высотой 9 и более метров. Гигантские человеческие скульптуры на о. Пасха и в Гератской долине Афганистана, сохранившиеся до сих пор – зримое свидетельство необыкновенных реалий далекой эпохи. Отметим характерное обобщение – ни Давид, ни Мстислав, ни Пересвет не обладают сверхнормальным телом, которым похваляются их противники. Авторы легенд-сказаний отобразили тут, что лишь людям прошлого были свойственны гигантские размеры. Их же победители, за которыми закрепляется превосходство в духе и разуме – люди будущего времени. Поединок богатырей вырастает до символа борьбы за светлое будущее Руси и человечества, борьбы Прошлого с Будущим, которая в итоге завершается победой лучшего Будущего, Руси над Ордой, света над тьмой, победой духа и разума, веры в нового, лучшего Бога. Эта символика ярко выражена в имени и фамилии Пересвета: Александр – победитель и Пересвет – тот, кто перехватил, взял себе свет; победа духовного воина завершает всю символику Поединка, знаменуя триумф духа, его превосходство над грубой материей.
Именно дух человеческий есть проводник всех высших энергий. Как мощный провод дух являет разные функции для утверждения Высшей Воли... Каждое проявление Огненного Служения человечеству есть творчество на Благо человечества.
Живая Этика
В день битвы на поле Куликовом преп. Сергий был в Троицком монастыре и вместе с братией непрестанно молился Всевышнему о даровании победы русскому воинству. Драгоценное письменное свидетельство об этом молении, сохранившееся только в «Житии», мы приводим полностью: «Святой же обладал, как было сказано, пророческим даром и видел тогда (после окончания битвы. – А. К.) издалека, с расстояния во много дней ходьбы, так словно был вблизи от всего происходящего, – вместе с братией он непрестанно молился Богу о победе над нечестивыми. Когда же прошло немного времени после окончательной победы над безбожными, Святой обо всем, что произошло, тогда же рассказал братьям: о победе и мужестве князя Дмитрия Ивановича, с большой славой для себя разгромившего нечестивых, о павших воинах, имена которых он назвал. Тогда же он и молебствие о них всемилостивому Богу вознес» (с. 388). Светские историки и литераторы не придают значения молебствию Сергия и братии, сопровождавшему Битву от начала до конца. Церковные писатели, понимающие силу соборной молитвы, пишут о ней слишком общо, туманно. Нам хотелось бы показать ее практическое воздействие на ход Битвы. Еще в 1934 году этому факту дала объяснение Е. И. Рерих: «Могут спросить – почему же Сергий не последовал за князем на битву? Неужели он не мог покинуть монастырь? Неужели он считал такую битву недостаточно значительной? Неужели он не желал руководить князем во время битвы?»
Конечно, иные соображения остановили Преподобного в монастыре. Если битва была решающей, то и духовное руководство должно было быть чрезвычайным. Лишь на месте, у Престола Огненного, Сергий умножал свою силу. В такую минуту требовалась соединенная мощь Света, и Преподобный сердцем сослужил с Силами Невидимыми. Так воин Сергий избрал дозорную башню, чтобы нести несменную стражу. Не могут силы возрастать в смятении битвы, но луч Света идет за воинами из Обители Огненной. Так нужно понимать мудрое распределение сил» [180]. Тут все сказано, но не все ясно читателю, далекому от «Живой Этики». Для него я и хочу сделать дополнительные пояснения. Всеначальная (психическая) энергия, насыщающая Вселенную, имеет бесконечное множество видов и вибраций – от наитончайших (и наимощнейших) до грубых, присущим низшим царствам Природы. Великий Дух (скажем, преп. Сергий), у которого открыты и сгармонизированы психические центры, обладает колоссально мощной психоэнергией, которая и есть тонкоматериальная основа всех его «чудесных» возможностей – пророческих, целительных и других. Кроме того, Великий Дух, воплотившийся в физическом теле, обладает редчайшей способностью (силой) трансмутировать, т. е. трансформировать тонкие энергии, убийственные, разрушительные для среднего человека, в энергии его регистра. Сердце Преподобного Сергия «работало» во время битвы трансформатором психоэнергии, идущей к нему от Светлой Иерархии Земли, и ее собирателем в единый пучок, в мощный, но невидимый Луч, направленный на русское войско, и, пробивая вихревой энергетический заслон над полем битвы, вливало эту энергию в воинов. По этому же Лучу, возможно, передавалась и энергия некоторых монахов, подключавшаяся к энергии, идущей от Сергия.
Надо отметить еще три фактора. Как ни велика была мощь Сергия, она имела предел. Он трансмутировал высшую энергию на средний типичный регистр, но часть русских воинов обладала, разумеется, и более низкой, более грубой психоэнергией, и это явление в сочетании со страхом или сомнением в победе закрывало к ним доступ психоэнергии, излучаемой Свято-Троицкой психостанцией. Отсюда следует громадное практическое значение той предварительной духовной работы, которую проводил Сергий и его помощники (в широком смысле слова) по укреплению веры народа, особенно в Богородицу и ее заступничество, веру в то, что Битва – богоугодное дело, и потому ее участники обретут спасение своим душам. Воин в пылу Битвы получал подпитку от Свято-Троицкой психостанции, если сердце его было открыто и излучало веру в победу, и не получал, пресекая контакт с Лучом, если в сердце его внедрился страх, или запало сомнение, или оно вообще было неспособно к восприятию нужной энергии. Психоэнергия и есть то, что тела притягивает или отталкивает.
Совокупная, непрерывно подпитываемая энергия русского войска компенсировала численный перевес ордынцев и была одним из важнейших факторов, слагавших Куликовскую победу. В сказочном образе небесного «Трехсолнечного» полка, воевавшего за Русь, этот фактор нашел своеобразное отражение в «Сказании».
Разумеется, тогда, вероятно, никто, кроме самого Преподобного, не знал этой его работы на победу. Восхищение им ограничивалось восхищением его пророческим даром, его «чудесной» способностью видеть ясно на огромном расстоянии, точно называть имена павших. Но и в этом проявлении способностей Преподобного остается нераскрытой одна особенность, подмеченная агиографом. Преподобный стал называть имена павших, лишь «когда прошло немного времени после окончательной победы над безбожными». Почему после? По двум, я думаю, причинам: он был сосредоточен на посылке психоэнергетического Луча и отвлекаться от нее не мог, и, вероятно, даже его духовный взор не всегда мог проникнуть сквозь невообразимый схлест энергий во время Битвы.
И последнее. Была ли энергетическая подпитка Свыше ордынского войска? Нам это неведомо. Конечно, Князь тьмы мог это сделать, но, возможно, он понадеялся на численное превосходство ордынцев, не разгадав своевременно двоедушного поведения литовского и рязанского князей.
15.5. На поклонение к великому Пророку
Люди, прошедшие многие опасности, могут свидетельствовать, что лишь полное сознание правоты переносило их через бездну... Мы настаиваем на таком сознании, ибо тогда сотрудничество становится легче.
Живая Этика
Куликовская битва подтвердила все три пророчества Преподобного: Мамай был разгромлен, великий князь вернулся в Москву с победой и в полном здравии. Слава Преподобного необычайно возросла. Это вполне понятно. Пророчество об исходе Куликовской битвы и о судьбе Дмитрия Донского, конечно, надо отнести к самым великим. История сохранила два свидетельства громадной славы Преподобного. Их, конечно, было бы больше, если бы не мощное противодействие митрополита Киприана и вообще церковного священноначалия; следы этого сохранились в «Похвальном слове» Епифания.
Такими свидетельствами мы считаем сообщения о посещении великим князем Дмитрием Донским Свято-Троицкого монастыря после возвращения князя в Москву с Куликова поля – в Пространной редакции «Жития» и в «Пространной редакции «Сказания». Рассмотрим эти сообщения. «Житие»: «Достохвальный и победоносный великий князь Дмитрий, одержавший славную победу над супротивными варварами, возвращается, светло радостный, в свое отечество и незамедлительно отправляется к старцу святому Сергию, чтобы воздать ему честь за добрый совет, прославить всесильного Бога и поблагодарить за молитвы старца и братию. Радуясь сердцем, великий князь, как на исповеди, рассказал обо всем, что произошло, как Господь проявил к нему великую милость Свою; и дал большую милостыню монастырю, и пожелал исполнить то, что обещал ранее старцу – построить в скором времени монастырь во имя Пречистой Богоматери там, где найдется место, пригодное для его возведения» (ПЛДР, с. 388). Сам факт княжеского посещения, к тому же «незамедлительного», явно говорит о том, сколь велик был духовный авторитет Преподобного после Куликовской победы. Под «добрым советом» агиограф имеет, конечно, в виду пророчество Преподобного о победе над Ордой и благословение великого князя на битву, о чем ранее в «Житии» было сказано очень весомо. Посещение Обители было довольно продолжительным. Это следует из того, что для «прославления всесильного Бога» надо было, конечно, устроить торжественное богослужение с участием великого князя, который потом еще подробно, «как на исповеди», рассказал о Битве. Все это было действительно заслуженной высочайшей честью для Преподобного и Свято-Троицкой обители, подкрепленной даром монастырю. Тут следует обратить внимание на одно важное обстоятельство: в «милостыню» не входила недвижимость – ни села и земли, ни варницы, словом, ничего, что делало бы монастырь коллективным собственником и эксплуататором чужого труда. Мы говорим об этом уверенно, потому что не нашли в источниках ни одного упоминания ни о приобретении, ни о получении монастырем при жизни Преподобного в дар какой-либо недвижимости, а ведь для других монастырей это было обычным делом. Как же это понять? Неужели ни великий князь и никто другой из богатых людей Руси не выражал желания сделать знаменитейшему монастырю Руси дар недвижимостью? Вряд ли. Дело, видимо, в том, что всем была известна истинно христианская позиция Преподобного, отклонявшего подобные дары, то есть его принципиальное нестяжательство. При доверительных отношениях между великим князем и преп. Сергием вопрос этот должен был обсуждаться ими и должна была быть выражена единая точка зрения, в основу которой легла, как видно, Сергиева позиция. В противном случае великий князь, исходя из добрых намерений, мог бы сделать промах, который поставил бы Преподобного и самого князя в трудное положение. Если б Дмитрий Иванович объявил вслух о своем желании сделать дар недвижимостью, а преп. Сергий вынужден был бы от него отказаться, то следствием было бы досадное недоразумение. Мы полагаем, что Обитель при Сергии и благодаря ему пользовалась особенным правом... не получать даров недвижимостью. Конечно, такой нравственный принцип шел вразрез с церковной политикой, но что поделаешь, огромный авторитет Преподобного вынуждал властителей считаться с его позицией. Всегдашняя готовность преп. Сергия к положительному сотрудничеству, его смиренномудрие и терпимость должны были убеждать высоких дарителей, что он далек от мысли упрекать кого-либо за иное понимание власти и собственности. Вот и теперь, когда великий князь обратился к нему с просьбой взять на себя некоторые священнодейственные хлопоты по созданию нового «обетного» монастыря в честь великой Победы над «безбожными», преп. Сергий охотно согласился.
Есть, на наш взгляд, знаменательная символичность в том, что Преподобный, отправившись пешком на поиски подходящего для монастыря места, выбрал снова, как и в 1379 г., район Дубенки. Тогда, в преддверии Битвы, он нашел на Дубенке хорошее место для возведения монастыря в честь Пресвятой Богородицы, и ныне, после победоносной Битвы, снова на той же самой реке, основал монастырь, посвященный Богоматери, с великой помощью которой была завоевана победа на Куликовом поле. Знаменательный смысл реки (символ быстротекущей жизни) и дуба (символ крепости, силы) издавна был хорошо известен русским людям. В иносказательных значениях дуба и реки удачно соединились различные священные осмысления, и это соединение вполне соответствовало народному духу восприятия и освоения христианского вероучения. В новом монастыре было введено общежитие. Но не менее важно было и другое: игуменом был поставлен ученик Преподобного по имени Савва, «муж зело добродетеленъ» [181]. И назвали этот монастырь «тот, который на Дубенке». Два великокняжеских монастыря во имя Пречистой Богородицы, духовным устроителем которых был Преподобный, стали внушительным символом дружбы и доверительного сотрудничества между Дмитрием Ивановичем и преп. Сергием, символом их веры в необходимость союза с Высшими Силами и их глубокой благодарности Богородице, а значит, вообще Высшим Силам Света за великую помощь в победе над Ордой, над силами тьмы и их повелителем.
Приведем интересующий нас фрагмент из «Сказания»: «Великий князь был уже в Москве 4 дня, и пошел князь великий вместе с братом своим и литовскими князьями к живоначальной Троице, к отцу преподобному Сергию. И пришел к Троице, к отцу Сергию. И преподобный старец встретил его с крестами близ монастыря, благословил его и сказал: «Радуйся, господин великий князь, и да возрадуется твое христианское войско!» И спросил князя о своих избранниках и его поборниках. И сказал ему князь великий: «Твои, отец, избранники, а мои поборники победили своих врагов. Твой, отче, воитель, называемый Пересвет, победил подобного себе. И если бы, отче, не твой воитель, пришлось бы, отче, многим христианам испить от его противника горькую чашу!»
Окончив говорить, он повелел Сергию идти в церковь, и освятить воду, и петь молебен, и служить литургию. И прослушав святую литургию, сказал ему старец: «Покушай, господин, хлеба нашей бедности!» князь великий согласился и откушал в святой обители, а, встав после трапезы, повелел всем собираться к отходу. Преподобный старец проводил его с крестами» (с. 158). В «Сказании» роль главного советника великого князя отведена митрополиту Киприану, хотя он в это время жил к Киеве и находился во враждебных отношениях с великим князем Дмитрием Ивановичем. Одна ложь повлекла за собой другую. От глубокого почитания Великого Пророка Сергия Дм. Донским в «Сказании» не осталось и следа. О пророчествах Сергия и его благословении на битву великий князь вообще не вспомнил. Преподобного Сергия он называет «отцом» и отдает ему приказания по делам сугубо богослужебным, которые каждый игумен знает лучше князя. Такие повеления принижают преподобного Сергия: в его монастыре распоряжения отдает великий князь, ставя игумена в положение слуги. Но и самого великого князя подобные приказания невольно также принижают: он не понимает, что его поведение и грубо, и глупо. Великокняжеская оценка подвига Пересвета также свидетельствует о недомыслии великого князя: Пересвет убил могучего супротивника и тем сохранил жизнь многим воинам-христианам, но ведь и Челубей убил Пересвета, а значит, и сохранил столько же жизней воинов-басурман. Итоговый счет получается ничейный, но великий князь якобы не понимает этого.
Истинное, весьма скромное место, которое отведено в «Сказании» игумену Сергию, подчеркнуто тем, что до визита в Свято-Троицкий монастырь великий князь посетил Андроников монастырь, молился в церкви архангела Михаила и у гроба святителя Петра. Митрополит Киприан в сопровождении свиты, с живоносными крестами и иконами, встретил великого князя в Андрониковом монастыре, где игуменом был ученик св. Сергия. Примечательно, что митрополит не сопровождал великого князя, когда тот посещал Свято-Троицкий монастырь. Агиограф тут вполне точен: митрополит Киприан относился к преп. Сергию без должного уважения, что отчетливо выявилось еще двумя годами раньше, в послании Киприана игуменам Сергию и Феодору.
Итак, в Пространной редакции «Жития» верно выражено истинное, епифаниевское отношение Дм. Донского к преподобному Сергию, Великому Пророку, благословившему великого князя на битву с Ордой и предсказавшему победу над Мамаем. В Пространной редакции «Сказания» образ Сергия и образ великого князя принижены, зато в целом верно показано отношение митрополита Киприана к преп. Сергию.
* * *
Первого ноября 1380 года в Москве состоялся съезд победителей, князей – сторонников Дмитрия Ивановича. Летописи лишь кратко упоминают о съезде, на котором, понятно, были награждены победители, подведены итоги Битвы и сделаны выводы на будущее. Великое, радостное, воодушевляющее значение Победы ясно и не нуждается в комментариях. Вместе с тем мы полагаем, что участники съезда, исходя из фактического состояния дел на Руси, должны были уяснить себе, по крайней мере, два тревожных итога: победа была пирровой, то есть на ряд лет она обессилила победителей, и, во-вторых, кардинальная проблема Руси – объединение всех ее земель в мощное государство – оставалась существенно недорешенной, так как многие князья, продолжая «самостийную» политику, уклонились от участия в Битве. При этом тверской князь нарушил клятву крестоцелования и московско-тверской договор. Княжеский съезд, похоже, был тайным: ни один из летописцев не смог ничего записать о нем, кроме простого упоминания. Тайна была необходима: Русь была ослаблена, и слабость могла приманить врага.
Осенью 1380 г. стало известно, что Мамай был побежден в междоусобной войне Тохтамышем, от которого вскоре пришло посольство (отряд в 700 сабель) царевича Акхози. Князья Руси, включая и в. кн. Дмитрия Ивановича, также отправили своих послов в Орду, к новому царю Тохтамышу. Обмен посольствами, которые как обычно, выполняли и разведывательные задачи, внес, похоже, некоторое успокоение в настроение Дмитрия Ивановича. Поведение царевича Акхози, не осмелившегося въехать в Москву со всем вооруженным отрядом, приятно пощекотало самолюбие победителей: в Орде, мол, живы еще впечатления от недавнего разгрома Мамая. Меж тем Орда тайно готовилась к реваншу, а нижегородские, рязанские, тверские и другие князья-нейтралисты, сохранившие военные силы после Куликовской битвы, продолжали упорно гнуть свою линию.

16. КОЛИ В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ...
Самый распространенный культ – культ себеслужения.
Живая Этика
Киприан – митрополит всея Руси и противник Сергия Радонежского. Этим и объясняется, что в нашем исследовании Киприану уделяется довольно большое внимание. Положение укрепляется противоположением.
16.1. Дмитрий Донской выбирает из двух зол... большее
Не будет добра, если не примем ответственности распознать зло.
Живая Этика
Зимой 1381 г. произошел резкий поворот в отношении великого князя Дмитрия Ивановича к Киприану. «Toe же зимы князь великий Дмитрие Ивановичь посла отца своего духовного в Киев по митрополита по Киприана, зовучи его на Москву к себе, на митрополию. А отпустил его о велицем заговение»[182], т. е. 25 февраля. Чуть более двух с половиной лет (но каких!) прошло со времени позорного изгнания митрополита Киприана из Москвы, что хорошо, разумеется помнили и Киприан, и Дмитрий Иванович, и те, кто знали об изгнании.
Посольство к Киприану возглавил Феодор Симоновский. Преп. Сергий в Киев не ездил. Может быть, он возражал против крутого поворота Дмитрия Ивановича по отношению к Киприану? Это могло быть лишь в том случае, если великий князь предварительно обращался к Преподобному за советом. Если же Дмитрий Иванович принял решение без совета с преп. Сергием, то последний, уважая его свободу воли, должен был предоставить времени убеждать великого князя. Факт поездки в Киев Феодора Симоновского не может быть, по нашему мнению, свидетельством ни «за», ни «против» в решении вопроса об отношении преп. Сергия к приглашению Киприана в Москву. Скорее всего, Преподобный отнесся к этому приглашению дипломатически-сдержанно. Позднее мы укажем факт, подтверждающий наше мнение.
Великий князь первым пошел на мир с Киприаном – не потому ли, что он чувствовал себя виноватым? В какой-то мере чувство вины у него могло быть, если не за суть своего решения 1378 года о Киприане, то за форму его исполнения ретивым боярином Никифором. Но решающую роль тут, на наш взгляд, сыграли политические, а не психологические соображения. Мы вовсе не склонны игнорировать последние, тем более, что в летописях приводится для объяснения великокняжеского решения рассказ, в котором мотивы политические тесно взаимосвязаны с психологическими: «И пришло известие князю великому, что "Митяй твой умер, а Пимен стал митрополитом". Князь великий не захотел принять Пимена, сказав: "Я послал Пимена не в митрополиты, а послал я его как одного из сопровождающих Митяя. Что же такое содеяно, о чем я слышу теперь?". И еще до отъезда Пимена из Царьграда на Русь, еще тогда, когда он был в Царьграде и медлил с отъездом, тогда великий князь пожелал принять митрополита Киприана, бывшего в Киеве» [183]. Великий князь остался верен самому себе. В 1378 году он не принял в Москве самозванца Киприана, теперь же он не принимает нового самозванца Пимена. Дмитрий Иванович действовал и действует с соответствии с убеждением, что без его согласия никто не может стать митрополитом Великой Руси. Летом 1378 года он изгнал Киприана, теперь он еще более сурово поступает с Пименом: «По истечении седьмого месяца пришла весть: «Вот Пимен приезжает из Царьграда на Русь в качестве митрополита, князь же великий не пожелал его принять. Когда Пимен прибыл в Коломну, с головы его сняли белый клобук... И послали Пимена в изгнание и в заточение... на Чюхлому» [184]. Властитель, берегущий свой авторитет, не может и не должен позволять действовать вопреки его воле, и тем более – за его спиной. Суровость наказания Пимена наводит на мысль, что великий князь знал неприглядные обстоятельства смерти Митяя и «избрания» Пимена кандидатом в митрополиты и что, наказав Пимена, он поступил справедливо. Ненаказанное, как должно, преступление подрывает правовые основы государства и плодит преступления. Похоже, что великий князь усвоил эту истину.
Кто-то верно сказал, что политика есть искусство возможного, то есть искусство не упускать лучшей возможности из имеющихся в наличности, причем это лучшее может быть лучшим лишь относительно, всего лишь как лучшее из двух зол. Именно в такой ситуации, на наш взгляд, и оказался Дмитрий Иванович в начале 1381 года,– в ситуации выбора между Пименом и Киприаном. Оба митрополита не отвечали его представлению о том, каким должен был быть митрополит Руси – примером тут оставался покойный митрополит Алексий. Но Киприан виделся ему тогда меньшим злом: принимая его, великий князь сам решал, кому на Руси быть митрополитом. Кроме того, у великого князя не было иной возможности, он не мог выбрать нового кандидата в митрополиты и снова послать его в Царьград на утверждение, где только что поставили митрополитом Пимена. Великий князь оказался перед жесткой дилеммой: либо Пимен, либо Киприан. Вместе с тем выбор Киприана, на наш взгляд, не означал, что Дмитрий Иванович изменил свое мнение о нем как о человеке или как о митрополите. Ни великий князь, ни Сергий Радонежский не могли забыть ни поведения Киприана в 1378 году, ни (особенно) его нейтралитета накануне Куликовской битвы. Киприан, несмотря на то, что он недавно еще клялся в любви к великому князю, княгине и его детям, в критический момент никак этой любви не проявил. Киприан выжидал, чем закончится Битва с Ордой, чтобы присоедниться к победителю и вкусить плоды победы. Мы не располагаем сведениями и о том, что Киприан, используя свое высокое положение, отговаривал Ягайло от союза с Мамаем или как-либо иначе способствовал поддержке Москвы русскими православными княжествами, находившимися в его митрополии. Мы не должны принижать великого князя и делать вид, будто он не понимал, что Киприан тогда заботился о своих личных интересах, прикрываясь нейтралитетом к политическим делам. Дмитрий Иванович, мы полагаем, понимал, что в случае победы Орды у Киприана, недавно изгнанного из Москвы Дмитрием Ивановичем, сохранялись хорошие шансы на пост метрополита и что, значит, союз Литвы с Ордой не противоречил личным планам Киприана.
Киприан, ответивший согласием на приглашение великого князя Дмитрия Ивановича, оказался в ложном положении, так как действовал вопреки решению Константинопольского собора (июнь 1380 г.), рукоположившего Пимена в митрополиты Великой Руси [185], а за Киприаном оставившего только Малую Русь и Литву [186]. Любопытно отметить мудрую руку судьбы. Киприан, четыре года назад проклявший Митяя как наглого узурпатора митрополичьего престола д о решения Константинопольского собора, теперь сам поставил себя в положение Митяя, и, значит, гневные антимитяевские филиппики Киприана бумерангом ударили по нему. Но совесть не тревожила Киприана: что позволено царю, не позволено псарю. И «царь» не предпринимает никаких шагов по узаконению своего нового митрополичьего престола. Однако за нарушение постановления Собора он мог быть лишен и поста литовского митрополита. Почему же Киприан выбрал опасный путь? На что он надеялся? Не правда, а сила была его кумиром. Киприан, видимо, рассуждал просто: если за него правитель Литвы и правитель Руси, то Константинополь не посмеет выступить против, хотя, возможно, и пожурит его за нарушение закона. И Киприан принял приглашение Дмитрия Ивановича. Конечно, великий князь тоже ничего не сделал для узаконения своих действий, но он и не мог ничего предпринять, так как вошел в острый конфликт с константинопольским Собором и патриархом. Более того, великий князь не был заинтересован в подобном инициативном шаге. Чем дольше признавалась за ним право выбирать митрополита на Русь по своему усмотрению, без утверждения в Царьграде, тем больше это право теряло незаконный характер, переходило в разряд т. н. обычного права. Но знал ли патриарх Нил о двойном самоуправстве великого князя – аресте Пимена и приглашении Киприана на его место? Несомненно. В свите Пимена, были представители патриарха Нила, приехавшие с ним из Царьграда в Коломну, и они могли своими глазами наблюдать поучительное зрелище, как слуги великого князя срывали с Пимена митрополичьи регалии, разоблачали его и брали под стражу. Потом эти чиновники патриарха узнали, разумеется, и о ссылке Пимена и о занятии его престола Киприаном.
Следуя своему тактическому правилу, Киприан упредил приезд в Москву письмом (апрель 1381 г.), адресованным великому князю. Оно весьма интересно, но его разбор не входит в нашу задачу. Отметим лишь его изысканно льстивый примирительный тон, обусловленный, понятно, необходимостью найти общий язык с великим князем; однако, при всем при том Киприан по-прежнему считает себя святителем милостию Божией, а потому надеется на княжескую любовь к себе и на соответствующий его высокому достоинству прием в Москве. И великий князь, естественно, принял его, как подобает.
«Toe же весны князю Володимеру Андреевичу родился сын князь Иван, и крестили его Киприан митрополит да игумен Сергий, преподобный старецъ» [187]. Это было первое, отмеченное в источниках, личное знакомство Преподобного с Киприаном. Конечно, великий князь был заинтересован в том, чтобы понять истинные намерения Киприана, и никто не мог решить эту задачу лучше Преподобного. Но о его выводах мы можем судить лишь в самом общем плане. О беседе мы ничего не знаем. Но показательно, что со дня крещения кн. Ивана и до нашествия Тохтамыша (август 1382 г.) Преподобный «исчезает» с летописных страниц: так бывает во время «розмирий» с высшей властью – вспомним молчание летописцев о Сергии после того, как он не одобрил насилия великого князя и митрополита над тверским князем. Мы уверены в том, что и на этот раз не было бы всеобщей «немоты» летописцев, если б преп. Сергий продолжал оставаться в ближайшем окружении великого князя. Напрашивается предположение, что оценка преп. Сергием намерений митрополита Киприана оказалась отрицательной и не была принята (вполне или отчасти) великим князем. И преподобный, убежденный в своей правоте, отошел в сторону, как он это делал раньше, предоставив времени разубеждать великого князя. Прошло несколько месяцев, и Киприан невольно сам дал великому князю и всей московской правящей элите первое доказательство правоты Преподобного.
Киприан был умный политик и психолог, и он понимал, что одного письма Дмитрию Ивановичу мало для того, чтобы великого князь и его окружение поверили в доброжелательность митрополита, освободившись от прежних представлений о нем. И он изобрел оригинальное оружие, с помощью которого надеялся добиться победы.
Сознание, напитанное самомнением и своей великой значительностью в мировом строении, ...разрушает строительство блага.
Живая Этика
«Житие митрополита Петра» [188] (в дальнейшем – «Житие Петра»), почитаемого в Москве Святого, было переработано под руководством Киприана таким образом, чтобы оно стало духовным мечом, которым он рассчитывал поразить противников и всесторонне оборонить себя. Об этом произведении Киприана писали многие исследователи, рассматривая его с разных сторон. Г. М. Прохоров в «Повести о Митяе» взглянул не него под тем углом зрения, который интересует и нас и который, думается, был определяющей психологической установкой самого Киприана. Ее суть – самоутверждение на посту митрополита всея Руси, – и «Житие Петра» лишь еще один способ достижения этой цели. В таком качестве оно стало также самохарактеристикой Киприана.
В первой части Киприанова «Жития Петра» последовательно просматривается конфликт (1378 г.) между Киприаном и великим князем. Делается это иносказательно: Киприан уподобляет себя Святому Петру, Митяя – Геронтию, противнику Петра, а Дмитрия Ивановича – его деду, в. кн. Ивану Калите. Уподобление Киприана Петру опирается, во-первых, на некоторое сходство их биографий. Оба они были ставленниками на митрополичий престол от немосковских князей: Петр – от Волынского, а Киприан – от Литовского. Оба имели конкурентов от Владимирско – Московской Руси: Петр – Геронтия, Киприан – Митяя. Оба, в конце концов, победили. Во-вторых, уподобление основывается на частичной аналогии между обстоятельствами борьбы за митрополичий престол волынского игумена Петра с владимирским игуменом Геронтием (1305 – 1307 гг.), с одной стороны, и Киприана с московским архимандритом Митяем (1376 – 1380 гг.), с другой. Уподобление проводилось двояко: путем исправления (вставок и редактуры) текста «Жития Петра», написанного ростовским епископом Прохором в 30-е гг. XIV века, и пространного добавления к нему о самом себе, то есть о Киприане.
Харьковская находка Прохорова Г. М. (список Киприанова «Жития Петра» и служба Петру, сочиненная тоже Киприаном), дали исследователю возможность подтвердить мнение С. Шевырева и некоторых др. ученых о том, что «Житие Петра» было создано Киприаном в 1381 году и, по всей видимости, было, как полагает Г. М. Прохоров, торжественно исполнено в богослужении 21 декабря 1381 г., посвященном памяти митрополита Петра (явно) и возвеличению митрополита Киприана (прикровенно) [189].
Такое митрополичье богослужение было значительным событием в жизни Москвы, в котором приняла, конечно, участие правящая верхушка Руси во Главе с великим князем; был, неверное, позван и преп. Сергий. Молва о киприановской переделке «Жития» должна была разнестись широко: ведь богослужение готовилось многими духовными лидерами задолго до 21 декабря, и, кроме того, оно возбуждало интерес своим необычным характером. «Житие Петра», помещенное между 6-м и 7-м канонами, то есть в середине его прославления, по замыслу нового автора должно было оказаться в центре внимания присутствующих. Мы остановимся здесь только на «Житии Петра», так как оно ясно показывает, что именно хотел вложить в уши и сердца слушателей новый митрополит «всея Руси».
Сквозь все киприановское «Житие Петра» проходит мысль о богоизбранности Петра и Киприана и о самозванстве Геронтия и Митяя. Наиболее ясное выражение нашла эта мысль в рассказе о том, как «святой Петр» чудесным образом излечил Киприана от «непереносимой» болезни, вдохнув в него, «еле живого», жизнь. Только благодаря этому, Киприан смог уйти из Константинополя, «пришел (в Москву. – А. К.) и поклонился его (Петра. – А. К.) гробу чудотворному, был принят с радостью и честию благоверным великим князем всея Руси Дмитрием, сыном великого князя Ивана, Александрова внука» [190]. Не столь откровенно, но все же прямо, а не иносказательно, та же мысль о богоизбранности Киприана на святительский пост заключена и в автобиографическом рассказе о «возведении смиренного Киприана на высокий престол этой митрополии Русской святейшим патриархом, дивным Филофеем и всем священным собором» [191]. Киприан делает вид, что не знает, почему это произошло. Но, как бы вскользь замечает он, «знает Бог, ведающий судьбами» людей. Та же мысль внутренне присуща всему тексту, посвященному восхвалению покровителя Киприана, патриарха Филофея, «святого и великого, дивного словом и делом», сравниваемого с праотцем Иаковом. Киприан дважды называет «прославленного после смерти» митрополита Петра «угодником Божьим», из чего также следует, что спасенный угодником Киприан был спасен Божиим изволением.
Логика уподобления ведет мысль от настоящего в прошлое и будущее. Хотя Киприан не проводит ни одной прямой параллели между своей жизнью и жизнью Петра до получения митрополичьего сана, но слушатель (читатель) всем ходом изложения побуждается сделать логичный вывод о том, что прошлая жизнь Киприана была столь же достойной, безупречной, как и жизнь митрополита Петра. Тем более оснований для такого вывода имел каждый, кто знал, что Киприан многие годы провел в монашеских трудах, за что был «святым и великим» Филофеем взят к себе в помощники. Однако Киприан не оставляет слушателей без своей подсказки, а напротив, с самого начала ставит себя рядом с митрополитом Петром, давая направление мыслям и тем побуждая к сопоставлению Петра с Киприаном. Сравним два заглавия «Жития митрополита Петра»: 1) «Месяца декабря в 21 день преставление иже въ святых отца нашего Петра митрополита. Списано Прохором, епископом Ростовским»; и 2) «Месяца декабря в 21 день. Житие и жизнь и мало исповедание от чюдес иже в святых отца нашего Петра архиепископа Кыевъскаго и всея Руси. Списано Киприаном, смереным митрополитомъ Кыевскымь и всея Руси. Господи, благослови, Отче». В киприановском заглавии констатируется равновысокое духовное звание Киприана (автора) и святого Петра (героя), тем самым между ними возникает первая параллель. Обращает на себя внимание и различие между ними – Петр величается «святым», а Киприан называется «смиренным», различие оправданное, понятное, но вместе с тем скромно подчеркивающее несомненную христианскую добродетель автора, как раз ту, которой у него не было. Есть во вступлении, отсутствующем в прохоровской редакции, еще один фрагмент, в котором явно проводится параллель между Петром и Киприаном: «Так и я, стоящий на его месте и глядящий на его гроб, недостойно об этом судил, я, унаследовавший тот же престол, который он преждевременно оставил и ушел в небесные обители» (с. 76). Отсюда мы можем, между прочим, сделать вывод, что торжественное богослужение совершалось в Архангельском соборе, где похоронен митрополит Петр. Киприан, понимая властную силу воздействия на сознание совершившегося факта, не преминул обратить внимание присутствующих на то, что ныне он волею Свыше (на это намекается уже в первой строке вступления) замещает на земле святого Петра: обладает его престолом (властью), стоит, видимый всеми, на его высоком месте, и перед его гробом, словно при незримом присутствии Петра, отправляет в его честь священное богослужение.
Таким образом Киприан с самого начала «Жития Петра» умело, без особого нажима, как бы в силу необходимости вводит себя в текст в качестве персонажа, который с развитием сюжета занимает все больше и больше места, так что к концу «Жития Петра» оно превращается в самохвальное «Жизнеописание митрополита Каприана» (неполное, но зато злободневное). Вовсе не случайно, с большой пользой (так ему кажется) для себя, заостряет Киприан внимание на чудесах Петра. К прежнему «Житию Петра» добавляется одно новое чудо, случившееся год назад с самим Киприаном. Оно как нельзя лучше отвечает ближайшим интересам и далекоидущим целям нового митрополита: святой Петр, угодник Божий, выступает в роли покровителя и спасителя «добродетельного» Киприана.
Тут необходимо отвлечься от разборов «Жития Петра» и обратить внимание на чрезвычайно редкий (кое в чем даже уникальный) в агиографии случай умелого и необычайно смелого использования жития Святого в целях самоутверждения и самовосхваления далеко не святого автора. Киприан, назвавший себя в заглавии «Жития Петра» смиренным, заканчивает его тем, что, потупя глаза, сам себя причисляет к богоизбранным угодникам. Вряд ли кто из присутствующих на богослужении мог поставить себя на этот уровень величия, вернее, беззастенчивой гордыни, а тем более заявить об этом во всеуслышание.
«Чудо с Киприаном» исключительно ценно еще и тем, что тут каждый может как бы заглянуть в лабораторию таких «чудес», которые совершены рали пользы или возвеличения именно того, с кем они случились. Но мог ли кто-нибудь из слушавших службу Киприана 21 декабря 1381 года усомниться в истинности «чуда» с ним, причем без единого свидетеля? Усомниться, конечно, могли, но проверить его было невозможно, исключая тех немногих, кто имели дар чудотворения и духоразумения. Мы имеем в виду, прежде всего, Сергия Радонежского. С ним бывали чудеса, совершаемые по воле Высших Сил, но в таких случаях он запрещал говорить о них свидетелям, которых он всегда звал к себе, если «чудо» начиналось с ним одним. Когда же Преподобный сам совершал «чудеса», которые могли принести ему огромную славу (например, воскрешение умершего ребенка), он принимал решительные меры для того, чтобы свидетели чуда никому о нем не говорили. Конечно, Киприан не ведал об истинной прозорливости Преподобного, понимавшего, что христианское смирение предписывало Кипрану строгое молчание о чуде с ним самим. Он же занялся, как сказали бы мы ныне, саморекламой, правда не грубой, а изобретательной, но все же понятной не только Сергию Радонежскому, но, скажем, и Феодору Симоновскому и всякому духовному лицу (прежде всего), искушенному в иносказании.
Другие чудеса, описанные в прохоровском «Житии», в киприановском варианте изложены с большими подробностями, придуманными, понятно им самим и преследующими все ту же цель – утвердить его богоизбранность. В нашу задачу не входит разбор этих чудес, но на одном из них мы намерены ненадолго задержать внимание читателя, ибо оно интересно в связи с предстоящим (позднее) рассмотрением Явления Пресвятой Богородицы преподобному Сергию. Даем здесь полностью (в нашем переводе) описание «чуда» с Геронтием по обеим редакциям «Жития Петра»...
1) «...и взошел он (Геронтий) на корабль, и явилась ему икона Святой Богородицы, которую написал преподобный игумен Петр, и сказала ему: "Ты не получишь ни меня, ни великий сан святительский, но получит тот и тот святителем будет, кто своими руками сотворил меня". На следующее утро заблудился корабль в море и блуждал много дней».
2) «Геронтий пребывал в печали, и ночью явилась ему икона Пречистой Богородицы, которую, как мы сказали ранее, Петр преподобный написал, и сказала ему вот что: "Напрасно ты утруждаешься: в такой далекий путь ты пустился! Не поднимешься ты до великого святительского сана, который ты возжелал заполучить. Но Петр, написавший Меня, игумен Ратский, служитель Сына и Бога Моего и Мой, тот будет возведен на высокий престол славной митрополии Русской, и украсит престол, и будет хорошо пасти людей, за которых Христос, Сын Мой и Господь, пролил кровь свою, взятую от Меня. И так богоугодно жизнь прожив, он в старости, почитаемый, радостно предстает перед вожделенным Владыкой и Первосвятителем". Геронтий, увидев такое видение и услышав речь от чтимого и славного образа Пречистой, тут же, как только пробудился, начал так говорить о этом всем, кто с ним был: "Зря мы утруждаемся, братия: мы не получим желаемого". Тем же, кто спрашивали его о причине, он рассказывал о видении. И так вот, после многих испытаний и бурь, он едва смог прибыть в Царьград».
Конечно, богоизбранность Петра выводится логическим умозаключением и из первоначального «Жития Петра», но в киприановской редакции она утверждается с такой силой, что лишь глухой не услышит ее. Понявший же уподобление Киприана Петру, поймет и причину глубоко личной заинтересованности Киприана в таком утверждении. Психологически показательна концовка рассказа о видении, отсутствующая в Прохоровом «Житии Петра». Геронтий, рассказывающий всем о невыгодном для него явлении и пророчестве богородичной иконы и последовавших за ним наказаниях, показан человеком неумным, хотя и искренним. Концовка Киприана не согласуется с созданным им образом Геронтия – «самовластным, самоуверенным и дерзким» человеком. Но не только в этом промахе Киприана суть, айв новой, обличительной роли Богородицы, в невольном самообвинении Геронтия, которое он, сам того не понимая, делает тем, что широко рассказывает, в том числе и патриарху, о пророчестве иконы. В полемическом увлечении Киприан, вероятно, не заметил... неожиданного параллелизма Геронтия с самим собой: ведь Киприан тоже всем рассказывает о «чуде», случившемся с ним в Царьграде, рассказывает в храме, на богослужении. Правда, Киприан думает, что и «чудо», и рассказ о нем выгодны ему, так как возвеличивают его. Однако при сопоставлении с искренним, но нерасчетливым Геронтием, повествующим всем о невыгодном для него пророчестве, неожиданно высвечивается противоположное качестве умного Киприана: прикровенный эгоцентризм. Оглашая выгодное ему чудо, он делает вид, что рассказывает не ради себя, а лишь ради прославления митрополита Петра. «Смиренному» митрополиту Киприану мало «чуда» – подарка Свыше, мало спасения от смертельной болезни, ему нужна еще и людская слава, и всеобщее признание его богоизбранности. Чтобы быстро нажить этот капитал, Киприан организовал широкую огласку «чуда».
С навязчивой идеей богоизбранности Киприана тесно связана другая сквозная идея переработки Прохорова «Жития» – идея о послушании светских властителей духовным владыкам. В силу горького опыта, приобретенного Киприаном в июне 1378 года, эта идея высказывается теперь (в отличие от второго послания Киприана 1378 г.) иносказательно. Петр с момента своего поставления в митрополиты величается «учителем и пастырем земли Русской» (с. 82). Здесь уже скрытно присутствует мысль о послушании Петру (Киприану) жителей Руси, но без выделения из их числа великого князя. Более явно, хотя и осторожно, эта мысль выражается тогда, когда он хвалит деда в. кн. Дмитрия Ивановича, Ивана Калиту, за выдающиеся христианские добродетели (милосердие, верность православию и др.), перечень которых завершается показательной характеристикой его как «послушателя святых книжных учений» (с. 83), за эти качества «возлюбил его» митрополит Петр. Затем, после психологической подготовки внимающих его речь в соборе, Киприан рассказывает о том, сколь послушно Иван Калита принял «благой совет» Петра о построении храма Пречистой Богородицы и как исполнилось предсказание Петра о возвеличении Москвы. И только после этого Киприан ясно формулирует свою заветную мысль; «Князь (Иван Калита. – А. К.) во всем слушался и высоко чтил отца своего (Петра. – А. К.), как и велел Господь, который сказал своим ученикам: «Приемлющий вас, Меня приемлет» (с. 83). Этого предложения и этой мысли, содержащей уподобление митрополита ученику Господа, нет в Прохоровом «Житии», как нет и ранее приведенных подготовительных высказываний. Но эта мысль присутствовала иносказательно уже в цитатах из Библии, приведенных в письме Киприана великому князю от апреля 1381 года, хотя тут она была затенена общей льстивой тональностью письма.
Теперь же, спустя восемь месяцев, Киприан выражает ее отчетливо, лишь слегка прикрываясь уподоблением Дмитрия Ивановича его деду, а себя – Петру. Слушатели, во всяком случае, те, кому она прямо предназначалась, должны были понять: Киприан ставит себя в положение учителя великого князя, оттесняя таким образом всех его советников на второй план, прежде всего, преп. Сергия и игумена Феодора. И они, конечно, это поняли и приняли к сведению, но не к исполнению, что вскоре и станет ясным. Киприан явно перебарщивает: его предшественнику Петру потребовалось много лет, чтобы завоевать авторитет учителя у Ивана Калиты, а Киприан претендует на это спустя всего полгода после прибытия в Москву. Нельзя было ему высокомерно сбрасывать со счетов ни великокняжескую гордость и славу победителя в Куликовской битве, ни прозорливость Сергия Радонежского. Тем более, что они хорошо помнили самозваный визит Киприана в Москву в 1378 г. и громкий скандал, затеянный Киприаном. Вряд ли они были удовлетворены теми косвенными объяснениями, которые Киприан дал в подтексте переработанного им «Жития митрополита Петра». Мы сейчас рассмотрим эти объяснения, чтобы читатель мог составить о них собственное мнение.
Первое (по сюжету «Жития Петра») и, думается, наиважнейшее для Киприана: он хочет опровергнуть обвинение в том, что получил пост митрополита в 1375 г. как ставленник и слуга великого князя литовского Ольгерда. С этой целью Киприан вносит в текст «Жития Петра» два фрагмента, которые ниже приводятся полностью (перевод мой. – А. К.):
«Князь Волынской земли затевает дело недоброе: он захотел область Галичскую превратить в метрополию, прикрываясь тем предлогом, что он не приемлет высокомерного Геронтия. И князь неотступно убеждает Петра поехать в Царьград, – и так продолжается долгое время: то князь сам говорит с Петром, то посылает к нему своих бояр и советников. И святой (тут Киприан намеренно забегает вперед: Петр станет святым лет через 50. – А. К.), уступая их увещеваниям, отправляется в путь. Князь же в тайне (выделено мною. – А. К.) от Петра пишет святому патриарху и всему священному собору письмо, в котором убедительно просит согласиться с его мольбой и возвести этого самого Петра на святительский престол. И посла с этим письмом посылает вместе с Петром». Читатель, исходя из уподобления Киприана Петру, за историей поставления в митрополиты Петра побуждается видеть историю поставления в митрополиты Киприана. Но тут оружие слова, примененное Киприаном для самозащиты, дало осечку: подвело неполное совпадение самой основы уподобления. Да, Петру противопоставлен Геронтий (так было в действительной истории), а Киприану – Митяй (так тоже было в истории, но лишь краткое время, которое не покрывает полностью времени противостояния Петра Геронтию). В 1375 году (время подготовки и принятия решения о митрополитстве Киприана) ему противостоял не Митяй, а митрополит Алексий, у которого по замыслу великого князя литовского Ольгерда и по решению патриарха Филофея была отнята Русская митрополия – ее литовская часть сразу же после поставления Киприана в митрополиты всея Руси, а великорусская часть – после ожидаемой смерти митрополита Алексия. Это был, конечно, заговор, и Киприан активнейше участвовал в нем [192]. Ясно, что без помощи Киприана, синкелла патриарха Филофея, советники Ольгерда не смогли бы убедительно изложить жалобу на митрополита Алексия. Но теперь на московском богослужении 21 декабря 1381 г., Киприан намекает, что великий князь Ольгерд будто бы втайне от него написал письмо патриарху и отдал ее своему послу, который бьи направлен в Царьград вместе с Киприаном. Допустим на минуту, что Ольгерд задумал действительно втайне от Киприана сделать его митрополитом Литовским, как некогда князь Волынский втайне задумал сделать митрополитом игумена Петра. Но ведь тайна была, конечно, раскрыта в беседе патриарха Филофея со своим синкеллом, и, более того, именно они оба, а по их предложению и священный Собор, приняли решение о поставлении Киприана митрополитом всея Руси по просьбе великого литовского князя Ольгерда, то есть преемником митрополита Алексия еще при его жизни, втайне (действительно втайне) от него и от великого князя Дмитрия Ивановича. Сколько тайн! Но главная из них, вторая тайна, так и остается необъясненной Киприаном. Кто, спрашивается, мешал ему и патриарху Филофею запросить мнение русской стороны? Кто торопил их принимать неканоническое решение при живом митрополите Алексии? Ни на один из этих вопросов участники богослужения 21 декабря 1381 года не получили ответа и даже намека на ответ. Киприан, обошедший эти вопросы, явно недооценивал проницательность лучших представителей Руси – обычная ошибка высокомерных умов.
Второе объяснение прямо затрагивает конфликт между Киприаном и великим князем Дмитрием Ивановичем в 1378 году. Киприан решительно снимает с себя всякую вину и перелагает ее на покойного Митяя и на... лукавого врага, однако делает он это недостаточно тонко, хотя и прикровенно. История с выдвижением Митяя, хорошо памятная участникам богослужения, представлена Киприаном так:
«Но, будучи во власти недуга своеволия, он (Геронтий – А. К), в самомнении дерзко попытался взойти на такую высоту. И время как-то благоволило ему, никто не препятствовал его безумию. Но вот он совершает подвиги (иронизирует Киприан. – А. К.): берет святительское одеяние и соответствующие принадлежности, и еще ту самую икону, которую отец наш Петр своей рукой написал и Максиму даровал. Взял он с собой и жезл пастырский, и сановников церковных и отправился в Константинград, как бы считая все уже решенным делом». Исходный текст «Жития Петра» (приводится ниже) настолько переосмыслен Киприаном, что можно говорить о подмене: «Преставльшу же ся Максиму митрополиту и дръзну Геронтей игуменъ подиати святительский санъ: вземъ ризницю и рипидию и сановникы, егоже подобает святителю, и ону икону святую Богородицю, юже написа угодникъ Божий Петр, еще сый игуменъ, и поиде въ Констянтиноград» (с. 24). Перевод: «После смерти митрополита Максима игумен Геронтий дерзко попытался подняться до святительского сана: он взял ризницу (сокровищницу, в которой хранятся утварь и облачение. – А. К.) и рипиду, и сановников, как и подобает святителю, и ту икону святой Богородицы, которую написал Петр, угодник Божий, будучи игуменом, и отправился в Константиноград». Прохор не симпатизирует Геронтию, – и это понятно, – но он и не обвиняет его ни в своеволии, ни в высокомерии, так как знает, что игумен Геронтий не сам «дерзнул», а по воле тогдашнего великого князя Руси, Михаила Ярославича Тверского. Нет у Прохора и недостойной христианина (тем более митрополита) язвительной насмешки над неудачным конкурентом, не приписывает он Геронтию и самоуверенности на основании того, что тот взял с собой святительские атрибуты, а считает это делом, «подобающим святителю», – разве не так поступают все кандидаты в митрополиты, отправляющиеся из Руси в Византию? Но Киприан искажает не только события начала XIV в., но и (по закону уподобления) историю выдвижения Митяя кандидатом в митрополиты. Ведь участники богослужения знали, что Митяй не был своевольным самостийником, что великий князь Дмитрий Иванович решительно поддерживал Митяя – на что же рассчитывал Киприан, выдавая ложь за правду? Конечно, на то, что никто не станет теперь возражать ему, митрополиту всея Руси, приглашенному в Москву самим великим князем... Но он явно не учитывал отрицательного эффекта от такого своего поведения, от несправедливого взваливания всей вины на покойного Митяя – кому же захочется иметь дело с лицемерным лжецом, да еще таким искусным и самомнительным? Киприан не сознавал ясно, что лицемерие и ложь унижают его и рождают протест у тех слушателей, которые, все понимая, вынуждены молчать в силу сложившейся ситуации. На наш взгляд, самооправдание Киприана не только не устранило сомнений и подозрений великого князя, но еще более усилило их. Дмитрий Иванович, думается, должен был осознать уже тогда, что от Киприана, вынужденного союзника, надо избавляться при первом же удобном случае, так как он не заслуживает доверия, так как непредсказуемо опасно иметь высокомерного и высокопоставленного лжеца в роли митрополита всея Руси.
Более тонкой целенаправленной переработке подверглась та часть «Жития Петра», в которой рассказывается о борьбе митрополита Петра с епископом Андреем, написавшим на него донос патриарху. В нашу задачу не входит разбор киприановской переделки этого фрагмента. Мы кратко отметим ее подоплеку. Конечно, Киприан знал о противодействии ему некоторых представителей правящей верхушки Руси и, предвидя борьбу с ними, он так переработал рассказ Прохора о борьбе митрополита Петра с епископом Андреем и его сторонниками, чтобы им было заранее ясно: 1) Киприан «кротко» примет на себя весь удар, но борьбу доведет до своей победы; 2) Царьград поддержит Киприана; 3) пощады «еретикам» не будет (закавычены слова Киприана. – А. К.).
Особый интерес для исследователя представляет переделка Киприаном рассказа об отношении великого князя к Петру (Киприану) после его смерти, – об отношении к их памяти и посмертному почитанию. Модель, которую разработал Киприан, насквозь эгоцентрична. Мы расскажем об одном поразительном факте. После смерти Петра у его гроба стали, как нередко бывает со святыми, происходить «чудеса» – различные исцеления больных. И тогда «благоверный князь Иван описал эти чудеса и отправил свиток с их описанием во Владимир, на святой собор. Преподобный епископ Прохор взял этот свиток, взошел на амвон и начал (с. 26) читать собравшимся...» и т. д. Вряд ли князь Иван сам описывал чудеса – эту работу, наверное, выполнил кто-либо из приближенных по его поручению. Но важно, что князь поставил свою подпись под свитком и от своего имени представил описание чудес на Владимирский собор, имея в виду, разумеется, положить тем самым начало длительной подготовке к канонизации Петра. Киприан вносит в рассказ Прохора два дополнения: 1) «...благоверный князь Иван...» не только описал чудеса, но и «принес свиток в славный град Владимир»; 2) «Услышав сие (на соборе произошло новое чудо. – А. К.), князь, и клирики, и весь народ единогласно прославили Бога и его угодника» (с. 213). Иван Калита совершает паломничество со свитком чудес умершего митрополита Петра из Москвы во Владимир, Киприан с явным одобрением пишет об этом, а слушающий 50-летнего Киприана 32-летний Дмитрий Иванович должен все это (по замыслу Киприана) наматывать себе на ус и, следуя примеру деда, подобным образом, т. е. столь же почтительно поступить по отношению к памяти Киприана после того, как тот отойдет в мир иной. Киприан снова увлекся. Великий князь возвел его, опального, на престол митрополита всея Руси, а он, подобно старухе из «Сказки о рыбаке и рыбке», спустя недолгое время так вознесся в мечтах, что увидел великого князя в роли паломника, идущего пешком на поклонение его, Киприана, святому гробу. В таком контексте формула «Бог и его угодник», часто встречающаяся в житиях, получила новый, дополнительный смысл. Поскольку под «угодником» имеется в виду покойный Петр, которому уподобляется всюду в «Житии» Киприан, то и тут он тоже волей-неволей примысливается читателем. В результате получается, что Киприан уверен в своем посмертном возвеличении до уровня Божьего угодника. Таково самомнение нового митрополита! Перед нами пример одержимости идеей власто– и славолюбия. Вот такой человек оказался во главе Русской митрополии! К большой радости своих врагов, преп. Сергий получил теперь «достойного» противника, влиятельного, решительного и коварного. Разумеется, характер и взгляды Киприана отчетливо проявились еще в 1378 году, но теперь Преподобному Сергию и Дмитрию Ивановичу предстояло вновь взвесить и решить вопрос, действительно ли Киприан меньшее зло, чем Пимен, и продумать меры противодействия Киприану, который явно мнил себя властелином всея Руси. Поучительно было бы в интересах более полной оценки личности Киприана проанализировать всю киприановскую подсветку уподобления Митяя Геронтию, показать публицистическую лихость Киприана, и тут упустившего из виду принцип адекватности уподобления во всех его конкретных проявлениях и потому снова попавшего впросак – об одном таком просчете (с митрополитомАлексием) мы рассказали. Однако дальнейший разбор увел бы нас в сторону от нашей темы и наших задач...
На всякого мудреца довольно простоты. Киприана подвел не его ум, а его характер, его высокомерная византийская самоуверенность в умственном превосходстве над русскими варварами.
События 1378 – 1380 годов не переменили Киприана. На такого человека нельзя было надеяться в укреплении единства русских земель: он все, в том числе и митрополитство, примеривает, прежде всего, к личным интересам. Оставалось только ждать случая, который помог бы заменить Киприана. 21 декабря 1381 года в. кн. Димитрий Иванович должен был осознать, что митрополитство Киприана на Великой Руси надо было отнести к отрицательным итогам года. Димитрий Иванович должен был осознать, что из двух зол он выбрал... большее.
16.3. Сергий Радонежский и Киприан в Твери
Важно осознать, как один породитель Зла задерживает все продвижение.
Живая Этика
Летом 1381 года на Русь возвратились из Орды два посла, отправленные туда еще осенью 1380 года. В летописях нет следов ни о том, что они принесли какие-либо тревожные известия, ни о мероприятиях в. кн. Димитрия Ивановича по подготовке к новому нашествию монголо-татарских войск. Не возбудило беспокойства или настороженности странное поведение посольства Орды (отряд в 700 сабель) во главе с царевичем Акхозей. Он был принят в Нижнем Новгороде, но в Москву идти не пожелал: «...побывав в Новгороде Нижнем, он возвратился, а в Москву не дерзнул идти, но послал несколько своих людей с небольшой дружиной» [193]. Летописец расценил этот факт как свидетельство того, что у ордынцев поубавилось самоуверенной дерзости, характерной для них в докуликовское время, когда они свободно разгуливали по Руси в сопровождении вооруженных отрядов. За словами летописца «а в Москву не дерзнул идти» чувствуется некоторое самодовольство: знай, мол, наших, не дразни гусей. Однако такое истолкование поступка царевича Акхози вряд ли соответствует истине. Логичнее предположить, что он, послав вместо себя кого-то из подчиненных, дал понять Москве, что не желает оказать честь московскому князю – и этот знак нелюбия вернее было, думается, истолковать в тревожном смысле. Нижегородскому князю, не посылавшему воинов на Куликово поле, посол хана лично засвидетельствовал свое уважение, а к Дмитрию Ивановичу отправил своих «людей».
Московские власти пребывали в бестревожном настроении и не ожидали реванша Орды. Еще 14 августа 1382 г., т. е. за 9 дней до подхода Тохтамыша к Москве, Дмитрий Иванович не имел сведений о набеге Тохтамыша, так как летописец, сообщивший под этим числом о крещении сына Дмитрия Ивановича, не добавил ничего о новом нашествии Орды на Русь. Мы вообще не знаем точно, когда великому князю стало известно об этом. В крещении сына участвовал из высоких духовных особ лишь Феодор Симоновский. Ни митрополит Киприан, ни преп. Сергий не были позваны. Киприан, думается, потому, что великий князь, поняв, каков он есть, в душе уже расстался с ним. Преподобный Сергий, как видно, все еще не был приближен к князю. Отсюда можно заключить, что расхождение во взглядах с великим князем касалось не только оценки Киприана, но затрагивало и другие важные для Руси вопросы. Преп. Сергий, предвидевший, конечно, нашествие Тохтамыша, должен был, несмотря на размолвку с великим князем, сообщать ему и, наверное, сообщал свои опасения и предостережения, которые, однако, не были приняты во внимание своевременно: помешала размолвка.
Летописец задним числом отметил: «В течение многих ночей являлось небесное знамение на востоке перед самой зарей – звезда некая хвостатая, подобная копью, иногда с вечерней, иногда с утренней зарею; и так случалось много раз» (выделено мною. – А. К.) [194]. Однако смысл этих явлений, судя по летописным записям, лишь после нашествия Тохтамыша был оценен как предзнаменование беды.
Вел. кн. Дмитрий Иванович, получив весть о том, «что идет на него сам царь во множестве сил своих, стал собирать войско... и выехал из Москвы, чтобы пойти против татар» [195]. В этих действиях великого князя имплицитно содержится оптимистическая оценка ситуации на Руси. Но когда на совещании с «другими князьями, воеводами, советниками, вельможами, боярами старейшими», ...обнаружилось среди князей разногласие, и не захотели они помогать друг другу», Дмитрий Иванович уразумел, что у него нет сил противостоять Тохтамышу. Пришлось срочно менять решение, ибо безумием было бы идти против войска Тохтамыша, имея в распоряжении лишь свои полки да полки Владимира Андреевича Серпуховского. Мы далеки от мысли упрекать остальных князей во взаимном недоверии или в непонимании силы единства. Мы полагаем, что на их настроении сказались, главным образом, три фактора: 1) за два года Русь не восполнила громадных потерь боевой силы и опытных воевод на поле Куликовом; 2) князья-«самостийники» (Тверской, Рязанский и др.) продолжали упорствовать, несмотря на Куликовскую победу, и это отравляло морально-политическую атмосферу на Руси; 3) весть о Тохтамышевом походе изгоном застала князей врасплох, а времени на преодоление разногласий и на должную организацию войска было явно недостаточно. Дальнейшие события подтвердили худшие опасения князей. Нижегородский и рязанский князья стали на путь предательства и не прислали даже вести о походе Тохтамыша. Напротив, рязанский князь помог ему побыстрее переправиться через Оку, а нижегородский – при обманном взятии Москвы.
Сам великий князь ушел на север, в Кострому, видимо, надеясь собрать там силы для борьбы с ордынским войском. Мы решительно отводим содержащееся в «Повести о нашествии Тохтамыша» еле-еле завуалированное обвинение Дмитрия Ивановича в трусости. Тенденциозная редакция «Повести» несомненна. Необходимо подчеркнуть пристрастную недоброжелательность автора «Повести» к Дмитрию Ивановичу.
На поле Куликовом Дмитрий Иванович не раз показал себя не только мудрым полководцем, но и мужественным воином. Теперь в критической ситуации Дм. Донской сумел переломить свой характер и принять мудрое решение, исходя из интересов Руси и не опасаясь упреков в трусости, которые он, возможно, слышал уже тогда. Горячих храбрецов всегда было больше, чем мудрых руководителей, способных понять, что самое главное было сохранить центр, вокруг которого шло объединение Руси, понять, что, в случае гибели Дмитрия Ивановича и московских дружин, центр неминуемо сокрушался бы, и разбушевавшиеся центробежные страсти могли бы похоронить мечту о единой, независимой Руси. До сих пор некоторые историки упрекают Дмитрия Ивановича за его якобы «трусливый» уход в Кострому, не видя пропасти, в которую свалил бы он Русь, если б, очертя голову бросился с явно слабейшим войском против всей ордынской силы, ведомой талантливым военачальником Тохтамышем.
Н. С. Борисов справедливо пишет, что Дмитрий Иванович в труднейшей ситуации сумел принять в общем правильное [196] и, добавим мы, мужественное решение. В Москву он послал митрополита Киприана и с ним княгиню и своих детей – это был ясный и всем понятный знак, что великий князь намерен вскоре придти на выручку осажденной Москве. Владимир Андреевич Серпуховской занял позиции в Волоке Ламском, на границе Московского и Тверского княжеств. Смысл этого решения, на наш взгляд, был двоякий: 1) если Тохтамыш пойдет на Тверь войной, то Владимир Андреевич объединится с Тверским князем; 2) если Тверской князь задумает присоединиться к Тохтамышу, то войско Владимира Андреевича будет тогда играть роль сдерживающего фактора. Вряд ли великий князь надеялся на осуществление первого варианта, но большим успехом была бы нейтрализация Твери, на что, думается, и направлялись усилия. С этим планом Н. С. Борисов связывает и поездку в Тверь преп. Сергия [197], о которой есть упоминание в Софийском временнике. Вероятно, он поехал туда по договоренности с великим князем. Преподобный знал, что попытка великого князя задержать Киприана в Москве, разведя его мосты с Тверью, закончится неудачей, знал, что Киприан будет в Твери во время осады Москвы Тохтамышем. Митрополит Киприан ушел из Москвы всего за день до прихода войск Тохтамыша. Тверской владыка Евфимий, поставленный еще митрополитомАлексием, лояльно относился к Москве, и через него преп. Сергий мог оказывать влияние на Тверского князя.
Последующие события ясно показали, что тверской князь, снова возмечтав о получении великого княжения, встал на путь прямой измены Москве, хотя и не решился дать свои полки в помощь Тохтамышу (правда, тот и не просил об этом). Верноподданнические настроения тверского князя проявились вполне ясно в том, что он выслал навстречу Тохтамышевым войскам посольство с дарами – тоже, конечно, акт предательства общих интересов Руси, но когда предателей много, они не стыдятся своей душевной низости и даже превозносят ее как образец политической мудрости. Тохтамыш, естественно, поддержал предательство: на Тверь не пошел и тверских войск к себе не потребовал. Они были ему не нужны: Москва лежала в руинах, и ниоткуда не было опасной угрозы. Разграбив во владениях Дмитрия Ивановича все, что можно было, и тем примерно наказав его, Тохтамыш, обогащенный золотом, серебром, мехами, тысячами пленных, двинулся в Орду. Ему тоже не было резона без нужды терять боевые силы: они могли пригодиться для борьбы за власть в Степи.
На обратном пути он предал мечу и огню Рязанское княжество. Это может показаться странным и даже недальновидным политическим шагом: ведь рязанцы помогли хану быстро переправить войско через Оку. Однако тут есть причина: хан, конечно, помнил, что в 1380 г. рязанские войска вопреки договоренности не пришли на помощь Орде. Недаром рязанский князь Олег Иванович заранее, предусмотрительно уехал в Брянск: он был уверен, что татары отомстят за его прошлое вероломство и что, попадись он им в руки, дело может закончиться для него смертью.
За двойное предательство Олега Ивановича постигла двойная расплата. Великий князь Дмитрий Иванович вскоре после ухода Тохтамыша совершил набег на рязанские земли и разорил их. Конечно, Дмитрию Ивановичу политически было целесообразно воздержаться от похода против рязанев, но... не хватило самообладания: вид сожженной Москвы, заваленной десятками тысяч трупов, воспламенил в нем задавленное чувство глубокой обиды на рязанцев, и он поддался жажде отмщения. Снова закружилось колесо междоусобных войн... на радость Орде, Литве, вообще всем хищническим силам, давно уже терзающим большое тело Руси.
Тохтамыш победил – Орда снова повелевает Русью. И потекли в Сарай с поклоном и дарами русские князья. Одним из первых, уже 5 сентября 1382 г. помчался в Орду Тверской князь с сыном Александром [198]. Помчался «околицею» , тайными путями, стремясь опередить других и, прежде всего, московское посольство в надежде на то, что Тохтамыш оценит его угодничество и вознаградит ярлыком на великое княжение. Киприан, пребывавший в это время в Твери, не мешал, конечно, тверскому князю, а помогал ему в меру своих способностей. Получи кн. Михаил Александрович ярлык на великое княжение – и Киприан оказывался в двойной выгоде: его давний сторонник и союзник Литвы становился хозяином Руси, а униженный и тем самым отомщенный Димитрий Иванович уходил в тень, в оппозицию, на вторые роли. Честолюбие и противостояние Дмитрию Ивановичу сближали Киприана и Михаила Тверского. Но и на этот раз не оправдались властолюбивые мечты Михаила Тверского и расчеты Киприана. Хан Тохтамыш отдал ярлык на великое княжение московскому князю как наиболее сильному и богатому, а значит, способному лучше других собрать с Руси огромную дань, которой обложил ее победитель. Предатель высоко ценится в критический момент, а затем...затем в меру необходимости: пренебрегать им не пренебрегают (авось, еще пригодится), но и на первое место не хотят ставить, зная, что он всегда готов к услугам.
16.4. Второе изгнание Киприана из Москвы
Не будет добра, когда нет противодействия злу.
Живая Этика
Прошел месяц, как закончилась» нашествие Тохтамыша, а Киприан сидел в Твери, ждал результатов соревнования – торга русских князей в ханском дворце и возвращения тверского князя Михаила Александровича. И не дождался. Великий князь Дмитрий Иванович находился в это время в Москве и, надо полагать, понимал, что Киприан намеренно не спешит к нему с рассказом о прошедших чрезвычайно важных событиях, в том числе и лично о своем поведении. Конечно, великий князь знал от своих людей, что тверской князь с сыном отбыл в Орду 5 сентября в надежде получить великое княжение Владимирское, и поэтому для Дмитрия Ивановича была ясна причина «отсидки» Киприана в Твери. Сам же Дмитрий Иванович не спешил посылать свое посольство в Орду (оно выедет только через семь месяцев, 23 апреля 1383 г.) – и тут возникает резонный вопрос: почему он так медлил? Разве он не боялся прогневать царя Тохтамыша и потерять великое княжение? Ответ прост: снова рядом с Дмитрием Ивановичем был великий прозорливец преп. Сергий, от которого князь заранее знал о настроении ордынского царя. Только этим можно удовлетворительно объяснить резкое нарушение сложившейся традиции: предшественники Дмитрия Ивановича не позволяли себе раздражать ханов длительным ожиданием московского посольства.
Почему митрополит Киприан не спешил в Москву, хотя, конечно, понимал, что великий князь ожидает его приезда? Он, видимо, надеялся, что Дмитрий Иванович будет медлить с принятием каких-либо решительных действий до решения вопроса о нем самом в Орде. У Киприана были основания для такого умозаключения: ему было, конечно, известно от тверского князя, что Тохтамыш в августе 1382 г. повсюду разыскивал великого князя, горя желанием проучить его за Куликовскую битву, и что, следовательно, противники возвеличения Москвы, тверской и нижегородский князья, имели шансы на получение великокняжеского ярлыка. Однако Киприан снова, как и в 1378 году, просчитался.
Дмитрий Иванович приступил к решительным действиям, не дождавшись даже прибытия в Москву ордынского посла Корача. В начале октября два боярина, посланные великим князем, приехали в Тверь и пригласили Киприана в Москву. И ему пришлось подчиниться, так как Михаил Александрович из Орды не возвращался и не присылал вестей, по крайней мере, утешительных вестей, которые позволили бы Киприану проигнорировать приглашение Дмитрия Ивановича.
7 октября Киприан был в Москве – и это все, что мы достоверно знаем о его пребывании здесь. Глухое молчание летописей о содержании его беседы с в. кн. Дмитрием Ивановичем – а ведь это не ординарное событие! – наводит на мысль о тщательной позднейшей редактуре (в 90-х гг. XIV в.) самим Киприаном летописных сообщений о беседе с ним. Факт написания им некоторых летописных статей, на наш взгляд, был доказан Г. М. Прохоровым – и это еще раз, как и переделка «Жития митрополита Петра» – показывает, насколько серьезно был озабочен Киприан своей посмертной репутацией.
Результат встречи митрополита всея Руси и вел, князя известен – высылка Киприана из Москвы. Много позднее, лет через 100, была сделана попытка объяснить изгнание Киприана «гневом» великого князя за то, что митрополит не остался в Москве во время ее осады Тохтамышем [199]. Вряд ли эту причину можно признать единственной или главной. Киприан ушел из Москвы вместе с княгиней и ее детьми, так что, спасая себя, он спасал и их, и это было, наверное, одобрено великим князем. Мы полагаем, что основная причина изгнания была иной. Вероятнее всего, в Твери ясно проявились симпатии Киприана к Тверскому князю и участие Киприана в новой попытке тверского князя получить великое княжение. Весьма красноречив и факт длительного пребывания Киприана в Твери после отъезда в Орду Михаила Александровича с сыном. Если бы Киприан действительно испытывал «любовь» к великому князю, как он уверял в своих посланиях, то он должен был бы сразу после ухода Тохтамыша прибыть в Москву, чтобы разделить с Дмитрием Ивановичем его заботы и его великую печаль. В крайнем случае, Киприану следовало выехать в Москву сразу после отъезда тверского князя в Орду, чтобы дать Дмитрию Ивановичу надежные сведения о планах тверского князя. Ни того, ни другого Киприан не сделал, вместо этого он пребывал в Твери, словно именно там ему и надлежало быть в столь напряженное время. Получалось так, что т. н. общерусская церковная политика вовсе не мешала Киприану быть заодно с Михаилом Александровичем как раз тогда, когда он снова предпринял энергичную попытку разжечь междоусобицу на Руси. Киприан, на наш взгляд, был кругом виноват, – и тут следует искать главную причину того, что в отредактированных им летописях не сохранилось сведений о его конфликте с великим князем.
16.5. Предвидение определяет поведение
Пребывание Сергия Радонежского в Твери – самая непроясненная страница его биографии. Глухое молчание источников сводит почти к нулю возможности логической реконструкции причин и следствий этого поступка Преподобного. Но, мы думаем, что соединение логического подхода с психологическим может приоткрыть завесу вокруг его поездки в Тверь.
Опорой нашей попытки воссоздать поведение Преподобного летом 1382 года является его образ, созданный Епифанием в «Похвальном слове» и его характеристика в учении Живая Этика. Будущее во многом открыто для Преподобного: Русь, казалось, убедилась в этом на сбывшихся пророчествах смерти Митяя и исходе Куликовской битвы. Но не стоит забывать мудрой пословицы: несть пророка в своем отечестве. Любую веру надо подтверждать и подтверждать делами, а веру в пророческий дар – новыми пророчествами, тем более когда пророк не только не рядится в одежды величия, а, напротив, выглядит как обыкновенный монах.
Сергий Радонежский предвидел нашествие Тохтамыша, изменническое поведение Киприана и его бегство из Москвы в Тверь вопреки распоряжению великого князя. Мы думаем, что обо всем этом Преподобный своевременно сказал и Дмитрию Ивановичу, который, увы, колебался, сомневался, что и побудило Сергия Радонежского поехать в Тверь, (возможно, под каким-либо предлогом), чтобы быть свидетелем политического двуличия Киприана и доказать это с фактами в руках умному, честному, трезвомыслящему, но не наделенному особой проницательностью Дмитрию Ивановичу. Нарочитая заданность поездки Сергия Радонежского в Тверь подчеркивается тем, что монахи Троицкого монастыря были оставлены на месте, ибо их игумен был уверен: нашествие Тохтамыша не затронет монастыря.
Нам кажется, Сергий Радонежский заранее сказал Дмитрию Ивановичу, что его распоряжение будет нарушено Киприаном. Именно бегство митрополита в Тверь затрагивало особенно чувствительные струны в душе великого князя. Во-первых, потому, что вместе с Киприаном была отдана в залог грозной ситуации супруга и дети Дмитрия Ивановича – для осажденных москвичей они, конечно, должны были быть ясным личным поручительством великого князя за то, что он придет освобождать Москву. Но еще и потому, что, кроме чести Дмитрия Ивановича, была поставлена на испытание вера людей в заступничество Бога, «угодник» которого, митрополит Киприан, должен был личным примером укреплять эту веру и поддерживать в осажденных боевой дух сопротивления. На деле получилось наоборот: этот дух был предательски подорван именно Киприаном, бежавшим из Москвы в Тверь за день до прихода Тохтамыша. Киприан мог, конечно, бежать и в Кострому, к Дмитрия Ивановичу, которого он якобы так «любил», но предпочел ему общество тверского князя.
Когда Сергий Радонежский прибыл в Тверь? Источники молчат. Ясно лишь одно: до прихода Тохтамыша к Москве, пока дороги к Твери были безопасны. Скорее всего, Преподобный уже был в Твери, когда туда приехал Киприан. Когда Сергий Радонежский уехал из Твери? После того, мы полагаем, как тверской князь вместе с сыном отбыли в ханскую ставку бороться за великокняжеский ярлык. События полностью подтвердили предвидения Преподобного, и он должен был теперь обсудить вместе с великим князем неизбежные последствия нового урока истории. Логика борьбы за спасение Руси властно диктовала Сергию Радонежскому возвращение к тесному сотрудничеству с великим князем, и потому из Твери путь Преподобного, на наш взгляд, вел в Москву. Психологически такой поступок был хорош тем, что щадил чувства «виноватого» Дмитрия Ивановича, находившегося, конечно, в сильнейшем душевном смятении от разгрома и сожжения Москвы.
Мы полагаем, что решение о высылке Киприана из Руси было обсуждено и принято Дмитрем Ивановичем вместе с Сергием Радонежским. Однако не все удалось ему. Нет сомнений, что опустошительный набег московских дружин на Рязанское княжество осенью 1382 г., положивший начало двухлетним междоусобным войнам, был предпринят вопреки совету Преподобного. Чувства взяли верх над разумом Дмитрия Ивановича. Потребовалось еще два года тяжелейших испытаний, изматывающих войн с Рязанью, чтобы великий князь пришел к твердому убеждению об укреплении единства Руси не путем насилия, а путем мирных переговоров, путем сотрудничества.
16.6. Штрихи к автопортрету Киприана
В домах притворства зарождается предательство.
Живая Этика
Киприан оставил потомкам коротенькое, но важное письмо. Оно датируется концом 1384 г. – началом 1385 г., написано в Киеве и адресовано Феодору Симоновскому [200]. Только ему, – в отличие от прежних писем, адресованных и Феодору, и преп. Сергию. Отсюда следует, что совместное пребывание Преподобного и митрополита Киприана в Твери в августе-сентябре 1382 г. не сблизило, а отдалило Киприана от Сергия. Произошло то, что и должно было произойти – ввиду противоположной сущности и миропонимания, и их представлений о будущем Руси. В этом же письме есть неявное упоминание о великом князе: «Мне не хотелось никуда уезжать от своих детей. Но что поделаешь! Кто же обременил меня трудным путем-дорогой (имеется в виду путешествие в Царьград. – А. К.) в это время? Господь Бог да поможет ему потом познать истину. А мне надо вскоре быть у вас из Царьграда» [201]
В 1378 г. Киприан в письме игуменам Феодору и Сергию писал о князе великом, изгнавшем его из Москвы: «...а кто нас не восхотел, потом познает истину». Теперь Киприан теми же словами пишет о нем после своего вторичного изгнания из Москвы. А может, не его он имеет в виду? Ведь после нового изгнания прошло не несколько дней, а два с лишним года, и возникает естественный вопрос, почему вдруг Киприан вспомнил об отшумевших событиях? Неужели он не мог написать об этом раньше? О первом изгнании из Москвы он написал послание игуменам Сергию и Феодору по горячим следам, а на этот раз лишь через два с лишним года. Ясно, что для такого необычного замедления была какая-то серьезная причина. Но какая? Летописи ответа не дают. Попробуем «найти» его, сопоставив письмо с событиями того времени (1383 – 1384 годов), касавшимися лично Киприана.
Его второе изгнание из Москвы носило совершенно иной характер, чем первое. Теперь, четыре с лишним года спустя, митрополит Киприан был, похоже, выдворен из Москвы тихо, без скандала, с соблюдением приличий. Он был кругом виноват: в грозный час Руси он нарушил распоряжение великого князя и сорвал его замысел обороны Москвы, а затем не понятно долго «отсиживался» в Твери, словно там и была его резиденция. У Киприана не было фактов для нового полемического послания в свою защиту, и он предпочел отмалчиваться. В Константинополь он тоже не мог и не хотел ехать: ведь он почти два года сидел на московском митрополичьем престоле вопреки решению Константинопольского Собора и вселенского патриарха. Теперь там надо было бы оправдываться, а опереться было не на что. Поэтому Киприан «сидел» в Киеве и выжидал развития событий... И тут судьба преподнесла ему неожиданный подарок.
Дионисий Суздальский, рукоположенный патриархом Нилом в митрополиты (видимо, в начале 1384 года), решил возвращаться в Москву через Киев, т. е. через земли княжества Литовского. Весной того же года он прибыл в Киев, где был арестован и посажен в тюрьму киевским князем Владимиром Ольгердовичем на том основании, что Дионисий получил сан митрополита без согласия князя. Митрополит Макарий пишет, что Дионисий был утвержден митрополитом Киевским всея Руси. Это означает, что тем же постановлением Константинопольского собора Киприан был лишен малорусско-литовского митрополичьего престола, а Пимен – великорусского. Плохо же Дионисий знал Киприана, если рискнул в этой ситуации сам ехать в Киев, где ему надлежало заявить о своих новых правах и передать Киприану вызов в патриархию для низложения. В ответ на это он был арестован, «и тако пребысть в нятие и в заточении и до смерти... Скончался Дионисий 15 октября 1385 года [202]. А в начале этого года Киприан в письме, о котором мы уже говорили, радостно сообщает «первопресвитеру» Феодору Симоновскому, что едет в Царьград и скоро будет в Москве.
И ни слова о том, что Дионисий в том же Киеве сидит в литовском узилище. По-христиански ему надо было бы биться за освобождение Дионисия, законного митрополита всея Руси, смиренно приняв свое низложение, свой крест. Но не таков был Киприан. Вообще говоря, Киприан мог написать первопресвитеру Феодору письмо вскоре после своего второго изгнания из Москвы, т. е. осенью 1382 г., а не в начале 1385 г. Мог, конечно, но тогда это было бы объяснительное или оправдательное письмо, которое самолюбивого и честолюбивого Киприана унижало бы в собственных глазах. Теперь же возникла совершенно новая, благоприятная для Киприана ситуация, дававшая ему шансы на законное получение титула митрополита всея Руси. Великий князь Дмитрий Иванович вновь отдалил от себя Пимена и ждал возвращения из Константинополя нового митрополита Дионисия Суздальского, но Киприан-то знал, что Дионисий сидит в киевской тюрьме (с весны 1384 г.) и что ему оттуда живым не выйти. Отсюда и совершенно уверенный тон заявления Киприана, что он вскоре снова будет в Москве («у вас»). В самом деле, кто мог теперь помешать ему? Пимен дискредитирован великим князем, Дионисий - в пожизненном узилище, и Киприану соперников нет. Теперь Киприан, не сомневающийся в своем новом торжестве, мог позволить себе с чувством превосходства, походя коснуться «нелюбия» между ним и великим князем, возлагая за это всю вину на «разошедшегося с истиной» Дмитрия Ивановича. В предвидении возвращения на Великую Русь Киприан в том же письме снова называет Феодора своим «сыном».
Мы полагаем, что есть прямая, неопровержимая связь между тюремным заточением Дионисия, письмом Киприана Феодору Симоновскому и поездкой Киприана в Константинополь, где он теперь надеялся как минимум вернуть себе престол митрополита малоруссого и литовского, а, возможно, и получить решение собора об утверждении его митрополитом всея Руси, так как он оставался единственным серьезным претендентом на этот престол. Чтобы действовать так уверенно, как действовал Киприан, надо было иметь твердое заверение от его литовских друзей, прежде всего, от великого князя Ягайло в том, что престарелый Дионисий никогда не будет выпущен из киевской тюрьмы. «Минимум» Киприан легко получил в том же 1385 году, а митрополию всей Руси – через пять лет, потому что великий князь Дмитрий Иванович решительно был настроен против него. Об этом убедительно свидетельствует отказ великого князя принять митрополита Киприана летом 1388 года, когда тот вместе с Василием, старшим сыном Дмитрия Ивановича, приехал из Литвы в Москву [203].
Великий князь Дмитрий Иванович не изменил своей позиции: его неприятие Киприана основывалось теперь не на эмоциональных, а на принципиальных, политических причинах. Но именно этого не мог понять Киприан, готовый ради власти и выгоды приспособиться к любой политической конъюнктуре. Потому-то Киприан, несмотря на свой острый конфликт с великим князем, решил в третий раз попытать счастья, используя неожиданную возможность привезти с собой в Москву бежавшего из Орды Василия Дмитриевича, будущего великого князя Руси.

Великий труд и великий непрерывный подвиг во имя общего блага – такова основа славы Преподобного Сергия. В 80-е гг. XIV века его земная слава достигла пика.
17.1 Игумен Сергий во главе княжеского посольства
Одинокая вершина питает снегами реки долин и растит урожай полей.
Живая Этика
Нашествие Тохтамыша воочию показало, как легко разрушается единство государства, когда ослабевает его центр. Начиная с Ивана Калиты шла Русь к объединению княжеств вокруг Москвы, шла медленно, с большими жертвами, с переменным успехом, но настойчиво, целеустремленно. И вот, через 50 лет – повержен грозный угнетатель! Победа! Победило единение князей и народа, победила искренняя вера и помощь Высших Сил. Куликовский урок истории ясный, бесспорный. И вдруг, при новом испытании, единство оказалось непрочным, урок – плохо усвоенным. Истинное единство – то, которое строится изнутри и прочно устанавливается только при главенстве духа над материей. Наглядный пример отклонения – психический срыв самого великого князя. Под влиянием потрясения от кошмара пепелищ, завала трупов на улицах Москвы, всеобщего разорения, подлой измены рязанского и нижегородского князей Дмитрий Иванович впал в ярость и отдал приказание жесточайше отомстить... рязанцам. Он не мог не сознавать, что своими руками разрушает то, что 50 лет создавалось его дедом, отцом, им самим, всеми лучшими людьми Руси, но... подвела натура. И «воспылал страстию ум княжеский» – как некогда у князя Новгород-Северского, героя поэмы «Слово о полку Игореве». И началась взаимная молотьба голов булатными цепами, голов русских людей, молодых, столь нужных для дела действительно необходимого: для созидания и развития жизни, укрепления Руси, защиты от внешних врагов. Только после двух поражений от рязанцев – так сурово учит жизнь, и слава Богу – одумался Дмитрий Иванович, и снова обратился к мирным средствам, воззвал к помощи Бога.
По инициативе Дмитрия Ивановича в Рязань в 1385 г. прибыло посольство для мирных переговоров, которые, однако, зашли в тупик, и послы вернулись ни с чем. Но великий князь проявил настойчивость. Сам ли он решил или по чьему-либо совету, но только в сентябре 1385 года он посетил великого Пророка Сергия, и они договорились о том, что Преподобный во главе княжеского посольства отправится на мирные переговоры с Олегом Рязанским. В Никоновской летописи сохранилась запись об этом посещении: «Месяца сентября князь великий Дмитрий Иванович иде в монастырь к живоначальной Троице, к преподобному игумену Сергию в Радонеж; и молебная совершив Господу Богу и Пречистой Богородице, и святую братью накорми и милостыню даде, и глаголаше с молением преподобному игумену Сергию, дабы шел от него сам преподобный игумен Сергий посольством на Рязань ко князю Олегу о вечном мире и о любви... Toe же осени в Филипово говение преподобный игумен Сергий Радонежский сам ездил (выделено мною. –А. К.) посольством на Рязань ко князю Олегу Ивановичю Рязаньскому от великого князя Дмитриа Ивановичя Московского о вечном мире и о любви, и с ним старейшиа бояре великого князя. Преже бо того мнози ездиша к нему, и ничтоже успеша и не возмогоша утолити его; преподобный же игумен Сергий, старец чюдный, тихими и кроткыми словесы и речми и благоуветливыми глаголы, благодатию, данною ему от Святого Духа, много беседовав с ним о ползе души, и о мире, и о любви; князь велики же Олег преложи сверепьство свое на кротость, и утишися, и укротися, и умилися велми душею, устыдебося столь свята мужа, и взял с великим князем Дмитрием Ивановичем вечный мир и любовь в род и род. И возвратися преподобный игумен Сергий с честию и с славою многою на Москву, к великому князю Дмитрею Ивановичю, и достойно хвалим бысть, и славен, и честен от всех» [204].
Большую честь оказал Дмитрий Иванович Преподобному: последний раз (по сохранившимся сведениям) он посещал Свято-Троицкую Обитель пять лет назад, после Куликовской битвы. Сейчас, как и тогда, великий князь придал визиту торжественно-сердечный характер. Молебствия были в начале всего, и это означало, что первое, главное слово душевной благодарности согласно возносилось Высшим Силам, что с Ними объединялось светлое упование на будущее и что союз с Небом почитался основой преуспеяния во всех начинаниях. Высокий гость вкусил с монахами братскую трапезу как послушник Бога; и как христианин передал свой дар монастырю в знак заслуженной монахами оценки их труда на благо отечества. Этот дар, как и пять лет назад, не был даром недвижимости (в противном случае он был бы особо отмечен летописцем) и потому не мог быть использован как источник стяжания нетрудовых доходов. Еще раз неопровержимо подтвердилось, что принцип нестяжательства был коренной основой построения монастырской общины преп. Сергия. Визит великого князя по достоинству увенчался его просьбой о том, чтобы Преподобный возглавил в качестве уполномоченного князя дипломатическое (светское!) посольство в Рязань.
Обычно исследователи подчеркивают, что великий князь вынужден был прибегнуть к помощи Преподобного, так как потерпел неудачу (два поражения кряду) добиться покорности Рязанского князя силовым путем. При такой трактовке вольно или невольно искажается духовно-нравственный облик Дмитрия Ивановича. Для него решающим стало осознание бесперспективности и вредоносности междоусобиц, их: гибельности для Руси. Двукратное поражение от Олега Ивановича способствовало такому прозрению – это верно. Но ведь Москва была мощнее Рязани, и если б Дмитрий Иванович оставался безусловным сторонником военных методов укрепления государства, он мог бы, несомненно, через год-другой собрать мощное войско, которое одолело бы рязанские полки. Но в том-то и дело, что Дмитрий Иванович осознанно уклонился от привычной военной тропы междоусобиц и по своей инициативе стал упорно добиваться успеха на мирном пути разрешения межкняжеских раздоров. Весьма показательно для эволюции его сознания, что он сумел избежать применения оружия во всех (и серьезных!) междоусобных конфликтах, случившихся на Руси до его смерти, то есть с 1385 по 1389 гг.
Великий князь дал преп. Сергию авторитетное сопровождение, такое, какое было бы при самом князе. Оно выехало из Москвы осенью 1385 г., в дни Рождественского поста (15/XI – 24/ХП), когда сердца верующих сильнее обычного устремляются к Всевышнему. Беседа между Преподобным и князем Олегом Ивановичем положила конец вражде Москвы с Рязанью, длившейся более 20 лет. Великолепный успех! Конечно, решающую роль сыграл Преподобный. Лишь он, умеющий читать мысли собеседника, мог провести беседу с Олегом Ивановичем в нужной тональности, так, чтобы, не теряя своего достоинства, не задевать в то же время и достоинства князя, чтобы сказать все необходимое и не сказать лишнего. Однако и сам рязанский князь к этому времени уже был, похоже близок к осознанию необходимости прекращения вражды с Москвой.
Преподобный Сергий вернулся в Москву «с большой славой честью, и все по достоинству хвалили его и почитали» вполне заслуженно. Через год дружба между Москвой и Рязанью была скреплена браком Софии, дочери Дмитрия Ивановича, с Федором, сыном рязанского князя – вот это и стало понятным для всех подтверждением дипломатической формулы «мир и любовь из рода в род». Слава Преподобного почти достигла зенита. И мы не впадем в преувеличение, если отметим возросший умиротворяющий вклад преп. Сергия во все последующие дела великого князя. Об одном из них мы кратко скажем – для иллюстрации нашего утверждения. В марте 1389 года, за два месяца до кончины Дмитрия Ивановича, неожиданно возник острый конфликт между ним и его двоюродным братом Владимиром Андреевичем Серпуховским. Причина ссоры не ясна. Определенно можно сказать, что ее нельзя сводить только к имущественным взаимным притязаниям князей. Арест и заточение нескольких старших бояр Владимира Андреевича – первая и явно ответная мера великого князя – говорит о том, что была боярская интрига, был хитрый умысел, направленный на разжигание ссоры между князьями-братьями. Любит же лукавый именно такие, близкородственные распри! Ссора, вспыхнувшая, как стихийный пожар, в самом центре Руси, грозила перерасти в войну с вовлечением Твери и Литвы, перечеркнуть весь колоссальный, жертвенный труд поколений по объединению Руси. Эта ссора была наижеланнейшей радостью для всех недругов Руси, и непонятно было, как утишить гнев разъярившихся князей. Но гнев утих, пожар был погашен, а как и кем, истории неизвестно, ибо средства были употреблены тихие, внешне незаметные. Это-то и наводит на мысль о вмешательстве преподобного Сергия. Но снова надо особенно отметить, что оба князя, оба брата, были внутренне готовы воспринять увещевания своих духовников, что, следовательно, не прошли даром, без пользы для воспитания княжеских сердец ни жесточайшие уроки жизни, ни самоотверженная страда Сергия Радонежского и других подвижников, упорно стремившихся воскресить на Руси истинную веру в Бога и духовно-нравственные принципы Христа. Семена мира и любви, посеянные в душах князей, проросли, дали благодатные всходы, – и это вопреки постоянному противодействию темных сил и низшей природы человека.
И от Бога прославлен бысть.
Епифаний Премудрый
Ныне в распоряжении исследователя имеются два свидетельства о Явлении Богородицы святому Сергию: рассказы из «Жития» и текст ее пророчества, впервые опубликованного в «Криптограммах Востока» (1929 г.). Второе свидетельство [205] связано с первым прямой отсылкой к нему. Исследователь обязан – вне зависимости от своей оценки свидетельств – рассмотреть их. Однако до сих пор ученые поступали иначе: одни занимались только первым, другие – только вторым. Мы намерены рассмотреть оба свидетельства.
Владычица и сопровождающие ее апостолы Петр и Иоанн Богослов явились Преподобному (с ним был и его ученик) в огненных тончайших телах, «блистающих, как заря». Утонченная плоть самого Сергия с огромным напряжением выдержала высокие вибрации и проникающее сияние, исходящее от Пречистой, а ученик Сергия «лежал на земле, как мертвый». Агиограф привычно объясняет его состояние «страхом и трепетом», однако, в словах ученика, обращенных к Сергию, и в ответе Сергия сохранилось иное истолкование: «Скажи мне, отче, что это было за видение и свет несказанный, который мы видели: ибо дух мой едва не порвал узы с плотью, – из-за блистающего явления». Святой же возрадовался душой, словно весь образ его расцвел от радости, и смог ответить только так: «Потерпи немного, чадо, ибо дух мой трепещет от чудного лицезрения». Так они стояли с полчаса, дивясь всему про себя» (сс. 372-373, выделено мною. – А. К.).
В тонкоматериальном огненном теле Пречистой (разумеется, также и в огненных телах сопровождавших ее апостолов) нет и не может быть никаких плотно-телесных органов, в том числе и органов речи. Взаимопонимание между Нею и преп. Сергием было мысленное, так как способность мыслить и обмениваться мыслями без слов сохраняется в бессмертном зерне духа. Келейник Михей, хотя и обладал тонкой психоструктурой, высоким духом все же не был и потому не имел силы духоразумения. Естественно, что он не воспринял мыслей Пречистой и не понял смысла Ее явления, а потому и обратился с разъяснением к преп. Сергию. Однако естество Михея было достаточно утончено, чтобы выдержать, не дезинтегрируясь, почти на пределе своих возможностей, воздействие лучей и вибраций, исходивших от Пречистой и апостолов. «Но огонь космоса не может быть явлен в полной мере: иначе испепелится естество человеческое. Разве только кто посвятит себя огню, в естестве проходя все ступени приближения к стихии» [206]. Огонь Космоса – это и есть та тончайшая материя света, несущая в себе всеначальную энергию и составляющая ткань «блистающих, как заря» огненных тел Высших Духов.
Издавна ученые выделяют два аспекта в Явлении Богородицы: его цель, смысл и содержание, и его хронологические характеристики. Думается, что эта выделенность не случайна: она указывает на взаимосвязь обоих аспектов и на их соотнесенность с реальной исторической жизнью как Руси в целом, так и Сергия Радонежского. Парадоксально, но факт: именно этой взаимосвязи исследователи «Жития» уделили очень мало внимания. И не без причины.
Все исследователи согласны в том (и только в этом), что Явление Богородицы, сопровождаемой апостолами Петром и Иоанном, было наиболее знаменательным событием в жизни Сергия Радонежского, событием, имевшим большое значение и для русского народа. Это само по себе обязывает ученых обратиться, прежде всего, к цели посещения Богородицей игумена Свято-Троицкого монастыря, преподобного Сергия из Радонежа.
Что же сообщила Владычица преподобному Сергию? «Не ужасайся, избранник Мой! Приидох бо посетити тебе. О братьях же своих и о монастыру не скръби, ни же пренемогаи, отныне бо въ всемъ изобилствует и не только донде же в животе еси, но и по твоем еже къ Господу отхождении неотступна буду тех» (Первая пахомиевская редакция, с. 372). И это весь текст заявления Богородицы. Перевод: «Не поражайся, избранниче Мой! Я пришла посетить тебя. О братьях своих и о монастыре не печалуйся, не страдай. Отныне у святого монастыря все будет в изобилии, и не только при твоей жизни, но и после твоего ухода к Господу. Я буду неотлучно с ними». В обеих рассматриваемых редакциях «Жития» содержание и смысл заявления Богородицы одинаковы: дать высшую гарантию полного обеспечения материальными благами монахов Свято-Троицкого монастыря после смерти его игумена, Сергия Радонежского. Такое понимание подтверждается тем, что, как видно по «Житию», само явление Богородицы было ответом на «частые» (с. 371) молитвенные обращения к Ней преподобного Сергия с просьбами именно об улучшении материального положения монахов: «Число же братии множашеся, пищею же нужно зело и скудно. Святый же видевъ монастырскую скудость, скръбяше о том и часто взираа на Бога и на Пречистую Его Богоматерь, чаа помощи» (с. 371). И далее следует текст его соответствующей молитвы к Пречистой. Тема изобильной жизни монахов «отныне и вовеки» подхватывается далее описанием восторга монахов Исаака и Симиона, с которым они восприняли рассказ преподобного Сергия о Явлении Богородицы: «Тии же яко услышашя абие радости духовныа исплънишася. Како бо не бе тем радости испълънитися, таково обещание слышавше от Божиа Матере. О сладкаго ти гласа, Мати Христа моего! О чюдней любви и Твоего посещениа, Владычице! О неизреченнаго Ти обещаниа, еже с нами пребывающа!» (с. 373). Перевод: «Когда они услышали об этом, то исполнились духовной радости. И как же было им не возрадоваться, услышав такое обещание от Божией Матери. О, Матерь Христа моего, как приятен твой голос! О, Владычица, как чудны Твоя любовь и Твое посещение! О, несказанное Твое обещание постоянно заботиться о нас!».
Суммируя все сказанное вместе, отметим две характерные особенности сознания монахов и агиографов. Несомненно, что изобильная жизнь монахов отныне и вовеки считается ими важнейшей заботой Высших Сил, ради которой сама Богородица нашла достойным утвердить лично гарантии изобилия на будущее, причем не через посредство одной из своих икон, а в наиболее величественном Явлении Своем – воочию и со свитой! Не менее примечательна и вторая особенность – отождествление монахами и агиографами «духовной радости» с радостью гарантированного получения изобильных материальных благ. Тут мы должны напомнить нашему читателю, что обе эгоистические, самостные особенности сознания монахов и агиографов, Пахомия Логофета и Анонима, приписываются ими не себе, а Сергию Радонежскому и Епифанию Премудрому, именем которого подписаны обе редакции. Таким образом, Святой Сергий и Епифаний предвзято, совершенно несправедливо представляются читателям XV-XVI-ro и последующих веков как апологеты сугубо потребительского образа жизни монахов, к которому якобы и сводится главный мотив их духовного служения Богу.
С таким извращенным пониманием духовной радости (в истолковании и Пахомия, и Анонима) читатель уже встречался ранее в рассказе «О изобиловании потребных», когда к голодающим монахам, как манна небесная, неожиданно прибыло три воза «благоуханных хлебов с маслом» (с. 353). В этой связи мы сделаем небольшое отступление от нашего плана сопоставления двух редакций «Жития» и процитируем выразительнейший фрагмент из Третьей пахомиевской редакции, относящийся к рассматриваемой сейчас теме: «Они же (Исаак и Симеон. – А. К.) призваны бывше, преподобный же поведа им вся чюдьнаа видениа, како виде Пречистую Богородицю съ двема апостолома, яко же слыша от устъ Ея, како обещася неотступна быти от обители его и благопослушлива просящим с верою» (с. 409). Перевод: «Когда они были приглашены, преподобный рассказал им обо всем чудном явлении, как он видел Пречистую Богородицу и как Она обещала неотлучно быть с его обителью и послушно исполнять благие просьбы верующих». Тут снова ясно выражена заветная мечта монахов – иметь гарантию бесперебойного получения ими «благоуханных хлебов». Сорок лет гарантом был преподобный Сергий, теперь, когда он стал стар и пришло время думать о его «отхождении ко Господу», гарантом становится сама Богородица. Далее Пахомий употребил все свои литературные способности, чтобы описать «духовное» умиление преподобного Сергия и всех монахов при известии о высшем поручительстве за будущую обеспеченную жизнь монахов: «И сиа ему едва могущю исповедати от рыдания слезнаго. Они же слышаще, плачюще, радости неизреченныя исполнишяся, и всем братьям събравшимся, великое благодарение въздашя Богу, славяше Христа Бога и Пречистую Матерь Его, поне же бо яко обещяся пребывати во обители святого и по отшествии старця. И тако исполняа вся неизменно, пребывааше неотступно и подавааше обилно, покрывающи и заступающи [от всех бед, и помогающи и всегда и везде ходатаиствуищи] милостиво къ Сыну Своему, Христу Богу нашему, и доныне молитвами святого Сергиа» (с. 409). Перевод: «И это он едва смог поведать из-за рыданий и слез. И они, слушая, плакали от несказанной радости, и все собравшиеся братья вознесли глубокое благодарение Богу, славя Христа Бога и Его Пречистую Матерь, ибо она обещала пребывать в обители святого и после преставления старца. И она точно все исполнила, неотлучно находясь с обителью и обеспечивая обильные блага, оберегая и проявляя заступничество (от всех бед, и помогая, и везде защищая) в милосердном обращении к Сыну Своему, Христу Богу нашему, по молитвам святого Сергия – вплоть до нынешнего времени». Снова (в который уже раз?) святой Сергий сведен с духовного пьедестала и поставлен на постаментик перед входом в монастырскую трапезную; ново только то, что образ умильного, слезливо-сентиментального Сергия совсем не согласуется с его характером. От этого скрытая насмешка Пахомия (и Анонима также) над преподобным Сергием и Епифанием становится более явной, вполне прослушиваемой нотой в преувеличенно почтительной интонации плача от «несказанной радости»... из-за земных благ.
Есть ли связь между смыслом (целью) Явления Пречистой и временем (годом) этого события? Мы видим эту связь в обещании Богородицы заботиться о монахах «по твоем же къ Господу отхождении...». Вряд ли резонно было бы объединять Явление Пречистой и будущую кончину преподобного Сергия ранее, чем он завершил свою земную миссию, по крайней мере, ее основные деяния, к которым, несомненно, относятся и его участие в подготовке Куликовской битвы, и рязанский миротворческий поход (ноябрь – декабрь 1385 г.). Следовательно, едва ли психологически обоснованно будет относить Явление Пречистой ранее «сороковицы» Рождества Христова в 1386 году. Вплоть до Марта 1392 года игумен Сергий вел деятельную жизнь, и у монахов не было оснований для беспокойства за жизнь их гаранта обеспеченной, счастливой жизни.
На наш взгляд, многие исследователи «Жития» придают чрезмерно большое значение определению точной даты Явления Богородицы. Мы полагаем, что при нынешних фактических сведениях эту дату точно установить невозможно. Какими данными располагает исследователь? Только кратким и туманным сообщением «Жития»: «В един же от днии поющу ему, яко же рехом, благодарный канон Пречистей Владычице нашей Богородици, бяше же тъгда сороковица рождества Иисуса Христова. Днем же пяток бе при вечере» (с. 372). Определение года и календарной даты Явления Богородицы прямо зависит от толкования понятия «сороковица» в то давнее время. Возможны четыре различных понимания – канун Рождественского поста (14 ноября), первый или последний день этого поста и даже сороковой день после Рождества Христова, то есть 2 февраля. Исследователю не на что опереться, чтобы твердо принять какое-либо одно понимание. Поэтому целесообразно не заострять внимания на этой проблеме, тем более, что гораздо важнее и продуктивнее сосредоточиться на анализе смысла Явления Богородицы.
Мы не располагаем сводкой Явлений Богородицы, подобных Ее Явлению Сергию Радонежскому. Мы прочитали всего лишь более ста наиболее знаменитых житий разных стран, но и это знание позволяет сделать вывод о том, что Богородица (одна или в сопровождении святых) являлась будущим святым для того, чтобы помочь им осуществить какое-либо весьма важное и сложное духовное деяние. Так, например, Григорию Чудотворцу Она явилась в сопровождении Иоанна Богослова, чтобы утвердить Григория на пути борьбы с ересью Савелия и Павла Самосатских. При этом Пречистая повелела апостолу Иоанну научить Григория, как правильно веровать в тайну Святой Троицы, что Иоанн и исполнил. Приведем еще один пример. Знаменитому автору песнопений и защитнику догматов православной веры Иоанну Дамаскину Пречистая оказала помощь дважды: прирастила ему правую отрубленную руку и затем приказала старцу, у которого он был в послушании, не запрещать Иоанну писать свои сочинения и предсказала великую славу Иоанна.
На Руси со введения христианства и до 1392 г. было, согласно сведениям из «Истории русской церкви» митроп. Макария, более 40 явлений Богородицы (почти все через Ее иконы) с различными целями, но среди них не было ни одного Явления личного, в тонком, огненном теле, то есть ни одного подобного Явлению Богородицы Сергию Радонежскому. Другими словами, Оно было наиболее значительным. Однако, именно это Явление имело своей целью самую малую и притом вовсе не духовную цель. Такое разительное противоречие, такую несоизмеримость, похоже, впервые отметил Е. Е. Голубинский: «Позволительно думать, что Епифаний передает речь Божией Матери к Сергию неполно, что Она не ограничилась одним уверением, что монастырь будет всем изобиловать, говорила и о более сего важном, духовном» [207]. Из современных исследователей «Жития», насколько мне известно, только Н. С. Борисов придал решающее значение цели и смыслу Явления Богородицы, поставив их в прямое соответствие с величием самой Богородицы – Царицы Небесной. Поэтому Н. С. Борисов приурочил время Явления к периоду Куликовской битвы. Но слабое звено такой логики в том, что она не имеет опоры в тексте «Жития», в речи Богородицы; к тому же исследователь оставляет без объяснения смысл почетного сопровождения Владычицы апостолами Петром и Иоанном.
Конечно, указанное выше противоречие между Явлением Владычицы в светоносных, солнечно сияющих телах и ничтожной целью посещения Сергия Радонежского вопиет о несоизмеримости величественной формы Явления и его незначительного смыслового содержания. Современный исследователь может устранить это противоречие, если привлечет к рассмотрению текст Провозвестия Владычицы, впервые опубликованный в 1929 году одним из парижских издательств, а в 90-е годы XX века неоднократно перепечатанный нашими издательствами в книге «Криптограммы Востока».
Подведем предварительные итоги. Пахомий и Аноним, верные себе, в изображении Явления Богородицы-Владычицы, его сути и его восприятия Сергием и монахами представили как главную особенность их сознания заботу о беспечальной жизни, изобильной материальными благами. И агиографам это вполне удалось. Тем самым они исказили не только образ Сергия Радонежского и образ Епифания Премудрого, но и само понятие духовности, само осмысление духовного подвига. В самом деле, разве не перевернуты с ног на голову иерархические отношения между Нею и монахами? Кто должен быть «благопослушлив» – монахи по отношению к Богородице или Она по отношению к ним? (с. 409). Достаточно ясно поставить эти вопросы и сам собою проявится грубый, потребительский эгоцентризм монашеской веры в Бога, приспосабливающий к потребностям желудка святые образы Богоматери и Христа. Такое приспособление есть умаление Их образов до заземленных критериев мнимой духовности. Только приниженная агиографами Богоматерь и могла сделать то заявление о будущей жизни монахов, которое ей вложили в уста Пахомий и Аноним. Иначе говоря, такого Ее заявления-обещания не было и не могло быть, ибо оно противоречит Ее величественному, справедливо милосердному Образу, живому и живущему до сих пор в сознании многих русских людей. Но без какого-либо Ее слова к Сергию бессмысленным становится само Ее посещение. Как же разрешить эту проблему?
Сомнения ученых в том, что агиографы верно передали заявление Владычицы, подтвердились в 1929 году – и самым неожиданным образом. Е. И. Рерих под псевдонимом Ж. Сент-Илер опубликовала «Криптограммы Востока», в которых сам Владыка Шамбалы давал в притчевой форме ответы на длинный ряд вопросов, относящихся к истории и будущему человечества. Среди них было и Слово Владычицы к Сергию Радонежскому, текст которого вместе с кратким предисловием к нему приводится ниже: «Пришло время указать главное о сияющем видении Владычицы. Неужели великое предуказанное видение было молчаливым? Неужели потрясение духа и седина волос не были следствием Провозвестия?
Владычица сказала:
«Придет время Мое, когда небесное Светило Мое к Земле устремится, и тогда придешь ты исполнить волю сроков.
И ненавистные будут спасителями, и побежденный будет вести победителей. И три корня, разделенные проклятием, срастутся любовью, и вести их будет посланный не из их племени. До срока проклянут татар и евреев, и они проклянут землю русскую.
Когда же твои кости будут преданы уничтожению, трем проклятиям исполнится срок. И Невидимо Видимый станет у престола, облеченный Венцами и Перстнем.
И где приложишь Перстень, там будет рука Моя и Владык» [205].
Прежде чем приступить к анализу «Провозвестия Владычицы», мы считаем целесообразным сделать несколько предварительных замечаний. Необычайно поражает уникальная возможность точного воспроизведения текста Провозвестия спустя приблизительно 550 лет после его произношения. Сергий Радонежский был единственным человеком, полностью слышавшим и воспринявшим речь Владычицы. Он, конечно, обладал такой памятью, чтобы запомнить Ее речь слово в слово, и он мог точно пересказать речь Епифанию Премудрому, который тогда же занес ее в свои «тетрати», а затем и в рукопись «Жития». Однако, увы, ни сама рукопись, ни ее точный список (копия) до нас не дошли. Разве не означает это, что вместе с утерей оригинала погибла и возможность точного воспроизведения речи Богородицы? До 90-х гг. XX века сто процентов опрошенных ответили бы, что да, означает. Теперь же, после издания в нашей стране Учения Живая Этика, его последователи могут четко представить себе и объяснить, как и где сохранился текст речи Богородицы, а также, почему он был опубликован. Не только «рукописи не горят», как верно сказал один из главных персонажей романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», то есть не исчезают навсегда, будучи сожженными земным огнем, но любое значительное человеческое слово записывается и хранится в особом космическом слое (Акаша) и хранится вечно. Великий Планетарный Дух, воплотившийся в Сергии Радонежском, во первых, обладает способностью и космическим правом доступа к хранилищу Акаши, и, во-вторых, может по своему желанию пользоваться любыми знаниями и сведениями, накопленными в его собственном психоэнергетическом центре памяти о прошлом, в так называемой Чаше. Одной из таких возможностей и воспользовался Великий Учитель, сообщивший Е. И. Рерих Новое Учение для следующей, Шестой расы человечества и посчитавший целесообразным ознакомить людей также и с Провозвестием Владычицы.
Приступая к его рассмотрению, мы напоминаем читателю, что согласно Живой Этике, Владычица есть Матерь Мира, которая в Иерархии Высших Сил Вселенной олицетворяет одно их двух творческих начал Космоса. Выше Ее и Логоса (другое Начало) есть только Абсолютный Творец, Владыка и Космоса, и Хаоса, то есть и Проявленного, и Непроявленного Миров. Высочайшее место Владычицы в Иерархии Космоса определяет и масштаб Ее Провозвестия, и уровень Того, к кому она явилась в сопровождении двух апостолов, и уровень осмысления Провозвестия. Сергий Радонежский в «Провозвестии» предстает сознанию читателя как Святой – воплощение Планетарного Духа, Главы мирового Правительства Земли, а не как один из русских игуменов.
Владычица явилась Преподобному, чтобы сообщить ему, «своему избраннику» (с. 372), о его новой, ответственнейшей миссии в будущем и о важнейших событиях грядущей жизни людей. «С давних пор Матерь Мира посылает на подвиг. По истории человечества Ее рука проводит неразрывную нить» [208]. Рассматривая предсказание Владычицы, мы должны постоянно иметь в виду его космический, планетарный масштаб. В Провозвестии, на наш взгляд, возможно истолковать лишь то, что хотя бы частично уже осуществилось, перешло или переходит из космического плана в действительную жизнь человечества [209].
Каков смысл того, что Владычица явилась Преподобному не одна, а в сопровождении апостолов Петра и Иоанна Богослова? Иоанн известен как автор пророческого откровения, или Апокалипсиса; его приглашение в свиту Владычицы есть, на наш взгляд, знак того, что Она сама была намерена сделать новое пророчество о грядущей драматической судьбе человечества, с которой неразрывно связана и судьба Преподобного Сергия. Апостол Петр среди других апостолов выделен тем, что он первый провозгласил Христа мессией, пришедшим на Землю дать людям Новое Учение. В свите Владычицы Петр является персонификацией мысли о том, что Владычица назовет в Провозвестии имя грядущего нового Мессии, Учителя человечества. Символически всемирный смысл Рождества Христова – завершение старой и наступление новой эры – соответствует символическому смыслу Провозвестия грядущих коренных изменений в жизни человечества и наступлению Новой, Светлой Эпохи.
Сроки узловых событий в эволюции планет и звезд Космоса находятся, как видно по Живой Этике, в ведении Космической Иерархии Светлых Сил, возглавляемой Матерью Мира и Логосом. Поэтому «волю сроков» можно истолковать и понять как Волю Самой Иерархии.
Приход к полной власти над Землей того Великого Духа, кто в одном из своих воплощений был Сергием Радонежским, не означает, что он тут же и исполнит волю сроков. Сроков несколько, и исполнение их не одноразовый акт, а всемирный процесс.
«Время Мое» (Владычицы) – это, по Учению, есть эпоха женщины, Светлый Век, начинающийся для земного человечества с завершением перехода к Шестой Расе. «Небесное Светило» есть Звезда Матери Мира. «Звезда Утра – знак Великой эпохи, которая первым лучом блеснет из Учения Христа, ибо кому возвеличить Матерь Мира, как не Христу, ибо Христос был унижен миром» [210] В 1924 г., уже в процессе приближения Звезды Матери Мира к Земле, Учитель, давая Е. И. Рерих вторую книгу «Живой Этики» («Озарение»), так охарактеризовал Звезду и ее лучи: «Урусвати – пора сказать, что так зовем Звезду, которая неудержимо приближается к Земле. Издавна она была символом Матери Мира, и эпоха Матери Мира должна начаться, когда Ее Звезда приблизится к Земле небывало.
Великая эпоха начинается, ибо духоразумение связано с Матерью Мира. Даже знающим срок дивно смотреть на физическое приближение сужденного. Важно наступление великой эпохи, которая существенно изменит жизнь Земли. Великая – Я так радуюсь, видя, как новые лучи пронизывают толщу Земли. Если даже они сначала тяжелы, то их эманация вносит новые элементы, так нужные для толчка. Новые лучи достигают Земли в первый раз от ее сформирования.
Сегодня начало женского пробуждения, ибо волна дошла сегодня...» [211 и 212].
Исполнителем «воли сроков» определен «избранник» Владычицы Сергий Радонежский в своей ипостаси будущего полновластного Владыки Земли. Его единовластие выражено словами: «И Невидимо Видимый станет у престола, облеченный Венцами и Перстнем. И где приложишь Перстень, там будет рука Моя и Владык» [213]. «Невидимо Видимый – смысл этого оксюморона объяснен в Живой Этике: «Придворный историк Акбара однажды сказал правителю: "Среди правителей наблюдается неразрешимое явление. Одни владыки держались недоступно, вдали от народа – их свергали за ненужностью. Другие входили в жизнь каждого дня, к ним привыкали и свергали за обычностью". Акбар улыбнулся: "Значит, правитель должен оставаться невидимым, входя и направляя все действия". Так решил мудрый правитель и предуказал будущее» [214].
Видимый невидимо! «...Станет у престола, облеченный Венцами и перстнем», то есть будет править человечеством и Землей, наделенный всей полнотой власти. «Венцы» говорят, думается, об окончании раздвоения власти над Землей между Владыкой Шамбалы и Сатаной, побежденным в 1949 г. и потерявшим свой темный Венец, некогда бывший светлым. С этого времени единым Правителем Земли, Владыкой Шамбалы (один венец) и Владыкой Земли (второй венец), стал победитель Сатаны, Майтрейя. Он не будет воплощаться в человеческом теле и потому будет невидим для людей; вместе с тем Он принимает на Себя всю ответственность за развитие человечества в Шестой Расе и по делам Своим будет виден людям. Его властные полномочия утверждены не людьми, а Владыками Космоса и Матерью Мира на основании Космического Права. Перстень – это одновременно и личная Печать Владыки Земли. Выражение «и где приложишь Перстень, там будет Рука Моя и Владык» может быть понято как высочайшее одобрение будущих действий Великого Духа, Воплотившегося в Сергии Радонежском. Из Учения Следует, что Дух этот есть Майтрейя, один из трех великих Учителей человечества. Из дневников Е. И. Рерих известно, что в 1931 г. Он вступил в битву с Сатаной, который 17 октября 1949 г. был сокрушен и изгнан за пределы Солнечной системы [215]. Армагеддон закончился победой Владыки Шамбалы, и с тех пор строительство новое идет только под Его лучами [216]. Но силы тьмы на Земле все еще велики и опасны, и, будучи обреченными, они с тем большим ожесточением ведут безнадежную борьбу за сохранение своих позиций и самого существования на Земле.
Труднее всего проникнуть в смысл предсказания, относящегося к развитию событий на планете и к срокам этих событий. Отправным пунктом тут может послужить неявное указание на срок исполнения трех проклятий: «Когда кости твои будут преданы уничтожению...» Это случилось в 1919 году. Мощи св. Сергия, находившиеся в Троице-Сергиевой Лавре, были истреблены в период бурного схлеста страстей вокруг церкви. Так мы получаем хронологическую точку отсчета, мысленно перенесясь из XIV в. в XX век [217].
Черная Эпоха (Кали-юга) человечества все еще продолжается. Ее характернейшей особенностью Учение называет «ненавистничество» [218], трагичнейшим проявлением которого стали восстания и войны. В 1918 г. Первая мировая война в России переросла в гражданскую, и в 1918 г. в этой войне определился перевес сил на стороне большевиков. Кого же можно назвать «ненавистными»? Это зависит от точки зрения: для «белых» ненавистными были «красные», для «красных» – «белые» и т. д. Но в мировом масштабе можно говорить о том, что в 1918 г. поднялся крутой вал ненависти к России, вставшей на путь коренных преобразований. Эта ненависть усиленно нагнеталась правительствами и господствующими классами многих стран Европы, Америки, отчасти Азии и Африки. Причина ненависти ясна: дерзостный вызов всей западной системе власти и господства над своими и колониальными народами, вызов, содержавшийся в политической и социальной сути переустройства России. На миролюбивую политику Советской России Запад ответил подготовкой Второй Мировой войны, ударной силой которой, направленной против СССР, стали Германия, Япония и Италия. Вторую Мировую войну фашизм и силы, его поддерживающие, проиграли. Россия и ее союзники победили. Россия и ее народы по праву назывались тогда освободителями от фашистского порабощения. Мы полагаем, что именно это событие имеется в виду в Провозвестии: «И ненавистные будут спасителями» – в это лаконичное и хронологически неопределенное предсказание вместилось 28 лет (1917 – 1945 гг.). Такая вместительность сроков характерна для Провозвестия и вообще для космического мышления, ибо в вечности нет условного, календарного членения времени; там оно, согласно Живой Этике, измеряется событиями.
Следующее предсказание («и побежденный будет вести победителей») также должно быть соотнесено с движением событий планетарного значения, с коренным изменением соотношения ведущих сил в мире. Россия победила в Первой Мировой и гражданской войнах, а затем (вместе с союзниками) – и во Второй Мировой войне. Следовательно, к ней неприложимо определение «побежденный», хотя после 1945 года она и повела за собой многие страны Третьего мира, но не Англию, не США, не Францию, которых тоже следует считать победителями. Между победителями развернулась широкомасштабная т. н. «холодная» война, в которой Россия (Советский Союз) оказалась страной побежденной. Будучи побежденной, Россия не только никого не повела за собой по пути катастройки (по удачному выражению А. Зиновьева), но и потеряла почти всех прежних друзей и союзников. Однако, в первом году XXI века (и это само по себе символично) наметился многообещающий перелом в острейшем и жизненно важном вопросе мировой политики – в борьбе со всемирным терроризмом и экстремизмом: Россия побежденная тут повела за собой своих победителей в «холодной» войне. Трагические и совершенно неожиданные события 11 сентября 2001 года в США, подтвердив полную правоту России в оценке всемирной грозной опасности международного терроризма, вынудили США, ведущие страны Европы и мира круто изменить свою политику, принять российскую точку зрения на мировой терроризм и признать Россию как своего стратегического союзника в борьбе с этим всемирным злом. Принципиально, в высшей степени важно, что ведущая роль России основана не на экономике, не на военной силе, а только на силе дальновидной мысли, устремленной к открытому, дружественному сотрудничеству и к Общей пользе человечества. Именно на этой основе предсказывается «Живой Этикой» ведущая роль России в новой, Шестой Расе человечества. Именно на этой основе утверждается Матерью Мира избранный Ею вождь человечества на Новую Эпоху. Заметим попутно, что только в таком контексте обретает полный, достойный смысл обращение Матери Мира к Сергию Радонежскому – «избранниче Мой» (с. 372). Иное понимание этого обращения, понимание только на основе текста «Жития» (гарант изобильных материальных благ для монахов) унижает и Матерь Мира, и Сергия Радонежского.
Когда же окончательно утвердится, станет общепризнанной ведущая роль России в мире? Вряд ли кто из землян знает точный ответ на этот вопрос. Сроки событий, подобных по масштабу переходу к новой ступени духовного восхождения человечества, находятся в исключительном ведении Высших Сил. Предположительно, основываясь на Живой Этике, можно сказать лишь, что Шестая раса начнет свой календарь после планетарного катаклизма, очищающего Землю; грозные признаки приближения этого катаклизма внушительно появились уже в 2002 году.
Как истолковать предсказание «И три корня, разделенные проклятием срастутся любовью, и вести их будет посланный не из их племени?» Если исходить из космического измерения Провозвестия и из того, что никаких поясняющих определений к «корням» не дано, то два «если» направляют мысль к Великим Началам (Корням) Вселенной, которые являются также и Началами земного человечества. Мы имеем в виду Первоначало (Абсолют, Исходная, Единая Духо-Материя) и порожденные Им Два Начала Проявленного мира: Дух, Логос – жизненный принцип («мужское Начало») и Свет, Материя, Матерь Мира, дающая Жизни формы. Эти три Корня составляют Триединство, сращенное Вечной Любовью, исходящей от Абсолюта. Владычица и есть образ одного из Начал – женского. Но кто же мог проклясть и разделить Три Корня земного человечества? Люцифер, Великий Светлый (некогда) Дух, один из семи Наставников человечества, который, однако, противопоставил себя (еще в Третьей Расе) остальным шестерым, стремясь стать единовластным Хозяином Земли. Этот дух известен с тех пор под именем Сатаны. Свою стратегию борьбы за полновластие над человечеством он построил на принципе отрицания единства «корней», получившем позднее широко известную формулировку «разделяй и властвуй» любой ценой. Этот принцип внушался землянам и на практике получил многообразные вариации. Их суть сводится к противопоставлению Духа (души) и Материи (плоти) как якобы непримиримо враждебных Начал. В стратегию Сатаны также входило (как важнейший компонент) отделение человечества от Высших Сил Света (безбожие, отрицание Высшего Водительства), Земли от Космоса и его Создателей (сознательных существ во Вселенной, кроме землян, якобы нет), что равносильно отделению творения от Творца. Составной частью тотального принципа «разделяй и властвуй» является противопоставление религий, философских и политических систем, традиций, установлений, в совокупности своей постоянно порождающих войны и другие конфликты между народами Земли.
«И три корня... срастутся любовью», но когда наступит это золотое время? Конечно, только в Шестой Расе. «Срастание любовью» народов Земли и людей, ныне разделенных страхом и ненавистью, есть глубинная, определяющая тенденция общечеловеческой эволюции. «Срастание любовью» – это процесс сложный и многообразный, находящийся ныне на стадии преодоления острого противоборства светлых и темных сил, как в Тонком Мире, так и в Плотном, то есть на Земле. Грандиозная битва в Тонком Мире (Армагеддон), с которой по мощи не может сравниться никакая земная битва, закончилась, как мы уже говорили, 17 октября 1949 года. «Конечно, приспешники зла многочисленны и будут продолжать злые действия, но они будут слабеть, не получая нового притока сил и поддержки от своего темного владыки», – так писала Е. И. Рерих в конце 1949 года [219]. В этом же письме она раскрыла великое значение Победы над Сатаной: «Катастрофу удалось отодвинуть и уменьшить ее будущие размеры, но не избежать». Лопнул сценарий Сатаны – взорвать Землю путем разнуздывания сил огненного ядра планеты [220]. Укрепилась уверенность в том, что Битва Света и Тьмы и на Земле также закончится победой Светлых сил. Но остаются открытыми насущнейшие вопросы: какой ценой будет достигнута Победа? Когда она будет завоевана? Ответы во многом будут зависеть от человечества, от темпов и глубины преображения сознания людей, от их содействия или противодействия планетарной эволюции. Но будем твердо помнить одно: эволюция непреложно осуществится – даже вопреки желанию большинства землян [221]. В настоящее время идет, насколько мы можем судить, огненный период перехода человечества к Светлой Эпохе, идет испытание и отбор народов и людей, пригодных для Шестой Расы.
«...И вести их будет посланный не из их племени...» – тут надо прояснить три вопроса. Слово «Посланник» в Библии прилагается к Христу, а его Отец, Бог-Творец, именуется там Пославшим [222]. И хотя Иисус Христос воплотился в племени (народе) еврейском, но послан Он был ко всему «племени» человеческому. Еще много-много раньше, в Третьей Расе человечества, когда оно было единым земным племенем, к нему были посланы с Венеры с миссией «ускорения эволюции» Семь Великих Духов, в числе которых был и Христос, и Будда, и нынешний Владыка Земли Майтрейя. Именно Он и предназначен быть Ведущим Человечества на тот период времени, который Матерь Мира назвала в Провозвестии «время Мое» – время перехода к Светлой Эпохе и время этой Эпохи.
Сила Невидимого Владыки Земли, Сила Невидимого Мирового Правительства гораздо мощнее группировок, мечтающих ныне о полной власти над погруженным в раздоры миром. Это означает, что те, кто пойдут за ними, пойдут за иллюзией. Свобода выбора есть у каждого, но ныне она равняется свободе выбора жизни или окончательной смерти.
И, наконец, последнее пророчество: «До срока проклянут татар и евреев, и они проклянут землю русскую». Таким образом, в Провозвестии речь идет о трех проклятиях, и назван один из сроков их исполнения, который мы ранее определили как 1919 год. Как осмыслить понятие «срок исполнения проклятия»? Если судить по факту, по частичному исполнению первого из трех проклятий («разделение Корней»), то можно предложить следующее осмысление: в 1919 году это проклятие утеряло свою силу, а через 30 лет Проклинавший (Сатана) был побежден в битве с Владыкой Шамбалы, извергнут за пределы Солнечной Галактики и тем полностью обезврежен, лишен возможности влиять на земные дела и на эволюцию человечества. Означает ли это, что утеряли силу и два остальных проклятия, относящиеся к судьбе татар и евреев, а также Земли Русской? Мы ничего определенного сказать не можем. Конечно, каждое проклятие делалось с целью погибели того, кого проклинали. Но не погибла ни Земля Русская, не погибли ни татары (в их современном понимании), ни евреи как народы. Означает ли этот факт, что оба проклятия были несправедливыми и потому не имели силы с самого начала? Или он означает, по аналогии с проклятием разделения трех корней, что с 1919 года над Проклинавшими навис Дамоклов меч уничтожения? Вряд ли сейчас возможно дать ясные ответы на эти вопросы. По Живой Этике русский народ (Иван Стотысячный) в приближающейся Шестой Расе человечества будет сохранен и будет тогда играть ведущую роль на Земле. Следовательно, одно из проклятий явно было несправедливым, и потому, его сила была погашена. Почему из народов, населяющих Россию, Провозвестие предрекает судьбу лишь русских, евреев и татар? Историку ответ ясен. В 80-е гг. XIV в. на Руси (всей Руси, и Великой и Малой) жили, если не считать малочисленных этнических групп, только эти три крупных этноса.
Провозвестие Владычицы очертило некоторые важнейшие линии современного мирового процесса в период перехода от Пятой к Шестой Расе человечества. В той части, в какой Провозвестие еще не осуществлено, мы можем, наблюдая современные события, следить за процессом исполнения «Воли сроков» и делать соответствующие выводы. Когда же эта Воля будет исполнена, тогда ситуация в мире изменится коренным образом. Тогда и наступит долгожданная Светлая Эпоха.
Нам осталось сказать несколько слов по поводу краткого вступления к «Провозвестию Владычицы». Нетрудно заметить, что слово «Владычица» употребляется как в различных редакциях «Жития Сергия» (применительно к Явлению Богородицы), так и в Живой Этике, где так именуется Матерь Мира. Совпадение наименований, на наш взгляд, не случайно. В русском народном понимании христианской Небесной Иерархии Богоматерь Христа вознесена на космический уровень Царицы Небесной [223] и таким образом поставлена рядом с Христом, который в народе почитается как Господь, как высший Судия народов. Никто больше матери не любит своих сыновей и поэтому никто не приносит большей жертвы, чем она, когда она добровольно и сознательно посылает их на смертельно опасный подвиг (защита Родины или защита человечества). И в этом отношении народное представление совпадает с величественным образом Матери Мира в Живой Этике: «конечно, теперь пора указать, что Матерь, общая Владыкам, – не символ, а великое явление женского начала, представляющего духовную Матерь Христа и Будды, ...которая учила и рукоположила Их на Подвиг» [224].
Как можно осмыслить определение «молчаливые», относящееся к Явлению Богородицы? В свете нашего анализа оно означает, что Владыка Земли, давший текст «Провозвестия» Е. И. Рерих, отрицает и то немногое, что в «Житии» было сказано от имени Владычицы Преподобному Сергию, не признает это сказанное Ее подлинным обращением к Сергию.
Во вступлении к «Провозвестию» оно названо «главным в сияющем видении Владычицы». И это, бесспорно, так. Но можно ли понять такое утверждение в том смысле, что, помимо текста «Провозвестия», Великому Владыке известны и другие компоненты явления Владычицы, о которых Он до поры до времени не намерен извещать читателей? На этот вопрос, разумеется, может ответить определенно только сам Владыка.
Конечно, посещение игумена Свято-Троицкого монастыря «Пречистой Владычицей нашей Богородицей» было пиком его земной славы и предвестием его нового восхождения по Иерархической Лестнице Высших Сил Космоса. «Близко время, когда народ вспомнит, Кто был его настоящим духовным Воспитателем и Строителем его государства и Кто его Заступник, Хранитель, Водитель» [225].
17.3. О чудесах мнимых и подлинных
Ибо никогда ни один Великий Учитель не будет прибегать к чудесам для утверждения своей власти. Все чудеса, сотворенные Ими, всегда имели бескорыстную цель, именно: помощь страждущим и неимущим.
Е.И.Рерих
Мы не ставим перед собой задачи рассмотреть все «чудесные» деяния, которые были, по нашему мнению, приписаны преп. Сергию с целью придания им авторитетности. Мы хотим на трех примерах показать, как можно отличать чудеса действительные от мнимых.
В «Житии Сергия» есть рассказ «О епископе, пришедшем посмотреть на Святого». Вот начало рассказа: «Времени некоему минувшу, прииде некый епископ от Коньстянтиня града въ господьствующий град Москву. И слыша многая яже о Святем: слуху бо велику о нем пространившуся повсюду, даже и до самого Цариграда. Тъи епископ неверьем одръжим о святем и глаголаше: «Како может в сих странах таковъ светилникъ явитися, паче же в последняа сиа времена?» И помысли пойти в обитель и видети блаженнаго» (с. 396)*. Перевод: «Спустя некоторое время пришел некий епископ из Константинополя в господствующий город Москву. Многое слышал он о Святом: ведь слух великий распространился о нем повсюду вплоть до самого Царьграда. Но этот епископ был одержим неверием в Святого и так говорил: "Разве может в этих странах появиться такой светильник, тем более в эти последние времена?" И решил он пойти в обитель и увидеть блаженного». Рассказ помещен в «Житии» после Явления Владычицы преп. Сергию, когда его слава, возможно, дошла и до Константинополя; возможно, там был епископ, который, подобно Фоме неверующему, решил лично убедиться в величии преп. Сергия. Епископ прибыл в Москву как паломник, может быть, первый паломник из Царьграда. Он сомневался не в существовании преп. Сергия, но лишь в его величии, то есть, прежде всего, в его пророческом даре. Он захотел удостовериться, что преп. Сергий – великий светоч.
«Бывшу ему близ обители, начат страхом смущатися; и въшедшу ему въ обитель, и яко узри святого, нападе на нь слепота. Преподобный же емъ его за руку и введе в келию свою. Тьй же епископъ начат съ слезами молить святого, исповеда ему и неволею неверье свое, вкупе же и прозрения прося, окаанна себе глаголя, праваго пути погрешивша. Незлобивый же смиренна делатель прикоснуся ослепленным его зеницамъ, и отпадоша, яко чешуя, от очию его, абие прозре» (с. 397). Перевод: «Когда он был близ обители, начал им овладевать страх; и вот он вошел в обитель и как только увидел святого, тут же был поражен слепотой. Преподобный же, взяв его за руку, ввел в свою келью. Епископ, признавшись ему невольно в своем неверии, начал со слезами умолять святого, чтобы он вернул ему зрение, и при этом епископ назвал себя окаянным, прегрешившим против истинного пути. Беззлобный же, смиренный делатель прикоснулся к его погасшим зеницам, и ослепление отпало, как чешуя, и он тут же прозрел». Таково чудо и таковы обстоятельства, ему предшествовавшие и его сопровождавшие, существенные для осмысления чуда. Во всем этом необходимо разобраться.
Ясно, что слепота, внезапно поразившая епископа, была в глазах верующих Божьим наказанием. Но за что? Только ли за неверие в величие преп. Сергия? Не только. Неверие епископа имеет широкое основание: оно касается также «сих стран» и «сих последних времен». Однако ни страны, ни последние времена конкретно не определяются, хотя и понятно, что Русь включается в число этих стран, а тогдашнее время – в эти последние времена. Ясно также, что и странам, и временам дана епископом негативная оценка, смысл которой таков: на эти страны и в это время не может изливаться благодать Божья, и, значит, на Руси не может быть великого святого, который одновременно есть и проявление, и доказательство благоволения Бога к стране, где святой родился и живет. Внезапная слепота указала епископу, что он своим неверием согрешил перед Богом, а столь же внезапное исцеление убедило епископа в величии преп. Сергия и в том, что Русь должна быть исключена из числа стран, не пользующихся поддержкой Бога. Следовательно, негативная оценка последних времен на нее не распространяется. Эта оценка сложилась в сознании епископа на основе впечатлений от византийской действительности, и отсюда он сделал вывод, что на Руси также наступило неблагоприятное время. Но чудеса убедили его в том, что он ошибся.
Зададимся естественным вопросом: в чем же конкретно вторая половина 80-х годов XIV века была для Византии хуже, чем для Руси, в чем выразилось для Византии (и еще каких-то православных стран) неблаговоление Божье в «эти последние времена»? Мы не находим в тогдашней реальной действительности подтверждений безнадежному взгляду епископа. Напротив, Византия сохраняла положение крупнейшей европейской державы, а Константинополь – положение столицы православного мира. Митрополия Руси в религиозном отношении подчинялась константинопольскому патриарху, от воли которого зависело назначение митрополитов на Русь и в Литву. Константинополь вполне сохранял за собой статус матери православных городов, то есть, говоря по-русски, был для Руси «царствующим» городом. Почему же тогда агиограф так подчеркнуто пишет, что епископ приехал из Константинополя в «господствующий город Москву», то есть переворачивает иерархические отношения между этими городами? Применительно к 80-м годам XIV в. и даже к первой половине XV в. это определение Москвы является явно неподходящим. Известно, что лишь после захвата Константинополя турками (1453 г.) Москва стала заявлять и обосновывать свои претензии на роль православной столицы мира. Тогда наступили для православного Константинополя тяжелые времена, а для Москвы, напротив, пришло время ее утверждения как Третьего Рима, т. е. города, господствующего в православном мире.
В этом же убеждает нас и «научение», которое якобы преподал византийскому епископу преп. Сергий: «Ваше наказание, о премудрый учителю, како подобает творити – не высокомудрити, ни возноситися над смиреными. К нам же, ненаученым и невеждамъ, что принесе на пльзу, тъкмо искусити неразумие наше прииде. Поне же Праведный Судиа вся зрить» (с. 396). «О премудрый учитель, нас подобает наставлять таким образом: не высокомудрствовать, не превозноситься над смиренными. Что же за пользу принес ты нам, неучам и невеждам? Ты пришел только, чтобы искусить наше неразумие, однако же Праведный Судия все зрит».
В конце XIV века Константинополь утверждал митрополитов Руси и Литвы и сам решал, о чем и в какой форме будут беседовать его посланники в Москве. Но самое нелогичное в наставлении, вложенном в уста преп. Сергия, состоит в том, что он обличает епископа за невысказанные мысли. Понятно, что наказание слепотой имеет символический смысл: оно есть божественное подтверждение реальной, духовной слепоты епископа, не видящего истины, то есть того, что благодать Божья перешла от Византии на Москву. Вполне возможно, что преп. Сергий уже тогда прозревал будущее крушение Византии и возвышение Москвы, хотя свидетельств подобных предсказаний до нас не дошло. Однако совершенно несообразны с его духовно-нравственным обликом самохвальство, язвительная ирония и апломб, с которыми он обличал епископа.
В довершение унижения епископа агиограф «заставляет» его потом, после возвращения от преп. Сергия, всюду «великим гласом» превозносить преп. Сергия как «небеснаго человека и земнаго ангела» (с. 396); агиограф уверяет читателя, что «чудо» мгновенно переменило сознание епископа, отныне прославлявшего Бога (!) и его угодника «святого Сергия» (с. 398).
Главный учительный смысл «чуда» состоит, мы полагаем, в том, что русский человек сменил в своем сознании иерархические приоритеты, поскольку благоволение Бога перешло с Византии на Русь, а основная идея рассказа есть идея религиозного возвышения Москвы над всеми столицами православных стран. Вследствие этого рассказ включается во второй половине XV в. в борьбу общественных идей и начинает играть роль публицистического произведения. К этому времени и надо отнести создание рассказа. Еще одним подтверждением отсутствия данного рассказа в протографе «Жития» является (помимо содержания, несообразного со временем жизни преп. Сергия) то, что рассказа нет в Первой пахомиевской редакции, старший список которой был создан до падения Константинополя.
Показательны еще два рассказа о «чудесах», – «О лихоимце» и «Об изобличении попробовавшего посланную еду». Главная идея первого – соблюдение Десятой заповеди Моисея «Не желай ни жены ближнего твоего, ...ни скота его, ни всего, что есть у ближнего твоего» [226]. Идея второго – соблюдение православного обряда благословения пищи перед едой.
Как известно, сам Христос включил в свое учение десять заповедей Моисея: «Не думай, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» [227].
В рассказе «О лихоимце» речь идет о том, что один человек, злонравный и «сильный», и, видимо, богатый, отнял у крестьянина борова. Крестьянин, плача и жалуясь, попросил заступничества у преп. Сергия, который позвал обидчика и напомнил ему христианские заповеди, особо подчеркнув, что «есть Бог, Судья праведным и грешным, Отец сирым и беззащитным, готовый к «отмщению», и что «страшно оказаться в Его руках» (с. 400). Нравоучительную беседу преп. Сергий заключил повелением «сироте цену вдати», т. е. отдать крестьянину цену борова, возместив причиненный ущерб. Насильник «съ страхом обещася исправитися нравом на благое житие и обидимому отдать цену» (с. 400). Однако, придя домой и успокоившись, он пожалел о том, что послушался преп. Сергия и решил не отдавать денег крестьянину. Вот тут-то и произошло «чудо»: «он (насильник. – А. К.) вошел в кладовую, где лежала разделанная туша борова, и увидел, что она кишмя кишит червями» (с. 400), хотя на дворе стояли холода (была зима). Лихоимец, осознав, что черви – наказание за ослушание преп. Сергия, страшно испугался и заплатил крестьянину положенную цену, но к Преподобному с покаянием не пошел и вообще перестал к нему ходить. Справедливость была, по мнению автора, восстановлена, и рассказ на этом заканчивается.
И вмешательство преп. Сергия, и поведение насильника показаны психологически убедительно. Однако в двух случаях образ Сергия представлен неверно. Во-первых, в «чуде» с мерзостными червями. И хотя «черви» как средство наказания неоднократно появляются на страницах Ветхого Завета, но в Новом Завете нет ни символа «червя» – отмстителя, ни даже слова «червь». И это не случайно: в Учении Христа отсутствует само представление о том, что месть, страх, зло (а черви – несомненное зло) могут быть орудием Божьего наказания, орудием воли Того, кто олицетворяет Добро. Безобразные трупные черви в качестве исполнителей воли преп. Сергия – в этом есть внутреннее противоречие: допущение такого средства борьбы со злом, которое само есть зло. Понятно, почему оно отвергается Учением Христа как средство исправления. Есть в этом «чуде» и другое противоречие – несоизмеримость цели и результатов наказания. Чудо с червями должно было бы привести к осознанию греховности своего поступка насильником и к его нравственному улучшению, но этого не произошло. Результатом «чуда» стало лишь возмещение материальных убытков крестьянина, денежный выкуп за грех насилия. И только. Причем преп. Сергий якобы сам предлагает такую меру пресечения зла. И ею ограничивает свое повеление и последствия «чуда». Моральный ущерб, причиненный крестьянину, ничем не уравновешивается, и, следовательно, справедливость не восстанавливается. Более того, как боров послужил лишь для размножения червей (зла), так и «чудо» привело лишь к тому, что в мире стало одним упорным лихоимцем больше: насильник, ранее охотно посещавший Святого, стал чураться его, т. е. ожесточился душой и ушел из-под его благого влияния. На этом агиограф заканчивает рассказ, то есть считает разрешенным вопрос о справедливом наказании лихоимца.
Таким образом, удовлетворение пострадавшего сводится к денежному вознаграждению за убытки – вместо евангельского, истинно христианского понимания справедливости агиограф предлагает понимание торгашеское. Ясно, что преп. Сергий не мог разделять подобного взгляда на искупление греха и не мог совершать «чуда», подтверждающего такой взгляд.
Сюжет третьего рассказа прост, князь Владимир, во владениях которого находился Свято-Троицкий монастырь и который любил Преподобного, послал «в утешение старцу и братии» (с. 398) еду и питье. Князь делал это и раньше. Слуга, с которым князь послал «утешение», будучи «соблазнен сатаной», дорогой отведал господской еды и питья. Когда слуга пришел в монастырь и сообщил Преподобному, что для него и братии князь Владимир прислал еду и питье, то Сергий не пожелал принять присланное, сказав: «Почто, брате, врага послушав, и прельстился вкушением брашен? Их же ти не достоит прежде благословения ясти, от них же ял еси» (с. 398). «Зачем ты, брат, послушался врага, соблазнился и отведал пищи? Тебе до благословения не подобает есть то, что ты съел». Преп. Сергий, разумеется, умел читать чужие мысли, и он не мог ошибиться в изобличении поступка слуги. Кроме того, отказ Сергия принять княжеское угощение, конечно, грозил слуге большими неприятностями. И потому, «нехотя»признав свою вину, он, «пад на нозе святого, плакати начат, прощения прося о содеяных» (с. 398). Преп. Сергий простил его, «отпустил, приняв посланное, сотворил молитву над едой и питьем, и повелел передать молитву и благословение князю-христолюбцу» (с. 398).
Нам кажется, в рассказе есть два действия, которые не совмещаются с образом Сергия Радонеждского: нежелание принять княжеское угощение, т. е. угроза слуге наказанием от князя, и одобрение обычая присылки подобных угощений. Агиограф верен своей логике: если для него страх Господень – первая из добродетелей, следовательно, угодник божий, святой Сергий, должен, испытывая этот страх сам, в то же время быть его источником и распространителем среди верующих. Но Сергий Радонежский, как мы показали ранее, не ветхозаветного Иегову, а Христа признавал своим Владыкой, и, следуя Ему, воспитывал людей любовью, добрыми делами, но не страхом. Ведь преп. Сергий показал, как просто можно очистить оскверненную еду, – зачем же тогда надо было ему демонстрировать перед слугой князя силу страха? Святой не мог обойтись без затаенной угрозы? Разве его слова прозрения было мало, чтобы вызвать потрясение в душе виновного и желание покаяться в грехе?
Из «Жития» мы знаем также, что преп. Сергий поддерживал в монастыре строгий порядок и, в частности, запрещал просить милостыню у окрестных жителей. Даже в голодные времена. Отсюда следует, что тем более в обычное время он не мог признавать нормой приношения в обитель от князя или другого сильного мира сего.
В рассказе, на наш взгляд, верно лишь то, что преп. Сергий умел читать чужие мысли. Для обычных людей это было чудом, и потому людская молва, как водится, распространяла различные «истории» о чудесном даре Преподобного. Одну из таких «историй» агиограф, – это вполне возможно, – и использовал в своих дидактических целях, увы, не соразмерив их с истинно христианской душой Святого, и в итоге снова принизил его образ, втиснув в привычные рамки церковного клише.
Для совершения чуда Высоким Духом всегда должна быть основательная причина. Чудо не демонстрация способностей и величия подвижника или его близости к Высшим Силам. Чудо – всегда полезнейшее дело для ближнего. Чудеса без достаточно весомого основания могут даже задержать духовное восхождение подвижника.
Итак, мы рассмотрели три рассказа о «чудесах», якобы совершенных преп. Сергием. У агиографа, возможно, были добрые намерения. Но не даром говорится, что ими вымощена дорога в ад: намерения эти превращаются в свою противоположность, когда не воплощаются в столь же добрых действиях, соизмеримых с итогом. Святой же, как никто другой из людей, ответственен за истинные результаты своих действий: ведь он уже заранее, на стадии подготовки, ясно видел, к чему приведет или может привести тот или иной его поступок, то или иное его чудо. Великий пророк не может разменивать свой высокий дар на предсказание бытовых происшествий или на проявление «чудес» по поводу обыденных житейских историй... В стране всегда найдутся дела, достойные его высокого духа. Умаление же образа Святого – вовсе не мелочь. Оно есть выхолащивание силы его авторитета, трата на пустяки неприкосновенного духовного запаса народа.
Мы хотели бы подчеркнуть, что ни одно действительно совершенное чудо не считаем событием сверхъестественным, что все чудеса исполняются психической энергией человека, достигшего высокой ступени духовного восхождения. «Чудо есть проявление тончайших энергий, не учтенных в химических и физических школах... Тончайшие энергии применяются чаще, нежели думают, в жизни, и эти непонятные большинству явления должны быть изучены. Это... просто наука тончайших энергий» [228].
17.4. Причащение небесным огнем
Именно Нирвана есть огненное восхождение. В каждом Учении находим символ этого огненного восхождения. Сергий причащался огненно. Так наглядно дан знак возможности высшей.
Живая Этика
Тексты рассказа об огненном причащении св. Сергия в Первой пахомиевской и Пространной редакциях «Жития» почти одинаковы. Различия не имеют существенного значения. Здесь мы приводим цитаты по тексту Пахомия.
В обеих редакциях этот рассказ предшествует рассказу о кончине святого Сергия. В этом просматривается и замысел «Жития»: земная жизнь святого продолжается в жизни небесной, вечной, которая по значению несравненно важнее земной. Вечная жизнь не знает смертного исхода. Две жизни – два причащения, оба проходят в земном храме, но первое, главное, совершается Невидимой Высшей Силой. Ее лицезрение доступно не каждому, а только духовному взору святых и приобщенных к ним достаточно утонченных натур, сердца которых способны ассимилировать Огонь пространственный. К ним, по рассказу, отнесен ученик святого Сергия Симион (в некоторых редакциях – Симон) – человек «имуща свръшенное житие» (с. 373).
Главное действующее лицо – святой Сергий. Он служит литургию. Это событие обычно собирает всех монахов, но о них не сказано ни полсловечка. Так задуман рассказ: в нем опущено все, что не имеет отношения к осмыслению чудесного явления, происшедшего во время литургии. «Служащу же святому Сергиу, съи же Симион зрит чюдно видение: божественный бо огнь сходя въ святом жертвенику, осеняще олтарь, окружаа окрестъ святыа трапезы, последи же святого трищи окруживши, яко мнетися, оному въ огни от главу до ногу быти» (с. 373). Кроме Сергия, Божественный Огонь видит только Симион. Огонь-Свет охватил весь алтарь, и это очень важное, точное свидетельство принадлежности Сергия к Высшему, Огненному Миру, свидетельство величия Сергиева Духа, благодатной мощи его психической энергии. В Библии такой нежгучий, но явный Огонь связывается с явлением Господа людям и имеет очищающую, а не губительную силу. Данное место «Жития» по смыслу можно, думается, осознать как контаминацию следующих двух библейских стихов: «И вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике всесожжения и тук...» [229] и «Ты творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими пламенеющий огонь» [230]. Смысл чудесного явления Божественного Огня – подтвердить святость преп. Сергия и его близость к Высшим Силам – этим, однако, не исчерпывается.
«И егда хотяше святыи причаститися, тьи же огнь свится, яко же некаи плащаница, и вниде въ святыи потиръ, и тако тем причастися» (с. 373). Причащение небесным огнем, устроенное Высшими Силами, есть оригинальный художественный образ, символизирующий, на наш взгляд, близость духа преподобного Сергия огненной сущности светлых небожителей. Еще одно значение получает этот символ оттого, что непосредственно примыкает к рассказу о кончине Преподобного. Это значение находит подтверждение в просьбе святого Сергия, с которой он обратился к Симиону: «Никому же, чадо, да не възвестиши, яже виде, донде же Богъ сътворитъ яже о мне смотрение и преведет мя от мира сего» (с. 374, выделено мною. – А. К.). Преподобный и ранее не раз просил свидетелей своего чудотворения никому не рассказывать о том или другом чуде, но никогда не связывал эти просьбы со своей кончиной. Для Преподобного предсмертное огненное причащение имело не только великое духовное (тончайшие энергии необходимы для возвышения духа), но и очень важное физическое значение. Он уже давно обладал огненным иммунитетом [231], предохранявшим его от болезней и позволившим ему невредимым пройти в Нижний Новгород (1365 г.) сквозь чумные районы. Теперь, к старости, этот иммунитет был еще более усилен – и сердце стало «как солнце, испепеляющее все микробы» [232].
Мы полагаем, что описание огненного очищения сделано, в основном, Епифанием Премудрым: 1) образ святого Сергия вполне соответствует его образу в «Похвальном слове» Епифания и в Живой Этике; 2) чудесное явление описано так, как оно должно быть описано согласно епифаниевскому наставлению об укреплении веры в чудеса.

Господи, в руце Твои передаю дух мой.
«Житие Сергия»
Во всех редакциях «Жития» есть описание последних дней жизни Преподобного, его кончины и похорон – от весьма краткого (в Первой пахомиевской редакции) до сравнительно распространенного (в редакциях позднейших). Но наиболее информативное освещение этих тем дано в «Похвальном слове» Епифания. Именно поэтому мы широко привлекаем «Похвальное слово» в трех завершающих главах нашего исследования.
Отвръзите мне врата правды, и вшед в ня – исповемся Господеви.
Епифаний Премудрый. «Похвальное слово»
У святого Сергия, как мы уже сказали, было два причастия. Первое, огненное, небесное, совершилось, вероятно, за год до смерти. Оно было молчаливым. Сергий и молился, и исповедовался «в духе и истине», как было завещано Христом. Это величественное причастие уникально в житийной литературе. Его значение – духовное единение Сергия и Высших Сил – понятно без слов, но конкретное содержание исповеди Святого осталось тайной даже для Епифания. Так оно и должно быть.
То, что Преподобный хотел сказать перед смертью своим ученикам, он, как видно по «Житию», сказал, однако до нас об этом, увы, дошли весьма краткие записи агиографов.
В Первой пахомиевской редакции сохранилась следующая запись: «По сем же времени преподобный отець нашь Сергие болети начать и разуме свое еже къ Богу отхождение, и призва всю братию и поучив их о плъзе, постави же игумена въ место себе Никона, заповедавъ ему хранити преданна и уставы монастырскыа. Причастивъ же ся пречистых таинъ, конечное же слово изрек: «Господи! В руце Твои предаю дух мои». И тако почи о Господи месяца септевриа въ 25 день, живъ лет 78» (с. 374). Выражение «по сем же времени ...болети начать» есть отсылка ко времени явления Божественного Огня, которое в Первой пахомиевской редакции непосредственно предшествует рассказу о кончине святого Сергия. По распространенному в Древней Руси представлению, (что прежде, то и причина) выражение «по сем же времени...болети начать» воспринималось так, что Огненное Причастие было причиной болезни. Болезнь, в свою очередь, стала причиной цепи следствий: 1) поняв, что болезнь – предвестник смерти, Преподобный собрал монахов для последнего поучения; 2) потом он назначил вместо себя нового игумена (Никона) и дал ему краткие указания; 3) затем Преподобный причастился и сказал свои последние слова: «Господи, в руки Твои предаю дух мой». Смерть наступила 25 сентября 1392 г. на 79-м году жизни.
Во многом по-другому описаны последние действия, и распоряжения, и само окончание «Жития» Преподобного в Третьей редакции, созданной тем же Пахомием. Почему он так поступил, мы сейчас разбирать не будем: это целесообразно сделать в специальном исследовании, посвященном сопоставлению всех пахомиевских редакций. Здесь отметим только, что описание окончания жития Преподобного у Анонима почти слово в слово совпадает с текстом Третьей пахомиевской редакции. Приводим описание по ПЛДР: «Жил святой долгие годы в совершенном воздержании, труде, и непередаваемые, несказанные чудесные дела совершил, и старости глубокой достиг, никогда от божественного пения или божественной службы не уклоняясь. И чем больше старел он, тем больше укреплялся и возвышался усердием, мужественно и с любовью упражняясь в божественных подвигах, и никак его старость не побеждала. Но ноги его костенели день ото дня («стлъпие бяху»), как будто по ступеням приближались к Богу. Предвидел он за шесть месяцев свою кончину и, призвав братию, вручил игуменство своему самому любимому ученику... по имени Никон. Сергий повелел ему пасти стадо Христово внимательно и праведно, ибо ответ ему придется держать не за себя, но за многих.
И с тех пор Сергий, – этот великий подвижник в вере, благочестивейший, достославный, недремлющий заступник, непересыхающий родник – начал безмолвствовать. И в сентябре он был внезапно поражен телесным недугом, и, увидев, что он уже отходит к Богу, чтобы природе отдать должное, а дух передать любимому Иисусу, Сергий призвал священное братство и новособранное стадо. И беседу повел подобающую (мы тут сделаем пропуск, так как содержание напутствия будем рассматривать позднее. – А. К.)... И перед самой смертью, когда душа его должна была с телом разлучиться, он причастился тела и крови Владыки, а ученики руками своими его немощные члены поддерживали. Он простер к Нему руки и, молитву совершив, чистую свою и священную душу с молитвой Господу передал, в год 6900 (1392-ой) месяца сентября в 25 день; жил же преподобный 70 и 8 лет» (сс. 403-405). Просим у читателя понимания: столь длинная цитата необходима, потому что мы будем ее внимательно рассматривать, сопоставляя с соответствующим текстом Первой редакции Пахомия.
Начнем с болезни, которая в Пространной редакции описана совершенно иначе, чем в Первой пахомиевской. Прежде всего отметим, что Аноним вовсе не связывает болезнь с Огненным Причастием, которое теперь композиционно отделено от рассказа о кончине несколькими главами. Эта связь означала, что болезнь Сергия была явно для всех послана ему Свыше, ибо болезнь в тогдашнем представлении верующего воспринималась как наказание за грехи: «всякъ недугъ и всяка яза от человек отгонима бывает силою Господнею» [233]. Конечно, оба агиографа это прекрасно знали. И тем не менее, вернее, именно поэтому неопределенное, беглое упоминание о заболевании Сергия в Первой пахомиевской редакции заменили рассказом о тяжелой болезни Сергия. О тяжелой и длительной, осложненной в конце неким внезапным ухудшением, которое лишило святого последних сил. Внезапность ухудшения («впаде въ недуг»), как и сама болезнь не были предсказаны Святым, хотя пророческая сила не покинула его, что видно по заблаговременному указанию им дня своей кончины. Как понять такую несоизмеримость? Доискиваясь ответа, верующий неминуемо придет к мысли о том, что такова была воля Божия. Но за что же святой Сергий наказан предсмертной тяжкой болезнью? Никаких причин по «Житию» не видно. Следовательно, болезнь была агиографической, то есть измышленной агиографами все с той же целью – бросить тень на святого, которого Бог почему-то лишил благоволения перед самой кончиной, причем настолько явно, что он не смог без посторонней помощи даже принять Святое Причащение. Особенно важное значение факт тяжелого телесного недуга приобретает потому, что совпадает по времени с подведением святым Сергием жизненных итогов, с заветами, оставляемыми им своим ученикам. Таким образом тень от Высшего неблаговоления к Сергию ложится на все его предсмертные заветы и распоряжения. И мы увидим далее, что некоторые, очень важные заветы Сергия после его кончины не были осуществлены, а почему не были, не сказано.
Посмотрим теперь, что написано о предсмертной болезни Святого в «Похвальном слове» Епифания. В самом раннем его списке есть такая примечательная строка: «Поболев убо старецъ неколико время, и тако преставися ко Господу, к вечным обителемъ, изсушив тело свое постом и молитвами, истончив плоть и умертвивъ уды сущаа на земли, страсти телесныя покорив духови...» (с. 280). И далее подводится краткий итог успешной борьбы преподобного с тем, что особенно мешает человеку на пути духовного восхождения. Пять слов о некоем легком и кратковременном недомогании вписались бы в «Житие» Сергия как мелкая досадная невзгода. Но в «Похвальном слове», предназначенном для подведения лучших итогов жизни и деяний Святого, даже беглое упоминание о таком факте выпадает из жанра и потому видится нарочитым. Это впечатление усилится многократно, когда мы осознаем, что в «Похвальном слове» не упомянуто ни о даре пророчества, ни о силе чудотворения Преподобного, нет даже слов «пророк», «чудотворец». Такая забывчивость! И вдруг агиограф (не Епифаний, конечно) одно из сжатых подведений итогов начинает с сообщения о некоем легком заболевании. И сообщение помещено как раз в том месте, которое, по нашему мнению, подвергалось основательной переработке. Ранее мы уже писали об этом, тут же только напомним, что это то самое место, где дважды начинается разговор об «успении» святого, где монастырь преждевременно именуется лаврой, и где дважды агиограф подытоживает жизнь Святого. Все вместе взятое говорит о том, что упоминание о заболевании – вставка, нужная только переделывателям Сергиева жизнеописания как подтверждение измышления о предсмертной болезни Преподобного.
Одно из общих мест в житиях многих святых – «предузнание», предсказание точной даты своей кончины. Такое знание вполне доступно хорошему ясновидцу. Тем более святому Сергию, обладавшему редчайшим даром ясновидения и заслуженно названному еще при жизни Великим Пророком. Действительно, в редакциях «Жития» мы встречаем это предсказание почти всегда в одной и той же формулировке: «Разуме же и преже шастих месяцех (за шесть месяцев. – А. К.) свое преставление...» (ПЛДР, с. 402). Это нужное, полезное предвидение обуславливало спокойный, согласованный по времени с Высшими Силами переход Преподобного из мира плотного в Мир Тонкий, его обстоятельную, неторопливую подготовку к преодолению очень важной границы в единой бессмертной жизни Великого Духа.
Святой Сергий обладал усиленным огненным иммунитетом. Это совершенно исключало возможность любого заболевания. Единственное, что могло ему угрожать – нервное истощение от психической перегрузки, подобной той, которая уложила Преподобного в постель после княжеских съездов 1375 – 1376 годов. Но ни один источник не упоминает о каких-либо чрезвычайных событиях (потрясениях) в его последние годы жизни.
Столь Высокие Духи, как святой Сергий, будучи в постоянной непримиримой борьбе с Князем тьмы и его воинством, заканчивают жизнь двояко: либо уходят в мир иной победителями, до конца выполнившими свою земную миссию, уходят по зову Свыше, в назначенное время, либо принимают от врагов насильственную, а иногда и мучительную преждевременную смерть. Сергий Радонежский сумел победить во всех битвах с приспешниками князя тьмы и с ним самим. Явление Богородицы и причащение Преподобного Божественным Огнем можно рассматривать как Высочайшее одобрение его Победного завершения земной миссии, как духовное Вознаграждение за труды и борьбу на благо русского народа и человечества.
Суммируя все вышесказанное, мы приходим к убеждению, что предсмертная тяжелая болезнь святого Сергия есть недоброжелательное измышление агиографов-переделывателей епифаниевского «Жития».
Преподобному Сергию надо было достойно завершить свои земные дела. Важнейшими из них были выбор и назначение преемника, игумена родного монастыря, и поучение братии, которое фактически становилось наставлением (заветами) многих и многих монахов других монастырей: таков был тогда авторитет Преподобного Сергия. О назначении преемника и похоронах Сергия расскажем сейчас, а заветы Преподобного рассмотрим в следующей, 19-ой главе.
В литературе о Сергии Радонежском существуют три точки зрения на то, кто же был его преемником: 1) Никон, ученик Сергия, с 1392 г. до своей смерти; 2) Савва Сторожевский (1392 – 1398 гг.); 3) Никон, очень краткий срок, возможно, измеряемый несколькими месяцам, затем Савва (1392 – 1398 гг.) и снова Никон (1398 – 1428 гг.). Во всех редакциях «Жития» преемником называется Никон, ставший игуменом еще при жизни Сергия, в период с марта по сентябрь 1392 г. Подавляющее большинство исследователей разделяют эту точку зрения. «Похвальное слово» не называет имени преемника святого Сергия. Из известных исследователей Древней Руси только Б. М. Клосс считает Савву Сторожевского первым после Сергия игуменом Свято-Троицкого монастыря: «Сергий перед смертью назначил своим преемником Никона, но тот «возжеле в безмолвии пребывати» (очевидно, не по своей воле). «Братия же призвала на игуменство Савву, который возглавлял монастырь на Стромыни» (с. 60). Сведения эти Б. М. Клосс почерпнул, как он поясняет в сноске, из старопечатного издания (XVIII в.) «"Жития" Саввы Сторожевского» в котором называется и срок игуменства Саввы в Свято-Троицком монастыре (6 лет). Все это важно, но Б. М. Клосс оставляет в тени главный вопрос: по чьей же воле преемник нарушил завещание своего Учителя о том, где и как его надо похоронить? Неужели по желанию братии, призвавшей на игуменство Савву? Именно к такому ответу мягко склоняет читателя Б. М. Клосс. Третья точка зрения изложена в Троицком патерике 1896 г. издания: «Так почил на Никоне дух Сергия, который сперва возложил на него часть своих попечений под своим смотрением, а наконец, за шесть месяцев до своего преставления, совершенно передал ему начальство над своею лаврою» [234]; вся братия любила Никона, но он стал тяготиться славой и ушел в безмолвие; после него братия избрала Савву Сторожевского, то ли в 1392 г., то ли в 1393 г., и Савва игуменствовал до переселения его на Сторожу «в 1398 г. или в 1399 г.» (с. 86); в Сторожевский монастырь он ушел по настойчивой просьбе князя Звенигородского Юрия Дмитриевича, и тогда братья «со слезами умолили» Никона снова стать игуменом Свято-Троицкого монастыря. Как видно, никто никого не принуждает поступать против своей воли, однако, каким-то образом получается, что нарушается воля Учителя, преподобного Сергия. Виноватых нет, конфликтов нет, все чинно-благородно, и грех нарушения завещания Сергия совершается как бы сам собой. Понятно, что авторы Троицкого патерика, как и Б. М. Клосс чего-то недоговаривают.
Наша точка зрения на движение преемников святого Сергия близка к точке зрения, изложенной в Троицком патерике, только вопрос о причинах смены преемников видится нам в ином свете.
Братия! Говорю по рассуждению человеческому: даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему.
Апостол Павел
Похоронного завещания преп. Сергия и даже упоминания о нем нет ни в одной редакции «Жития», хотя оно там, несомненно, должно быть как выражение его воли. Как понять это гробовое молчание агиографов? Одно бесспорно: завещание решительно не понравилось руководству церкви, причем не только митрополиту Киприану, но и его преемникам в XV-XVI веках.
Слава Богу, завещание сохранилось в «Похвальном слове» Епифания Премудрого. Вот полный текст: «Егда же приспе время преставления его, заповеда учеником своимь и не повеле имь в церкви положити ся, нъ вне церкви тако просто повеле погребсти ся съ прочими братиами» (с. 279). Перевод: «Когда же пришло время его преставления, завещал он и повелел своим ученикам не в церкви положить его, а так просто похоронить вне церкви, вместе с прочими братьями». Характерно для Сергия, что он мысленно видел свою могилку «простой», обычной, на общем монастырском кладбище, то есть под светом Солнца, звезд и луны, под зеленым и снежным шумом деревьев и трав, среди птичьего многоголосья, при свободном доступе к могиле каждого человека. И после смерти преп. Сергий хотел быть с теми, кому он с любовью служил всю жизнь. Завещание было в полном согласии с душой Сергия. Преподобный хотел, чтобы образ его захоронения, видимый и осознаваемый, соответствовал образу его жизни и смыслу его подвига, посвященного Богу и людям. Завещание говорило ясно: похоронить просто, вместе со всеми монахами, то есть не надо пышного надгробия (раки) и пышных похорон, ибо в земной жизни покойный не был золотоносцем, не любил почестей и славы, таким же хотел бы он остаться и в памяти народной. Какой была жизнь до смерти, такой пусть будет и жизнь после смерти: как в сознании людей, так и – добавим мы – в Мире Тонком. Все по правде, все справедливо – в полном согласии с Законом Кармы, с законом воздаяния добром за добро. Как же отнеслись к похоронному завещанию Преподобного его ученики? «Братия же, слышавше сиа от святого (т. е. завет о его погребении. – А. К.), зело скръбни быша и о сем въспросиша пресвятейшего архиепископа. Тогда же бе въ преславнем и пресловущем, в велицем граде Москве, украшаяй престол пресвятый и преславная Владычица наша Богородица, преосвященный Киприан митрополит» (с. 271). Туманный текст. Подразумевается, что все монахи были опечалены завещанием их Учителя, то есть не соглашались с ним и все пришли к митрополиту. Однако, слово «все» отсутствует, и это позволяет думать, что, конечно, пришли к Киприану лишь делегаты, и что, наверное, преданные Сергию ученики были против нарушения его завещания. Можно не сомневаться, что им было хорошо известно то наставление апостола Павла об отношении к завещанию, которое мы предпослали этой главе в качестве эпиграфа, и что у Киприана они ссылались на это наставление для подтверждения своей точки зрения. Однако не сказано, что митрополит принял делегатов и обсуждал с ними острый вопрос об исполнении похоронного завещания Преподобного. Напротив, есть одно слово в тексте, которое позволяет сделать вывод, что Киприан единолично (и это согласуется с его характером) решил отменить завещание Преподобного: «Порассмотрев и рассудив сам в себе (значит, сам с собой. – А. К.), како и где погребется блаженный, и благослови и повеле им положить его въ церкви на правей стране; еже и бысть» (с. 279). По прямому смыслу текста о визите к митрополиту ясно, что беседы не было. Киприан сам с собой, то есть, мысленно «обсудил» оба главных вопроса предстоящих похорон преподобного Сергия – как, т. е. на каком уровне почитания, и где надлежит быть ему погребену. После этого митрополит отдал соответствующие распоряжения, но в «Похвальном слове» сообщено только об одном. Вопрос об организации и проведении похорон обойден, оставлен без ответа. Впрочем, из позднейшего рассказа о похоронах можно сделать определенные выводы на этот счет.
Туманность, недоговоренность текста, типично пахомиевское выражение «еже и бысть», именование Свято-Троицкого монастыря «лаврой» (такой статус он получил только в XVI в.) говорят о правке епифаниевского текста его позднейшими редакторами. Но более всего об этом свидетельствует внутренне противоречивая аргументация, оправдывающая приказание Киприана похоронить Преподобного в церкви. Аргументация распадается на две логически не связанные части – первую (меньшую) и вторую (большую). Вначале обосновывается повеление Киприана похоронить Преподобного в церкви, «ю же самь създа, и въздвиже, и устрой, и съврши, и украси ю всякою подобною красотою, и нарече сиа быти въ имя Святыа, и Живоначялныя, Неразделимыя, и Единосущныя Троица» (с. 279). Все остальное обоснование (10 строк, или 2/3 рукописной страницы) преследует совершенно иную цель – доказать необходимость погребения Преподобного в пределах монастыря: «въ честнемь его монастыри, и пресловущей лавре, велицей ограде (не вполне ясное выражение. – А. К.), и в славней обители, ю же самь съгради, и совокупи, и устрой; иде же братию събра, словесное стадо Христово, и спасеную паству упасе...» и т. д., длинно, малосодержательно говорится все об одном и том же.
Одно из двух: либо Преподобный завещал его похоронить одного, в лесу, по примеру многих подвижников – в этом случае приведенная во второй части аргументация оправдана; либо в завещании об этом речь не шла – и тогда вся длинная тирада о погребении на территории монастыря нужна разве лишь для того, чтобы навести слепого на бревна: мол, тут что-то не так, как должно быть. Но первое «либо» допустить невозможно: оно противоречит началу завещания о погребении вместе с братьями-монахами и вообще выламывается из образа Преподобного. Остается второе «либо», и его надо бы разгадать. Главная трудность в том, что в аргументации, помимо позднейших вставных слов, есть и стилистическая правка, о чем можно судить по словосочетаниям, не свойственным Епифанию. Да, он украшал свой слог синонимическими рядами и близкородственными образами, но не тавтологическими выражениями («спасенную паству пасе», повседневная и нощныя пениа и благодарениа славословяше и Бога въспеваше»). Мы полагаем, что весь рассказ о подготовке к похоронам Преподобного основательно отредактирован в послеепифаниевское время. Показательно словосочетание «и велицей ограде». Из «Жития» мы знаем, что монастырь был огорожен и у ворот дежурил привратник. Отдельно – это видно по рассказу «О некоем поселянине...» – был обнесен забором и монастырский огород, который обрабатывали сами монахи. Но неясно, сколько было оград, две, три или больше: забор вокруг келий (?), забор вокруг огорода – это малые заборы, а была, видно, еще «великая ограда», охватывающая всю монастырскую территорию, все строения и всю обрабатываемую землю. Определение «великая» подразумевает и «малую» или «малые ограды» – это бесспорно. Бесспорно, что братьев-монахов хоронили на монастырском кладбище, но неясно, было ли оно обнесено отдельным забором.
Остается, значит, не проясненным главный вопрос, похоронено ли тело святого Сергия внутри церкви или на монастырском кладбище. Свидетельства источников различны.
«Похвальное слово»: «Положено же бысть тело преподобного в церкви, ю же сам създа...» (с. 279).
Одновременно «Похвальное слово» кого-то настойчиво уверяет, что святого Сергия похоронили «в монастыре, в великой ограде» (там же).
«Житие»: «Положиша же честное его тело въ обители, иже от него създанней» (ПЛДР, с. 404 )
«Положишь же честное его тело въ монастыри, иже от него създанем» (Первая пахомиевская редакция, с. 374).
И здесь не говорится о погребении тела Преподобного в церкви. Разночтения можно понять и как согласные между собой: церковь находится в монастыре, и потому, мол, похоронить в церкви означает похоронить в монастыре. Но неясность остается, ибо выражение «похоронить в монастыре» вовсе не тождественно выражению «похоронить в церкви». Дополнительный свет на проблему проливает рассказ «О обретении мощей святого отца Сергиа» в Третьей пахомиевской редакции: «И тако раскопаша землю и открывше чудотворный онъ гробъ, вкупе же и благоуханна араматъ духовныхъ исполнишяся. И видяше чюдное тело... Святого цело и нетленно, ...и одежда его... цела бяше вся... Сътвориша же праздник радостенъ месяца июля въ 5 день и в раку (выделено мною. – А. К.) честно съ псалмопениемь тело положишя святого» (с. 419). Затем игумен Никон, посовещавшись с князем Юрием Дмитриевичем с «съ священным соборомъ» строит каменную церковь «над гробом чуднаго отца». Когда церковь построили, то «в ней положишя в раце честное и многоцелебное тело святого» (с. 419). Но и после этого рассказа остается неясным, где была могила Преподобного и где стояла рака с его мощами в течение того времени, пока строилась новая, каменная церковь. Дополнительные разъяснения читатель может получить в Троицком патерике: «Радостнейшимъ венцемъ и сладостнейшею наградою терпения и тру-довъ преподобнаго Никона было проявление и благодатное прославление нетленных мощей преподобнаго Сергия; а заключительнымъ подвигомъ – создание, вместо деревяннаго, каменнаго храма Пресвятой Троицы... Мощи на время были поставлены въ деревянномъ храме... Святые мощи преподобнаго Сергия перенесены въ новый храмъ при самомъ его освящении» (сс. 75-76, выделено мною. – Л. К.) Мощи были открыты 5 июля 1422 г., каменный храм построен к 25 сентября 1422 (?) года и тогда же освящен; следовательно, мощи находились в старом, деревянном храме... месяцев. Однако и после всего вышеизложенного не вполне прояснился главный спорный вопрос: ведь землю могли раскапывать и внутри деревянной церкви, если там за 30 лет до этого погребли тело Преподобного в обыкновенном гробу, а не в «раке».
Две подробности, о которых мы еще не сообщили, склоняют все же к тому, что преподобный был похоронен в сентябре 1392 года не в церкви, а на общем монастырском кладбище: 1) большое стечение народа при открытии мощей; 2) отсутствие упоминания, что князья, и священники, и прочие люди входили в церковь.
Третья пахомиевская редакция: «И тако услышано бысть повсюду, и стекошася с радостию великою дръжавнии князи, священнии сьбори, иноци же и простолюдие от многых странъ» (с. 419).
Зададимся простым вопросом: если преподобный действительно был в 1392 г. погребен в церкви, то почему бы об этом не сказать в «Житии», причем дважды, один раз в рассказе о похоронах, а второй – в рассказе об открытии мощей? Но не сказано нигде, кроме «Похвального слова». А зачем же сказано тут? Завещание Преподобного о похоронах было известно монахам, и молва, конечно, широко разнесла весть об этом необычном решении. Скрыть этот факт и снять ответственность с митрополита Киприана значило переложить ее на Никона, но он, келейник и преемник Преподобного, конечно, не мог с этим согласиться. Так, мы полагаем, возник острый конфликт между Никоном и Киприаном. Игумен Никон, поступив в соответствии с последней волей Учителя и в согласии с поучением апостола Павла, отдал распоряжение похоронить Преподобного на общем монастырском кладбище. Взбешенный Киприан (таков уж его характер) настоял на удалении Никона с поста игумена Свято-Троицкого монастыря, и братии пришлось «избрать» вместо него Савву Сторожевского. Так, вполне реалистично, объясняется неожиданное желание Никона «принять обет молчания» после примерно полугодового игуменствования. В этой связи получает большой вес первое из двух главных наставлений игумена Никона братии: «первое: неизменно и съ любовью исполнять все, что учредилъ и заповедалъ святый основатель обители» (Троицкий патерик, с. 71). Никон, конечно, исполнил похоронное завещание Преподобного и выполнил свое первое наставление братии, но ценой «розмирия» с властным Киприаном. Конфликт, конечно, стал известен всюду, и слава Никона необычайно возросла. «Кротостью въ поступкахъ, почтительностью въ управлении, мудростию въ распоряженияхъ и советахъ, не только приобрелъ онъ любовь и уважение братии своей, но и далеко за ограду обители распространилось о нем благоговейное мнение и слава» (Троицкий патерик, с. 71).
Никон ушел в «безмолвие», затворился «въ особую келию» (там же, с. 72), вероятно, в том же 1392 году. Но через шесть лет он снова стал игуменом Свято-Троицкого монастыря. Это решение Никона Троицкий патерик объясняет компромиссом в его душе «закона братолюбия» (с. 72) со стремлением к безмолвному «богомыслию»: «...и преподобный (Никон. – А. К.) уступил желаниям братии (снова стать игуменом. – А. К.), съ тем же условием, чтобы они уступили ему из каждого дня неко торую часть, которую назначалъ он для безмолвного богомыслия и слезной молитвы» (там же, с. 72). Если б только в этом было дело, Никону, мы думаем, не пришлось бы оставлять игуменский пост в 1392 году. Троицкий патерик не проясняет важный вопрос: как отнесся митрополит Киприан к согласию Никона снова стать настоятелем Свято-Троицкого монастыря? Без Киприана этот вопрос не мог быть решен. Значит, он санкционировал просьбу братии и согласие Никона. Но почему? Прямого ответа мы нигде не нашли. Однако ответ имплицитно содержится в последующих действиях игумена Никона. За шесть лет безмолвия существенно изменилось отношение Никона к важнейшим заветам Преподобного. Первым был нарушен им завет о нестяжании имущества: «Нет прямых указаний о приобретении Троицким монастырем каких либо владений при игумене Савве (1392 – 1398 гг.), хотя при нем Сторожевский монастырь села имел. Политика монастырских властей резко изменилась при игумене Никоне (1399 – 1428 гг.). Монастырь приступил к широкой скупке пустошей, деревень, и сел, получал на них различного рода льготы от великого князя и удельных князей. Ряд земельных владений поступил в виде вкладов «на помин души» (Клосс, с. 68). Так рухнула главная опора духовной трудовой общины, и развитие пошло в ложном направлении, чреватом социальными взрывами. Вслед за нарушением одного завета Преподобного были нарушены и два других. Игумен Никон перенес мощи преподобного с монастырского кладбища в новую церковь, а сама эта церковь, светлая и просторная, была сооружена так же в прямом нарушении соответствующего завета святого Сергия (с. 277). Преподобный Никон не выдержал испытание временем: ему не хватило мужества, а, главное, мудрости для глубокого осознания первостепенного значения завета Преподобного о нестяжании «имениа от тленнаго богатства» (с. 277), а значит, и заповеди Христа о любви к ближнему.
Киприан знал, что делал: он разрушал апостольское отношение к заветам вообще и к заветам Сергия Радонежского, в частности. Нарушив один из них, он тем самым открывал путь для нарушения других, действуя по схеме: если один завет ошибочен, значит, не может быть уверенности в том, что истинны другие. Всякое начало несет в себе закон продолжения.
18.3. В последний путь – с народом, без священноначалия
Горе вам, книжники и фарисеи, ...вы по наружности кажетесь праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.
Новый Завет
Епифаний запечатлел в «Похвальном Слове» несколько примечательных фактов, относящихся к похоронам Сергия Радонежского. «...Собралось множество людей из городов и многих местностей, ... князья, и бояре, и прочие вельможи, и почтенные игумены, попы и дьяконы, множество иноков и прочего народа» (с. 280). но не было ни великого князя Василия Дмитриевича, ни митрополита Киприана, ни архиепископов и епископов, – в противном случае они, несомненно, были б упомянуты Епифанием. Не было и архиепископа Ростовского Федора – ученика и племянника Сергия. Это наводит на мысль, что епископат получил соответствующую рекомендацию от митрополита – соблюдать чиновный ранжир: ведь умерший был всего лишь игуменом... И потому на его похоронах не было ни одного лица саном выше игумена. Отсутствие великого князя объясняется, на наш взгляд, просто: он был молод и не мог по достоинству осознать ни подвигов покойного, ни его великого значения для Руси. Киприан же «не мог ценить... нашей славы» [235], так как он был византиец по образованию и опыту жизни, так как на Руси он защищал интересы не Руси, а Византии и Литвы. Отсутствие высшего клира на похоронах Сергия Радонежского ясно говорило: мы не пришли потому, что мы не с ним, не с его заветами. Собравшиеся должны были понять (в меру своей подготовленности), что клир с митрополитом будут противодействовать последователям Сергия Радонежского воплотить его заветы в жизнь. Противодействие многообразно проявилось в дальнейшем: в отходе Обители от нестяжательного жития, в исчезновении документов канонизации Сергия Радонежского и даже летописной записи о ней, в борьбе стяжателей и нестяжателей, в решительном повороте церковной политики к обогащению священноначалия.
«Невозможно представить себе злотолкования, которыми сопровождается каждое великое Служение!» [236]. Особенно, когда за дело возьмутся начальники киприановского склада души, сребролюбцы и книжники, изощренные в ханжестве. Киприановское лицемерие характерно проявилось и в его распоряжении о том, «как и где похоронить» (с. 279) Преподобного. С одной стороны, митрополит якобы оказывает честь игумену Сергию, повелев похоронить его не вне, а внутри храма, а с другой – ни сам святитель и никто из высших священнослужителей не приходит проводить в последний путь Великого Пророка Руси.
Митрополит повел за собой епископов. Среди них были, конечно, и такие, кто при жизни Сергия имели «к нему веру и любовь» (с. 281), но после его смерти, как намекает Епифаний, эту веру и любовь утратили. Отступников было много. И даже разорение Свято-Троицкого монастыря во время нашествия Едигея, которое было, разумеется, сделано «Божиим попущением» и, следовательно, должно бы было послужить церковным властям грозным предупреждением, не заставило их вернуть Обитель на истинно сергиевский путь чистой, трудовой, нестяжательной жизни. Они так и не осознали всерьез, что желание жить за чужой счет и без пользы для ближнего несовместимо с желанием спасти свою душу. «Сколько радости в чувстве, что можно восхищаться добром ближнего. Но сколько тьмы в личном присвоении Общего Блага» [237].
Тех, кто не переменили своего доброго отношения к Сергию Радонежскому после его преставления, было также немало. Они пришли проводить его в последний путь и создали на похоронах атмосферу высокой торжественности и глубокого почитания...
Повеление Киприана о похоронах игумена Сергия ясно выражало отрицательное отношение митрополита к общенародному почитанию Преподобного. Киприан, похоже, не считал его ни Пророком, ни великим подвижником. Более того, митрополит пошел на отмену завещания Сергия о его похоронах, что было первым публичным оскорблением его памяти, его имени.
Конечно, Сергий Радонежский (и не только он) знал о неприязненном отношении к нему митрополита Киприана. Когда Киприан в третий раз приехал в Москву (1390 г.), преподобный Сергий был жив и здоров. Два года Киприан имел возможность, если бы захотел, встретиться с Сергием Радонежским – и тогда запись о встрече была бы внесена в митрополичью летопись. Но этого не произошло, и ясно почему. Их отношения испортились во время совместного пребывания в Твери, в чем уже невозможно сомневаться после демонстративного невнимания Киприана к преп. Сергию в 1390 – 1392 гг., после совершенно незаконной отмены похоронного завещания Сергия и неучастия Киприана и высшего духовного клира в похоронах Преподобного.
Отмена похоронного завещания Святого Сергия и уход Никона, преемника по волеизъявлению Сергия, с поста игумена – вот два факта, которые его противники могли толковать как новые «доказательства» неблаговоления Высших Сил, ранее якобы выразившегося в тяжкой болезни Преподобного перед его кончиной. Так действительные факты недружелюбного отношения к Преподобному служили укреплению вымысла агиографов о предсмертной болезни.

19. ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА И ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
Кто из остальных святых так любим Богом, как этот Преподобный Сергий? Он для меня и первый и последний в нынешнее время; его Бог послал в последние времена перед концом жизни и нашего рода человеческого, его Бог прославил в Русской земле перед окончанием седьмой тысячи.
Епифаний Премудрый. «Похвальное слово»
Окончание седьмой тысячи лет от сотворения мира приходилось на 1492 год, а Преподобный Сергий умер 25 сентября 1392 гола, когда по тогдашнему летоисчислению уже началась (с 1-го сентября) последняя сотня лет жизни человеческого рода вообще. Епифаний написал «Похвальное слово» не позднее 1412 года, то есть за 80 лет до ожидавшегося конца света. В древнерусской письменности уже появились в это время описания предапокалиптических переживаний. В «Житии» (чудо потери зрения византийским епископом) и особенно в «Похвальном Слове» также сохранились рефлективные следы подобных переживаний, наложивших свой отпечаток на осмысление образа Сергия Радонежского.
То ли Епифаний, то ли агиограф (скорее всего, Пахомий), работавший в сороковых – семидесятых годах XV века над «улучшением» епифаниевского оригинала «Похвального Слова», связывает само рождение Сергия Радонежского с «последними временами» Земли. Мы склоняемся к тому, что установление такой связи принадлежит отчасти Епифанию, а отчасти позднейшему агиографу, потому что связь эта определяется в «Похвальном Слове» неодинаково.
Первое определение таково: «...иже на немъ удиви Бог милость свою и дарова намъ видети такова мужа свята и велика старца, иже бысть въ дни наша» (с. 276). «Въ дни наша» – первая итоговая констатация связи великого подвижника со своим временем, связи широкой (его слава вышла за границы православного мира – с. 274), глубокой и многообразной (от низов народа до князей и архиепископов – с. 275). Определяется и качество этой связи: Святой Сергий – носитель блага, радости и света для всех, «источникъ благопотребный» (с. 274), труженик, подвижник.
Далее связь святого со временем расширяется, а значение его жизни выносится за рамки современности, охватывая «время нынешнее» в широком понимании: «Несмь бо азъ виделъ въ дни сиа, и в нынешняа времена, и въ наша лета сицева мужа свята, и съвръшена въ всяко дело благо, и украшена всякою добродетелию всяческы. Яко же от прочихъ святыхъ иже кто възлюбленъ есть от Бога, яко же съй преподобный Сергие. Сый ми есть и первый, и последний въ нынешняа времена; сего Богь проявил есть в последняа времена на скончание века и последнему роду нашему, сего Богь прославилъ есть в Рускои земли и на скончание седмыя тысяща» (с. 278). Здесь сняты все пространственные ограничения славы святого Сергия, вместе с тем Русская земля выделена в роде человеческом тем, что благоволением Бога она стала Родиной великого Святого. Совсем особое, исключительное значение жизнь Сергия Радонежского получает потому, что она была, по мысли агиографа, приурочена к завершению истории человечества как достойнейший образец для людей. Поэтому Епифаний и говорит о святом Сергии, что ныне совершеннее его никого нет и уже не будет. Конечно, явление столь великой святой души на Руси прославляет ее и народ русский, и это Епифаний особо и с удовлетворением отмечает.: «...яко же бы кто могл исповедати о преподобнемь семь отци нашем и великом старци, иже бысть въ дни наша, и времена, и лета, и въ стране и въ языце нашем поживе на земли аггельскымь житиемь» (с. 276).
Епифаний ясно пишет об общечеловеческой славе земного подвига Преподобного: «Толико бо Богь прослави угодника своего не токмо в той стране, в ней же святый живяше, но и въ иных градехъ и далних странах, и въ всех языцехъ от моря даже и до моря, не токмо в Царьствующемь граде, но и въ Иерусалиме. Не токмо едини православнии почюдишася добродетельному житию преподобного, но и невернии мнози удивишася благопребывательней жизни его: бяше бо Бога възлюби всем сердцемь своимь и ближняго своего, яко и сам ся. Равно бо любляше всех и всемь добро творяше, ...И мнозие к нему прихождааху, не токмо ближний, но издалече и от далних градовъ и странъ, хотяше видети, слышати слово от него, и велику ползу и душевное спасение приемлюще от поучениа и делъ его» (с. 274). Епифаний ценит явно уважительное удивление «неверных» (это слово имеет здесь широкое значение – от язычников до иноверцев), которое они проявляют к личности Преподобного, к его всеобъемлющему добротворению, к всеобъемлющей человечности, к любви без различия наций и религий. Приведенная выше цитата дает право говорить о широкой веротерпимости Сергия и Епифания. Она, думается, распространялась не только на «неверных», но и на католиков, хотя Епифаний и молчит об этом – по понятным причинам. Именно молчит, но не порицает их – и в этом тоже мы видим (при напряженных отношениях между православными и католиками) добрый знак религиозной терпимости преподобного Сергия и Епифания.
Таково, по мнению Епифания, общечеловеческое значение и международное влияние на умы святого Сергия. К сожалению, дальше в текст постепенно, но все более и более явно вносится иное понимание святого Сергия, умаляющее, а затем и принижающее его. Рассмотрим эту работу неизвестного нам агиографа в таком порядке, который избрал он сам.
«Чернечьствова же 50 лет съ всякым прилежаниемь и въздержаниемь, не леностию когда съдржимь, нъ съ бодростию и со мноземь трезвением, и многыхъ превзыде добродетелми и исправлении своими. Что же наше житие или что наше пребывание противу святого подвигомь и прочим добродетелем? Ничто же есть наше чрьнечество, и наша молитва яко стень есть. Колико растоание имать востокъ от запада, сице намь неудобь есть постигнути житиа блаженаго и предивнаго мужа. Сице ти есть житие его и сицевы труды его, и исправлениа, и подвизи, и потове, и мнози болезни» (с. 278). В кратком подведении итогов, речь, конечно, идет о самом главном. И что же агиограф отмечает? «Всяческое прилежание и воздержание» – это на первом месте; на втором – отношение к труду: никогда не ленился, трудился бодро, в трудах и в терпении опередил всех иноков и многих превзошел в добродетелях и деяниях. Все это хорошо и достойно, но среди названных качеств нет ни одного выдающегося, ничего, что возносило бы преподобного Сергия хотя бы на уровень общерусского святого. Поэтому крайнее самоуничижение автора, противопоставляющего себя и всех монахов «блаженному и предивному мужу» Сергию воспринимается как нарочитое и неискреннее. И потому оно смиренно лишь внешне, лишь по форме славословия, но не по сути. Оно не было свойственно Епифанию, который всегда подчеркивал равноправие в отношениях между Сергием и монахами.
Следующий шаг к умалению образа Сергия сделали его ученики, монахи Свято-Троицкого монастыря, якобы обратившиеся к Киприану с просьбой... отменить похоронное завещание Преподобного, что митрополит и учинил. Агиограф подает это таким образом, будто все усердно заботятся о достойных посмертных почестях Преподобному. И при этом будто бы никто не ведает, как надо по-христиански относиться к завещанию Святого. Но за хлопотами о внешнем почитании Преподобного просматривается желание отдалить его от простых людей и отнять у него подлинное величие – славу властителя дум и сердец человеческих. И снова, во второй раз, агиограф (не Епифаний) подытоживает житие святого Сергия, подытоживает в словах выспренних, но малосодержательных, превознося его «непрестанныя молитвы» и «повседневные и ночные пения и благодарения» (с. 279) во славу Бога и т. д., в духе канона обычного преподобнического жития. В целом жизнь преподобного Сергия оценена как «многострадальная» (с. 279), что полностью расходится с ее епифаньевской характеристикой, в которой сделан акцент на добротворческом и радостетворческом наполнении Сергиева жития.
Лирическое отступление («Не взыска Царьствующаго града...» – с. 279), которое многие атрибутируют Епифанию, на наш взгляд, не могло быть им написано, и вовсе не потому, что он не был то ли в Константинополе, то ли на Афоне, то ли в Иерусалиме (он вполне мог бы там быть), а потому, что это отступление построено на мнимом и отчасти ироничном противопоставлении хождений к Святым местам постоянному, якобы неотлучному пребыванию преподобного Сергия в Свято-Троицком монастыре: «Не взыска Царьствующего града, ни святой Горы или Иерусалима, яко же азъ, окаанный и лишенный разума. Уву люте мне! Ползаа семо и овамо, преплаваа сюду и овуду, и от места на место преходя; нъ не хождааше тако Преподобный, нъ в млъчании добре седяше и себе вънимааше: ни по многымь местомь, ни по далнимь странамь хождааше, нъ въ единомъ месте живяше и Бога въспевааше нъ паче всего възыска единого истиннаго Бога...» (с. 279). Какое странное и чрезмерно самокритичное лирическое отступление автора! Ведь паломники к святым местам считали великим счастьем для себя поклонение дорогим святыням, и они там изливали душу в любви к Богу. За что же корит себя автор? И как уничижительно пишет он о себе: «Ползаа семо и овамо...» – ведь не гадам ползающим достойно было бы уподобить паломников, а птицам небесным, летящим на свою родину. Вовсе не сидел святой Сергий молчальником в своем монастыре, а деятельно ходил по Руси, участвуя в религиозных и государственных важнейших начинаниях. Если считать самым превосходным достижением самоуглубление и славословия Богу непременно на одном и том же месте, то к числу тех, о ком так усиленно сокрушается агиограф, надо прибавить, кроме него самого, и апостолов, и Иисуса Христа, исходившего пешком чуть ли не весь Израиль. Логическая и психологическая несостоятельность противопоставления, положенного в основу лирического монолога, наводит на мысль, что не случайно отсутствует в «Похвальном слове» оценка миротворческих походов святого Сергия: ведь даже простое упоминание о них было бы фактическим опровержением пафосного, но расходящегося с истиной монолога агиографа. Широкие благотворные связи Преподобного с современниками подменены в монологе уединенной жизнью в монастыре, где игумен Сергий якобы «в молчании благостно сидел и внимал самому себе» (с. 279)... И так тоже пишется история.
Похороны Преподобного убедительно показали, сколь широко и искренне было его почитание на Руси: «Князи и бояре, и прочий велмужи, и честнии игумени, попы же, и диакони, и инокъ множество, и прочий народи съ свещами и с кандилы проводиша честно священныя его и страстотерпическыя мощи...» (с. 280). Но похороны ясно показали также, что митрополит, и епископат, и великий князь Василий Дмитриевич не имеют любви к Преподобному, а потому они не пошли проводить его в последний путь. Уровень церковных посмертных почестей (как «погребется») предопределил на долгое время отношение Церкви к памяти Преподобного, что сказалось, прежде всего, на отношении к епифаниевскому «Житию», к епифаниевскому «Похвальному Слову», на последующих их переработках.
Принципиальной переделке подверглась та часть «Похвального Слова», где идет речь о посмертной жизни Преподобного. Тут явственно видны два слоя текста, епифаниевский и неепифаниевский, и соответствующие им две точки зрения на загробную жизнь Преподобного. Епифаний: «Помяни нас, недостойных, у престола Вседръжителева. Не престай моляся о нас къ Христу Богу, тебе бо дана бысть благодать за ны молитися... Се бо мощий твоих гроб пред очима нашима видимь есть всегда, нъ святаа твоя душа невидимо съ аггельскыми воинствы, съ бесплотными ликы, с небесными силами у престола Вседръжителева и в лепоту достойно веселится» (с. 281). Место Преподобного определено дважды – «у престола Вседержителя» – куда же выше? Место, соизмеримое с деяниями величайшего святого последних времен.
Постепенно агиограф-редактор инкрустирует в текст «Похвального слова» словосочетания и фразы, намечающие (вначале в общем плане) иное представление о месте святого «на небеси» и о том, кто, кроме праведников, может уповать на жизнь в небесных селениях, близ Бога. Это представление излагается вначале в монологе неназванного пророка (от слов «Душа праведных в руце Божий...» и кончая словами «...Боже, зело утвръдишася владычьствиа ихъ» – сс. 281-282), а затем в монологе некоего праведника (от слов: «И рече праведникъ...» и заканчивая словами «Блажени кротци, яко ти наследят землю и обладают ею» – с. 282). В обоих монологах немало скрытых цитат из Библии и аллюзий с евангельскими текстами. При этом явно обнаруживается намерение агиографа – «поселить» в небесных домах Господа как можно больше верующих. Агиограф теперь защищает право на «поселение» не только для смиренных, кротких и праведных, но и для «истинно призывающих Бога, ...Который волю боящихся Его исполнит, молитву их услышит и спасет их» (с. 282). И далее следует вывод: «И так вот будет благословен человек, боящийся Господа... и водворится под кровлей Бога небесного» (с. 282). О благоволении Бога к боящимся Его говорится в Ветхом Завете. Агиограф почти дословно приводит цитату из Псалтири (Пе, 60:4, 5) о благословении боящихся Бога. И пусть в Библии нет утверждений о том, что все боящиеся Бога будут после смерти в Царствии Небесном, но агиограф логично мог сделать и сделал такой вывод сам. Конечно, вывод этот очень широк – кто же из верующих не считает себя боящимся Бога, особенно перед близящимся концом света? Но истинную любовь надо подтвердить добрыми делами и надо также выдержать немало испытаний на пути в небесные селения. Именно поэтому Иисус Христос и приводит девять различных притч на тему о том, кто может, кто достоин войти в Царствие Небесное, и во всех притчах вопрос этот решается не самим верующим, а Господом на Страшном Суде, перед Вторым Пришествием Христа на Землю. Однако агиограф полностью обходит вопросы об испытаниях и Страшном Суде. В монологе праведника агиограф еще более расширяет круг верующих, которым уготовано жить в Доме Господа: «Ако всем есть веселящимся житие у Тебе и источник животу» (с. 282) («для всех радующихся есть жилище у Тебя и родник жизни»). Радующиеся без какого-либо ограничения (например, определением их духовности) после смерти оказываются в небесном Доме Господа. Кто же из верующих не будет отнесен ни к боящимся Господа, ни к любящим Его или радующимся? Понятно, что лишь малая часть христиан будет лишена счастья вечной жизни.
Затем агиограф, минуя тему Страшного суда, словно запрещенную в последние времена перед концом света, от монолога праведника переходит сразу к теме земной жизни будущих наследников обновленной Земли. Вот каким образом агиограф, объединяя, отождествляет небожителей с теми, кто унаследует Землю: «Яко всем есть веселящимся жилище у Тебе и источник животу. Блажени живущей в дому Твоемъ: в векъ века въсхвалят Тя. Блажени кротци, яко ти наследят землю и обладаютъ ею» (с. 282). Тут монолог праведника заканчивается, и далее автор уже от своего имени непосредственно продолжает и развивает мысль о «наследниках и обладателях Земли»: «Яве, яко праведници, и кротци, и смирении сердцемь, ти наследять землю тиху и безмълвну, веселящу всегда и наслажающу, не токмо телеса, нъ и самую душу неизреченнаго веселиа непрестанно исплъняюще, и на ней вселятся въ векъ века» (с. 282). Перевод: «Ясно, что праведники и кроткие, и смиренные сердцем наследуют землю тихую и безмолвную, веселящую всегда и услаждающую, не только тела, но и сами души несказанным веселием постоянно питающую, и на ней поселятся навсегда» (ПЛДР, с. 429). Уточним еще раз, о наследовании какой Земли идет речь. В концовке монолога есть скрытая цитата из Нагорной проповеди Иисуса Христа, в которой (а затем и в притчах) развивается Учение о Царствии Небесном. Приведем эту цитату (Мф., 5:5): «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Агиограф от себя добавил: «... и обладают ею». Добавление логично и не вызывает возражений по существу. И не в этом добавлении выразилось свободное творчество агиографа, хотя оно и нарушает неприкосновенную святость первоисточника и тем бросает тень на автора (Епифания, ибо «Похвальное слово» подписано его именем). Агиограф более выразительно и значимо, хотя и не вполне явно проявил свою свободную волю в другом. Его изображение будущей счастливой жизни на Земле по сути своей отличается от евангельского представления о ней.
Из Учения Христа ясно следует, что в Царство Небесное пройдут только те люди, кто после Страшного Суда будут признаны правыми, достойными высшей жизни на Земле без грешников, участь которых тоже определена четко: они будут выброшены «во тьму вечную» (Мф., 22:13) на вечные мучения. Из Четвероевангелия и из Апокалипсиса Иоанна следует, что наступлению Царства Небесного будут предшествовать планетарные катастрофы, очищающие Землю. Однако агиограф пишет о жизни в небесных селениях и на обновленной «тихой и безмолвной» (без людей) Земле так, будто ничего не знает о христианском понимании этих проблем. Полное умолчание агиографа о них можно, пожалуй, объяснить тем, что в 60-е гг. XV в., то есть лет за 25-30 до ожидавшегося конца света, в среде верующих были, похоже, столь острые переживания за свою судьбу и судьбу детей, за спасение душ, что агиограф посчитал за лучшее вовсе не касаться раскаленной темы, а изобразить переход от жизни грешной и временной к жизни счастливой и вечной как безболезненный процесс. Он так широко раздвинул круг землян, наследников обновленной планеты, что отпала необходимость в суде над ними и что среди них затерялись праведники и святой Сергий.
И еще одно принципиальное отступление агиографа от евангельских представлений о конце света состоит в том, что он, обойдя, кстати сказать, и тему воскресения мертвых, видит наследников Земли в плотных телах, для которых, как и для их душ, уготованы неизреченные радости и наслаждения. Напомним, что Христос ясно говорит о воскресении не в плотных, а в ангельских телах, и потому не ведет речи о телесных радостях: «Иисус сказал им (саддукеям. – А. К.) в ответ: чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божий, будучи сынами воскресения» (Лк., 20:34-36).
Агиограф и еще в двух существенных аспектах отступает, на наш взгляд, от евангельских представлений о земной жизни после воскресения умерших. Из притч Христа о пшенице и плевелах, об уподоблении Царствия Небесного рыбной ловле неводом и 10 девам следует, что многие люди, (может, половина, пять дев из десяти) переживут катастрофические события на Земле и войдут по благословению Христа в число наследующих новую Землю. Однако агиограф иначе представляет себе жителей новой Земли. Он пишет о ее насельниках только как о тех, кто придет из Царствия Небесного на безмолвную, то есть обезлюдевшую, тихую Землю. И далее агиограф пишет о новой жизни как о жизни нетрудовой, проходящей в сплошных радостях, наслаждениях и славословии Бога. Такого представления также не найти в Новом Завете, и потому мы полагаем, что оно принадлежит не Епифанию, а агиографу, близкому по взглядам Пахомию, или самому Пахомию, который в рассказе о благоуханных хлебах обещал монахам (от имени Бога) полностью усладить их едой, и житьем, и прочим в ответ на их усердные славословия Богу. Свои представления о веселой, беззаботной жизни монахов, агиограф вполне по-язычески перенес на посмертную жизнь всех насельников и обладателей Земли, которые были достойны, по его мнению, жизни в небесных селениях.
В самом конце «Похвального слова» святой Сергий якобы высказывает такие же мысли, как агиограф, и тем самым авторитетно подтверждает их истинность: «Тако и съй преподобный отец наш Сергие того ради вся краснаа мира сего презре и сиа въжделе, и сиа прилежно възыска, землю кротку и безмлъвну, землю тиху и безмятежну, землю красну и всяко исполънь утешениа, яко же сама истина рече в святомь Еуагелии: «Толцай отвръзе себе, и ищай обрящеть бесценный бисеръ», рекше Господа нашего Иисус Христа, и Царство Небесное от Него въсприятъ, его же буде всемъ намъ получити благодатию Господа нашего...» (с. 283). Перевод: «Так и преподобный отец наш Сергий ради того же все красивое и прекрасное в мире здешнем презрел, а возжелал со всей силой обрести землю кроткую и безмолвную, землю тихую и безмятежную, землю прекрасную и наполненную всякими радостями и удовольствиями, о чем истинно сказано в святом Евангелии (Мф., 7:7): «Стучите, и отворят вам, ищите и найдете бесценный жемчуг», то есть Господа нашего Иисуса Христа, и Царствие Небесное от Него воспримут, и пусть будет дано всем нам получить это Царствие по Благодати Господа нашего Иисуса Христа...» Эпитет «всяческими» вместе с представлением агиографа о воскресении людей в плотных телах ясно говорит о том, что имеются в виду, прежде всего, удовольствия телесные; к тому же определение «духовные» не дано в сочетании с радостями, а к сочетанию с «удовольствиями» это определение вообще не подходит.
Таким образом, агиограф-редактор, завершая создание своего образа Сергия Радонежского, приписывает ему свое же представление о том, что будто он в земной, подвижнической жизни, отказываясь от всего прекрасного и приятного, руководствовался мыслью о посмертном получении за это воздаяния – компенсации радостями и удовольствиями. Такую же жизнь, как это следует из приобщения к Царствию Небесному всех веселящихся людей, получат и монахи-любители пива и «благоуханных хлебов с маслом». Спрашивается, к чему тогда воздержание от мирских радостей и духовное самосовершенствование? Разве не лучше будет получить все удовольствия и тут, и там, в посмертной жизни? На наш взгляд, именно эта затаенная, прямо не высказанная мысль и есть лейтмотив всех поправок агиографа-редактора, внесенных в концовку епифаниевского «Похвального слова». Эту мысль мы считаем языческой, а не христианской: русичи-язычники веровали, что в ином мире они продолжат без всякого Суда свою жизнь, ничего в ней и в себе не изменяя, ни образа жизни, ни обычаев, ни устремлений. Христос же утверждал Царствие Небесное лишь для людей достойных, а всех негодных осуждал и извергал «во тьму внешнюю»; Его отбор людей для жизни в небесном Доме Господа был весьма строгим. Таким образом, агиограф разрушает Учение Христа о Царствии Небесном, то есть самую сердцевину Евангелий.
Может, в процессе переделок языческая мысль осталась в тексте просто по недосмотру? Мы были предрасположены к такому объяснению, ибо странно как-то атрибутировать агиографу-монаху языческие вставки в тексте. Но этому объяснению противоречат все выше приведенные инкрустации, логично закрепленные в самом конце «Похвального слова»: «Царство Небесное от Него (Христа. – А. К.) въсприятъ, его же буди всемъ намъ получити благодатию Господа нашего... (с. 283. Выделено мною. – А. К.).
Кому же это «всемъ намъ»? Можно понять столь щедрое обещание по-разному: 1) как всем монахам, ибо агиограф – монах; 2) как всем стучащим и ищущим, потому что о них ведь говорилось ранее; 3) как всем веселящимся, ибо им агиограф уже твердо обещал жилище в небесных селениях Бога («у Тебе»). Заведомо неопределенный смысл, который имеет словосочетание «всем нам», позволяет читателю толковать его как можно шире, к чему, понятно, весьма склонен любой человек и тем более веселящийся – кому же не хочется попасть в Царствие Небесное, причем без трудов и хлопот? И особенно перед концом света?
Лукавство агиографа, пытавшегося при помощи неприметных инкрустаций исказить текст Епифания с целью соответственного искажения образа святого Сергия, было наказано своеобразной слепотой. В итоге постепенных сдвигов смысла отдельных предложений и фраз, приведших к целенаправленному изменению общего смысла концовки, получилась редкостная нелепица, будто в посмертной жизни Сергий Радонежский будет иметь две вечных (!) жизни: 1) Се покой мой въ векъ века, зде вселюся; изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже жити ми в селах грешничих» (с. 282); 2) «Яве, яко праведници (к ним относится и Преподобный. – А. К.) , и кротци, и смирении сердцем ти наследять землю... и на ней вселятся въ векъ века» (с. 282, выделено мной. – А. К.). Таким образом, получается, что первую вечную жизнь Преподобный проживет в небесном Дому Господа, а вторую – на Земле безмолвной.
Из последней цитаты заметно, что не один Преподобный, а все праведники будут жить, по представлению агиографа, две вечные жизни. Разумеется, такого абсурда нет в Евангелиях, потому и не было в Епифаниевском «Похвальном слове». Тут возникает вопрос, осознавал ли неизвестный агиограф, что его переделка «Похвального слова» искажает данное Христом Евангелие Царствия Небесного? Наверное, осознавал, так как все его инкрустации носят целенаправленный характер, то есть являются преднамеренными. К тому же он был человеком образованным и не мог не понимать ясного смысла притч Иисуса Христа о Царствии Небесном: оно, это Царство дается только избранным, достойным (в Апокалипсисе даже названо число этих счастливцев, отмеченных особой печатью (144 тыс. – От., 7:4), а не всем веселящимся, не «всем нам». Если же агиограф осознавал свою работу не только как переделку епифаниевского текста, но и как пересмотр Учения Христа о Царствии Небесном, то какая сила, какие причины подвигли его на такое инакомыслие? Как видно по «Похвальному слову», он верил, что живет перед концом света, и не исключал возможности лично для себя испытать все близкие катастрофы. Вероятно, он относил себя не к малому числу праведников, подобных великому Сергию, а к большинству верующих, любящих Бога, но и согрешающих (порой или всегда) пристрастием к земным прельщениям. И он, будучи в состоянии напряженного ожидания ужасного конца света, наверное, захотел ободрить себя, а заодно и большинство верующих обещанием легкого Царствия Небесного и последующей радостной жизни на «безмолвной» Земле. Разве такое обещание не доброе, не милосердное дело? И кто осудит его за это? Сила смертного страха, которую агиограф сам помогал внедрять в души людей, чтобы сделать их покорными церкви, теперь, в канун Страшного Суда, обуяла его самого, побудила на пересмотр Евангелия Царства Небесного. Со страху агиограф «отменил» Страшный Суд, ни словом не упомянув о нем, со страху агиограф изготовил языческо-христианскую ободрительную окрошку духа из Учения Христа о духовно-нравственном совершенствовании человека, смешав в одной куче спасенных праведников и боящихся Бога, кротких и веселящихся, смиренных и «всех нас» – от подвижников до любителей земных обольщений, подобных Стефану или Митяю. «Несовершенны в любви боящиеся» Бога – слово «Бога» добавили мы, но оно не противоречит, на наш взгляд, мысли апостола Иоанна: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся не совершен в любви. Будем любить Его потому что Он прежде возлюбил нас... и мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1 Ин., 4:76-21). В основе изображения неизвестным агиографом посмертной жизни людей лежит идея всеобщего отпущения грехов перед близким концом света. По своей сути это та же самая идея, что породила в католической церкви печально известные индульгенции, но только осуществленная щедрой душой, данная людям бесплатно и безо всяких предварительных условий, а не в качестве награды за участие в крестовом походе против инаковерующих или просто за определенную денежную сумму. Еще и то общее между двумя идеями об отпущении грехов, что прощались не только совершенные, но и несовершенные грехи за годы вперед, что обесценивались, утрачивали смысл исповедь, и пост, и само причащение.

Яко же от прочихъ святых иже кто възлюбленъ есть об Бога, яко же съй преподобный Сергие?.. Учителемь Учитель.
Епифаний Премудрый
Всей Рускои земли нашеи учитель и наставникъ.
Троицкая летопись
Как бы ни болело серлце русское, где бы ни искало оно решение правды, но имя Святого Сергия Радонежского всегда останется тем прибежищем, на которое опирается душа народа.
Николай Рерих
Истинный биограф Сергия Радонежского, Епифаний Премудрый, был на той встрече Преподобного с братьями родного монастыря, когда он говорил последнее напутственное слово. Оно было, несомненно, записано Епифанием «памяти ради». Но исчезла запись, как исчез и протограф епифаниевского «Жития Сергия». Однако все это не пропало бесследно, а сохранилось на вечных небесных скрижалях Акаши для будущего человечества. И наши потомки в Шестой Расе смогут «все это», как и многое-многое другое, уничтоженное людьми, узнать и порадоваться, и обогатить свое сознание. Но нам сегодня, в трудное время перехода к Шестой расе человечества, возможно только приблизиться к познанию заветов Преподобного, высказанных в напутственном слове, приблизиться к их сути, главным образом, путем осмысления его деяний: ведь в них скрытно, в словесно неоформленном виде, продолжают жить его принципы, которыми он руководствовался в жизни.
20.1. В одном слове – целое мировоззрение
Агни Йога есть доброслужение.
Живая Этика
Значительное и вовсе не случайное совпадение: жизнь Сергия Радонежского была именно служением добру, что, к счастью, запечатлелось в разных редакциях его «Жития», хотя и в предельно сжатой форме.
В первой пахомиевской редакции предсмертное наставление Сергия Радонежского охарактеризовано локоничнейше: «...и призва всю братию и поучивъ их о плъзе» (с. 374). Но спустя несколько лет Пахомий в Третьей редакции, а после него лет через 80 и Аноним расширили рассказ о последнем напутствии Преподобного. «Он (Сергий. – А. К.) призывает священное братство и новособранное стадо. И беседу повел подобающую, и дав наставление о добре, говорил о неуклонном пребывании в православии, завещал единомыслие друг с другом хранить, соблюдать чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную, остерегаться злых и скверных похотей, вкушать пищу и напитки трезвенные, не забывать о страннолюбии, избегать пререканий («съпротисловия удалятися»), и не ценить почести и славу жизни сей, но вместо этого от Бога ожидать воздаяния и наслаждения небесными вечными благами. И многому другому он поучал»...(с. 403-405, перевод ПЛДР с некоторыми моими изменениями. – А. К.). Текст Анонима почти дословно совпадает с текстом Пахомия в его Третьей редакции.
Сопоставим эти тексты между собой и с текстом «Похвального слова». Первое и, пожалуй, главнейшее наблюдение состоит в том, что наставление о добре (пользе)есть во всех сопоставляемых редакциях «Жития» и в «Похвальном слове». И хотя в редакциях именно об этом наставлении сохранилось лишь краткое упоминание, но ценно, что как раз с него всюду начинается предсмертная беседа преподобного с монахами и что в Первой пахомиевской редакции кратчайшее высказывание о добре составило все содержание беседы. В «Похвальном слове» нет словосочетания «поучение (наставление) о добре», но зато тут даны на пяти страницах из десяти (по Клоссу) самый обширный перечень и самая полная характеристика многообразнейших добрых дел Святого Сергия. Многообразию дел соответствует и многообразие определений, в составе которых есть слова-синонимы «добро», «благо», «польза». Приведем некоторые примеры: «иже за премногую его добродетель людемь на ползю бысть многымь, многымь на спасение» (с. 273); «...грешникомь кающимся верный поручитель и всемь притекающимь к нему, акы къ источнику благопотребну» (с. 274); «добродетельное житие» и «благопребывателняа жизнь преподобного» (с. 274); «равно бо любляше всех и всем добро творяше» (с. 274); «и мнози к нему прихождаху... и велику пользу и душевное спасение приемлюще от поучениа и делъ его;» (с. 274). Число подобных примеров можно увеличить в несколько раз, но вряд ли это целесообразно. Однако принципиально важно отметить, что примеры и оценки добрых дел Святого Сергия выражают основное идейно-религиозное содержание «Похвального слова», которое само обусловлено предшествующей характеристикой Сергия Радонежского как ревностного продолжателя дела Иисуса Христа («...и усръдно Христу последова, и Богь възлюби его» – с. 272).
Древнерусское выражение «поучив их о плъзе» означает «дал им наставление о добре», ибо слово «плъза» в древнерусском языке имело три основных значения – польза, добро и благо, причем как в материальном, так и в духовном измерении. Для Святого Сергия так же, как и для его владыки, Иисуса Христа, три названных значения осмысливались в жизни, прежде всего, как Общее благо. Что касается Христа, то каждый знающий Новый Завет согласится с тем, что Христос и Общее благо всех людей неразделимы, ибо Его любовь к человеку распространяется – в отличие от понимания любви к ближнему в Ветхом завете (Лев., 19:18, 34) и понимания языческого – на всех, кто живет под Солнцем: «Вы слышали, что сказано (далее Христос имеет ввиду Ветхий завет. – А. К.): люби ближнего твоего и ненавидь врага своего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами отца Вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. «Итак будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Мф., 5: 43, 44, 45, 48). Такое понимание любви, а значит, и Общего блага относится, по сути, ко всей Вселенной, и потому оно совпадает по смыслу с живоэтическим пониманием Общего блага как блага эволюционного развития Космоса. И это совпадение неудивительно, ибо Христос является одним из Великих Учителей человечества и великим сотрудником космической Иерархии Света, одним из Тех, Кто дал Новое Учение Живая Этика и Кто будет руководить человечеством в Шестой расе.
Ни Христа, ни святого Сергия вовсе не заботило личное накопление материальных благ. Сергий Радонежский был на Руси первым монахом – последовательным сторонником нестяжательства: «...и ничто же не стяжа себе притяжания на земли, ни имениа от тленнаго богатства, ни злата или сребра, ни сокровищь, ни храмов светлых и превысокых, ни домовъ, ни селъ красных, ни риз многоценных» (с. 277). Но зато он «более всех других» (с. 277) накопил богатства нетленного – сил и способностей духа. Он так очистил душу от всякой скверны, что стал «храмом Бога живого» (с. 277).
Аноним и Пахомий (в Третьей редакции «Жития») расширили рассказ о предсмертном наставлении преподобного Сергия, и потому оправданно возникает вопрос, не является ли это расширение полным или частичным вымыслом. К постановке такого вопроса подталкивает и конкретное содержание некоторых добавлений, отсутствующих в Первой редакции. И Пахомий, и Аноним акцентируют завет о «неуклонном пребывании в православии». Завет этот не был актуальным при жизни Преподобного Сергия. И только в 40-е – 50-е гг. XV в. (митрополитство Исидора и Флорентийская уния) возникла реальная опасность ослабления православия, то есть тогда, когда создавалась Пахомием Третья редакция «Жития Сергия». Ересь жидовствующих (конец XV в. и первая четверть XVI в.) снова актуализировала опасность подрыва православия – теперь уже со стороны последователей иудаизма. Вот эти злободневные акценты, ощущаемые в «Житии», и склоняют нас к тому, что завет о «неуклонном пребывании в православии» так же, как идущий за ним завет о сохранении единомыслия, скорее всего, добавлены в епифаниевское «Житие» Пахомием и закреплены Анонимом. О последующих конкретных заветах («соблюдать чистоту душевную и телесную» и т. д.) можно сказать, что они направлены на ограждение сознания монахов Свято-Троицкого монастыря от дурных влияний и на соблюдение правил строгой жизни (например, «не забывать страннолюбия»), введенных преподобным Сергием. Такие заветы могли быть в напутствии преподобного Сергия, но могли и не быть, ибо монахам его монастыря они были хорошо известны, и при Сергии они соблюдались. Выделение именно этих заветов из числа «многих других» говорит о том, что спустя десятилетия после кончины преподобного они стали забываться монахами, и потому Пахомий и Аноним сочли нужным, а может, и актуальным, от имени святого Сергия авторитетно напомнить о пользе соблюдения чистоты душевной и телесной, любви нелицемерной, о пользе уклонения от скверных похотей, в частности, от употребления алкогольных напитков, о призрении больных и несчастных людей, о монашеской дисциплине, о вреде сано– и славолюбия. Последнее напоминание показательно тем, что оно относится, прежде всего, к монастырским властям. Слов нет, все эти заветы важны, но, к сожалению, агиографы не назвали гораздо более фундаментальные заветы Преподобного, которые никогда, увы, не теряли своей злободневности и несоблюдение которых привело, в конце концов, к трагедии Русской церкви.
Почему преподобный Сергий так последовательно соблюдал два взаимосвязанных завета Христа – о любви к ближнему и о нестяжательстве? Всей жизнью своей, каждым поступком Сергий Радонежский утверждал принцип неразрывной связи монаха (и, конечно, церкви) с людьми, принцип служения народу таким образом, чтобы монахи действовали как слуги народа. При Сергии Свято-Троицкий монастырь бьи рассадником жизни, труда и любви, а его игумен – активным борцом за интересы народа и Родины. Сергиев путь исключал превращение монастыря (и церкви вообще) в коллективного феодала, а священнослужителей – в господ, обогащающихся народным трудом. Сергиев путь – путь духовного трудового единения с народом, а не отрыва от него, что с самого начала было чревато революционным взрывом. Сергиев путь, его главный завет был отвергнут руководством Русской церкви, что и привело в конечном счете к отвержению церкви народом. Сергий Радонежский очищал лик Христа от золотой мишуры и от пыли себялюбия, а митрополит Киприан загрязнял Его лик этой зловредной пылью, насыщенной золотолапыми микробами, глубоко проникающими в поры души. Таким путем священноначалие вытеснило из церкви дух Христа и привело ее к разложению и крушению. Себялюбивая вера в Бога закономерно и неизбежно вела к массовому безбожию, чем и воспользовались различные силы тьмы во главе со своим Князем.
Сергий Радонежский даже отшельничество превратил в подвиг укрепления веры людей в Бога, «в служение, открытое страждущим» [238], то есть в служение Общему Благу. Без соблюдения этого коренного принципа Служение Богу и ближнему утрачивает христианский духовный смысл, превращаясь в Себеслужение. Увы, важнейший завет Сергия Радонежского был «забыт» агиографами – редакторами «Жития», но по «Похвальному слову» мы можем судить о том первостепенном значении, которое Преподобный придавал принципу Общего Блага.
Сергиева монастырская община создавалась им как прообраз будущей трудовой, духовной, «единомысленной», нестяжательной общины человечества в Шестой расе. В основу Сергиевой общины был положен принцип двуединого Служения Богу и ближнему. Постоянная помощь всем страждущим была возведена поэтому на уровень важнейшей личной заповеди, основанной, конечно, на учении Христа: «Аще сию мою заповедь съхраните без роптаниа, мзду от Господа приимите; и по отхождении моем от житиа сего обитель моя сия въ многы лета неразрушима постоит благодатию Христовою» (с. 368). Перевод (ПЛДР): «Если сохраните безропотно мою заповедь, воздаяние от Господа получите; и после ухода моего из жизни этой сия обитель моя долгие годы простоит нерушимо – по благодати Христовой». Понятно, что в основе и этой заповеди был также принцип Общего блага. Вот что об этом сказано в «Житии»: «...и елика въ обители приносимаа умножаахуся, толма паче страннолюбнаа възрастааху. И никто же бо от неимущих, в обитель приходя, тьщама рукама отхождааше» (с. 368). Перевод: «...и насколько в обители вклады умножались, настолько увеличивались расходы на страннолюбие. И никто из бедных, приходивших в обитель, с пустыми руками не уходил». Через несколько лет после кончины Сергия Свято-Троицкий монастырь стал приобретать села и крестьян, стал превращаться в коллективного феодала. Не потому ли и утратил монастырь покровительство Свыше и был основательно разрушен уже в 1408 году, во время нашествия Едигея? Конечно, преподобный Сергий, не разрешая принимать вклады недвижимостью, ясно понимал, что в монастырской общине, живущей чужим трудом, даже помощь обездоленным утрачивает благое духовное влияние и на получающих ее, и на дающих.
Итак, один из заветов Сергия Радонежского состоял в том, чтобы блюсти духовную, трудовую, нестяжательную общину, устроенную на основе специализации и кооперации труда и придающую первостепенное значение заботе о нетрудоспособной части населения. Подобная община, как учит Живая Этика, станет в Новую Эпоху главнейшей формой всемирной организации жизни на Земле, разумеется, с применением лучших современных достижений науки и техники. «Истинно, век черный кончится возглашением общины! Сергий рубил ее топором, Бёмэ колотил молоточком, Учитель Будда руками слагал, Христос мост ей приготовил» [239]. Эталоном внутреннего устроения будущей гражданской общины (конечно, без сугубо монашеских ограничений) станет Община Белого Братства в Шамбале, о жизни которой впервые в истории человечества всесторонне рассказано в Живой Этике. Знал ли Сергий Радонежский о том, что он трудится над созданием общины такого типа, который входит по своей сути в конструкцию эволюции Земли на новом витке спирали? Несомненно, знал: ведь он был посланцем Иерархии Света. Следовательно, Служение Общему Благу поднималось святым Сергием на высочайший уровень осуществления космического закона эволюции на планете Земля.
На двуедином принципе служения Богу и ближнему была основана также важнейшая миссия великого Сергия – объединение Руси вокруг одного центра и ее освобождение от татаро-монгольского ига. Исполнение этой миссии началось тогда, когда преподобный Сергий уже был прославлен как чудотворец и как победитель в борьбе между сторонниками и противниками общежительного устройства монастырей. Сергий Радонежский занял ясную позицию по кардинальному вопросу устройства Руси: он выступил на стороне митрополита Алексия и его союзников, возглавивших те силы, которые боролись за объединение Руси вокруг Москвы. Триумфом Сергиева ненасильственного пути объединения русских княжеств в централизованное государство стало заключение московско-рязанского договора о дружбе и любви «из рода в род».
Были ли государственные деяния Преподобного деяниями Общего Блага? Ныне с этим согласятся едва ли не все верующие, но многие не увидят в них именно того, что в Сергиево время вызвало смущение всего священноначалия: мудрого, мужественного, творческого применения Учения Христа в своеобразных конкретно-исторических условиях Руси, истомившейся под игом Золотой Орды. Спокойной жизни, согласной с авторитетнейшими церковными канонами, Сергий снова предпочел жизнь деятельную, напряженную, полезную для Родины. Миротворчество Преподобного содержало в себе три общечеловеческих завета, доныне сохраняющих первостепенное значение, идеологическое и практическое: 1) лучшей формой государства является такое его иерархическое устроение, когда единый центр опирается на тесное сотрудничество и взаимопомощь относительно самостоятельных регионов; 2) борьба за сохранение суверенитета государства есть неукоснительный долг каждого гражданина, в том числе и монаха; 3) ненасильственный путь разрешения конфликтов внутри народа, внутри государства – путь христианский, единственно целесообразный и наиболее эффективный. Однако, это не означает непротивления злу, тем более агрессии извне. Истинность этих заветов была утверждена самим ходом событий, направлением и идейно-религиозным содержанием всей деятельности Преподобного.
Однако митрополиты, начиная с Киприана и до Исидора, отрицательно относились к участию церкви и монахов даже в судьбоносных делах государства. В этом и надо, на наш взгляд искать причины разнообразных запретов тогдашней идейно-религиозной жизни, в том числе и изъятие из «Жития Сергия» и «Похвального Слова» даже упоминаний о миротворческих «походах» Преподобного вообще и о его участии в подготовке Куликовской битвы, в частности.
Большое видится на расстоянии. Лишь в XIX веке на Руси была высоко оценена великая роль Сергия Радонежского как духовно-нравственного наставника Руси и ее правителей. Русский народ, восприняв сердцем могучий импульс от Преподобного, в 1380-ом году встал с колен, распрямился, и истинный рост его стал виден из дальних стран. Но только в 90-е гг. XX в. в нашем народе стало постепенно шириться и крепнуть понимание решающего стратегического и психоэнергетического вклада Преподобного в победное завершение Куликовской Битвы. Это совершенно новый угол зрения на его подвиг дало Учение Живая Этика. Герой духа, он поэтому стал героем Куликовской битвы, видимо-невидимо сражавшимся вместе с воинами, но находившимся не на поле Куликовом, а на Свято-Троицкой психоэнергетической станции. В то время о такой неслыханной, сказочной и вместе с тем реальной битве Преподобного знали лишь его надземные Соратники и еще, вероятно, Князь тьмы. Люди же смогли впервые представить себе это творческое космическое деяние Преподобного лишь спустя 600 лет после его кончины. В сентябре 1380 года на поле Куликовом был победоносно завершен важнейший этап выполнения общепланетарной миссии Сергия Радонежского: Русь, русский народ сохранялись как один из основных питомников будущей, Шестой расы человечества. Свою миссию Сергий Радонежский выполнил. Но и после т. н. смерти, уже из Тонкого Мира, он продолжал и продолжает активнейше помогать народу Руси вести ожесточенную, сложнейшую борьбу за сохранение своей независимости, своего духовно-нравственного освобождения от различных форм угнетения и насилия.
Общечеловеческое значение имели и принципы духовного совершенствования Сергием Радонежским могучих сил и способностей, искони заложенных в человеке. Эти принципы нашли особенно яркое освещение в «Похвальном слове». Есть два источника человеческой силы: 1) Бог, Иерархия Света – это Первоисточник, неисчерпаемый и всемогущий; 2) сердце человека, в котором есть Божия искра, или Божественное зерно Святого Духа, – частица Божества. В Живой Этике сказано, что именно преподобный Сергий открыл великое значение сердца как незаменимого естественного инструмента духовного восхождения человека. Ныне в Живой Этике открытие Преподобного изложено в отдельной книге «Сердце» как целостное учение – религиозно-философское и научно-практическое пособие всестороннего совершенствования человека. Но уже в «Похвальном слове» проявляется ясное понимание исключительной роли сердца в осуществлении молитвенной связи и взаимодействия с Первоисточником: 1) «Кто бо ныне тако възыска Бога всемь сердцемь и от всея душа възлюби, яко же съй преподобный отецъ нашь» (с. 279), то есть Сергий Радонежский; 2) «...и свет благодатный възсиа въ сердци его, и просветися помыслъ его благодатию духовною, ея же приспеаше въ житии добродетелномь» (с. 277); перевод второй цитаты: «...и свет благодатный воссиял в его сердце, и просветилась мысль его благодатью духовной, которая споспешествовала его добродетельной жизни». То, что называется в христианстве благодатью и мистически толкуется как некая особая божественная сила, нисходящая на избранных, в Живой Этике ясно определяется как всеначальная тончайшая психическая энергия, обладающая огромной и многообразной мощью (от целительства и борьбы с мракобесием до пророчества), главным накопителем, распространителем и координатором которой является сердечный центр. Неустанное, из жизни в жизнь, очищение и воспитание сердца и мысли, приводит к открытию и гармонизации психоэнергетических центров человека, в том числе Чаши – хранилища знаний, накопленных за все прошлые жизни. Поэтому Сергию Радонежскому и любому высокому духу, например, Елене Ивановне Рерих не надо было заниматься ни т. н. психизмом, ни магией. Весь процесс совершенствования сознания и утончения материи шел через сердце и направлялся огнем духа. Это и есть серединный, золотой путь напряженного и гармоничного духовного восхождения, путь добра, любви и красоты, путь истинного подвижника (святого) – независимо от его вероисповедания.
Чистым и всеобъемлющим пламенем любви и сострадания горело сердце Сергия Радонежского. «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны и имею всякое познание и веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я, – сказал Апостол Павел, – ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том ни какой пользы» [240]. Таково христианское значение любви к Богу, к ближнему и к Богу в себе. От великой силы любви неотделимо чувство мудрой радости бытию, источником которой является понимание «одухотворения всей окружающей атмосферы» и которая, поэтому не зависит от личных обстоятельств, от удач и выгод. Любовь, радость и сострадание, – неотъемлемые качества сознания Сергия Радонежского, одеяние каждого его подвига. Не осознав этого, нельзя верно понять ни его отшельничества, ни его жертвенного труда, ни его миротворчества, ни его борьбы с хаосом и темными носителями зла.
Единство слова и дела завещал Преподобный ученикам своим: «...делами вашими благими прославить Отца вашего» (с. 274). Сам Сергий Радонежский «чему словом учил, то и делом делал» (с. 274). Он не рыцарь на час, а неустанный, великий труженик и воитель духа. Епифаний особо отмечает ровное горение подвижнического духа Сергия: «...как начал, так и закончил жизнь» (с. 275), чисто, свято, творя добро и излучая свет любви и знания.
И яко светило пресветлое възсиа посреди тмы и мрака, яко звезда незаходимая.
Епифаний Премудрый
Епифаний, назвав преподобного Сергия «звездой незаходимой», предугадал его бессмертную жизнь в народном сознании. За многие века о ней накопилось множество интереснейших фактов, и если бы все их собрать и опубликовать, получился бы солидный том рассказов о том, как деятельно и эффективно «заступник земли Русской» помогал ее народу, ее жителям в трудные времена.
Теперь, в лучах Учения Живая Этика, Учитель Учителей стал ясно виден в почти необозримых конкретных деяниях, направленных на спасение планеты Земля и обеспечение эволюции человечества. Он предстал перед нашим мысленным взором как Владыка Земли и великий Сотрудник космической Иерархии Света. Самое поразительное в Его образе, встающем со страниц «Живой Этики», писем и дневников Е. И. Рерих и Н. К. Рериха – сочетание величия и простоты, фантастической мощи и совершенной любви, слияние образа мудрого Строителя Жизни с образом бесстрашного Воителя против Хаоса и Тьмы, слияние в единый образ Творца, знающего тайну сохранения равновесия жизненных Начал и противоборствующих сил Сущего.
«Спросят: как перейти жизнь?
Отвечайте: как по струне бездну –
Красиво, бережно и стремительно»
Живая Этика, Зов
Так прожил жизнь Сергий Радонежский. Без единой ошибки. В неустанном труде и бесстрашной борьбе за Благо людей. В несломимом устремлении к лучшему будущему.
Дерзайте и вы: может получиться!
«Радостно взойдите на новую ступень времени!» (Живая Этика, Зов).
* * *
Теперь уже не за горами время, когда Учителями человечества станут Те, Кто прошел весь Земной путь, и когда под Их руководством начнет создаваться новая история Земли, полно охватывающая действительность, земную и надземную. Тогда откроются многие тайны противоборства Светлой и Темной Иерархий, а история человечества предстанет во всей полноте истины, в ее подлинной красоте и драматичности.

Подведем главные итоги. Что же совершил Сергий Радонежский для выпрямления направления движения России по предназначенному ей вечному пути эволюции? Четыре его взаимосогласованных деяния, составляющих целожизненный подвиг дают убедительный ответ на поставленный вопрос.
Варфоломей (Сергий) начал с основания: с выбора жизненного пути, с испытания веры в Бога. Отказавшись от удобножитного монашеского пути Служения Богу, он один рискнул жить в необитаемом лесу. Тем самым инок Сергий поставил свою жизнь в полную зависимость от помощи Бога. Есть в сердце безусловная вера – будет и спасение от всех напастей, и преодоление всех трудностей пустынножительства. Искренняя вера в Бога стала гарантом самой жизни Сергия. Такова была ставка в испытании веры. Силу и качество веры оценивает Бог, а не верующий. Бог и решает – быть или не быть Его благоволению. Сергий не сомневался в своей вере – и получил необходимую помощь Свыше в борьбе с Князем тьмы и бесами, в совершенствовании своих сил и способностей. Сергий победил. Живя в лесу, он продолжал свое служение ближнему, исцеляя «чудесным образом» приходивших к нему больных жителей окрестных сел.
Чудотворение убеждало многих в реальном, действенном отклике Бога на истинную веру Сергия. Стоустая молва разносила по селениям и городам неслыханную весть о смелом молодом отшельнике – целителе. Но для возрождения и упрочения веры в народе этого было недостаточно. И Сергий расширил свою деятельность.
С неутомимой энергией и мудрой основательностью принялся он за создание монашеской общины на новых принципах, всецело вытекающих из Учения Христа. Первым назовем самоотверженный труд по самообеспечению всем жизненно необходимым, вторым – нестяжательный подход к употреблению накоплений на Общее Благо (странноприимница для нищих и несчастных), третьим – духовное и нравственное единение членов Общины на основе соблюдения заветов Христа. Сергий Радонежский создавал общину как прообраз социально – экономической формы жизнеустройства в Шестой Расе и как импульс движению русского общества в этом направлении. На русской почве зерно общинной идеи постепенно набирало силу, давая разнообразные всходы, а с 20-х годов XX в. энергетический поток социального переустройства жизни на общинных началах стал захватывать многие регионы за пределами России. Однако вследствие острейшей борьбы идей и интересов на мировой арене и вследствие грубых искривлений претворения в жизнь социалистической идеи в СССР и ряде других стран «программа дала сбой», ореол общинной идеи потускнел и развитие общинного строя в мире замедлилось. Ныне Россия напряженно выправляет свой исторический путь, постепенно выруливая на линию эволюционного восхождения к новым, сужденным ей всеобъемлющим достижениям.
Еще два взаимосвязанных направления деятельности Сергия Радонежского вдохновлялись идеей спасения русского народа как самостоятельной силы мировой истории, идеей освобождения Руси от татаро-монгольского ига. Сергий, презрев церковные каноны и запреты, активно включился в неотложную борьбу за преодоление застарелых междоусобиц русских князей ради объединения Руси, накопления сил и ради централизации государственной системы управления. Здесь была самая насущная русская проблема и самый чувствительный нерв взаимоотношений с Золотой Ордой и Литвой. Сергий Радонежский предложил и отстоял мирный, переговорный путь разрешения конфликтов между русскими князьями, несмотря на то что ему дважды пришлось испытать на себе «нелюбие» правителей Руси, предпочитавших силовые методы воздействия. Борьба с противниками объединения Руси и централизации власти была ожесточенной и шла с переменным успехом. И все же ко времени решающей битвы силы Света и единения получили перевес: Русь победила орду на поле Куликовом. Сергий Радонежский стал признанным духовным вождем Руси.
Два года Русь упивалась свободой и затем снова покорилась татаро-монгольской силе. Но эти два года свободы дали народу такой мощный заряд воли, энергии и решимости добиться полного освобождения Родины, что он стойко перенес все новые, тяжелые испытания, но не отказался от освободительной идеи и в 1480 году торжествовал окончательную победу над Ордой. Так был оправдан историей одобренный миротворцем Сергием курс на объединение русских сил и на решительную борьбу с угнетателями, на централизацию системы власти.
Ныне Россия снова в центре напряжения силовых линий всемирной борьбы света и тьмы, охватившей и планету, и Тонкий Мир. Противоборство, как утверждается в «Живой Этике», находится на решающем этапе (либо – либо) и может закончиться только поражением темных сил, земных и надземных. От воли и устремления человечества зависит, завершится ли этот этап без больших потерь или мракобесным силам удастся вызвать планетарную катастрофу, которая хотя и приведет к поражению их самих, но ценой неслыханных человеческих жертв. Однако Россия не погибнет и станет в новом мире ведущей державой.

1. От имени Владыки Земли Учение Живой Этики дано людям как руководство и последнее испытание в преддверии неизбежного наступления новой, Шестой ступени в эволюции Земли и человечества. Живая Этика рассматривает святого Сергия как одного из воплощений Владыки Земли с особо важной, всемирно-значимой миссией. Принципиально новые суждения о Сергии Радонежском в Живой Этике получают силу свидетельства, ибо святой Сергий и автор Живой Этики – один и тот же Великий Планетарный Дух, одна и та же бессмертная Великая Индивидуальность.
За рубежом книги Живой Этики были изданы, в том числе, и на русском языке, в 30-е – 50-е гг. XX века, но в нашей стране – лишь в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века. С этого времени, совпадающего с 600-летием со дня смерти Сергия Радонежского, в России начинается широкое издание всего корпуса книг, составляющих Живую Этику, а также и сочинений, и писем первых русских адептов Нового Учения, Е. П. Блаватской, Е. И. Рерих и Н. К. Рериха.
2. 17 октября 1949 года завершилась давно предсказанная битва между Владыкой Земли, Великим Святым Духом, и Сатаной, который «был изгнан из нашей Солнечной Системы» (Рерих Е. И. У порога нового мира. – М.: МЦР, 1996. – С. 171). Армагеддон, продолжавшийся 18 лет, окончился поражением Врага человечества.
3. Живая Этика, Община, 122. Здесь целесообразно дать контекст данной цитаты. «Указать надо о качестве требуемого знания. Знание должно быть безусловно. Каждая условная, связанная наука причиняет неповторимый вред. Свободное соединение элементов даст новые достижения.
Кто может предписать химику пользоваться лишь одной группой элементов? Кто может заставить историка и философа не касаться исторических фактов? Кто может приказать художнику употреблять лишь одну краску? Знанию все открыто.
Единственным преимуществом в областях знания будет большая убедительность и привлекательность. Если хотите увлечь вашим знанием, сделайте его привлекательным, настолько привлекательным, чтобы книги вчерашнего дня показались сухими листьями. Победа убедительности избавит от несносных запретов».
4. Живая Этика, Община, 122.
5. Живая Этика, Община, 122.
6. Книга «Криптограммы Востока» впервые была издана в 1929 г. на русском языке в Париже (изд-во Половецкого и К0) под псевдонимом Жозефина Сент-Илер. Этот псевдоним придумала Е. И. Рерих по требованию издателя, отказавшегося выпустить в свет книгу без указания имени автора (см. ее письмо А. М. Асееву от 8 сент. 1934 г. – «Оккультизм и йога», т. 1. – М.: «Сфера», 1996. – С. 106).
7. Тема личного, индивидуального начала в житиях рассмотрена в исследовании Дмитриева Л. А. «Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XII – XVI вв.», с. 259, 268 и др. в общем плане (как проблема формирования личности в литературе Др. Руси). Эта тема исследовалась многими учеными, и в последнее время А. И. Клибановым в книге «Духовная культура средневековой Руси» (М.: «Аспект Пресс», 1996. – С. 109-206).
8. «Новую редакцию Жития Варлаама Хутынского, Похвальное слово ему и службу, а также Похвальное слово и службу празднику Знамения Богородицы в Новгороде» Пахомий Логофет написал по заказу новгородского архиепископа Евфимия II (своего первого заказчика). «В 1460 г. (?) Пахомий вновь посетил Новгород и по поручению архиепископа Ионы написал Житие, Похвальное слово на Покров Богородицы, службу Антонию Печерскому, а также дополнил свои прежние произведения.
В 1462 г. через Москву отправился в Кирилло-Белозерский монастырь для работы по поручению великого князя Василия Васильевича и митрополита Феодосия над житием основателя этого монастыря Кирилла Белозерского...
В 1472 г. Пахомий по поручению великого князя Ивана III и митрополита Филиппа I написал Слово и два канона в связи перенесением мощей митрополита Петра, чуть позже составил редакцию жития князя Михаила Черниговского и боярина Федора, в 1473 году составил канон Стефану Пермскому».
Сведения взяты из книги М. В. Ивановой «Древнерусские жития конца XIV – XV веков как источник истории русского языка». – М., 1998. – С. 92-93.
9. Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра. – М., 1909. – С. 7.
10. Клосс Б. М. Житие Сергия Радонежского. – М.: «Языки русской культуры», 1998. – С. 148.
Мы рассматриваем список «Похвального слова» из Собрания Н. С. Тихонравова (№ 705), опубликованный в книге Б. М. Клосса. Этот список был изготовлен не в 50-х, а в 60-х годах XV века.
11. Библия, 2 Кор., 6: 9,10.
12. 1) Das Neue Testament. – Berlin. 1876, с. ИЗ; 2) «Ewangelie i dzieje apostolskie». – Krakow, 1917. – C. 339; 3) «Bibli svata, v Praze, 1923, podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613; Novy zakon pana a spasitele naseho Iezise Krista. – C. 66.
13. Живая Этика, Мир Огненный, 1, 582. Контекст цитаты таков: «Срам стране, где учителя пребывают в бедности и нищете. Стыд тем, кто знает, что детей их учит бедствующий человек. Не только срам народу, который не заботится об учителях будущего поколения, но знак невежества... Так Говорю, так Повторяю, что народ, забыв учителя, забыл свое будущее. Не упустим часа, чтобы устремить мысль к радости будущего. Но позаботимся, чтобы учитель был самым ценным лицом среди установлений страны. Приходит время, когда дух должен быть образован и обрадован истинным познанием. Огонь у порога».
14. Салтыков-Щедрин М. Е. Господа Головлевы. Сказки. – М.: «Художественная литература», 1985. – С. 462.
15. Клосс Б. М. Житие Сергия Радонежского. – М.: «Языки русской культуры», 1998. – С. 148.
16. «Оккультизм и Йога», т. 1. – М.: «Сфера», 1996. – С. 106.
17. Рерих Е. И. Письма. – Новосибирск: «Вико», 1993. – С. 105.
18. Библия, Лк., 1:59-66.
19. Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1. – С. 287. «Текст печатается по рукописи МДА, № 88, пропуски восполняются по списку МДА № 50 (или по смыслу) и и заключаются в квадратные скобки».
20. Имеется в виду цитата («...трею лет въведена бысть в церковь Святаа Святых пречистая Дева Мария»), взятая из апокрифа о Богородице (см. Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. – СПб., 1890. – С. 297).
21. В пятом слове «Просветителя» И. Волоцкий характеризует триединство сущности Святой Троицы словами «царственное, господственное и владычественное», то есть так же, как и анонимный агиограф.
21. «Тринитарную концепцию» «Жития Сергия» наиболее полно развивает Кириллин В. М. в книге «Символика чисел в литературе Древней Руси (XI – XVI вв.)». – СПб.: «Алетейя», 2000. – Сс. 174-222). Он утверждает, что эта концепция оказала глубокое влияние на «Житие» – от мелких лингвистических и стилистических единиц текста (слова, синонимы, метафоры, повторы и т. д.) до крупных (число глав, сюжет, композиция). На наш взгляд, эти утверждения расходятся с фактами.
Начнем с тех фактов, которые мы уже рассмотрели. Священник Михаил привел не три, а четыре приуподобления из Ветхого Завета, но одно из них (о пророке Иеремии) ученый опустил и при этом – что характерно для него – не объяснил, почему он так сделал. Вот еще пример. Обет Марии и ее супруга отдать дитя в монахи не приуподобляется Епифанием поступку Анны-пророчицы, матери пророка Самуила; этот обет не подкрепляется соответствующей цитатой из Библии, и Епифаний приводит не три, а одно приуподобление. Но В. М. Кириллин обходит этот случай. И еще пример. Мы уже упоминали, что в первой подборке имеется приуподоблений не 12, а 13 (о пророке Самуиле, Давиде, дважды об Илии, об Ионе, о трех несгоревших в печи отроках, о пророке Исайе, о пречистой деве Марии, четырежды о Христе и о Святой Троице), но одно из них исследователь, не называя, исключает из подборки. Снова умолчание и снова без объяснения. Исследователь символики «Жития» опускает самый неудобный для него факт: если бы агиограф в своих повторах (цитат, синонимов, синтаксических конструкций и т. д.) действительно руководствовался тринитарным принципом, он не упустил бы наивыгоднейшего, наиубедительнейшего доказательства. Толкуя о том, что троекратное проглаголание младенца во чреве матери предсказывало его будущее (ученик Св. Троицы и игумен м-ря Святой Троицы), агиограф, однако не три, а пять раз говорит об этом (устами священника Михаила, ангела, автора (дважды) и Стефана, брата Варфоломея), причем, предсказаний в точном смысле слова лишь два (Михаила и ангела); остальные же – просто напоминания.
Примеров опровержения триадных построений исследователя можно привести немало. Любознательный читатель легко найдет их сам. Мы же приведем еще один, последний пример и на этом остановимся. Исследователь утверждает, что: «в тексте Епифания Премудрого нашла воплощение... и триада предсказаний», и приводит в подтверждение три предсказания ангела о будущей жизни Варфоломея в беседе с его родителями (сс. 190-191). Однако и здесь исследователь умалчивает о том, что ангел до этой беседы дважды предсказал самому Варфоломею, «яко от сего дня дарует ти Господь умети грамоту». Причем, эти предсказания не являются точным повторением одного из будущих, включенных исследователем в триаду: «...яко по моем отшествии узрите отрока добре умеюща всю грамоту и вся прочаа разумевающа святыа книгы». Конечно, следовало бы объяснить читателю, почему ангел самому Варфоломею лишь дважды предсказывает овладение грамотой. Всего же ангел делает пять предсказаний. Ответ, на наш взгляд, прост и ясен: агиограф вовсе не думает о триадном принципе и его потаенном смысле даже при описании самых ответственных событий в жизни св. Сергия. Но такой ответ не устраивает исследователя, задавшегося целью доказать всеобщее стилистическое и конструктивное значение тринитарного принципа. Обратимся теперь к логике исследователя. После того как он внушительно утвердил свою мысль о том, что «...тринитарная концепция пронизывает все содержание «Жития» (с. 180), что «...тринитарная концепция сочинения... обусловлена... тринитарной концепцией жизни героя» (с. 181), он делает несколько оговорок. Рассмотрим важнейшие. «Надо сказать, семантический фон троической символики, подсвечивающий повествовательную ткань "Жития", не равномерен» (с. 181, выделено мною. – А. К.). И далее исследователь поясняет, что он имеет в виду под неравномерностью семантического фона. «Особая насыщенность отличает его в первых трех главах анализируемого текста, что объясняется, по-видимому, мистико-предвещательным значением описанных здесь событий» (с. 181). Разъяснение означает, что во всех других главах сочинения читатель найдет не особую, а обычную насыщенность этого фона символикой. При рассмотрении последующих глав «Жития» очень часто вообще не находим нумерологической символики. Возьмем для примера главу, пожалуй, с наиболее предвещательным значением – «О посещении Богоматере къ святому». Здесь нет нумерологических триад ни малых, ни средних, ни больших. Святой Сергий молится Богоматери один раз, предупреждает своего келейника о Ее грядущем явлении один раз, Богородица обращается к Сергию один раз, келейник просит Сергия объяснить чудесное явление один раз. Впору говорить о господстве символики числа один. В молитве Сергия триадная цепочка определений лишь одна, а всех определений пять, но они приводятся по отдельности или по два вместе. Видение Богородицы определяется Сергием двумя эпитетами, а несказанный Свет, исходящий от Богородицы, тоже не определяется триадой. Сопровождают Богородицу не три, а два апостола и т. д., и т. п. Конечно, исследователь каждую строку «Жития» перечитал не один раз, но почему же тогда он не рассмотрел ни одного факта, не укладывающегося в триадную концепцию?
Вторая оговорка: «...повествовательная структура эпизода о троекратном крике последовательно повторяется при оформлении целого ряда других эпизодов; ...действительно, присущая эпизоду о чудесном крике диалогизированная форма, конструктивным принципом построения которой является триада чередующихся вопросов и ответов или вообще каких-либо взаимонаправленных речей применяется Епифанием Премудрым... неоднократно» (сс. 184-185, выделено мною. – А. К.). Если такой оговоркой сопровождать проникающую мощь тринитарного принципа, то тогда нетрудно будет отыскать триады эпизодов и диалогов в сочинениях почти каждого автора, независимо от его отношения к нумерологии вообще и тринитарности в частности. Число три засело в головах людей прочно еще с языческих, дохристианских времен, когда оно тоже имело свое символическое значение. Заранее можно сказать, что в большинстве сочинений (как и в «Житии») число нетриадных эпизодов и диалогов превысит число триадных.
Оговорка третья: «...само чудо (троекратное проглаголание. – А. К.) в рамках агиобиографии выполняет функцию мотивирующего фактора, – как дальнейшего сюжетного развития действия, так и введения в текст некоторых отвлеченных рассуждений оценочно-комментирующего назначения» (с. 185). Конечно, есть логика развития сюжета, но непросто отыскать единое основание этой логики. Когда же оно найдено, должна быть доказана его пригодность для обоснования последовательности движения сюжета в целом, особенно на крутых поворотах. Но исследователь тройственной символики пренебрег доказательствами, ограничившись постулированием своей идеи. Мы утверждаем, что его идея дает много «сбоев», начиная с четвертой главы и далее. Что же касается мотивировки «некоторых отвлеченных рассуждений», то, действительно, несколько примеров привести можно, но ведь избирательная применимость даже в своей ограниченности может быть утверждена лишь после анализа мотивации всех отвлеченных рассуждений. Однако ученый не сделал этого, и тем подорвал саму основу своего утверждения.
Заканчивая комментарии, мы хотим привести одно поразительное обобщение исследователя. Он утверждает, что тринитарная концепция «Жития» санкционирована самим Богом: «Но, решая ее (свою основную задачу. – А. К.), он не столько повествует о жизни и деяниях великого подвижника, сколько проповедует исполнившиеся на нем «дела Божий», причем проповедует, по собственному признанию, с помощью самого Бога, Богоматери и лично преподобного Сергия. Так что та тринитарная концепция, которая пронизывает все содержание «Жития» – будучи выражена прямо и мистико-символически, – должна была восприниматься вовсе не как воплощение замысла агиографа, но как ниспосланное ему – по его же молитвенной просьбе (см. Предисловие2) – откровение Господне. Таково мнение автора. И этого нельзя забывать при анализе созданного им текста» (с. 180). Очень несложно убедиться в том, таково ли мнение автора; для этого мы приведем фрагмент, на который сослался сам исследователь (см. Предисловие2), но не процитировал его. Перевод текста, взятый из ПЛДР, мы считаем верным по смыслу: «Теперь же, если Бог поможет, хочу приступить к рассказу, начиная от рождения Сергия, и поведать о его младенчестве, и детстве, и юности, и об иноческой жизни, и об игуменстве, и до самой кончины его, чтобы не забыта была жизнь его, чистая, и тихая, и богоугодная. Но сомневаюсь, боюсь приступить к написанию повести, не смею и недоумеваю, как начать писать, ведь свыше сил моих дело это, ведь я немощен, и груб, и неразумен.
Но, однако, надеюсь на милосердного Бога и на молитву угодника его, преподобного старца, и у Бога прошу милости, и благодати, и дара слова, и разума, и памяти. И, если Бог даст мне это, и вразумит меня, и научит меня, своего раба недостойного, то не отчаюсь я получить милость Его благую и благодать Его сладостную. Ведь Он может творить все, что хочет, может даровать слепым прозрение, хромым исцеление, глухим слух, немым речь. Так и мое помрачение ума он может просветлить, и мое неразумие поправить, и мое неумение умением сделать во имя Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего: «Без Меня вы не можете ничего сделать; ищите и найдете, просите и получите». Господа Бога Спаса и Помощника на помощь призываю: Он есть Бог наш, великодатель, подающий благо, Дарователь богатых даров, Наставник в премудрости и Дающий разум, неученых Учитель, учащий людей разуму, дающий умение неумеющим, дающий молитву молящемуся, дающий просящему мудрость и разум, дающий всякое дарование благое, дающий дар на пользу просящим, дающий незлобивым хитрость и отроку юному чувство и ум, проповедание же слов Его просвещает и разум дает младенцам. Здесь кончаю предисловие, Бога вспомнив, и на помощь призвав его: хорошо с Богом начать дело, и с Богом кончить его, и с Божьими рабами беседовать, и о Божьем угоднике повесть писать. Начнем же с основания, примемся за рассказ, чтобы приступить к повествованию; уже о жизни старца с Божьей помощью начинаем писать так» (с. 263, 265). В молитве автора вообще не говорится о тринитарной символике. Перед нами обычное для житий (и не только для них) молитвенное обращение к Богу. Оно, насколько мне известно, никем не отождествлялось с одобрением Бога, причем, с таким, что каждая часть жития, например символика тройственных чисел, считалось бы одобренной самим Богом. Если принять эту крайнюю точку зрения, тогда и любой текст тех, кто переделывали епифаниевский оригинал следует считать одобренным Богом. Но ведь у Пахомия вообще нет признаков тринитарной концепции, нет и некоторых чудес, описанных у Анонима – выходит, Бог отрицал то, что Сам же ранее утвердил? Так вместо Бога-повелителя получается Бог-слуга, угождающий каждому, кто обращается к Нему с молитвой о помощи. При этом, конечно, не имеет значения, была ли молитва записана на бумаге или она была мысленной. Наверное, исследователь тоже молился Богу перед началом своего труда, но следует ли отсюда, что все им написанное – Истина?
Нельзя не обратить внимания на то, что символика тройственных чисел не занимает в «Житии» того исключительно важного места, которое ей отводится в исследовании В. М. Кириллина. Вероятно, Епифаний признавал символическое значение этих чисел, но не возводил их на уровень «конструктивного принципа» жизнеописания Сергия, чем и объясняется ограниченное (соразмерно их роли в Библии) использование тройственных чисел в подавляющем большинстве глав «Жития», что и побудило В. М. Кириллина сделать три «оговорки», имеющих универсальный характер.
23. В «Житии Симеона Столпника» (Избранные жития святых. – М.: «Молодая Гвардия», 1992. Т. 1. – Сс. 240-257) не описано чудо, символизирующее его правильный путь. Возможно, Анониму был известен другой текст. Заметим все же, что текст, которым мы пользовались, по словам составителя сб-ка А. Карпова, идентичен тексту из «Житий святых на русском языке, изложенных по руководству Четьих Миней св. Дмитрия Ростовского с дополнениями из Пролога» (с. 7)
24. Седова Р. А. Святитель Петр, митрополит московский. – М.: «Русский мир», 1993. – С. 77.
25. На наш взгляд, в ПЛДР дан неточный перевод следующего выражения из наставления о методе описания и истолкования чудес: «...чудные и вещи сказаются» («...разъясняются удивительные дела», ПЛДР, с. 279). Мы перевели указанное выражение так: «...получают наставление о дивных вещах». Глагол «казати» имеет много значений, в том числе «разъяснять», «учить» и «наставлять». Но глаголу «казатися» И. И. Срезневский привел лишь одно соответствие в русском языке – «быть наставленным». Следовательно, для глагола «сказатися» эквивалентом также будет «быть наставленным», «получить наставление». Наш читатель может посчитать малозначащим это уточнение. Но дело в том, что перевод в ПЛДР затемняет обращение агиографа именно к наставникам, которых он и убеждает следовать его методу описания чудес. Это важно особенно потому, что в неграмотной стране сами жития предназначались, прежде всего, для духовных наставников народа.
Приуподобление (сопоставление с библейскими и святоотеческими образами, событиями, изречениями и т. д.) давно применяется агиографами, но применяется и понимается по-разному. Что касается приуподобления чудес, то тут наблюдаются шесть различных видов, которые на наш взгляд, и нашли обобщенное выражение в наставлении о чудесах. Приуподобления приводятся: 1) без объясения или с объяснением; 2) вместе с подтверждением чуда свидетелями или без каких-либо подтверждений; 3) с предсказанием будущего или без такого предсказания. Поскольку Епифаний четко сформулировал свое понимание правильного употребления приуподоблений, постольку мы, взяв это понимание за критерий, оценивали младенческие чудеса с Варфоломеем.
Пахомий Логофет, похоже, твердо придерживался своего взгляда на то, как стоит и как не стоит описывать чудеса в агиографических сочинениях. Известен случай, когда он в «Слове о перенесении мощей митрополита Петра» рассказал о том, что после в гробе митрополита нашли все тело умершего, а не только его мощи (см. Седова Р. А. Святитель Петр, митрополит московский. – М.: «Русский мир», 1993. – С. 135). Это вызвало настоящее возмущение современника Пахомия, книжника Кифы, который так прокомментировал поступок Пахомия: «яко в теле обрели чудотворца (Петра. – А. К.), неверна ради людскаго, занеже кой толкъ, не въ теле лежитъ, тотъ у них не свять, а того не помянуть, яко кости наги, источають исцелениа». Автор, – пишет далее Р. А. Седова, – возмущен людским невериемв те святые мощи «что не в теле лежат» и осуждает Пахомия за отступление от истины (Седова Р. А. Там же. – С. 119).
26. Седова Р. А. Святитель Петр, митрополит московский. – М.: «Русский мир», 1993. – С. 183.
27. Борисов Н. С. Сергий Радонежский. – М.: «Молодая Гвардия», 2001. – Сс 17-18.
28. Живая Этика, Зов, 6.11.1922,
29. Живая Этика, Зов, 23.9.1922.
30. Живая Этика, Надземное, 149. Наша цитата взята из рассказа об Иисусе Христе, который в Живой Этике называется также Великим Путником. В § 149 повествуется, в частности, о Его странствии по Аравии. «Среди пустыни Аравийской Он был в одиночестве, но в шатре шейха нашел друзей и пособников. Часто Он оставался один. Не следует думать, что странствие Его всегда протекало в богатых караванах. Также не забудем, что облекшись в земную оболочку, каждый становится в условия плотного мира. Такое обстоятельство обычно упускается из вида и предполагается, что Наши братья, идущие в мир, будут в каких-то неестественных условиях. Естество есть законом ограниченное состояние. Каждый из Нас знает это и сознательно избирает путь.
Не невозможно, что Путник встретит и темных на пути. Не думайте, что сказанное о встрече Великого Путника с князем тьмы есть вымысел или символ. Урусвати может подтвердить, как она видела не однажды разные темные сущности до иерофанта включительно. Казалось бы, в чем же разница таких нападений от обычных натисков тьмы? Разница велика, ибо Наши братья не страшатся этих нападений и тем не могут быть повреждены. Так, Великий Путник видел нередко ужасные облики, но не убоялся...
Твердо Он шел, ибо решил в сердце подвиг. Уже был предуказан подвиг, но его нужно было принять всем сердцем, без сомнения и без сожаления. Такое неуклонное движение не поддерживалось никем из окружающих, кроме Матери. Но ее водительство заменяло путнику все трудные страдания. Нужно запомнить эти черты жизни Великого Путника, чтобы проникнуться величием Его подвига».
31. Е. И. Рерих: «...рассвет России есть залог благоденствия и мира всего мира. Гибель России есть гибель всего мира. Кто-то уже начинает это сознавать. Хотя еще недавно все думали обратное, именно, что гибель России есть спасение мира, и прикладывали свои старания, чтобы разложить и расчленить ее по мере возможности. Велик был страх перед ростом России, и если страх этот по существу имел основание, то все же никто не относил его к правильной причине. Так, страшились всяких захватов со стороны России, но никто не сумел предвидеть и учесть последствий того взрыва (многие усиленно помогали ему), который должен был нарушить мировое равновесие. Велики последствия взрыва в России! Очищенная и возрожденная на новых началах широкого народного сотрудничества и свободного культурного строительства, Россия станет оплотом истинного мира» (Письма Елены Рерих. – Минск: «Прамеб», 1992. Т. 2. – С. 82, от 17.12.1935). Последнее предложение цитаты есть, в сущности, предсказание, которое, думается, начинает сбываться.
32. Письма Елены Рерих. – Новосибирск, 1993.
33. Живая Этика, Зов, 26.05.1922.
34. В параграфе, из которого мы привели краткую цитату, дано едва ли не лучшее в Живой Этике описание борьбы темных сил против сил Света и Добра. Приводим это описание с небольшими сокращениями. «Урусвати часто предупреждает друзей о нападении сил темных. Такие предостережения нужны повсюду. Не следует думать, что темные прекратят свои разрушения. Тление – их пища. Убийство – их ремесло. Посягательство на дух и тело – их радость. Нельзя предположить, что они не будут пытаться проникать за самые защищенные границы. Они предпочитают погибать, но не оставят своей разлагающей работы...
Уловки темных разнообразны. Кроме грубейших покушений, могут быть самые изысканные касания, воздействующие на слабейшую сторону. Внесение сомнения будет излюбленным способом приближения темных. Сомневающийся уже безоружен. Казалось бы, такая аксиома известна достаточно. Но сколько погибло именно от этого яда!..
Не думайте, что они нападают только на последователей Наших. Они пытаются всюду разрушить каждое строение доброе. Они отлично по закону вибраций понимают, где есть ненавистное им зарождение добра. Не нужно приписывать им всеведение, но они чуют, где их антиподы. Наша работа бывает отягощена тратою энергии на поползновения темных. Они знают, что, в конце концов, они не могут бороться с Нами, но мечтают поглотить энергию, которая посылается в пространство. Когда Мы указуем единение и доверие, Мы тем самым зовем к скорейшей победе» (Живая Этика, Надземное, 26).
35. Живая Этика, Надземное, 64.
36. Борисов Н. С. Сергий Радонежский. – С. 14.
37. Борисов Н. С. Там же. – Сс. 13-14.
38. Библейская энциклопедия – труд и издание архимандрита Никифора. – М.: «Типография А. И. Снегиревой», 1891. – Сс. 105-106 (вып. I) и с. 159 (вып IV).
39. Библейская энциклопедия. Там же, с. 64, вып. III Сам Иисус сказал о Варфоломее, что он – «истинный израильтянин, в ком нет лукавства» (Ин., 1:47) – Нафанаил закончил жизнь мученически в «великой Армении».
40. Библия, Премудрости Соломона, 3:1, 6, 9; 4:7-11 и др.
41. В наше время спор продолжается, разделяя ученых по- прежнему на сторонников 78-летней жизни Св. Сергия (опорные даты рождения 1314 г., пострижение в монахи 1342 г. и кончина в 1392 г.) и сторонников семидесятилетней жизни (опорные даты: рожд. 1322, пострижение – 1342 г. и кончина в 1392 г.). Как видим, сфера спора сузилась до определения года рождения Преподобного. В наше время последняя точка зрения получила новую поддержку: Б. М. Клосс решительно выступил в ее защиту, основываясь на своих археографических исследованиях. Его аргументация базируется на двух доводах: 1) в «Похвальном слове», которое ученый считает протографом, указан возраст Преподобного (70 лет) и продолжительность его монашества (50 лет), а в «Житии Сергия» указан год кончины – 1392 г. Соединяя эти указания, ученый путем простого вычитания устанавливает год пострижения Варфоломея в монахи (1342) и год его рождения (1322); 2) частые указания в списках «Жития» на то, что Св. Сергий дожил до 78 лет, объясняются следствием ошибки Пахомия, неверно прочитавшего соответствующее место в протографе.
В главе о «Похвальном слове» мы показали, что как раз тот хронологический фрагмент, на который ссылается Б. М. Клосс, является вставным и что поэтому некорректно основывать на нем аргументацию о продолжительности жизни и монашества преп. Сергия. Но, может быть, Б. М. Клосс доказал, что все «Похвальное слово» от начала до конца принадлежит перу Епифания? Список «Похвального слова», который рассматривает ученый, по его же изысканиям, датируется 60-ыми годами XV века, то есть он изготовлен через 50 лет после написания Епифанием «Похвального слова» (1412 г. – датировка Б. М. Клосса) или через 70 лет после написания Епифанием оригинала «Похвального слова» (по нашему предположению – к первой годовщине со дня смерти преп. Сергия). Оба временных промежутка достаточно велики, и потому требуются сугубые доказательства идентичности найденных списков оригиналу. Этих доказательств нет. Есть лишь попытка показать лексическую близость некоторых фрагментов текста к тексту «Жития Стефана Пермского» (автор Епифаний Премудрый) – всего на нескольких примерах. Эту попытку невозможно квалифицировать как лексический анализ всего текста, ибо количество примеров мало, и в их подборке не прослеживается система.
Итак, епифаниевское «Похвальное слово» вопрос о годе рождения Св. Сергия оставляет открытым Епифаний не счел, видимо, оправданным или целесообразным обращаться к этой житейской теме в сочинении, предназначенном для торжественного церковного чтения в память о Сергии Радонежском. Следовательно, текст хронологической вставки в «Похвальное слово» не имеет решающего голоса в спорах о годе рождения преп. Сергия.
Перейдем к рассмотрению хронологических фрагментов «Жития Сергия». Таких фрагментов два. Мы начнем с главного, в котором говорится, что Сергий Радонежский прожил 78 лет, и который является вторым «китом» в аргументации Б. М. Клосса. Этот фрагмент приводим в трех редакциях: 1) «Въздвиже на небо руце, молитву сотворив, чистую свою и священную душу сь молитвою Господеви предаст, в лето 6900-е, месяца септевриа 25; живъ же преподобный лет 70 и 8» (ПЛДР. – М.: «Художественная литература, 1981. – С. 404, Пространная редакция); 2) «Причастивъ же ся пречистых таинъ, конечное же слово изрек: «Господи, в руце Твои предаю Духъ мои». И тако почи о господи месяца септевриа въ 25 день живъ лет 78. Положиша же честное его тело въ монастыри, иже от него създанем» (Клосс Б. М. Житие Сергия Радонежского. – М.: «Языки русской культуры», 1998. – С. 374, Первая пахомиевская редакция); 3) «...въздвиже на небо руце и молитву сътвори, чистую свою и священную душу с молитвою в руце Господеви предастъ в лето 6000 и 900-ное месяца септевриа в 25 день. Жив же преподобный всех лет 70 и осмь» (Там же. – С. 416, Третья пахомиевская редакция). Из трех редакций в двух запись о продолжительности жизни Сергия сделана так, что не допускает разночтений. И лишь в Первой пахомиевской возможны, как представляется сторонникам рождения Сергия в 1322 г, разнотолкования. Именно этот вариант разбирает Б. М. Клосс: «Можно, кажется, понять, как произошла ошибка в числе прожитых Сергием лет: при переписке фразы «и тако почи о Господи месяца септевриа в 25 день, жив лет 70, и положиша же честное его тело в монастыри», союз «и» был понят писцом как цифра 8 и, таким образом, в редакциях Пахомия текст принял вид: «жив лет 78, положиша же честное его тело в монастыри» (с. 23) Б. М. Клосс не указывает, откуда он берет процитированную фразу, будто бы предшествующую редакциям Пахомия, и таким образом создает (вольно или невольно) ложное впечатление, что «фраза» взята из протографа: ведь не было другого текста д о Первой пахомиевской редакции. Не указывает Б. М. Клосс и других вариантов записи ключевой «фразы», отчего получается второе ложное впечатление, будто ученым нечего рассматривать кроме одного-единственного варианта. Допустим, что в каком-либо списке существует «фраза», приведенная Б. М. Клоссом и совпадает, заметим попутно, слово в слово с текстом Первой пахомиевской редакции, кроме главной подробности: у Пахомия – «жив лет 78. Положиша же...» и т. д., а во «фразе» Б. М. Клосса – «жив лет 70, и положиша же...». Тут, в этой фразе важно все: и цифра 70, и запятая после нее, и следующая за запятой буква «и», названная Б. М. Клоссом союзом. Она, конечно, бывает союзом, но в древнерусском языке бывает и личным местоимением, и цифрой «8». Только вот в цифровом значении над буквой «и» писалось титло и с двух сторон ставились точки («О»), благодаря чему не только писец моментально отличал цифру от буквы, но и, надо думать, византиец Пахомий. Но Б. М. Клосс забыл, видимо, об этих значках, и потому, его довод в пользу 70 лет почти рухнул. Представим себе, однако, что в списке, откуда ученый взял «фразу», не было значков, сопровождавших «и» или они были не видны: возможно, писец не поставил и этого не заметил ни Пахомий, ни его заказчик, возможно, стерлись от времени. Ключевая «фраза» в передаче ученого историка сохранила одну важную синтаксическую особенность, которая в любом случае склоняет исследователя читать букву «и» во «фразе» как число «восемь», а не как союз «и». Дело в том, что после глагола «положиша» идет частица «же», которая употреблялась в древнерусском языке не только для усиления утверждения, но и для противопоставления и для связи между предложениями. Исходя из этого, хронологическую «фразу» следовало бы понять иначе, чем понял Б. М. Клосс, и перевести ее так: «и так он почил с Богом 25 сентября, прожив 78 лет, а положили его честное тело в монастыре». Тут подходит союз «а», сохраняющий противительное значение. Известно ведь, что был спор о том, где похоронить Преподобного – внутри или вне церкви. И в противительной частице «же» эти споры нашли свое зримое выражение.
Нам осталось сказать несколько слов о запятой перед буквой «и» (,и положиша»...). С современной точки зрения эта запятая, отрезающая цифру 70 от буквы «и» и тем будто бы отнимающая возможность толкования буквы «и» как цифры, кое-что «весит» в споре. Но кто же из древников не знает, сколь беспорядочно писцы употребляли знаки препинания в давние времена? Кроме того, запятая перед «и» могла быть остатком точки перед цифрой и – этот вопрос может быть уточнен, когда мы получим возможность посмотреть хотя бы фотокопию той страницы, на которой написана «фраза» из рукописи, известной Б. М. Клоссу.
Подведем итоги. После рассмотрения записей о продолжительности жизни Сергия и соображений Б. М. Клосса мы получили уверенность в том, что Преподобный, согласно самым авторитетным источникам, преставился в возрасте 78, а не 70 лет. Однако у наших оппонентов есть еще один довод , к рассмотрению которого мы переходим.
Вот текст, об который наш брат-исследователь ломает зубы уже не одно столетие: «Хощу же сказати времена и лета, в ня же преподобный родися: въ лета благочестиваго преславнаго дръжавнаго царя Андроника, самодръжца гречьскаго, иже въ Цариграде царствовавшаго, при архиепископе Коньстантина града Калисте, патриарсе вселеньском, въ земли же Русстей въ княжение великое тферьское при великом князе Дмитрии Михайловиче, при архиепископе пресвященнем Петре, митрополите всеа Руси, егда рать Ахмулова» (297). Представим себе эту информацию в датах и цифрах: царствование Андроника с 1282 по 1328 гг. и с 1328 по 1341 гг., патриаршество Каллиста (1350 – 1354 гг., 1355 – 1362 гг.), великое княжение Дмитрия Михайловича (1322 – 1325 гг.), митрополитство Петра (1308 – 1326 гг.), татарская рать Ахмыла (в 1318 и в 1322 гг.). Исследователи обычно принимают во внимание – и это на наш взгляд правильно – всю совокупность дат и приходят, естественно, к выводу о ненадежности приведенной информации, главным образом, из-за того, что оба патриаршества Каллиста и царствование Андроника II выходят за пределы всех допустимых вариантов времени рождения Сергия (от 1313 до 1322 гг.). Затем исследователи приступают к комплексному рассмотрению дат (явных и косвенных), отмеченных в «Житии», сопоставляют их с событиями в жизни Сергия и Руси, на основании чего каждый выстраивает свою цепочку умозаключений и приходит к тому или другому предпочтительному выводу. Но не так поступает Б. М. Клосс, который, минуя все промежуточные ступени размышления, сразу выбирает устраивающую его дату (1322 год) и утверждает ее как единственно истинную.
Процитированный фрагмент мы считаем вставкой. Причем даже не завуалированной, как обычно делается в таких случаях. Во-первых, фрагмент находится не на своем месте, т. е. не там, где речь идет о рождении и младенческой жизни Варфоломея, а значительно позднее, в тематически чуждом контексте. Епифаний же, по его словам, стремился располагать события в их хронологической последовательности. Во-вторых, после фрагмента, разорвавшего последовательность изложения, вынужденно появляется высказывание, сцепляющее разъединенные части текста: «Младенец ж е прежереченный, о нем же слово изначала приходит...» (выделено мною. – А. К.) и т. д. Не будь тут вставного фрагмента, не надо было бы и этого дополнительного пояснения-сцепления: без него было бы вполне понятно, о каком младенце идет речь. Вторжение в композицию, нарушившее последовательный ход повествования, обнаружило себя еще в том, что агиограф внезапно и резко изменил модальность изложения, перейдя с третьего лица на первый. К третьему лицу он вновь вернулся сразу же после окончания вставного фрагмента. Вторжение в композицию проявилось еще и во внутренней полемичности начальных слов фрагмента: «Хощу же сказати...» вместо спокойно-информационного «Хощу сказати...» Но к кому обращено противительное «же»? По тексту этого не видно. Значит, к кому-то, кто существовал за текстом, но при этом осознавался правщиком как оппонент.
Вероятно, под затекстовым «оппонентом» следует иметь в виду тех, кто отстаивал мнение о рождении преподобного не в 1322 г., а в 1314 г. Почему мы так считаем? Потому что правщик внес во вставку, в самом ее конце, косвенное указание, более точно маркирующее 1322 год – «рать Ахмулову». Расчет был правильным, но правщика подвела невнимательность. Он, в общем следуя манере Епифания, проявленной в других его сочинениях, перечисляет светских и церковных властителей, в годы правления которых произошло то или другое событие. Но два компонента в перечне явно неепифаниевские. Епифаний, образованнейший человек своего времени, не мог не знать дат патриаршества Каллиста, а зная их, никак не мог внести сего церковного властителя в свое перечисление. Правщик, живший в XVII столетии, мог, но Епифаний ни в коем случае. Кроме того, правщику (или его заказчику) показалось, похоже, недостаточным то, что в перечне уже был один аргумент, исключавший рождение Сергия в 1314 году (княжение Дмитрия Михайловича), но все же допускающий сдвиг даты рождения на более позднее время, чем 1322 год. И тогда в конце перечня, исключая нежелательную передвижку года рождения, появляется пресловутая «рать Ахмулова». Однако именно с этой «ратью» и вышла иная и более существенная неувязка: Ахмыл – военачальник, каких было много, и Епифаний не мог его взять в качестве фигуры первого лица во власти, даты правления которого – хочешь не хочешь – вписываются потомками в историю народа.
В дополнение к высказанным соображениям мы предлагаем на рассмотрение новый метод доказательства того, что Варфоломей родился... раньше, чем в 1322 году. Метод основан на алгоритме неизменного соотношения возрастов членов одной семьи, в частности, брачных возрастов Стефана и Петра, братьев Преподобного.
Во всех редакциях «Жития» говорится, что братья вместе учились грамоте. Отсюда мы заключаем, что разница между их возрастами была минимальной – от года до полутора лет. Значит, если принять за точку отсчета 1322 год как год рождения Сергия, то рождение Стефана надо отнести к 1321 г., а Петра – к 1323 году. Второе исходное соображение: если на Руси, как пишет Н. С. Борисов в книге о Сергии Радонежском, «...брачный возраст наступал после 16 лет», то есть с 17 лет, то Стефан мог жениться в 1338 году и иметь первого ребенка в 1339-ом, а второго – в 1340 г., а Петр мог жениться в 1340 г. и иметь первого ребенка в 1341 году. Но по отношению к Петру такое заключение входит в противоречие с другими фактами, изложенными в Пространной редакции «Жития Сергия», в ее первой половине, которая в ученом мире признается в значительной части епифаниевской. Под противоречием мы имеем ввиду рассогласованность между годом рождения ребенка в семье Петра и записью в «Житии» о том, что его родители еще жили в Радонеже, когда у него и у Стефана родились дети.
Варфоломей задумал уйти в монастырь, но его родители воспротивились и стали убеждать его подождать, потому что они стары и больны, а позаботиться о них некому, ибо «...братиа бо твоя оженистася и пекутся, како угодити женам и детем» (с. 347). И Варфоломей стал ухаживать за родителями, которые спустя «неколико времени» после их разговора с Варфоломеем приняли монашеский постриг и стали жить в Хотьковском монастыре – приблизительно с конца 1339 г. начала 1340 года. Откуда это следует? В «Житии» говорится, что родители «...мало поживша лет в черньчестве» (с. 305), преставились. «Мало лет» – сколько это по минимуму? Года два-три. Ведь об одном же годе нельзя сказать «мало лет». Остановимся на минимальном сроке в два года. Исходя из этого, примемся за вычисление времени пребывания родителей Варфоломея в монастыре. За год отсчета резонно было бы взять 1342 год, год начала отшельнической жизни Варфоломея, признаваемый, заметим кстати, и нашим оппонентом, Б. М. Клоссом.
Можно с большой вероятностью утверждать, что Варфоломей и Стефан ушли отшельничать весной 1342 г., как только стало достаточно тепло, чтобы можно было жить в шалаше. Им нужно было подготовиться к зимовке в лесной глуши: построить две кельи (наверное, в одном доме), срубить церквицу (работа на несколько месяцев), затем сходить в Москву, договориться об освящении церквицы, получить благословение митрополита, дождаться прихода священников в лес, провести освящение церквицы. За 5-6 месяцев пустынничества Стефан убедился в тяготах лесной отшельнической жизни и принял решение, оставив Варфоломея одного в лесу, уйти в московский монастырь. Сколько времени прошло от смерти родителей (они, судя по тексту, умерли в один день) до ухода Стефана и Варфоломея в отшельники? В «Житии» сказано, что Варфоломей взял на себя все хлопоты и заботы, связанные со смертью родителей, и что он в течение 40 дней после смерти находился в монастыре, «творя память родителема своима» (с. 306). Затем Варфоломей вернулся в родительский дом, и «...и начя упражнятися от житейских печалей мира сего» (с. 306), что конечно, требовало определенного времени. Приняв твердое решение идти отшельничать, Варфоломей отдал все «отчее наследие» Петру, не взяв себе ничего. После этого Варфоломей отправился в Хотьковский монастырь, чтобы уговорить Стефана (он уже был монахом этого монастыря) вместе уйти на пустынножительство в лес.
Итак, весьма вероятно, что именно весной, летом и, возможно, осенью 1342 года произошли все описанные выше события. Сколько же времени понадобилось Варфоломею, чтобы после смерти родителей управиться со всеми заботами о похоронах и с подготовкой своего ухода в лесную пустыньку? Вероятно, не менее 3-4 месяцев, если принять во внимание, что ему надо было все завершить до прихода теплых весенних дней, что послепохоронные хлопоты в Хотьково закончились лишь через 40 дней после кончины родителей и что только после этого Варфоломей смог вернуться в Радонеж и заняться подготовкой к своему отшельничеству. Из вышесказанного следует, что Кирилл и Мария, скорее всего, преставились зимой 1341 – 1342 гг. Заметим, что именно зимним временем, зимним бездорожьем можно удовлетворительно объяснить факт, известный по «Житию»: отсутствие на похоронах родителей братьев Варфоломея, Стефана и Петра. Если от зимы 1341 – 1342 гг. вычтем срок пребывания родителей в Хотьковском монастыре («мало лет», т. е. 2-3 года), мы получим зиму 1339 – 1340 гг. Однако не зимой, а летом или весной 1339 года удобнее было родителям Сергия заняться делами, связанными с уходом в монастырь. Таким образом, лето 1339 года является наиболее вероятным временем начала монашеской жизни Кирилла и Марии. Теперь вернемся к сообщению «Жития» о том, что у Стефана и Петра были дети уже в ту пору, когда родители жили в Радонеже и еще не собирались в монастырь, и от лета 1339 года отнимем год-полтора, то есть срок, необходимый на женитьбу Петра и рождение в его семье первого ребенка. Мы получаем 1338-ой или 1337-ой год, но Петру в это время было 15 или 14 лет, и, значит, его женитьба могла быть лишь через 2-3 года. Иначе говоря, 1323 год, как год рождения Петра невозможен и должен быть уменьшен на 2-3 года, т. е. Петр родился в 1320 или в 1321 году. Соответственно возрастному алгоритму передвигаем год рождения Варфоломея с 1322 на 1319 или 1320-й год. Из всего сказанного следует: утверждение, что Варфоломей родился в 1322 году является ошибочным. Значит, ошибочно и заключение о том, что он жил 70 лет.
Известно, что несколько исследователей «Жития Сергия» (В. О. Ключевский, арх. Леонид, арх. Никон и др.) считают 1319 год годом рождения преп. Сергия. Этот год согласуется с предполагаемым годом женитьбы Петра и рождением в его семье первого ребенка. Однако, на наш взгляд, 1319 год неприемлем потому, что не согласуется с многократными указаниями «Жития» на продолжительность жизни преп. Сергия в 78лет и 70 лет и на 1392 год как год его преставления.
Итак, мы приходим к выводу, что наиболее обоснованной является следующая хронологическая схема основных спорных событий в жизни преп. Сергия: год рождения 1314-ый, год смерти 1392-ой, продолжительность жизни 78 лет.
42.1. Борисов Н. С. Сергий Радонежский. – С. 61.
42.2. Скабаллонович М. Толковый Типикон. – Киев, 1909.
43. Рерих Е. И. Письма в Америку. – М: «Сфера», 1996. – Т. 1, с. 200.
44. Библия, 1 Цар., 9:3-20
45. Библия, Ис, 6:6, 7.
46. Библия, Иер., 1:9.
47. Рыбаков Б. А. Стригольники – русские гуманисты XIV столетия. – М.: «Наука», 1993. – С. 260.
48. Рыбаков Б. А. Там же. – С. 286.
49. Библия. Пс., 118:103.
50. Рерих Е. И. Знамя преподобного Сергия Радонежского. – Новосибирск: «Гелиос», 1991. – С. 27.
51. Эндрю Томас. Шамбала – оазис света. – М., 1992. – Сс. 106,155-156.
52 Эндрю Томас. Там же. – С. 107.
53. Цитируется по «Истории русской церкви» Макария, митрополита московского и коломенского, кн. IV, ч. 1, с. 389. – М.: изд-во Спасо-преображенского Валаамского монастыря, 1995.
54. Избранные жития святых. – М.: «Мол. Гвардия», 1982. – С. 301.
55. Библия, Иов, 14:4. «Кто родился чистым от нечистого? Ни один». Но дело все в том, что эта ветхозаветная норма сознания не подтверждена Христом, следовательно, ее действие распространялось лишь до Иоанна Крестителя: «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие, восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна» (Мф. 11:12). Так сказал Иисус Христос и тем обозначил ясно временной предел действия ветхозаветных законов и пророчеств, разумеется, за исключением тех, которые (например, заповеди Моисея) преемственно вошли в Новый завет и потому были подтверждены Иисусом Христом. Но нет в Новом Завете и намека на идею нечистоты и греховности самого акта зачатия детей. И потому можно считать нехристианскими вышеприведенные изречения Давида и Иова. Поэтому Аноним и привел ссылки только на Ветхий Завет. Сам Аноним считал мысль о врожденной греховности человека истинной, ибо православная церковь почитала и до сих пор почитает в Ветхом Завете не только заповеди Моисея и тексты пророков, но и все содержание в целом. Вместе с тем, на примере высказывания митрополита Даниила мы показали, что отношение церкви к посту было вполне здравомыслящим. Разумеется, в житиях святых порой восхваляется истязательное умерщвление плоти, но ни церковь, ни общество не делали из этого обязательную норму жизни.
56. Библия, Лк., 6:46.
57. Толстой Л. Н. Путь жизни. – М.: «Республика», 1993. – С. 17.
58. Библия, Пс., 29:9-13.
59.1. Библия, Пс., 29:9-13.
59.2. Живая Этика, Надземное, 904.
60. Библия, Мф., 10:37.
61. Библия, Мф., 19:29.
62. Древние иноческие уставы. – М.: «Типо-литография И. Ефимова», 1892. – С. 260.
63. Живая Этика, Мир Огненый, 2, 434. Понятие «невредящее мышление» поясняется тут же: «Так будем охранять от всего, что повредит мысли нашей о благе других».
64. Житие и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея Руси чудотворца. – Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1904. – С. 244.
65. Житие и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Сергия. – С. 39.
66. Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. 1., период первый, вторая половина тома. – Сс. 605-606.
67. Живая Этика, Иерархия, 391. Этот параграф приведем целиком. «Придут еще к вам с сомнением о законе кармы: «возможно ли, чтобы негодные наслаждались благополучием, тогда как достойные мучились?» Скажите: «тяжка карма не могущих прервать благополучие земное, ибо, сказано, благополучие есть кладбище духа». К тому же земное благополучие, как вы замечали, затыкает духовные уши. Но многие уже под личиною благополучия скрывают величайшие несчастья. Потому никто из знающих не будет прикладывать меры земного благополучия. Нужно мерить по вершинам, не думая о подземных потоках».
68. Рерих Е. И. У порога Нового Мира. – М.: МЦР, 1996. – С. 71.
69. Библия, Рим., 13:1
70. Понятие «половинчатое служение» шире, чем мы его определили в тексте. Приводим поэтому соответствующий параграф «Живой Этики». «Среди явлений, которые особенно губительны для восхождения, нужно отметить половинчатое Служение. Невозможно продвинуться, не отвергнув страшную половинчатость. Надо помнить, что, раз избрав Учителя, ученик должен всегда действовать, понимая все губительные действия половинчатости. Не только явное предательство опасно, ведь против него можно бороться мечом, но те, скрытые подкопы половинчатости, так губительны. Нужно направить сознание людей на путь честности. Нужно людям понять, что самое главное состоит в честности Служения. Чем утвердить рост духа, чем доказать преданность Иерархии, чем очистить сознание: только единым законом честности Служения. Так запомним навсегда о губительности половинчатости. Записи тьмы содержат все половинчатые решения и действия, потому на пути огненном нужно помнить о следствиях половинчатости. Если бы можно было выявить все записи тонкого мира, человечество ужаснулось бы, увидев серые тени вокруг разрушения, вокруг половинчатости, вокруг предательства, вокруг подстрекательства, вокруг кощунства, непримиримости, самости. Так запомним на пути огненном об опасности половинчатости и подкопов» (Живая Этика, Мир Огненый, 3, 8)
71. Прохоров Г. М., Шевченко Е. Э., Водолазкина Е. Г. Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские. – СПб.: «Глаголъ», 1993. – Сс. 25-26, 187. В этой книге ясно показано, что преп. Кирилл Белозерский, один из учеников Сергия Радонежского, долгие годы был сторонником нестяжательного пути монашества, затем отказался от этого пути, закрепив свою перемену взглядов в духовном завещании. «Отсюда мы узнаем, что первое имущество Кирилла в Белозерье составляли книги. Но вместе с числом братии стало быстро расти и имущество иноков-поселенцев. Согласно введенному Кириллом общежительному уставу, все у них было общим; что нужно, монахи получали из монастырской казны. Но, оставаясь бедными персонально, они богатели коллективно. Дело в том, что, по мере роста известности, обитель получала все больше дарений от светских лиц, бояр и князей – до нас дошло двадцать «данных» и жалованных грамот от разных лиц игумену Кириллу – и становилась собственником и богатым хозяином» (сс. 24-25). На наш взгляд, «дело» совсем в другом: в принципиальном согласии преп. Кирилла «получать» даруемые монастырю села и земли, т. е. в принципиальном изменении его взгляда на монашеское подвизание. Свято-Троицкий монастырь при жизни святого Сергия Радонежского пользовался великим почетом на Руси, однако игумен монастыря ни разу не принял в дар монастырю ни сел, ни деревень, вообще никакого недвижимого имущества, так как ясно осознавал несовместимость получения таких дарований с основными заветами Христа.
Приводим соответствующие выдержки из духовной грамоты Кирилла Белозерского, написанной им самим «и в своем разуме» (с. 185): «А что, господин (в. кн. Андрей Дмитриевич. – А. К.), давал ты свое жалование, грамоты свои Дому Пречистой Богородицы и моей нищете, – пусть то, господин, твое жалование и грамотки твои будут неизменны: как до сих пор, господин, при моей жизни, так бы, господин, и после моей смерти было. Потому что, господин, князь великий, нам, твоим нищим, нечем оборониться против обижающих нас, кроме как, господин, Богом, Пречистой Богородицей и твоим, господин, жалованием, нашего господина и государя... и я господина своего и государя со слезами очень тебя прошу, ...чтобы ты, господин, наказывал крепко тех, кто моему образу жизни не последствует, а игумена не станет слушать. И ты, господин, повели тех людей из монастыря высылать» (с. 187). Самоуничижение паче гордости. Ко времени кончины преп. Кирилла Белозерского его монастырь, как пишут авторы книги, был богатым коллективным собственником, следовательно, монахи все, что хотели, получали без малейшего приложения своего труда к зарабатыванию «потребных». Поэтому, их социальное обеспечение, а тем более социальное положение было благополучнейшим, а их образ жизни – господским, а не апостольским. И если апостолы искали своей защиты у Высших Сил и получали ее, несмотря на преследование властей, то преп. Кирилл Белозерский считает такую защиту недостаточной и потому добавляет к ней княжескую «оборону», которая на деле, как видно по духовной грамоте, считается им наиболее надежной.
Когда преп. Кирилл Белозерский был иноком Симонова монастыря, он был всей душой устремлен к строго аскетическому образу жизни, который не одобрялся игуменом Федором. Инок Кирилл, преследуя свою цель, долгие годы в изощренных, юродствующих формах (сс.63-73) нарушал образ жизни монахов Симонова монастыря, однако игумен, наказывая инока, тем не менее не изгонял его из монастыря. С тех пор прошло несколько десятков лет. И как же изменилось за эти годы сознание Кирилла! В предсмертном завещании он просит великого князя применять насилие и изгонять из монастыря тех монахов, которые не будут следовать его образу жизни. Как говорит латинская пословица, времена меняются и мы вместе с ними. Другое время – другой человек. Но не таков был учитель преп. Кирилла, святой Сергий Радонежский.
72. Приводим контекст цитаты. «Не сведущие в Великом Служении могут даже укорить трудность такого подвига. Но прикоснувшиеся уже не могут представить существование без него. Пустота ужасная покажется без приложения сил на Общее Благо. Темнота страшная выглянет отовсюду без Общения с Иерархией. Сама жизнь, как отцветший цветок, потеряет смысл без Великого Служения. Огненный Мир неосязаем, и само понятие его вместо привлекательности оказывается угрожающим. Равновесие устанавливается большими мерами, но утверждение Щита Иерархии приходит после посвящения себя на Великое служение. Сам дух решает судьбу свою. Сам, без уговоров, дух определяет жертву свою. Размер жертвы решается в сердце. Никто не может побудить к увеличению жертвы, но много радости создается жертвою неумаленной. Учитель советует узнавать свои размеры по жертве, принятой сердцем добровольно. Как велик закон такого добровольчества? Оно определяет будущее от малого до большого и до великих событий!» (Живая Этика, Мир Огненый, 2, 247).
73. Игумен Марк. Земные духи и их влияние на людей. – «Паломник», 1994. – Сс. 92-94.
74. Живая Этика, Мир Огненый, 3, 119.
75. Даем соответствующую цитату из «Живой Этики». «Слышали ли вы, чтобы Йог был растерзан зверями? Не было такого случая, ибо против щита Тероса (психической энергии. – А. К.) не дерзает ни одно животное, в котором есть доля инстинкта. Дело лишь в том, чтобы вызвать Тероса из Чаши (психоэнергетический центр, в котором хранятся все ценные накопления прошлых жизней. – А. К.) наружу, к конечностям. Каналы Чаши разветвляются до всех конечностей, и некоторые могут ощущать свет Чаши с напряжением пальцев рук или ног или чуять свет Колокола (психоэнергетический центр темени. – А. К.) при соответствии Чаше. Все это не метафизика, а указание для применения в жизни. Защита нужна многим – почему же не пользоваться своим сокровищем?
Нетрудно накапливать энергию Тероса, также нетрудно вызывать ее наружу. Также не нужно терять сознание в решительный час – тогда недалеко до смертного глаза (способности человека излучать смертоносную энергию. – А. К.). Йог не убивает животное по своей воле, но злая воля разбивается о щит Тероса. Нужно понять, что не насильственная воля, но накопление Чаши дает и защиту и воздействие» (Живая Этика, Знаки Агни Йоги, 565).
Художественное описание случая с туристами, когда излучением энергии Высокого Духа был убит тигр, имеется в книге Е. П. Блаватской «из пещер и дебрей Индостана». – Пг., 1912. – Сс. 79-81.
76. Цитату мы взяли из книги «Озарение». Вот контекст цитаты:
«О половом воздержании надо сказать подробнее, слишком много места уделено этому вопросу современным мышлением...
Факт зарождения настолько чудесен, что нельзя обойтись обычными мерами. Можно взвесить, можно разложить на малейшие частицы, но все же остается неуловимая и несказуемая субстанция, незаменимая так же, как жизненная сила зерна. В свое время Мы обратили внимание на некоторые поразительные качества этой субстанции, которая может быть зрима, но теперь должны согласиться, что такая необыкновенная субстанция должна быть очень ценной и должна иметь какие-то важные качества, – даже глупец это поймет.
Лучшее доказательство, конечно, опыт... (дальше идет цитата, приведенная в тексте нашего исследования. – А. К.) Поэтому воздержание не есть патологический отказ, но есть разумное действие. Дать жизнь не значит выбросить весь запас жизненной субстанции.
Если бы люди на первой ступени хотя бы вспомнили о ценности жизненной субстанции, то этим значительно сократилась бы необходимость запретов. Запрещение должно быть отвергнуто – это закон устремления. Но незаменимая ценность будет охраняема – это закон сохранения.
Правдивее посмотрим на вещи: все незаменимое будет на первых местах сохраняемости. Конечно, можем ли бросать драгоценность в пространство? Конечно, эта сила приобщится к стихиям, откуда она с таким трудом извлечена – вместо сотрудничества с эволюцией получатся отбросы, подлежащие переработке.
Итак, представим себе воздержание как крылья!» (Живая Этика, Озарение, ч. 3, V, 12).
77. Живая Этика, Зов, 07.01.1923.
78. Библия, Ин., 4:24. «Бог есть Дух и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине».
79. Живая Этика, Мир Огненый, 2, 116.
80. Живая Этика, Знаки Агни Йоги, 640. Думается, что небольшая подборка из цитат «Живой Этики» даст точное точное понятие о психоэнергетическом центре «Чаша», который в Шестой Расе будет иметь особо важное значение в становлении и развитии нового человека. «Часто мы знаем слово и не можем произнести его. В глубине вращается понятие и не выносится на поверхность. В это мгновение лучше всего ощущается глубина сознания. Не извилины мозга, но какое –то другое хранилище бу^ет складывать запасы памяти; конечно, это «Чаша» (Знаки Агни Йоги, 627) «Когда мы говорим о необходимости честности, Мы не имеем в виду негодных людей. Мы указываем прямой путь совершенной правды, лишенной личного начала. Эта возможность осознается чувствознанием. Опыт, накопленный в центре «Чаша», дает непоколебимое знание. Центр «Чаши» помещается близко от резервуара крови (сердца. – А. К.), ибо кровь есть хождение по земле» (Знаки Агни Йоги, 156). «Истинно. Как тончайший узор, многообразны проявления психической энергии. Не рассудок, но чувствознание «Чаши» может распознать их» (Знаки Агни Йоги, 554). «Конечно, хранилищем духа будет «Чаша», и это хранилище убережет и материю, ибо заложено могущественным импульсом сокровенного огня» (Братство, 434). «Из «Чаши» выявляются все творческие законы. В «Чаше» собираются все космические явления, потому обогащение «Чаши» даст осуществление всех космических планов. Так, основания собраны в «Чаше» и может каждая энергия быть созидателем» (Братство, 592). «Творчество духа может только тончайшими энергиями перебросить мост к высокому пониманию, потому накопление «Чаши» дает лучшие возможности и достижения» (Иерархия, 55). «Сознание, не слитое (не объединенное. – А. К.) с Владыкою, не может устремиться к закону накопления «Чаши»...Истинно, примкнувший в Высшему Сознанию получает мощь мысли. Только когда дух принимает все посылки (мысли. – А. К.) Свыше, он может расширять сознание: иначе не разбудить силу, находящуюся в «Чаше». Так нить связи есть лестница духа, который восходит, сила духа. Творчество утверждается путем этой чудесной нити. Так восхождение духа идет связью с Владыкою» (Иерархия, 155).
81. Рерих Е. И. У порога Нового Мира. – М.: МЦР, 1996. – С. 61.
82. Даем контекст цитаты. «Ведь все развивается опытом. Опыт осмысливается погружением в будущее и противен бессмысленному прозябанию.
Высший опыт есть опыт над собою. В нем и центробежность и центростремительность. Эти простые истины нужно твердить. Именно в положении духа своего за человечество заключается и жертва, и приобретение. Несоединенные противоположения не дадут круга, без круга не будет системы вращения. Каждая спираль сверху и снизу представится кругом, но всякая сложность представления исчезнет, если мы устремимся в будущее» (Живая Этика, Знаки Агни Йоги, 501).
83. «Тот, о котором вы читали вчера (Сергий Радонежский. – А. К.), знал это великое обострение чувств. Каждый, приходивший к нему, находил неувядающую свежесть сердца. Не каким-то особым приемом, но простым открытием сердца достигается это постоянное обострение. Он никогда не жалел себя, и такое качество не было умственным, но сделалось природою. Но сколько священнослужителей теряли накопленное от притупления каждодневностью. Каждодневность есть великий пробный камень. Она открывает врата Вечности и утверждает Огонь» (Живая Этика, Мир Огненый, 1, 407).
84. Живая Этика, Сердце, 113.
85. Живая Этика, Мир Огненый, 1, 489.
86. Житие и подвиги преподобного Сергия. – С. 64.
87. «Поговорим о страхе и предвзятости. Страх видит свое отражение. Каждое предвзятое понятие именно отражается. Страх разрушает каждое благое начинание. Предвзятость напрягает самые благие устремления, и Мы можем указать на кладбище, которое содержит эти записи страха. Предвзятое толкование есть самооправдание, потому предвзятость есть чистая смерть» (духа. – А. К.) – Живая Этика, Мир Огненый, 3, 144.
88. Живая Этика, Мир Огненый, 2, 292.
89. Библия, Пс., 15:1-11.
90. Живая Этика, Братство, 377. Комментарий к смене тел мы дадим на основе сведений, имеющихся в другой книге Живой Этики. «Не искавший совершенствования дух погружается при смене тела в безразличное состояние и затем блуждает, томимый неосознанными воспоминаниями. Причем воспоминания низкотелесные погружают его в беспросветное.
Необходимо избежать безразличия при смене тела. Совершенствование стремлений даст спокойствие переходить из одного тела в другое. При этом достигается качество архата, который никогда не прерывает течение сознания и постоянно устремляется в будущее (Знаки Агни Йоги, 130).
«Чем совершеннее дух, тем неизбежнее сознает он все глубокое страдание земной жизни. Между тем сам Я твержу вам о радости. Такая радость может быть в осознании дальних миров. Возьмем простой пример. Среди мрака ночи ваша повозка спешит домой, окружающее ненастье должно привести вас в уныние, но дух ваш ликует радостью. Откуда она? Только от сознания, что дом ваш близок, и сама темнота не препятствует различать дорогие сердцу существа. Много ли значит страдание земной жизни, когда дальние миры стали для нас действительностью!
Успейте немедленно осознать путь ваш в дальние миры. Только это расширенное понимание жизни даст духу вашему основание пути радости. Иначе чему радоваться? Неизбежности воплощения? Но без представления о будущем воплощения будут лишь бессмысленным отрывком листа жизни. Именно животный разум не нуждается в осознании будущего, но именно воля познания двигает человека к пониманию смен жизни. Таким мышлением получает человек право на радость и при устремлении может приблизиться к сотрудничеству с дальними мирами» (Знаки Агни Йоги, 152).
91. Живая Этика, Мир Огненый, 1, 597.
92. Древние иноческие уставы. – М., 1892. – С. 22.
93. Библия, Мф., 11:28-30. Приведем полностью разбираемую цитату: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдите покой душам вашим; ибо иго Мое – благо, и бремя Мое легко».
94. Живая Этика, Иерархия, 28.
95. Живая Этика, Знаки Агни Йоги, 137.
96. Борисов Н. С. Сергий Радонежский. – М.: «Молодая Гвардия», 2001. В этой книге высказывается предположение, что Стефан был освобожден от своих высоких постов в 1347 г., в год третьей женитьбы Симеона Гордого, и тогда же пришел к Сергию вместе с младшим сыном Иваном. В таком случае возникает неувязка с текстом «Жития»: в 1347 г. Сергий не мог постригать в монахи, так как не был еще официально утвержденным игуменом. Н. С. Борисов оставляет противоречие необъясненным.
На наш взгляд, Стефан в 1347 году вызвал недовольство только митрополита Феогноста, но сохранил приязнь великого князя Симеона Гордого, у которого было достаточно власти и характера оставить Стефана на всех его постах. Сам Феогност осуждал Симеона потому, чтобы сохранить верность церковному праву и сохранить лицо блюстителя церковных законов, но при этом старался сохранить и добрые отношения с Симеоном. Поэтому Феогност вскоре «помирился» с великим князем, и в 1349 году крестил его сына.
Стефан, мы полагаем, лишь после смерти Феогноста и Симеона Гордого (1353 г.) впал в немилость новых руководителей Русской церкви (митрополита Алексия и других) и, вероятно, в период «междуцарствия» (после смерти Симеона и до назначения новым князем Ивана Ивановича) потерял свои посты. В тот же период Сергий был назначен игуменом Свято-Троицкого монастыря. Опала Стефана совпала по времени с возвышением Сергия. Ни то, ни другое не могло произойти без согласия наместника митрополита, а потом и митрополита Алексия. Этот факт вынуждает пересмотреть версию о том, что митрополит Алексий якобы благоволил к Стефану, с которым он певал на клиросе, когда, как и Стефан, был монахом Богоявленского монастыря. Правдивее выглядит противоположное предположение, что Алексий не был благосклонен к Стефану еще со времен их знакомства, и при первой же возможности эта неприязнь проявилась в лишении Стефана всех высоких постов. Причина была: нарушение им церковного закона о браке в 1347 году. Митрополит Алексий тоже хотел быть в ладу с церковным правом, что и показал всем, ввергнув Стефана в опалу.
97. Живая Этика, Община, 253.
98. Библия, Мф., 5: 33.
99. Одержание в Библии и житийной литературе известно как «вселение бесов» в человека. «Одержание нужно определять очень точно. Не нужно удивляться, если около очагов духовности замечается немало одержимых. Причина та, что темные стремятся усилить стражу свою. Кто же, как не одержимые, могут лучше помочь силам темным? При этом разновидности одержания неисчислимы. Нужно, прежде всего, распознать, где благо и где вред в сущности своей. Так сердце пламенное сразу распознает, где скрыто одержание» (Живая Этика, с. 213). «Можно наблюдать примеры жестокого одержания. Нужно, чтобы врачи настолько поняли такое скотское состояние, чтобы уметь пресекать заразу. Правильно изолировать одержимых, подобно прокаженным. Степени одержания могут быть неизлечимы. Мозг и сердце перерождаются от двойственного давления, но твердый, честный, познающий дух не ведает одержания» (Живая Этика, Мир Огненый, 3, 467).
100. Живая Этика, Сердце, 213.
101. Живая Этика, Агни Йога, 227. Тут дано наиболее развернутое понимание одержания и его вредности в новейшее время. «Каждое космическое достижение таит в себе опасность в случае небрежности. Если люди могут овладеть новыми энергиями, то для слабых духов увеличится опасность одержания. К вопросу одержимости следует отнестись научно. Два момента существования установлены. Первый – непрерывность жизни в различных состояниях, второй – влияние воли одного существа на другое. Так, существа, находясь в тонких телах разных степеней, могут направить мысль на земных воплощенных. Неосознанная энергия может способствовать единению миров, но, соединяя высшее, она же открывает путь низшим. К тому же знаете, насколько низшие стремятся сблизиться с земными эманациями. Так нужно предупредить людей о спокойствии воли, ибо одержимость есть одно из наиболее недопустимых состояний. И лишь вмешательство третьей воли, твердой и чистой, может нарушить это беззаконие, которое поражает людей любого возраста и положения. Дело врача присмотреться к больному и найти признаки чужой воли. Если врач сам достаточно очищен и не боится перенести на себя непрошеного гостя, он может применить воздействие воли. Но даже выход одержания недостаточен для излечения. Около тысячи дней опасность повторения не иссякает, больной должен пристально следить за мыслью своей. Нужно предупредить врачей.
Несчетно количество желающих внушить людям самые позорные мысли, но достаточно иметь силу и найти ритм приказа, чтобы спасти человека. Обязанность йога состоит в изгнании вредных воздействий».
102. Живая Этика, Сердце, 205.
103. Живая Этика, Знаки Агни Йоги, 227.
104. Живая Этика, Надземное, 781. Здесь даны новые важные сведения об одержании. «Урусвати знает, насколько зорко нужно отличать доброе воздействие надземного мира от вредоносного одержания. Доброе воздействие не поражает свободную волю. Оно лишь усиливает возможности, получаемые индивидуально. Воздействие всегда будет заботливо и бережно к физическому состоянию организма, но одержание всегда кончается чем-то вредоносным и разрушительным для физического и тонкого тел.
Принято считать, что одержание особенно осиливает слабые организмы, но главная причина будет в ненравственности одержимого. Можно будет безошибочно утверждать, что каждая одержимость проникает, в первую очередь, через канал безнравственности. Пусть она будет явной, или тайной, или в зародыше, он она будет причиной возможности одержания.
Полагают, что излечение одержания происходит при воздействии сильного внушения, но следует добавить исправление нравственности».
105. Древние иноческие уставы. – С. 521.
106. Древние иноческие уставы. – Сс. 521, 526.
107.Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. – М: «Аспект пресс», 1996. – Сс. 58, 60.
108. Библия, Иак., 2:1-10.
109. Крылов И. А. Басни. – Л.: «Художественная Литература», 1983. – С. 18.
110. Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра. – Сергиев Посад. – С. 22.
111. В прочитанной нами литературе мы нигде, кроме «Жития», не нашли текста послания патриарха Филофея к преп. Сергию. Вполне возможно поэтому предположить, что текст послания был заранее заготовлен митрополитом Алексием и подписан патриархом Филофеем во время одной из личных бесед между ними. Вероятно, в 1354 году. При этом ситуация могла быть такой, при которой канцелярия патриарха этот текст либо не получила, либо не сохранила. Такое послание было необходимой и весомой поддержкой коренной реформы монашеского подвизания, задуманной митрополитом Алексием. Жизнь показала: сопротивление этой реформе было столь мощным, что его вдохновители и организаторы осмелились выступить даже против инициативы Константинопольского патриарха. Поэтому мы присоединяемся к тем исследователям, которые считают послание действительным фактом.
112. Глава посланцев патриарха имел сан митрополита (Житие и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея Руси чудотворца. – Троице-Сергиева Лавра, 1904, переиздано к 600-летию преставления преп. Сергия, 1990. – С. 126).
113. Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России. – М: «Наука», 1977. – Сс. 69-82, 87-91,176-181, 227-242 и др.
114. ПСРЛ, т. XVIII. – С. 100.
115. Цитируется по книге «Житие и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Сергия...», 1990. – Сс. 188.
116. Живая Этика, Озарение, ч. 3, VI, 19. О зависти как одной из распространеннейших причин насилия тут сказано очень выразительно. «Отчего ему, а не мне? – так шепчет зависть после полуночи. Вытесните этого гада из начинаний ваших. Рост духа не терпит насилия. Этим объясняется медленная эволюция человечества. Нельзя заставить дух расти. Даже нельзя понудить непрошеными советами. Можно лишь отвечать на стук чуткого сердца».
117. Приводим полный контекст цитаты. «Почему иногда зло как бы представляется победителем? Только от неустойчивости добра. Можно чисто физиологическим путем доказать, что перевес зла кратковременен. Зло возникает вместе с империлом, но этот яд может дать лишь первую, очень сильную вспышку. Затем он переходит в разложение и постепенно разрушает своего же породителя. Значит, если Агни (первозданный Огонь, основа Бытия. – А. К.) хотя бы отчасти выявлен (в человеке как тончайшая энергия. – А. К.), он не перестает усиливаться. Так, когда империл будет уже разлагаться, Агни, наоборот, приобретет полную силу. Потому так Советую выдержать первый натиск зла, чтобы предоставить его собственному пожиранию. Кроме того, при поединке зла с добром, иначе говоря, империла с Агни, последний будет пропорционально возрастать, тогда как империл будет разлагать своего владельца. Так можно наблюдать поединок низшего с высшим, но только полное сознание может ободрить для противостояния злу. Полезно помнить это и собрать не только силы, но и терпение, чтобы побороть уже сужденное к разрушению. Утверждаю, что истина «Свет побеждает тьму» имеет физиологическое основание» (Живая Этика, Мир Огненный, 1, 543).
118. Рерих Е. И. Знамя преподобного Сергия Радонежского. – Новосибирск, 1994. – С. 51.
119. Живая Этика, Надземное, 586. Тут разъясняется^ истинный смысл и объем понятия «доброслужение»: «Агни Йога есть доброслужение. Поймите это определение в полном значении. Научитесь служить добру. Познайте преданность Великому Служению. Найдите силы пламенные, которые помогут проявить мужество на всех трудных путях. Поймите, почему эти пути трудны. Сумейте естественно принять огни природы вашей. Поймите все великие явления мироздания. Не утомитесь каждодневным трудом как великою пранаямою. Помогайте всем идущим на всех путях.
Познавайте величие мысли, которая живет в Беспредельности. Охраняйте себя и других от страха. Углубляйтесь в познании, ибо невежество есть тяжкое преступление. Улыбайтесь молодым, ибо для них вы строите мосты и дороги. Назначьте себе тяжкий труд и покажите пример всем. Так вы откроете все значение доброслужения».
120. Живая Этика, Зов, 18.10.1922.
121. «Когда говорят, что кто-то подавлен обстоятельствами, будьте уверены, что он шел без воспламенения и при столкновении его сознание смутилось. Иногда трудно распознать мгновение смущения, но оно отравляет все последующие действия. Но когда тверд ход, тогда благотворны противодействия. Они рождают молнию, и гром потрясает далекие горы» (Живая Этика, Знаки Агни Йоги, 257).
122. «Житие и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Сергия...». – С. 249.
123. Н. С. Борисов в книге «Сергий Радонежский» (с. 106) пишет, что митрополит Алексий бежал из плена в начале 1360 г., но, к сожалению, не дает ссылки на источник своей информации.
124.Контекст цитаты таков: «Казалось бы, ясно сказано об Огненном Крещении. Указаны огненные языки над головами, но люди не желают принять действительность, как она есть. Они будут как бы почитать Писания, но не принимать в жизни. Не все могут принять и спокойно наблюдать нежгучее пламя, как вы видели его, хотя оно было вполне действительным, со всеми свойствами огня, кроме жгучести. Но нужно было иметь открытое сердце, чтобы стоять перед этим пламенем. Люди уловили грубое проявление в виде электричества, но без применения огненных свойств человеческого организма они не могут продвинуться к утончению проявления. Утро человечества наступит тогда, когда понимание Огня войдет в жизнь» (Живая Этика, Мир Огненный, 1, 4). И к этому небольшое добавление: «...мудр закон вечного даяния. Кажется, что общего между жертвой и огнем, но жертва пламенная называется во всех Заветах» (Живая Этика, Мир Огненный, 1, 5).
125. Живая Этика, Надземное, 798.
126. Троицкий патерик. – Троице-Сергиева лавра, 1896. – С. 321. Клосс Б. М. создание Спасо-Андроникова монастыря относит к 1366 (с. 44), но он этот год вычисляет логически, не зная о сведениях «Троицкого патерика».
127. Троицкий патерик. – Сс. 81-82.
128. Троицкий патерик. – С. 82.
129. Преподобный Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские. – СПб.: «Глаголъ», 1993. – С. 67.
130. «Надлежит ли миротворцу облачаться в доспехи воинские? Мы достаточно говорили о благе мира. Мы утверждали охрану творений человеческих. Мы указывали на ужасы братоубийства, но мы также говорили о достоинстве родины. Так, самый преданный Миротворец указывал, чтобы были использованы все средства для сохранения мира. Он же послал воинство, чтобы защищать границы земли его народа.
У людей всегда встает неразрешимая задача, как мог Миротворец посылать воинства на бой (мы вскоре расскажем о таком деянии Сергия Радонежского. – А. К.). Такая задача трудна человеку, если он положит в основание неверные ценности. Человек должен признать спасение и оборону родины и отказаться от порабощения. Пусть в сердце своем человек взвесит, где оборона и где порабощение» (Живая Этика, Надземное, 572).
131. Рерих Е. И. Знамя Преподобного Сергия Радонежского. – Новосибирск, 1994. – С. 62.
132.1. Древние иноческие уставы. – М., 1892. – С. 256.
132.2. Там же, с. 260
133. Библия, Мф., 5:15, 16.
134. Рогожский летописец под 1365, цитируется по книге Н. С. Борисова «Сергий Радонежский». – С. 109.
135. ПСРЛ, т. XVIII, СПб., 1913, с. 102.
136. Кучкин В. А. Русские княжества и земли перед Куликовской битвой. В кн.: Куликовская битва. Сб. статей. – М., 1980. – С. 67.
137. Живая Этика, Озарение, 3. IV.7.
138. ПСРЛ., т. XI, СПб., 1897. – Сс. 21-22.
139. Борисов Н. С. Сергий Радонежский. – С. 142.
140. Борисов Н. С. Там же. – С. 141.
141. Живая Этика, Надземное, 277.
142. Черепнин Л. В. Договорные и духовные грамоты Дмитрия Донского, как источник для изучения политической истории великого княжества Московского. – ИЗ, № 24, 1947. – С. 262.
143. На мой взгляд, Б. А. Рыбаков в книге о стригольниках убедительно доказал, что стригольничество было не еретическим, а возрожденческим течением в рамках Учения Христа (см. в его книге главы 2, 4, 6).
144. Живая Этика, Зов, 28.04.1923.
145. Рыбаков Б. А. Стригольники. Русские гуманисты XIV столетия. – М.: «Наука», 1993. – Сс. 104-107, 318-320.
146. Рыбаков Б. А. Там же. – Сс. 278-280.
147. Рыбаков Б. А. Там же. – Сс. 280-281.
148. Рыбаков Б. А. Там же. – Сс. 332-333.
149. Борисов Н. С. Сергий Радонежский. – С. 149.
150. Митрополит Макарий. История русской церкви. – М., 1995. – Кн. III, сс. 46-47.
151. Е. И. Рерих горячо любила и высочайше ценила Сергия Радонежского. Цитату мы взяли из ее письма и теперь приведем ее в полном контексте. «Народ жаждет света, он жаждет духовной пищи, но пища эта должна быть чистой, и ризы новых духовных наставников должны стать действительно белоснежными, и они должны идти стопами Владыки Христа и стопами Его истинного отображения на Земле, нашего великого Преподобного Сергия. Именно Преподобный Сергий, приобщенный огню и огненному крещению, знал и знает природу Божественного Начала. Именно Преподобный Сергий не был богословом и догматиком, но вся его жизнь была подвигом подражания Христу в его самоотверженном служении Родине и Миру. Да, Преподобный Сергий жил заветами Христа, но не церковными утверждениями. И его отказ от митрополичьего поста не происходил ли оттого, что Дух его знал все расхождения церкви с Истиной?» (Рерих Е. И. Письма. – Т. 1, сс. 282-283).
152. Об информаторах Киприана можно говорить лишь предположительно. Одним из них был, вероятно, игумен Серпуховского монастыря в Высоком Афанасий, позднее выехавший вместе с Киприаном в Византию и оставшийся там жить. Кроме него, Киприан, конечно, мог получать нужные сведения от тверского и литовского князей.
153. Точная дата отъезда Киприана из Киева неизвестна, но историки установили, что 3 июня, будучи уже в пути, он послал с доверенным человеком письмо, адресованное преп. Сергию и игумену Симоновского монастыря Феодору (см. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. – Сс. 54 и 195).
154. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. – С. 55.
155. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. – С. 196.
156. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. – С. 195.
157. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. – Сс. 195, 201.
158. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. – С. 196.
159. Живая Этика, Братство, 460.
160. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. – С. 55.
161.Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. – С. 196.
162 и 163. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. – С. 196.
164. Живая Этика, Зов, 1921, 2.01
165.1. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. – С. 196.
165.2. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. – С. 25.
166 и 167. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. – С. 196.
168. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. – С. 201.
169. 1 декабря 1379 г. монастырская церковь уже была освящена (Рогожский летописец, лето 6887 г.).
170. Борисов Н. С. Сергий Радонежский. – Сс. 126, 176.
171. Борисов Н. С. Сергий Радонежский. – С. 179.
172. ПЛДР. – М.: «Художественная литература», 1981. – С. 25 (Повесть о битве на р. Воже).
173. ПСРЛ. – Пг., 1922, т. XV (вып. 1). – С. 137.
174. Мы рассматриваем Основную и Пространную редакции «Сказания о Мамаевом побоище» по изданию: «Повести о Куликовской битве». – М.: АН СССР, 1959 год.
175. Деяния вселенских соборов, изданные в переводе при Казанской духовной академии. –Казань, 1878. – Т. 7, с. 147.
176. Приводим контекст цитаты. «Могут ли пророчества остаться невыполненными? Конечно, могут. У Нас целое хранилище упущенных пророчеств. Истинное пророчество предусматривает наилучшую комбинацию возможностей, но их можно упустить.
Пророчества издавна идут из Нашей Общины как благие знаки человечеству. Пути пророчеств разнообразны: или внушение отдельным лицам, или массовые чувствования, или неизвестно кем оставленные надписи. Пророчества лучше всего оповещают человечество. Конечно, символы часто затемнены, но внутренний смысл создает вибрацию. Конечно, исполнение пророчества требует настороженности и устремления» (Живая Этика, Община, 25).
177. «Улыбка решимости – лучший проводник. Надо признать цель и вложить себя в план Учителя. Всякое желание бедно, но стремление к подвигу нужно. Желание не есть подвиг. Подвиг есть осознание необходимости. Желание может расти, от желания можно отказаться или изменить его. Поток стремится не по желанию, но по неизбежной необходимости»... Как точно, прекрасно сказано! Ведь эта мысль относится и к потоку Эволюции.
«Дух знает, где толчки желания, а где скала необходимости. Вижу, как истины поток несется – ничто не может преградить ему путь.
Как часто имя Владык, произнесенное с верою, помогает создать мост помощи.
Мы видим далеко не все прекрасное. При работе над человечеством надо часто руки мыть.
И когда вам бывает тяжело, не относите к себе, но помните о волнах мирового воздействия.
Только сознанием полной необходимости переплывете» (Живая Этика, Озарение, ч. 2, VII, 16).
178. Живая Этика.
179. «Из всех созидательных энергий самой высокой остается мысль. Что же будет кристаллом этой энергии? Кто-то думает, что точное знание будет венцом мысли, но вернее сказать, что венчает мысль легенда. В легенде сложится смысл созидательной энергии и в сжатой формуле выразятся чаяния и достижения. Неверно думать, что легенда принадлежит призрачной древности. Непредубежденный ум отличит легенду, творимую во все дни Вселенной. Каждое народное достижение, каждый вождь, каждое открытие, каждое бедствие, каждый подвиг облекаются в крылатую легенду. Поэтому не будем презирать легенды истины, но посмотрим зорко и позаботимся о словах действительности. В легенде выражается воля народа, и мы не можем назвать ни одной лживой легенды. Духовное устремление мощного коллектива запечатлевает образ истинного значения, и оболочка символа означает мировой знак, который, как мировой язык, неминуем в эволюции.
Правы искатели общего языка. Правы создатели легенды мира. ^Трижды правы носители подвига» (Живая Этика, Знаки Агни Йоги, 19).
180. Знамя преподобного Сергия Радонежского. – Новосибирск: «Гелиос», 1991. – С. 68.
181. ПЛДР, XIV в. – сер. XV в., 1981. – С. 388.
182. ПСРЛ, т. XII, вып. I. – Сс. 141-142.
183. Летописная «Повесть о Митяе-Михаиле» цитируется по приложению к книге Прохорова «Повесть о Митяе». – Сс. 223-224.
184. Там же. – С. 224.
185. Русская историческая библиотека (РИБ), т. 6, Прил. 30, стб. 179.
186. РИБ, т. 6, стб. 180.
187. ПСРЛ, т. XV, вып. I, стб. 142.
188. Седова Р. А. Святитель Петр, митрополит московский. – М., 1993. Цитаты приводятся по этой книге.
189. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. – С. 114.
190. Там же. – С. 215.
191. Там же. - С. 214.
192. Митрополит московский и коломенский Макарий. История русской церкви. Кн. третья. –М., 1995. – Сс. 46-48.
193. ПСРЛ, т. XV, вып. I, стб. 142.
194. Там же, стб. 190.
195. Там же, стб. 193.
196. Борисов Н. С. Сергий Радонежский. – С. 199.
197. Борисов Н. С. Там же. – С. 204.
198. ПСРЛ, т. XV, стб. 146-147.
199. ПСРЛ, т. XXV. – М. -Л., 1949, с. 210.
200. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. – Сс. 177, 178.
201. Прохоров Г. М. Там же. – С. 204.
202. Митрополит Макарий. История Русской церкви. – Кн. третья, с. 55.
203. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. – С. 179.
204. ПСРЛ, т. XI, СПб, 1897. – Сс. 86-87.
205. Ж. Сент-Илер. Криптограммы Востока. – Новосибирск, 1996. – С. 73.
206. Живая Этика, Знаки Агни Йоги, 468.
207. Голубинскип Е. Е. История русской церкви. – М., 1917. – Т. 2, вторая половина тома, с. 68
208. Живая Этика, Озарение, ч. 2, VIII, И.
209. Клещевский В. А. Тайна Ленина. – Томск, 1995. – Сс. 41-43.
Мы согласны с Клещевским в том, что при истолковании Пророчества не следует опережать события и что поэтому в настоящее время полный смысл Пророчества Владычицы вряд ли возможно уразуметь. Однако мы не согласны с В. А. Клещевским ни в определении масштаба событий, охватываемых Провозвестием, ни в категоричности ряда его суждений о трех проклятиях.
210. Живая Этика, Озарение, ч. 2, V, 5.
211 и 212. Живая Этика, Озарение, ч. 2, IV, 11, а также см.: Рерих Е, И. У порога нового мира. – М.: МЦР, 1996. – С. 79
213. В эзотерическом Учении названо трое Владык Мира: Будда, Христос, и Майтрейя-Старший, Учитель Учителей» (Письма Е. И. Рерих. – Новосибирск, 1993. – С. 154). «Эпоха Майтрейи утверждает женщину» (Живая Этика, Иерархия, 13). «Грядущая Эпоха будет находиться под лучами трех Владык – Майтрейи, Будды и Христа» (Письма Е. И. Рерих. – Минск: «Прамеб», 1992. – С. 210, 30.17.1937).
Приведу небольшой комментарий из письма Е. И. Рерих от 31.07.1937 года. «Также спросите обижающихся на то, что грядущая эпоха названа эпохой Майтрейи, а не эпохой Христа, понимают ли они вообще значение этих имен? Если бы они больше знали , то и не обижались бы. Грядущая эпоха будет находиться под лучами трех владык – Майтрейи, Будды и Христа. Еще раз приходится пожалеть, что все обижающиеся так мало знакомы с основами, данными через Е. П. Блаватскую]. Впрочем, может быть, многие из них не смогли бы переварить их и еще хуже стали бы кощунствовать. Атавизм необычайно силен в некоторых людях. Ум их никак не может выйти на новый путь, старые колеи останавливают всякое продвижение, но они не замечают этого. А вековые наглазники, предусмотрительно одетые, в виде всяких догматов и запретов, отучили от широкого горизонта. Вот почему процесс эволюции так медлителен, космическое равновесие нарушилось, и человечеству приходится платить за свою косность переживанием страшных потрясений и революций» (там же, с. 290).
214. Живая этика, Знаки Агни Йоги, 274.
215. Рерих Е. И. У порога Нового Мира. – М.: МЦР, 1996. – С. 171.
216. Рерих Е. И. Там же. – С. 171.
217. История русской церкви. – М.,1997. – Кн. 9, с. 67.
218. Живая Этика внесла дополнения и изменения в традиционные представления о югах. Одно из изменений касается сжатия сроков Кали-юги, обусловленное ускорением всех процессов развития современного человечества. Черный Век, как утверждается в Учении, закончился в 1942 году, и человечество вошло в переходный период к Светлому Веку. Этот период сложен. Противоречив и опасен.
«Можно ли построить жизнь среди ненавистничества конца Кали-юги? Но все задание будущей Сатиа Юги должно выразиться уже теперь, среди вражды и уничтожения» (Живая Этика, Знаки Агни Йоги, 511). «В конце Кали-юги, действительно, все процессы ускоряются, потому не следует принимать прошлые сроки как неизменные» (там же, с. 466). «Спросят: как совместить опасность существованию самой планеты с возможностью Светлой Эпохи? Людям дается полная возможность вступить в счастливую эпоху великих открытий. Но если свободная воля удержит их от новых продвижений (прежде всего, в развитии новой духовности. – А. К.), они могут создать катастрофу любого размера...» (Надземное, 111).
219. Рерих Е. И. У порога Нового Мира. – М.: МЦР, 1996. – С. 171
220. Об этом сценарии Сатаны говорится в книгах Учения (Сердце, 218; Община, 49 и др.), но мы ради краткости приведем суждение Е. И. Рерих, основанное, понятно, на Учении. «Так, судьба мира в руках человечества. Если произойдет воскресение духа, если сознание освободится от призраков прошлого и устремится к построению Нового Мира, на основе нового понимания сотрудничества и знания, то планета может уцелеть...Катастрофа может явиться Днем Последним. Ведь возможно, что не собрать столько противодействующих, вернее, разряжающих энергий, чтобы удержать планету от конечного гигантского взрыва. К этому взрыву князь Мира сего и направляет все свои усилия. Ибо он знает, что в очищенной атмосфере, пронизанной огненными лучами, или энергиями, пребывание его в сфере земной станет нестерпимым, невозможным. Потому он стремится взорвать, чтобы уплыть на обломках.
Помните, в Учении сказано, что именно дух человека может стать взрывателем планеты. Также сказано и о разрядителях, число которых так мало, и потому вся тягость утверждения равновесия ложится на них. Сильный дух может удержать целую местность от землетрясения» (Письма Е. И. Рерих. – Минск: «Прамеб», 1992. – Т. 2, с. 67).
221. «Считаю, что эволюция совершается малым меньшинством. Не удивляйтесь, что такое же отношение существует между проявленным и непроявленным хаосом. Тем не менее космическая эволюция непрестанно совершается. Так и среди человечества нужно видеть, что лишь меньшинство готово принять переустройство жизни, но переустройство все же совершается. Так, можно сказать, что лишь немногие готовы следовать путем эволюции, но их ясное сознание дает достаточную энергию. Мыслитель говорил: «Пусть останутся лишь немногие, ибо не в количестве суть» (Живая Этика, Надземное, 645).
222. Библия, Ин., 1:33, 3:17, 3:34, 4:34, 5:23, 24 и т. д.
223. Такое почитание нашло свое выражение, как мы показали, в «Житии». Можно привести также примеры из «Сказания о Мамаевом побоище»
224. Живая Этика, Озарение, ч. 2, VIII, 11.
225. Рерих Е. И. Письма. – Новосибирск: «Вико», 1993. – С. 149.
226. Библия, Вт., 5:19, 21
227. Библия, Мф., 5:17
228. Живая Этика, Сердце, 319. «Чудо есть проявление тончайших энергий, не учтенных в химических и физических школах. Чудо не только в левитации и в потере веса, чему вы были свидетелями, но те же тончайшие энергии применяются чаще, нежели думают, в жизни, и эти непонятные большинству энергии должны быть изучены. Это не некромантия, не спиритизм, но просто наука тончайших энергий. Перед нами сердце человеческое, этот ларец сокровенный. Но нужно прислушаться к нему и подойти к престолу высшему, обмыв руки. Вы видели пример нерадивых врачей, которые не воспользовались прекрасным примером (тут редакторская недоработка; видимо, надо сказать не примером, а средством». – А. К.) пламенного сердца. Теперь они платят за свою слепоту.
Чудо может быть. Но нужно соединить тончайшие нити сердца. К тому и указываем на необходимость объединения сознания».
229.Библия, Лев., 9:24.
230.Библия, Евр., 1:7
231.Живая Этика, Сердце, 375. «Известный вам йог, принимавший без вреда сильнейшие яды, умер от малого замедления применения сердечной энергии. Иммунитет заключается в сердце, которое и разбивает следствия, приобщаясь к пространственному огню. Но для этого нужно разбудить огни сердца, и вы знаете, какое время нужно для этого! Конечно, прием яда должен производиться постепенно. В случае, вам известном, потребовалось семь лет на приучение организма к координации с огнями пространства. Лишь одна минута промедления вызвала преимущество сил яда. Нельзя ни на минуту отложить перенесение сознания в сердце».
232.Живая Этика, Мир Огненный, 1, 17. «Сущность огненного иммунитета была описана Зороастром. Он указывал, что люди из каждой поры кожи могут вызвать огненные лучи, которые поражают всех вредителей. Человек, покрытый бронею защитною не может получить никакое зараженное явление. Можно усилить это напряжение единением с Иерархией. Так сердце становится, как солнце, испепеляющее все микробы».
233. Срезневский И. И. Материалы к словарю русского языка. – Т. II, с. 378 (слово «недуг»).
234. Троицкий патерик. – Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1992, репринт, издания 1896, с. 71. Далее по этому изданию даны цитаты и указаны страницы.
235. Лермонтов М. Ю. Собр. Сочинений. – Изд. Академии наук, 1961. – Т. 3, с. 432.
236. Живая Этика, Братство, 190.
237. Живая Этика, Братство, 213.
238. Живая Этика, Сердце, 112.
239. Живая Этика, Озарение, ч. 3., VI. 4.
240. Библия, 1Кор., 13:2

ХРОНИКА ЖИЗНИ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО*
1314 г., – 3 мая – Рождение
1329 г. – Переселение из Ростова в Радонеж
1329 г. – 1342 гг. – Жизнь в Радонеже
1342 г. – 1344 гг. – Отшельничество
1342 г. – Построение и освящение лесной церквицы Святой Троицы
1342 г., осень – Пострижение в монахи; смена имени Варфоломей на имя Сергий
1344–1345 гг. – Приход монахов к Сергию. Преобразование отшельнической пустыньки в монастырь Святой Троицы
1345–1346 гг. – Смерть священника Митрофана
1346 г. – Приход к Сергию смоленского архимандрита Симона
1346 г. – Постройка новой, обширной церкви Святой Троицы (на деньги архимандрита Симона)
1344–1354 гг. – Доцерковный период монастыря Святой Троицы, живущего по неписаному уставу Сергия
1344–1346 гг. – Инок Сергий – фактический управитель Свято-Троицкого монастыря, в котором обязанности священника выполняет приходящий игумен Митрофан
1346–1354 гг. – Инок Сергий – фактический управитель Свято-Троицкого монастыря, в котором архимандрит Симон выполняет обязанности священника
1354 г. – Инок Сергий получает официальный сан игумена Свято-Троицкого монастыря
1355 г. – Введение общежительства в Свято-Троицком монастыре
1359 г. – Заговор против общежительного устроения монастыря Святой Троицы и против игумена Сергия. Уход Сергия на реку Киржач
1359 г. – Основание Киржачского общежительного монастыря и постройка церкви Благовещения
1361 г. – Освящение церкви благовещения в Киржачском монастыре
1361 г. – Возвращение игумена Сергия в Свято-Троицкий монастырь, из которого были изгнаны заговорщики
*1361 г. – Участие преподобного Сергия в создании Андроникова монастыря
1363 г. – Миротворческий поход преподобного Сергия к ростовскому князю Константину Васильевичу
*1365 г. – Миротворческий поход преподобного Сергия к нижегородскому князю Борису Константиновичу
1370 г. – Участие преподобного Сергия в создании монастыря Рождества Богородицы в Симонове
1374 г. – Участие преподобного Сергия в создании монастыря Зачатия Богородицы в Высоком
1374 г. – Участие преподобного Сергия в создании Богоявленского монастыря в Голутвине
*1374 г., декабрь – январь 1375 г. – Участие преподобного Сергия в Переяславском съезде князей Северо-Восточной Руси
1375 г., январь – Преподобный Сергий крестит третьего сына (Юрия) великого князя Дмитрия Ивановича
*1375 г., март – сентябрь – Болезнь Сергия
конец 1377 – начало 1378 г. – Беседа митрополита Алексея с преподобным Сергием. Отказ Сергия от предложения занять пост митрополита всея Руси
1379 г., лето – Преподобный Сергий предсказывает время и обстоятельства смерти Митяя – великокняжеского кандидата в митрополиты
1379 г., сентябрь – Смерть Митяя
*1379 г., декабрь – Участие преподобного Сергия в создании великокняжеского монастыря на реке Дубенка
1380 г., 18–19 августа – Посещение великим князем Дмитрием Ивановичем и князьями-союзниками Свято-Троицкого монастыря. Преподобный Сергий благословляет князей на битву против Мамая
*1380 г., 8 сентября – Куликовская битва. Победа русского войска
1380 г., сентябрь – Посещение великим князем Дмитрием Ивановичем Свято-Троицкого монастыря
*1380 г., 1 ноября – Съезд князей-победителей в Москве
1381 г. – Участие преподобного Сергия в создании обетного Дубенского монастыря Рождества Богородицы
*1381 г., весна – Преподобный Сергий вместе с митрополитом Киприаном крестит Ивана, сына серпуховского князя Владимира Андреевича
1382 г., август-сентябрь – Преподобный Сергий в Твери
*1382 г., август-сентябрь – Нашествие хана Тохтамыша на Северо-Восточную Русь
*1382 г., 26 августа – Взятие и сожжение Москвы ханом Тохтамышем
*1382 г., 7 октября – Решение великого князя Дмитрия Ивановича о высылке из Москвы митрополита Киприана
*1385 г., рождественский пост – Переговоры в Рязани преподобного Сергия и великого князя Олега Ивановича. Подписание договора о дружбе и любви из рода в род между Москвой и Рязанью
1387 г., 24 декабря – Явление Богородицы и апостолов Петр; и Иоанна преподобному Сергию
*1389 г., 19 мая – Преподобный Сергий освящает своим присутствием составление завещания Дмитрия Ивановича Донского
1392 г., март – Преподобный Сергий предсказывает день и год своей кончины
*1392 г., 25 сентября – Похоронное завещание и кончина преподобного Сергия
1392 г., 28 сентября – Похороны игумена Свято-Троицкого монастыря Сергия

1. М. В. Нестеров. «Видение отроку Варфоломею» (1889–1890)
2. М. В. Нестеров. Эскиз к картине «Юность Сергия» (1892–1897)
3. М. В. Нестеров. «Труды преподобного Сергия» (1896–1897)
4. Евстафий Головкин. Чудотворная икона «Явление Багоматери преподобному Сергию Радонежскому» (1588)
5. Миниатюра из лицевого Жития преподобного Сергия Радонежского «Труды в монастыре» (конец XVI в.)
6. Н. К. Рерих. «Святой Сергий Радонежский» (1932)
7. М. В. Нестеров. «Труды преподобного Сергия» (1896–1897)
8. Н. К. Рерих. «Сергий-строитель» (1924)
9. М. В. Нестеров. «Юность преподобного Сергия» (1892–1897)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«Беловодье»
- психология - педагогика
- философия - история
- культурология - религиоведение
ОТДЕЛ КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЯ
Тел./факс: 290-14-43
ЗАКАЗ КНИГ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:
E-mail: belovodje@rambler.ru (опт)
kluch@tsr.ru (розница)
С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРА ТВОРЧЕСТВА «Беловодье»
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ:
http://www.vav.ru/
По вопросам издания книг и размещения рекламы:
E-mail: belovodje@rambler.ru
В 2000 – 2003 годах
в Издательстве «Беловодье»
вышли в свет следующие книги:
Амонашвили Ш. А. Амон-Ра
2004, 496 с, формат: 70 г 100/32, тв. переплет.
Амонашвили Ш. А. Саломея
2003, 384 с, формат: 70г 100/32, тв. переплет.
NEW! Амонашвили Ш. А. Вся земля ждет нас...
2004, 320 с, формат: 70гЮ0/32, тв. переплет.
NEW! Ключников Ю. М. Здесь и там (Поэт и Фея)
2004, 320 с, формат: 70 г 100/32, тв. переплет.
Владимиров А. В. В поисках православия: Современники
2000, формат: 60 г 90/16, мягкая обложка.
Владимиров А. В. Кумран и Христос: Кумранские свитки об историческом Иисусе, жившем за 100 лет до евангельского Христа
2002, 766 с, формат: 60г90/16, тв. переплет.
Владимиров А. В. Апостолы: Гностико-эллинские истоки христианства
2003, 582 с, формат: 60 г 90/16, тв. переплет.
Богин И. Л. Бог. Вселенная. Смысл
2000, 736 с, формат: 60г90/16, тв. переплет.
Ключников С. Ю. Агни Йога. Симфония: словарь-путеводитель, кн. III
1999, 560 с, формат: 84 г 108/32, тв. переплет.
Ключников С. Ю. Как спасти мужа от пьянства: Пособие для страдающих женщин
1999, формат: 84г108/32, мягкая обложка.
Ключников С. Ю. Мастер жизни: Психоэнергетическая защита в социуме
2003, 592 с, формат: 84г108/32, тв. переплет.
Ключников С. Ю. Невидимая бюня: Теория и практика психоэнергетической защиты
2002, 528 с, формат: 84 г 108/32, тв. переплет.
Ключников С. Ю. Путь к себе: Обретение духовной силы
2003, 608 с, формат: 84 г 108/32, тв. переплет.
Ключников С. Ю. Фактор успеха: Новая психология саморазвития
2002, 480 с, формат: 84 г 108/32, тв. переплет.
Ключников Ю. М. Белый Остров
2000, 688 с, формат: 60г90/16, тв. переплет.
Рудникова Н. П. Сакральный мистицизм Египта: 22 ступени посвятительного пути
2002, 376 с, формат: 60г90/16, тв. переплет.
Рене Генон. Символы священной науки
2002, 496 с, формат: 60г90/16, тв. перплет.
Рене Генон. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: Царство количества и знамения времени. Очерки об индуизме. Эзотеризм Данте
2003, 480 с, формат: 60г90/16, тв. переплет.
NEW! РенеГенон. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: Традиционные формы и
КОСМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО МИРА
2004, 304 с, формат: 60г90/16, тв. переплет.
Фрэди Боллаг. Имя Аллаха и число 66
2003, 288 с, формат: 60г90/16, тв. переплет.
Гленн Муллин. Практика Калачакры
2002, 368 с, формат: 70г90/16, тв. переплет.
Рамачандра Рао. Тантра. Мантра. Янтра
2002, 304 с, формат: 70г90/16, тв. переплет.
Амонашвили П. А. Америка – век XXI: глазами очевидца
2003, 96 с, формат: 84гЮ8/32, мягкая обложка.
Югай Г. А. Общность народов Евразии – арьев и суперэтносов – как
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: РОССИЯ И КОРЕЯ
2003, 288 с, формат: 84г108/32, мягкая обложка.
NEW! Бакштанский В. Л., Жданов О. И. Менеджмент жизни
2004, 528 с, формат: 60г90/16, тв. переплет, иллюстрации.
Кирилев Е. Н. Жизнь ради жизни
2001, 264 с, формат: 70гЮ0/32, тв. переплет
NEW! Кирилев Е.Н. Острие победы
2004, 240 с, формат: 70:100/32, тв. переплет
NEW! Проценко Т. А. Ресурсы здоровья
2004, 160 с, формат: 84гЮ8/32, мягкая обложка
NEW! Проценко Т. А. Как сохранить энергетический иммунитет
2004, 192 с, формат: 84г108/32, мягкая обложка
NEW! Проценко Г. А. Здоровье – гармония ума, сердца и воли
2004, 176 с, формат: 84г108/32, мягкая обложка
Научно-популярное издание
Александр Александрович Косоруков
Сергий Радонежский – строитель вечного пути России
Ответственный редактор,
компьютерная графика,
оригинал-макет, вёрстка:
М. Бухвостова
Издательская лицензия ЛР № 066606 от 19.05.99
Формат: 60x90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «Academy». 36 усл. печ. л.
Тираж 1000 экз. Зак. № 9797
Центр творчества «Беловодье»
http://www.vav.ru
Издательство:
Тел./факс: 290-14 43
E-mail: belovodje@rambler.ru
Отпечатано в полном
соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в
ППП «Типография «Наука»: 121009, Москва, Шубинский пер., д. 6
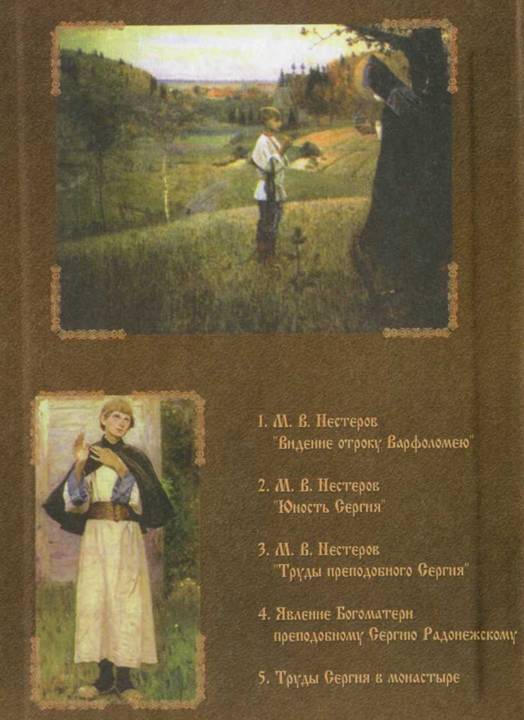
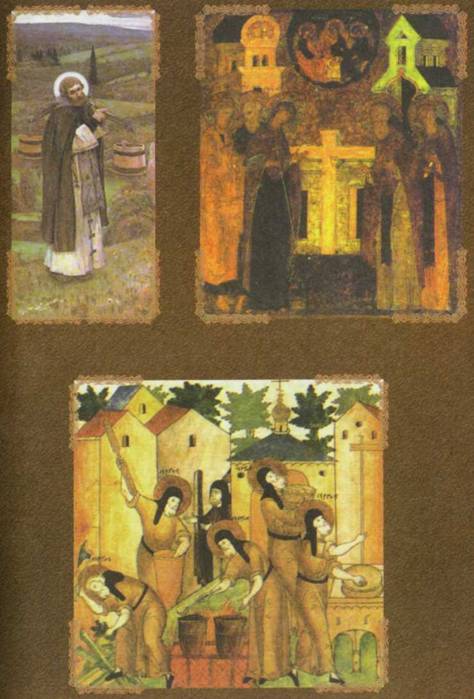

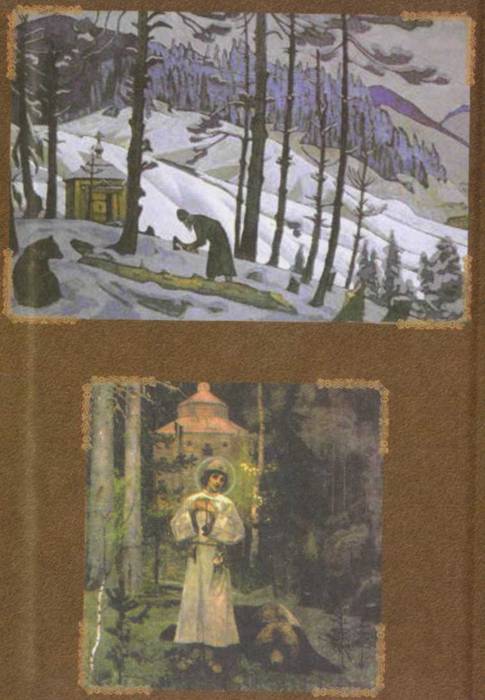
* Примечания и комментарии, помеченные квадратной скобкой [1], помещены в конце книги, в соответствующем разделе.
* Так кратко (а иногда просто «Житие») мы будем называть это житие, которое в разных редакциях имеет различные, увы, всегда длинные наименования.
** Дальше – просто «Похвальное слово», упоминавшееся нами во Введении.
* Ссылки на редакции «Жития Сергия» мы будем давать в тексте, в скобках, с указанием страницы, как правило, по изданию: Клосс Б. М. Избранные труды. Том 1. Житие Сергия Радонежского. – М.: «Языки русской культуры», 1998. Ссылки на другие издания будут оговорены особо.
* К вопросу о преемнике Сергия мы еще вернемся. Тут дело, на наш взгляд, было сложнее, чем это видится Б. М. Клоссу.
* Здесь и далее перевод Первой пахомиевской редакции сделан мною. – А. К.
* Эта глава в Пространной редакции «Жития Сергия» почти вдвое короче по сравнению с Первой пахомиевской редакцией. Поэтому мы здесь рассматриваем пахомиевский вариант переделки протографа, цитаты и сноски приводим по книге Б. М. Клосса о Сергии Радонежском.
* Мы рассматриваем этот рассказ по тексту Первой пахомиевской редакции, который лучше текста Пространной редакции.
* Этот рассказ мы рассматриваем в варианте Первой пахомиевской редакции.
* «Древние жития преподобного Сергия Радонежского». – М., 1892. – С. 43, III (1-ый отдел); с. 26 (2-ой отдел). В этой главе все цитаты приводятся по данному изданию.
* Запись в Никоновской летописи, как это признано в нашей исторической литературе, является пересказом «Жития».
* Текст этой главы у Пахомия и у Анонима почти тот же самый. «Почти» относится только к последнему абзацу Пространной редакции, которого нет в Первой редакции Пахомия.
* Редкий случай: Пахомий и Аноним, по сути дела, одинаково освещают беседу митрополита Алексия с преп. Сергием. Поэтому мы в данной главке под понятием «агиограф» имеем в виду и Пахомия, и Анонима. Все цитаты приводим по Первой пахомиевской редакции.
* «И с тех пор люди видели в святом великого пророка. Однажды в монастырь к преподобному Сергию пришел великий князь и сказал ему: "Отче, я нахожусь в большой печали: ведь я получил известие, что Мамай поднял всю Орду, и идет на Русскую землю, и хочет разрушить церкви, которые Христос искупил Своею кровью. И потому, святой отец, помолись Богу, ведь печаль эта есть печаль всех христиан"».
* «Он (великий князь. – А. К.) прибыл к святому Сергию, чтобы, имея великую веру в него, спросить, повелит ли Святой ему выступить против безбожных: великий князь знал его как добродетельного старца, обладающего даром пророчества».
** «Князь же великий Дмитрий Иванович, взяв с собой брата своего, князя Владимира Андреевича, и всех князей русских, поехал к живоначальной Троице поклониться отцу своему, преподобному старцу Сергию, и получить благословение от той Святой обители».
* Цитата приводится по тексту «Жития» в ПЛДР.
* 1) Даты, отмеченные звездочкой ( * ), указаны в летописях; 2) Даты, не отмеченные звездочкой, вычислены на основе сопоставления различных косвенных сведений и указаний.
Внимание! Сайт является помещением библиотеки. Копирование, сохранение (скачать и сохранить) на жестком диске или иной способ сохранения произведений осуществляются пользователями на свой риск. Все книги в электронном варианте, содержащиеся на сайте «Библиотека svitk.ru», принадлежат своим законным владельцам (авторам, переводчикам, издательствам). Все книги и статьи взяты из открытых источников и размещаются здесь только для ознакомительных целей.
Обязательно покупайте бумажные версии книг, этим вы поддерживаете авторов и издательства, тем самым, помогая выходу новых книг.
Публикация данного документа не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Но такие документы способствуют быстрейшему профессиональному и духовному росту читателей и являются рекламой бумажных изданий таких документов.
Все авторские права сохраняются за правообладателем. Если Вы являетесь автором данного документа и хотите дополнить его или изменить, уточнить реквизиты автора, опубликовать другие документы или возможно вы не желаете, чтобы какой-то из ваших материалов находился в библиотеке, пожалуйста, свяжитесь со мной по e-mail: ktivsvitk@yandex.ru