

|
|
|
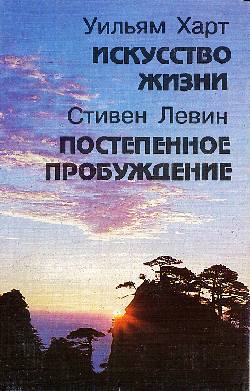
Эта книга о медитации випассаны проста, ясна и удобна, как старый знакомый; она просто такова, какова есть. Стивен Левин рассматривает медитацию и социальную ответственность таким способом, который ни абстрактен, ни пуст. Это практический материал для повседневной жизни.
Некоторые книги о медитации предназначены для начинающего, который никогда по‑настоящему не думал о медитации; другие написаны для лиц, продвинутых в практике. «Постепенное пробуждение» будет наиболее полезно для тех, кто стоит на средних ступенях Срединного Пути, т. е. для таких читателей, которые уяснили себе необходимость странствия и отправились в плаванье.
Мне хотелось бы от всей души поблагодарить за поддержку и участие:
Рам Дасса, первым одобрившего замысел этой книги и оказавшего весьма значительную помощь этим наставлениям;
Джека Корнфилда – его тонкая душа и острый взгляд очень способствовали созреванию этого изложения традиции;
Эла Стриклэнда, благодаря чьим титаническим усилиям по расшифровке магнитофонных записей и по подготовке оригинала рукописи книга смогла стать реальностью;
Карен Дега, чья глубокая, но дружеская критика помогла упростить стиль изложения;
Нэнси Клебанову, чьи щедрость и дружественность оказались очень кстати на завершающих стадиях работы;
И более всего – сангху Санта‑Круз, чистота которой вдохновила меня однажды произнести эти поучения.
Когда моему гуру хотелось похвалить меня, он называл меня простым; когда же ему хотелось пристыдить меня, он называл меня умным. Эта книга о медитации випассаны проста, ясна и удобна, как старый знакомый; она просто такова, какова есть. Меня удивляет такая простота, – я же понимаю, что книга рассматривает глубокие проблемы, над которыми я часто и бесплодно размышлял, погрузившись в древние тома буддийского предания. В глубине сердца я всегда знал, что эти предметы вполне просты, так что видеть их представленными подобным образом – большая отрада души.
В этой книге, кроме ее простоты, скрыто и другое сокровище: она рассматривает проблему социальной ответственности. По вопросу о социальной ответственности между буддистами махаяны и тхеравады всегда существовал диалог. Воздерживается ли практикующий от освобождения, чтобы помочь всем живым существам окончить их страдания, или же он полностью порывает с миром?
Хотя этот спор включает в себя многочисленные философские тонкости, большинству из нас он кажется несколько академичным. Наша проблема состоит не в том, чтобы отказываться от освобождения, а скорее в том, чтобы терпеливо, день за днем бороться и высвобождаться из опутывающей нас огромной и цепкой кармической паутины. И потому проблема социальной ответственности для нас оказывается вопросом повседневности: сидеть сложа руки или служить, удалиться от суеты или лезть в драку.
Мне вновь и вновь задают вопрос: как я могу оправдывать сиденье в медитации, когда вокруг меня все еще существует столько страдания? Ответ на интеллектуальном уровне заключается в том, что корень страдания – это неведенье, и медитация оказывается наилучшим способом отсечь узы неведенья. Но при встрече с голодным ребенком, с мучительной физической болью, с существующим насилием над людьми или страхом смерти – такое оправдание иногда разочаровывает своей отвлеченностью и пустотой.
Стивен Левин рассматривает медитацию и социальную ответственность таким способом, который ни абстрактен, ни пуст. Это практический материал для повседневной жизни.
Его способность представить вопрос таким образом проистекает из его собственной жизни, где он обнаруживал постоянное чувство социальной ответственности.
Впервые я встретил Стивена в ранние дни Хэйт‑Эшбери, когда он издавал «Сан‑Францисский Оракул», оказавшийся одним из первых голосов пробуждающегося сознания шестидесятых годов. Позднее я узнал его как поэта, как явного друга и защитника смертников в Сан‑Квентине, как удачливого редактора и издателя, как отца двух прекрасных ребятишек, а в самое последнее время как товарища и руководителя тех, кто приближается к смерти как к возможному пробуждению. И вот, проходя сквозь все это, он продолжал углублять свою медитативную практику, рождающую ясность ума, и вносить ее результат в свою общественную деятельность.
Здесь раскрывается и еще одна ценная сторона, на которую я рекомендовал бы читателю обратить внимание. Это – переплетение сфер сердца и ума. Так часто различные виды духовной практики подчеркивали ложное разделение между практикой сердца и практикой ума. Значительная часть такого непонимания является следствием привычки определять пространство сердца в понятиях эмоций и считать чистый ум бесчувственным и сухим. Конечно, такая поляризация наивна, но слишком часто захватывает нас. Так что здесь появляется реальная возможность – увидеть в медитации метта и в последующем рассмотрении слияние восприимчивого ума с восприимчивым сердцем; это дает возможность проявления как оттаявшей души, так и ясного простора. Часто о буддизме говорят как о Срединном Пути. Некоторые книги о медитации предназначены для начинающего, который никогда по‑настоящему не думал о медитации; другие написаны для лиц, продвинутых в практике. «Постепенное пробуждение» будет наиболее полезно для тех, кто стоит на средних ступенях Срединного Пути, т. е. для таких читателей, которые уяснили себе необходимость странствия и отправились в плаванье. Да поможет им Бог!
И да достигнут все живые существа освобождения!
Рам Дасс
Двадцать лет назад я в сильном замешательстве сидел перед гипсовым Буддой из дешевого магазина и просил, чтобы меня научили медитировать. Я наткнулся на несколько ранних переводов буддийских текстов и первые воодушевляющие труды Д. Т. Судзуки и Алана Уотса; но там не предлагался какой‑то реальный метод для прямого переживания этих истин. Часто я испытывал чувство глубокого отчаянья: казалось, что я читаю описание путешествия по какой‑то необычайной стране, которую мне хотелось бы посетить; нет ни одной доступной карты, чтобы знать, как туда добраться.
И прошло еще несколько лет, прежде чем я повстречался в Нью‑Йорке с Руди, моим первым учителем; он был хозяином магазина изделий восточного искусства. В течение следующих месяцев он дважды в неделю показывал мне различные состояния ума, иллюстрируя свои слова физиономиями прохожих, когда мы сидели на складных стульях перед его магазином на Седьмой Авеню. Он не раз советовал мне освободиться от думающего ума; но вместо этого я анализировал и скрупулезно исследовал его слова, искал в них «значение», а не свободу. Я не был способен услышать Будду внутри кого‑нибудь из нас двоих.
Мое тяготение к тхераваде (Пути старейших) и к дзэн‑буддизму продолжалось без влияния какого‑либо учителя или какого‑то иного фактора, за исключением интуитивного метода исследования самого себя. Лишь медленно и постепенно я приобретал некоторый образ мысли, но при этом – ничего более глубокого и полезного.
Затем, в середине шестидесятых годов, приятель, вернувшийся после обучения в Бирме, привез с собой книжечку с наставлениями по випассане, где говорилось об особом методе буддийской медитации внимательности, или прозрения. Он сказал, что из всех поучений, полученных им как буддийским монахом за четыре года, эта простая медитация была самой полезной. Поучения весьма уважаемого бирманского мастера медитации Махаси‑схаядо немедленно вовлекли меня в более глубокую практику и открытия. Работая по методу, описанному в этой книжке, я в течение следующих нескольких лет стал довольно нерегулярно практиковаться, пока наконец не встретил молодого буддийского монаха‑тхеравадина, который предложил мне более полные наставления и руководство. Помогая мне узнать свою обусловленность, противодействовать слепым пятнам, которые замедляли практику и сделали ее не вдохновляющим начинанием, он подвел меня к твердой привычке практиковать продолжительно и развиваясь.
Через пару лет работы с этим юным монахом я встретил Джека Корнфилда и Джозефа Голдстайна, двух опытных наставников медитации прозрения; я продолжал практику с ними, и они впервые побудили меня начать три года назад учительскую деятельность. Я начал учить в 1976 году в тюрьме Соледад; вышло так, что мне удалось сделать магнитофонную запись занятий с группами; и несколько расшифровок этих записей послужили основой для вошедших в эту книгу глав. В это же время Рам Дасс пригласил меня для практики учить медитации прозрения в его приютах; вскоре мы вместе с ним написали книжку «Зернышко на мельнице». Тогда же Ханумановская фонотека, распространявшая записи занятий Рам Дасса, переехала в Санта‑Круз; она показалась нам подходящим местом для проведения еженедельных занятий. Большая часть материала настоящей книги заимствована из расшифровок записей этих встреч. В то благодатное время Элизабет Кюблер‑Росс пригласила меня учить вместе с нею участников семинаров в ее мастерских; сюда включены также и расшифровки различных записей этих собраний.
Слова книги предлагаются не в качестве абсолютной истины, а скорее как результат процесса обучения, выраженный вслух. Я адресую эту книгу тому недоумевающему парню, который двадцать лет назад сидел в своем коттедже во Флориде, только что бросив колледж и задумавшись о том, какой путь приведет его к свободе.
Стивен Левин
Санта‑Круз, Калифорния.
Август 1978 г.
Для многих медитация – чуждое понятие, нечто отдаленное и зловещее, занятие, участие в котором кажется невозможным. Но есть и другое слово для обозначения медитации – это просто осознавание. Медитация и есть осознавание.
Мотивы для занятий медитацией зачастую оказываются у разных людей совершенно различными. Многие приходят к медитации от своей любви к благим качествам некоего учителя, или вследствие желания познать Бога. Другие – из желания понять, что есть ум. Некоторые начинают практику, даже не зная толком, что такое медитация, но испытывая томительное желание избавиться от какой‑то печали, какой‑то боли, какой‑то неполноты своей жизни.
В этой книге предлагается простая буддийская практика внимательности, приводящая нас к целостности, к естественной полноте. В основе практики – непосредственное соучастие в каждом мгновенье настоящего с возможно большим осознанием и пониманием.
Сосредоточенность и осознание мы все до некоторой степени уже развили. Ведь даже для того, чтобы прочесть книгу, или чтобы справляться со своей многосложной жизнью, – уже требуются осознание и сосредоточенность. Эти качества ума наличествуют у каждого.
В медитации эти качества усиливаются благодаря систематичным, ненатужным, но и неослабным методикам. Чтобы развить сосредоточенность, мы избираем какой‑нибудь единственный объект осознавания; это тогда основной объект, и вниманию должно «приходить на ум», возвращаться к нему и удерживаться на нем. Основное различие между разными формами медитации, будь то трансцендентальная медитация, пляски суфиев, проработка дзэнских коанов, медитации сидя, христианская молитва, распевание мантры, прислушивание к потоку внутренних звуков, кружение света, наблюдение ощущений внутри тела, методы зрительного воображения или слежения за дыханием, – заключено в первичном объекте, сосредоточенность на котором развивают в ходе медитации. Мы избираем некоторый основной объект и работаем с ним, – будет ли он чем‑то создаваемым нами в содержательной сфере, скажем, повторением слов, или идеей любящей доброты, или чем‑то таким, что уже всегда присутствует, как ощущения в теле.
Внимательность к дыханию представляет собой мощное средство для развития сосредоточенности. Дыхание – великолепный объект, потому что оно есть постоянная часть нашего переживания, а также и потому, что дыхание изменчиво, и чтобы сообразоваться с его изменениями, осознавание должно стать очень тонким. Осознавание следит за ощущениями, которые имеют место одновременно с естественными вдохами и выдохами. Осознавание проникает в тонкие ощущения, сопутствующие каждому дыханию. Когда мы переносим внимание на уровень ощущения, мы меньше вязнем в словесном уровне, на котором тон задает всё многоголосие мысли, обычно находящееся во «внутреннем диалоге».
Этот «внутренний диалог» всегда комментирует, выносит суждения, планирует. В нем содержится множество мыслей о себе, мнительности и робости. Он застит свет нашей природной мудрости; сужает наше виденье того, что мы есть; производит много шуму и привлекает наше внимание только к доле той реальности, в которой мы существуем. А вот когда осознавание нацелилось и сфокусировано на вдохе и выдохе, то все прочие аспекты ума и тела, как процесса, сами собою попадают в отчетливый фокус при самом своем зарождении. Медитация вводит нас в непосредственное соприкосновение с большей частью того, что мы такое, – т. е. дает нам прямое переживание этого.
Когда, например, мы наблюдаем ум, словно проецируемый на экран кинофильм, то по мере углубления сосредоточенности он, возможно, станет прокручиваться медленнее, а это позволит нам заметить побольше из происходящего. А само это обстоятельство углубляет наше осознавание и позволяет нам далее видеть этот фильм почти по кадрам, показывая, каким образом одна мысль неощутимо ведет к следующей. И мы увидим, что мысли, которые мы принимали за «себя» и считали «своими», окажутся всего лишь разворачивающимися процессами. Так детальный обзор помогает сломить наше глубокое самоотождествление с якобы твердой реальностью ума‑кинофильма. В меру того, что мы делаемся меньше вовлечены в эту мелодраму, мы просто видим, как она течет, и сможем пронаблюдать ее всю, как она проходит. Мы не вовлекаемся в действие даже настолько, чтобы высказать комментирующую оценку или на мгновение проявить нетерпеливость.
Когда мы просто видим то, что происходит, миг за мигом, наблюдаем без суждений или предпочтений, мы не теряемся в мыслях, вроде таких: «Этот миг для меня лучше того, эта приятная мысль мне нравится больше, чем боль в колене». По мере того, как мы приступаем к развитию этого осознавания всего без разбора, то, что попадает в пределы поля осознавания, оказывается весьма примечательным: мы начинаем видеть корень, из которого растет мысль. Мы видим то намерение, откуда приходит поступок. Мы наблюдаем естественный процесс ума и обнаруживаем, сколь много из того, что мы лелеяли и считали собой, есть по сути вещей безличные явления, проходящие одно за другим.
Мы обнаруживаем, что нам на деле нет нужды задавать кому‑либо какие бы то ни было вопросы, нет нужды искать ответов вне самих себя. Когда мы проникаем в поток, он оказывается ответом. Задавание вопроса и есть уже ответ. Когда мы спрашиваем: «Кто я?» – мы есть те процессы, которые задают этот вопрос.
Когда осознавание проникает чуть поглубже, мы обнаруживаем, что наделили мыслящий ум реальностью, которой он независимо от нас не обладает, – т. е. абсолютной реальностью, не понимая, что он есть относительная часть чего‑то гораздо большего. Если отделаться от запойного думания, мы обнаруживаем, что обычно замечали лишь немногое в необычайной активности сознания, и что привязанность к думанию заслонила нам все остальное. Думающий ум – это нечто совсем иное, нежели открытое осознавание без разбора, которое позволяет всему раскрыться в должной мере. Думание выбирает мысли; оно работает, измеряет, планирует; оно создает реальность вместо того, чтобы непосредственно переживать то, что налицо и происходит каждое мгновенье.
Когда мы обращаем внимание на постоянное движение ума, мы видим, что даже «наблюдатель» становится частью этого потока. Тот, который спрашивает: «Кто же наблюдает?» – это еще одна мгновенная вспышка мысли, замеченной нами; нет «никого», кто наблюдает; налицо только осознавание. Когда «я» становится всего лишь еще чем‑то, наблюдаемым в потоке, мы видим, что сами не отличаемся от чего‑либо прочего во Вселенной. Становится очевидной истинная природа бытия, потому что не остается ничего отдельного, ничего препятствующего нашей тотальности. Мы видим: то, что вызывает движение одной мысли и ее переход в другую, – это все та же самая энергия, которая движет звезды по небу. Разницы нет. Мы представляем собой природное явление, такой же продукт условий, полный изменений, как океан или ветер.
Мы видим, что природа сознания работает, отчасти напоминая руку Бога на знаменитой фреске Сикстинской капеллы: она вытянута, чтобы дать жизнь ожидающему ее существу, существу, готовому получить искру. И мгновенье за мгновеньем мы получаем эту искру, искру сознания, способности познания. Ее приятие возникает при соприкосновении осознавания с его объектом, зрения – с видимым деревом, слуха – со слышимой музыкой, осязания – с осязаемой землей, вкуса – с выпиваемой водой, обоняния – с обоняемым ароматом цветка, помысла – с содержанием представления. От мига к мигу сознание возникает заново в связи с каждым объектом чувств, включая внутренние чувства воображения и памяти. Это возникновение и исчезновение всего, что мы знаем о своем жизненном опыте. Вступление внимательности в этот процесс будет обнаружением ежемгновенного начала вещей, длящегося творения Вселенной.
Достаточно интересно то обстоятельство, что именно этот акт творения оказывается величайшей причиной превратного понимания в нашей жизни. Или, точнее говоря, именно наше самоотождествление с этим текучим процессом, как с «я», и становится проблемой. Как раз этот неверный взгляд на естественное развертывание лежит в основе большей части нашей полусонной слепоты и иллюзий. Сознание само собой возникает как результат соприкосновения осознавания и его объекта. Это «познавание» есть следствие естественного процесса, который существует сам по себе, без необходимости в добавочном «познающем» субъекте, в некоем «я», которое так или иначе предполагает ответственность за этот по сути своей безличный процесс. Это прокладочное «я» не дает нам участвовать в прямом переживании потока, т. е. всеобщей природы нашего существа.
Ауробиндо сказал: «Быть сполна – значит быть всем, что есть». Переживания приходят и уходят. Если мы отождествляемся с ними, притязаем на то, что они – это «я» или «мои», оцениваем их или привязываемся к ним, если мы застреваем в какой‑то части текущего процесса, мы не видим, что явление, обозначенное как «я», постоянно рождается и умирает, что как процесс осознавания, так и объект, появляются и исчезают сотни раз в течение каждой секунды.
И когда осознавание глубже проникнет в этот поток, мы почувствуем, что естественное состояние нашего бытия, которое кто‑то называет «умом мудрости» или «природой Будды», подобно солнцу: оно всегда сияет и всегда присутствует, хотя часто бывает скрыто облаками. Мы отделены от своего естественного света облаками мысли, желаний и страхов, тучами обусловленного ума, ураганом «я есмь».
Часто в разговорах о медитации мы слышим также о мудрости, или о знании. Но в чем же действительно заключается действие мудрости, или знания? Для чего оно нужно?
Для понимания. Если понимаешь ум, то не зависишь от его милости; а если не понимаешь, теряешься в его дебрях. Это та же разница, как между рабствованием у мысли и освобождением посредством ее. Различие между мудростью и знанием есть. Мы переживаем момент понимания и говорим: «А, вон оно как!» Затем мы думаем: «Но как же это случилось?» – и, может быть, позднее пытаемся объяснить другим, как было дело. Переживание понимания есть мудрость; попытка же удержать это понимание, передать его в словах, есть знание.
Все мы обладаем знанием, все мы способны передать множество весьма далеко идущих идей. Но если «познаванию» не предшествует мудрость, тогда знание оказывается «с чужого плеча», чужим, не нашим пониманием, ему недостает глубины. Вот почему два человека могут пользоваться одним и тем же языком, чтобы передать одно и то же содержание, но слова одного проникнут глубоко в наши сердца, тогда как слова другого лишь рикошетом заденут ум. Сила переживания, скрытая за словами, бытие, скрытое за познанием, – это и есть мудрость, подлинная передача.
Скажем, какая‑нибудь книга может утверждать, что все живые существа суть одно. «Конечно, я могу видеть, как это верно: ведь у каждого из них есть тело, у каждого из них есть ум, у каждого есть эмоции, каждый ест и каждый дышит; все мы живем на этой планете. Я понимаю, что это значит». Затем, в момент глубокого осознавания, мы ощущаем себя неотделимыми от всего прочего; собственно тогда даже нет этого «прочего», от которого мы отделены. И мы думаем: «Да ведь все мы на самом деле одно!» Но когда мы пытаемся сообщить кому‑нибудь об этом переживании, мы обнаруживаем, что повторяем почти в ожесточении: «Все мы – одно», т. е. пользуемся теми же словами, которые прочли раньше; но они оказываются неадекватными, потому что их значение переменилось. Его передать нельзя; его можно только пережить.
Назначение этой книги не в том, чтобы поделиться каким‑то знанием, а в том, чтобы указать, что мудрость можно обрести внутри каждого из нас; и что усилие, потребное для установления равновесия ума, так чтобы он стал прозрачно‑сияющим, – все мы должны выполнить для себя сами. Для меня самого написание книги есть часть практики, и мне надо удостовериться в том, что я сам остаюсь честным. В этом легко убедить себя, когда клюешь носом от сонливости: тогда человек чаще всего безучастен и спокойно проецирует на мир то, что он, по собственному мнению, есть, т. е. проецирует свои игры и мнения, которые как раз и препятствуют возникновению более глубокого понимания.
Один из аспектов силы мудрости – это ее способность прорваться сквозь то, что мы прежде считали реальным. Всякий раз, когда мы узнаем что‑то новое, мы отвергаем какое‑то старое мнение; мы меняем мнения. А мудрость – это тишина, внутренний свет, в котором нам видно, что представляют собой мнения сами по себе, – не просто то, чем это мнение противоположно тому, но в чем заключается само обладание мнениями. Если мы следуем мнениям, то тогда это просто ум цепляется за какое‑то содержание. А когда мы открыты для мудрости, мы видим, каковы вещи, и говорим: «Гляди, как изменчивы вещи!»
И то, если попытаться найти единственную истину, с которой могли бы согласиться все, то этой истиной, пожалуй, была бы истина о том, что все изменяется. Постоянно меняются мнения; постоянно меняется ум; постоянно меняется тело; постоянно меняется мир; постоянно меняются наши взаимоотношения. Как бы просто ни было это утверждение, за ним много мудрости. Да и вообще мудрость очень проста, ибо она применима всюду. Истина останется истиной и здесь, и там. Она истина и в химии, и в физике, и в термодинамике, и в психологии. Каждая из них представляет собой просто особую форму, в которой пребывает одна и та же истина. Это подобно истине закона кармы, т. е. причины и следствия, который равно проявляется и в законах движения Ньютона, где утверждается, что для каждой силы существует равная ей сила, действующая в противоположном направлении. Поскольку эту истину можно выразить по‑разному, она может на разных уровнях переживания показаться парадоксальной; но тут уже налицо трудность попытки удержать мудрость в знании и в ограничениях языка.
Когда начинаешь медитацию, становится вполне ясно, что все изменяется от мгновенья к мгновенью. Посидишь минут пять, стараясь удержать внимание на дыхании, и частенько думаешь: «Не могу удержать внимание на том, на чем хочется. Оно уходит к этой мысли, затем к той, потом к этому ощущению, к тому запаху, далее к какому‑то звуку, а после него…» И замечаешь, что перед умственным взором проходит один предмет за другим. Видно воочию, что все это – поток постоянных перемен, приход и уход, и каждый миг ведет к следующему.
Это прозрение кажется до того простым, что его, вроде бы, и не стоит называть мудростью. Но когда переживаешь изменчивость глубоко, когда глубоко понимаешь, что нет ничего постоянного, наша мудрость возрастает. А потом открывается вот что: ничто из желанного не в состоянии дать нам удовлетворения надолго, ибо все текуче, ничто не остается навсегда. Что бы это ни было – изысканнейшее кушанье, глубочайшее сексуальное наслаждение, сильнейшее чувственное удовольствие – ничто во Вселенной не может дать удовлетворения надолго; все придет и уйдет. Именно это состояние дел, сообщающее нам такую тонкую неудовлетворенность, едва заметное чувство тошноты, мы носим внутри себя большую часть времени, даже тогда, когда получаем то, чего хотим, – потому что в глубине души знаем, что в конце концов все изменится.
И ведь не то, чтобы мы оставались всё теми же, а только мир изменялся. Мы же – часть мира. Ум всегда меняется. Вот почему мы счастливы сегодня и несчастливы завтра. Изменяются не только внешние вещи; все меняется; и этот факт нарушает наши понятия о порядке вещей, потому что эти понятия суть устойчивые продукты воображения, которые не отражают перемен. К примеру, понятие дерева – это крупная и устойчивая вещь, а не растущий и меняющийся организм с едва заметными отличиями от любого другого представителя своего вида, меняющийся под влиянием погоды, подверженный внешним воздействиям и условиям. Для мира, полного изменений, у нас имеются застывшие, неизменные понятия – ярлыки; и это, конечно, порождает разрыв между понятием и реальностью, результатом чего будет напряжение. Мы реально не видим реальности. Мы видим только отбрасываемые ею тени, и вот эти‑то тени и есть наши понятия, наши определения, наши представления об этом мире. Привязанность к таким понятиям создает желание, чтобы мир соответствовал нашему представлению о том, каким ему быть; но перемены зачастую сталкивают наши представления с весьма отличной от них реальностью, что может вызвать в нас чувство гнева или поражения; и мы окажемся как‑то отъединенными от истины вещей из‑за негибкой связанности своею точкой зрения.
Любопытно, что среди всех этих перемен мы обычно переживаем не столько то, что происходит, а то, что думаем о происходящем. Сидя и слушая, мы не переживаем слушанья; мы переживаем до некоторой степени текущий комментарий к тому, что говорится, возможно, суждение или сравнение со сходными понятиями, или поток мысленных ассоциаций, вызванный в памяти разговором. На одном уровне, конечно, все, что действительно происходит, – это движение звука в воздухе, который давит на наши барабанные перепонки; благодаря памяти и механизмам восприятия ум узнаёт то, что говорится.
Итак, мы видим, что наши переживания – это переживания не того, что действительно происходит, а скорее переживания мира мысли. Большая часть нашего переживания – это сноподобное отражение в уме. Мы переживаем не столько само виденье, сколько то, что думаем о видимом, не столько то, что слышим, сколько то, что думаем о слушаемом.
Когда эта тема всплыла в прошлом году на занятиях, которые я вел в тюрьме Соледад, я заметил, что если бы в ту самую минуту слушатели почувствовали дуновение какого‑то аромата, они не пережили бы этого запаха и одного мига, потому что прямое переживание запаха тотчас было бы погребено под лавиной мысленных ассоциаций и зрительных образов.
Очевидный пример того, как много мы вкладываем в сферу мыслимого, принадлежит нашему отношению к чувству осязания. Например, мы протягиваем руку, чтобы коснуться своего сексуального партнера, и это считается приятным ощущением; но когда рука касается кучи отбросов, это ощущение считают неприятным; или, если она прикасается к стене, ощущение можно считать безразличным. Но все, что действительно происходит, – это давление на кончики пальцев; все остальное – это понятийные мыслеформы, проецируемые желанием и обусловленностью.
Большую часть нашего мира наплел ум. Сила мудрости состоит в том, чтобы пробудить нас для прямого переживания вещей такими, каковы они есть. Она рассеивает нашу сонную слепоту и дает нам возможность больше жить своей жизнью, а не просто переживать мир в области понятий, где то, что мы называем реальностью, оказывается сном и тенью сна.
В основе обусловленного ума лежит нужда. Нужда принимает много форм. Нужно пребывать в безопасности; нужно быть счастливым. Нужно выжить; нужно быть любимым. Есть и особые нужды: желанные предметы, дружба с кем‑то, виды еды, тот или иной цвет, то или иное окружение. Есть нужда не испытывать боли. Есть и нужда быть просветленным. Наконец есть и нужда в том, чтобы вещи были такими, какими нам хочется.
Наши мечты представляют собой воображаемые образы получения того, что нам нужно; кошмары – воображение отделенности от того, что нам нужно. Планирующий ум старается обеспечить удовлетворение потребностей; вообще большая часть помыслов основана на удовлетворении желаний. Поэтому многие помыслы имеют своим корнем неудовлетворенность тем, что есть. Нужда есть требование к следующему мгновению содержать то, чего не содержит настоящее. Если в уме существует какая‑то нужда, то такой момент ощущается как неполный. Нужда представляет собой поиски где‑то в другом месте. Полнота есть пребывание именно здесь.
Когда видишь, насколько глубока нужда, присущая уму, видишь и глубину неудовлетворенности, потому что нужду удовлетворить невозможно: едва покончишь с одним желанием, так будет другое. И пока мы пытаемся удовлетворить желания, мы растим нужды.
По иронии вещей, когда переживаешь глубину неудовлетворенности в нуждающемся уме, то за этим следует великая радость. Ведь когда видишь, что никакой объект ума не может нас сам по себе удовлетворить, тогда ничто возникающее уже не увлечет нас; и начинаешь освобождаться, потому что нет ничего, за что стоило бы цепляться. Чем лучше видишь, как нуждается ум, тем лучше видишь и то, как эта нужда затемняет настоящее. Уразумение того обстоятельства, что нет ничего, за что стоит цепляться, т. е. ничего, способного обеспечить удовлетворение надолго, показывает, что нам некуда идти, нечего иметь, не надо быть чем‑то; это и есть свобода.
Когда я впервые услышал буддийские представления о страдании, я был решительно несогласен и отверг их. Я подумал, что это ложный, пессимистический уклон: «А, это буддийский вздор с Востока, где половина детей умирает в возрасте до пяти лет! Конечно, они думают, что мир полон страдания; у них со всех сторон умирающие с голоду, у них покойники на улицах валяются. Но мы‑то здесь не страдаем! Я не страдаю, чтоб им!» Но когда я увидел объем своих нужд, это показало мне, насколько глубоко и тонко мой личный мир создан неудовлетворенностью; и это видение избавило меня от множества вожделений, от помыслов, что‑де все мои желания должны быть удовлетворены, о том, что я принужден реагировать на все, что возникает у меня в уме. Я увидел, что вещи способны как‑то существовать, не вызывая необходимости ответных действий, суждений или даже отталкивания. Можно просто их наблюдать.
Когда я увидел, как обширно, как могущественно желание в уме, я испугался. Я подумал, что отсюда нет выхода; и не понимал, что та сила, благодаря которой я распознал это состояние страдания, сама по себе была выходом. Постепенно зрелище неудовлетворительной природы большей части содержания ума стало открывать мне путь к свободе. Когда мы видим, что предмет нашего влечения объят пламенем, мы перестаем тянуться к нему. Ум понемногу меняет обусловленность, чтобы видеть то, что он делает.
И мы открываем существование многих путей, на которых желания вызывают эту неудовлетворенность. Например, есть вещи, которые нам нужны, но, возможно, никогда нам не встретятся, или такие, что мы получаем их лишь время от времени, или такие, которые не остаются с нами надолго. Есть также и такие вещи, которые мы получаем, а получив, не хотим иметь; и это нас по‑настоящему расстраивает. Иногда я вижу, как все это проявляется у моих детей. Часто им так сильно хочется чего‑нибудь, что приходится в поисках нужной вещи ходить из магазина в магазин; затем мы покупаем ее, а через час слышишь: «Лучше бы мы ее не покупали… мне хотелось синюю…» Такое и вправду разбивает сердце; а ведь так со всеми нами. Нам что‑то нужно, нужно еще и еще… и ничто не в состоянии удовлетворить нас постоянно, потому что изменяется не только нужная нам вещь, но изменяются также и наши потребности. Все постоянно меняется.
Можем ли мы вспомнить какую‑нибудь боль в своей жизни, которая не была бы вызвана переменой? Но когда мы глубоко переживаем эту текучесть, мы не отшатываемся от нее, не опасаемся того, что может произойти, а напротив, начинаем раскрываться к тому, каковы вещи. Мы не погрязаем в фаталистических вымыслах или в нигилизме, «всё, дескать, до лампочки», а признаем, что всё имеет равную важность.
Когда нужда становится объектом наблюдения, мы наблюдаем ее с ясным вниманием, которое не окрашено суждением или выбором; это простое, голое внимание без всяких примесей, открытость для восприятия вещей такими, каковы они есть. Мы видим, что нужды – это автоматические, обусловленные требования в уме. И мы наблюдаем эти нужды, не оценивая себя за это. Мы не хотим нетерпеливо избавиться от этой постоянной нужды. Мы просто наблюдаем ее.
И только такое голое внимание, такое отсутствие нужды, способное быть на месте в нужный момент, обладает силой освободить нас, освободить нашу подневольную реакцию на нужду. Связь рвется, нас перестает обусловленно тащить в сторону удовлетворения наших нужд. Каждое мгновение отсутствия нужды – это мгновенье свободы. Внимательность не мешает существовать этому отсутствию нужды. Когда налицо одно лишь чистое внимание, тогда существует только наблюдение, тогда нет нужды. Если наблюдаешь желание, нужда перестает искать объект, чтобы удовлетвориться, и сама нужда становится объектом внимания; тогда поглощается тот импульс, который ведет к поступку.
Когда начинаешь видеть, что освобождает нас, а что нет, начинаешь также отличать то, что создает большее вожделение, более болезненную нужду, от того, что приведет тебя к мудрости и сделает свободным.
По мере того, как эта практика становится все более зрелой, начинаешь больше доверять себе. Будда говорил, что эти наставления «открыты как на ладони». Их природа выражается словами: «Приди и попробуй сам; всякий сможет увидеть». Испытайте это сами. Мы занимаемся практикой не потому, что нам нравится тот или иной учитель, не потому, что наставления поданы притягательно, не потому, что нам нравятся люди, их практикующие, не потому даже, что мы восхищаемся кем‑то, кто как будто работает по этому методу. Но когда мы сами ощущаем вкус свободы, то сам этот вкус убеждает нас.
Осознавание знает происходящее, когда оно происходит. Сосредоточенность обладает способностью направлять это осознавание, заострять его. Оба эти качества до некоторой степени присутствуют у всех нас.
Когда мы, читая книгу, переходим от одного слова к другому, именно качество сосредоточенности позволяет нам направлять внимание на страницу. В то же время способность осознавания позволяет понимать слова, когда мы их читаем. Все мы пережили особое чувство при отсутствии того или иного из этих психических факторов. Если мы устали, мы иногда можем вновь и вновь перечитывать какой‑нибудь параграф и все же не понимаем в нем ни слова; мы можем даже читать его вслух и все же не иметь никакого представления о том, что там сказано. У нас была достаточная сосредоточенность, чтобы удерживать глаза на странице и продолжать процесс чтения, но не было осознавания происходившего. С другой же стороны, если бы у нас существовало осознавание при слабой сосредоточенности, мы осознавали бы то, что читаем, но после одной или двух фраз соскользнули бы в мечтания и не смогли бы удержаться на том, что делаем.
Медитация и есть равновесие осознавания, сосредоточенности и энергии. Когда одно из этих явлений преобладает над другими, налицо нарушение равновесия. Если энергия слишком велика, и мы продолжаем раскручивать помыслы, ум может прийти в состояние возбуждения. При чрезмерной сосредоточенности без достаточной энергии ум приходит в сонное состояние, погружается в полуобразы подсознания и тупеет, «тонет». Когда налицо осознавание, а сосредоточенность и энергия слабы, понимание остается поверхностным, а осознавание не проникает в глубину, не доходит до корней того, что имеет место внутри ума.
Это похоже на работу с увеличительным стеклом: работая с некоторыми предметами, нам приходится приближать к ним увеличительное стекло и отдалять глаз к более длинному фокусу; в других случаях увеличительное стекло будет помещено ближе к глазу и дальше от рассматриваемого предмета. Увеличительное стекло – это фокус сознания; меняющиеся требования глаза подобны разнообразным факторам сосредоточенности и энергии в уме. Это ежемгновенное уравновешивание данных для того, чтобы наблюдение могло происходить без напряжения или вялости, без каких‑либо крайностей, дает возможность легко и уравновешенно осознавать происходящее, когда оно появляется. Это не натужное вглядывание и не хитрое прищуривание, а всего лишь ясный взгляд, наблюдение за происходящим процессом.
Большинство использует для медитации сидячую позу. При сидении на плотном мате с подушкой, или «дзафу» под тазом колени удобнее лежат на полу, что дает устойчивую основу для сиденья. Сначала бывает трудно вытянуть ноги на полу, если не было привычки раньше. Подушка поможет коленям опуститься; еще более важно то обстоятельство, что при небольшом поднятии таза спина легче выпрямляется. Сиденье в какой‑нибудь эксцентричной йоговской позе не порождает никаких особых заслуг. При необходимости можно даже просто сидеть на стуле, выпрямив спину, сложив руки внизу живота и оперев обе ноги на пол.
Когда мы начинаем медитировать, рекомендуется не прислоняться к стене и не откидываться на спинку стула, потому что тогда возникает склонность воспользоваться стеной или стулом как опорой; а частью медитации является опора на себя на многих уровнях. Важно ощутить тело; а когда мы на что‑то опираемся, увеличивается тяга к засыпанию. И даже когда мы сидим выпрямившись со спокойным умом, у некоторых практикующих может появиться мысль: «О какое спокойное время, пора бы и спать».
Энергия приходит, если ее прикладывать. Когда мы пытаемся пробудиться, приняв на себя ответственность за тело в своем сидении, придет и энергия; она будет здесь.
Разобравшись с положением тела, мы приводим внимание к сосредоточению на каком‑то единственном объекте, чтобы развить силу сосредоточенности. Объект, избранный для культивирования этого качества ума, называется первичным. Он дает вниманию нечто такое, куда можно прийти, на чем можно сфокусироваться. Естественная деятельность ума – блуждания. Словно обезьяна, прыгающая с одного дерева на другое, он перескакивает с одной мысли на другую. Если он уже пришел в движение, он просто движется. Помыслы думают себя. Если мы воображаем, что мы – это ум, мы можем просто прекратить свои занятия и приказать уму остановиться: «Хорошо ум! Стой!» И ум ответит: «Будет сделано, я остановлюсь! Теперь просто наблюдай за мной. Вот я двигаюсь… вот остановился! А действительно ли я остановился? Кто же говорит всю эту чепуху? Ох, да это все еще я!..» Ум будет все время продолжать движение, потому что это и есть его постоянное занятие. Если мы отождествляем все эти мысли с «собой», тогда мы утверждаем, что ум – это мы; и в этом случае мы упускаем из виду большую часть того, что мы действительно есть. Поэтому мы наблюдаем ум, пользуясь им как средством, чтобы увидеть то, что скрывается за ним.
Для развития такой внимательности культивируется сосредоточение на дыхании, как на первичном объекте внимания; это не мысль о дыхании, а острое и постоянное осознание ощущения дыхания. Внимание направлено именно на это осязательное чувство.
Есть две главные зоны, где ощущение дыхания всего заметнее. Лучше всего взять одну из них и оставаться на ней. Касание дыхания можно легко почувствовать в ноздрях. Это первый из объектов сосредоточения, предлагаемых на выбор. Если избирается именно он, мы не следуем за входящим и выходящим дыханием; мы просто остаемся в одной этой точке, выбранной около кончика носа или в ноздрях, – там, где ощущение более всего заметно, – и отмечаем ощущение проходящего дыхания. Мы выбираем точку соприкосновения и устанавливаем на этом месте осознание, ведем отсюда наблюдение. Это – не какая‑то умственная картина, а физическое ощущение. Мы можем чувствовать, как дыхание входит и выходит. Мы открываем свое осознавание, чтобы сфокусировать его на переживании ощущения, и содействуем возвращению осознавания к этому месту.
Такое осознавание ощущений, сопровождающих каждое дыхание, становится как бы авансценой внимания. Хотя в скрытых глубинах нашего существа могут возникать мысли и другие ощущения, не требуется никакой энергии, чтобы их удалять или как‑то на них воздействовать. Они приходят и уходят, как им заблагорассудится. Если они отвлекают внимание от дыхания, мягкая настойчивость при возвращении его к дыханию и усиливает сосредоточенность, и культивирует способность к освобождению от них.
Другой участок, где дыхание вполне заметно, – это та область, где поднимается и опадает живот. Внимание наблюдает ощущения подъема и падения, когда они происходят сами по себе с каждым новым дыханием. Дыхание станет тонким; но мы наблюдаем его таким, каково оно есть; нам не нужно ничего делать . Это не какое‑то дыхательное упражнение, а упражнение в осознавании.
Посидев так некоторое время, мы можем обнаружить, что какой‑нибудь другой пункт будет легче наблюдать. Это – синдром «более зеленой травы»; однако цвет травы в точности таков, каков есть, так же как интерес или воображение, прилагаемые к одному месту, будут точно такими же, как и в другом месте. Переходить с одного места на другое – все равно, что копать для колодца несколько пустых скважин. Если мы хотим докопаться до воды, мы копаем землю прямо вниз на одном месте. Это захватывающий процесс. В действительности нет никакой цели, кроме познавания того, что происходит именно сейчас.
На ранних ступенях практики мы можем пожелать в качестве вспомогательного приема делать в уме отметки – «вдох» при каждом вдохе через ноздри и «выдох» при каждом выдохе; или «подъем» и «падение», если установлено наблюдение за движением живота. Отметки могут быть весьма полезным орудием для того, чтобы удерживать нас в состоянии бдения по отношению к процессу настоящего момента, – например, такие отметки, как «помыслы, помыслы», когда вторгаются помыслы, или «пахнет, пахнет», когда воспринято дуновение какого‑то запаха, или «слушанье, слушанье», когда мимо проезжает автомобиль. Отметки – это техника, которая удерживает нас в колее.
Отметки удерживают внимание вблизи объекта осознания. Отметки – это не комментарий к тому, что происходит, а простое признание происходящего, лишенное какого бы то ни было комментирования или оценки. Отметки делаются с легким, всеобъемлющим узнаванием, которое не зависит от употребляемого языка; оно применяется только для того, чтобы удержать ум в состоянии бдительности по отношению к собственному его процессу.
Отметка «помыслы, помыслы» может быть достаточной для того, чтобы подтвердить наличие думания, если возобладало именно оно, хотя иногда для раскрытия тонкостей думающего ума бывают полезны более точные указания, например, «планирование, планирование», когда появляется планирование, или «страх, страх», когда возникает ум‑страх.
Эти отметки могут поддерживать остроту и ясность осознавания того, что происходит в данный момент. Однако вполне может случиться и так, что по мере углубления сосредоточенности процесс отметок станет вмешательством, орудием, которое более не имеет существенной ценности. Когда осознавание проникает глубже, необходимость в отметках для поддержания острой бдительности по отношению к присутствующему объекту может отпасть. Тогда от отметок можно будет естественно отойти или – «отпустить» их.
Иногда, на некоторых ступенях сосредоточенности и осознавания ценность отметок меняется изо дня в день. По временам они могут быть полезны, пока сосредоточенность углубляется, а затем становятся не нужны. Или мы можем заметить, что осознавание обычно бывает чистым и удерживается на объекте до тех пор, пока не затеряется в некоторых повторно возникающих состояниях ума; таким образом отметки могут быть использованы только для того, чтобы отождествить эти состояния, которые все еще являются причиной самоотождествления и, таким образом, отвлекают внимание от объекта. Страх или похотливые мечтания представляют собой два особых примера, когда может потребоваться сознательное вспоминание, обеспечиваемое отметками.
Отметки позволяют нам мягко, но настойчиво оставаться со своим переживанием, признавая все, что временно получает преобладание, как только то возникает. Когда внимание занято привычным блужданием, мы обнаруживаем это блуждание и осторожно возвращаем его к дыханию. Мы не пытаемся принудить ум, не стараемся насильно удерживать его на объекте. Насилие создает неподвижность ума, особого рода целевое ориентирование, которое желает, чтобы вещи были другими; а это представляет собой давление на данный момент, попытку пробиться в будущее. Здесь налицо неуклюжий ум, ум, переполненный собой и деланьем .
Много разных ощущений можно отметить по мере того, как углубляется осознавание. Когда мы получаем послания от тела, мы просто к ним прислушиваемся. Если мы чувствуем неудобство, мы просто отмечаем его: «неудобство», – не напрягаясь, не становясь жесткими. Если имеет место боль, мы расслабляемся кругом нее и отмечаем ее: «боль, боль», – или каким‑нибудь другим словом, естественным для нашего чувствования. Лучше всего не двигаться, отмечая побуждение к движению, побуждение избегнуть неудобства; дайте телу возможность просто сидеть. Чем тише будет тело, тем тише и ум.
Когда мы прислушиваемся к ощущениям – или с каждым дыханием, или в виде чувств внутри тела, – мы не находимся на том уровне, где производятся слова. Мы прерываем внутренний диалог, постоянное комментирование ума, мы прорываемся сквозь то место, где происходит думание, и переживаем процесс непосредственно. Именно прямое переживание подобного рода раскрывает интуицию и прозрение, свойственные уму‑мудрости, что приводит ум лицом к лицу с собой.
Помыслы – это объекты ума. Их можно видеть, когда они, подобно пузырям, пересекают поле сознавания. Обычно помысел сформулирован в словах; но он может выразиться и в зрительном образе или в каком‑то запомнившемся чувственном впечатлении, пока не сорвется в галопирующей фантазии. При наблюдении помыслов важно не комментировать, не выносить суждений об их содержании, а просто ясно видеть их, когда они возникают. Думание о думании – это не медитация.
Мы следим за дыханием, и при этом появляются помыслы; мы можем отметить их: «помыслы, помыслы» – и вернуться к отметкам дыхания. Однако давление объектов ума может оказаться очень сильным и тонким, так что ум соскальзывает к стереотипам мышления: «О, у меня все хорошо… ага, попался… помыслы, помыслы… подъем, падение; подъем, падение… вот опять как будто попался?.. ох, опять не получается!.. мысли, мысли… подъем, падение, подъем, падение… ну, пока хорошо… черт побери! я снова ушел куда‑то, не могу удержаться на дыхании даже минуту! Что я за болван!.. ой, опять осуждение… черт, не помню, как вернуться к дыханию!» Отмечайте просто, что это «помыслы, помыслы», и снова возвращайтесь к дыханию. Оставайтесь простыми и легкими.
Иногда в то время, когда мы медитируем, могут появиться чрезвычайно привлекательные мысленные формы – хорошие замыслы, прекрасные образы, великие изобретения. Эти объекты ума не обязательно должны быть помехами; на самом деле, будучи ясно видимым, ни один такой объект не станет помехой. Все это оказывается просто частью потока ума, наполненного кармой и интересными побрякушками. Только отмечайте эти вещи и спокойно возвращайтесь к дыханию. Действительно, возвращение к дыханию помогает нам открыть силу освобождения и углубляет нашу способность оставить обусловленное вожделение ума. Нет надобности тревожиться из‑за того, что какая‑то хорошая идея или решение какой‑либо давнишней проблемы будут утрачены; то, что обладает ценностью, окажется в надлежащий момент доступным.
Углубление сосредоточенности – это естественный процесс, подобный способности мускулов усиливаться при продолжительном пользовании. Всякий раз, когда мы возвращаемся к дыханию, наша сосредоточенность усиливается. Ум может заметить это и сделать вывод: «Лучше выходит»; если не распознать в этом помысел, такое отношение становится отвлекающим умом, менее сосредоточенным на действии, а более создающим себя. Освобождение от «знания» позволяет нам переживать вещи непосредственно, каковы они есть.
Привязанность заставляет нас желать поощрения некоторых образов или чувств и отбрасывания других; иными словами, мы хотим что‑то с ними делать . Привязанность означает, что мы отождествляем себя с этими содержаниями или ощущениями. Но пока мы отождествляем себя с чем‑либо возникающим, думая, что это «я» или «мое», мы не увидим, как оно появляется, не увидим процесса, из которого оно возникает. Пока мы отождествляем себя с содержанием ума, мы не свободны по‑настоящему. Различие между пребыванием в рабстве и состоянием освобождения – это различие между думанием и признанием помысла за помысел.
В нормальных условиях мы почесываемся, не отдавая себе отчета, что у нас чешется. Наши действия возникают вне осознавания того, чем они мотивированы. Но волевой элемент ума, то качество, которое мы часто называем волей или намерением, можно легко заметить, когда ум безмолвен и находится в состоянии осознавания. Когда мы разговариваем, читаем или едим, мы непрерывно меняем положение тела, не замечая, что реагируем на некоторое неудобство, что нас привел в движение ум; мы не осознаем намерения избавиться от некоторой тугоподвижности в шее или боли в ногах. Нас снова и снова приводят в движение отвращения и стремления ума, но редко замечаем побуждение, которым начинается движение в теле. Зачастую мы похожи на роботов – мы приведены в движение, не зная этого.
Волевое действие есть часть постоянно продолжающегося послания, которое позволяет нам шагать, ставить одну ступню вслед другой; его можно увидеть как тонкое, дословесное побуждение, заставляющее быстро опустить голову, когда камень ударяет в ветровое стекло. Но даже эти едва заметные требования можно заметить – почти как ощущения в уме. Волевое действие может также быть значительно более очевидным: например, когда мы проходим мимо лавки с мороженым, появляется мысль: «Съем‑ка я чуточку орехового пломбира!» – это голос волевого ума, предшественника всей кармы.
Наблюдая намерение, предшествующее волевой активности, мы начинаем свергать власть желания с ее трона, – а ведь она бессознательно обусловливает наши действия; благодаря этому мы приобретаем чуть больше свободы в своей жизни. Перед каждым словом или жестом намерение незаметно предшествует активности; это переводит энергию от желания к действованию. Как можно отметить волевой элемент, ведущий ко все более и более далеким переплетениям и алчным желаниям ума, так же точно можно и увидеть, что именно это качество выбора, которое снова и снова возвращает нас к дыханию, при правильном его поощрении приводит жизнь к равновесию.
Всякое состояние ума – это некая установка, господствующая эмоция или настрой; она действует наподобие фильтра или цветовой линзы, через посредство которых переживаются и становятся объектами отношения психические события, такие как помыслы и ощущения. Состояния ума суть способы видеть. Бывает, что целый набор установок и эмоций уходит прочь, и тут же после этого появляется совершенно новый ум, вполне отличный своим видением. Эти возникающие состояния ума повторяются и, похоже, обладают собственной, совершенно независимой жизнью, – они возникают к бытию только для того, чтобы смениться следующим состоянием, которое расположится на покинутой сцене. Мы ловко прилепляемся к каждому из этих умов, принимая их за «я» и «мое», хотя они иной раз радикально отличны один от другого и по характеру, и по намерениям. В самом деле, любой объект или помысел, вошедший в поле осознавания, может попеременно, в сменяющихся мгновеньях ума, вызывать приязнь или неприязнь.
Внутри нас содержатся несовместные системы желаний, которые в одно мгновенье могут оттолкнуть какой‑то объект, а в следующее – страстно его пожелать. Эти враждующие системы желаний могут желать сделать что‑то в одно определенное, но не в другое время. Такие несовместные, противоборствующие состояния ума и сопутствующие им суждения друг о друге являются причиной значительной доли того трения, которое мы переживаем в чувстве вины. Один ум возникает для того, чтобы за ним естественно последовал другой. Отождествление себя с одним качеством или настроением и отказ в существовании другому означает отрицание потока, захваченность болезненными завихрениями ума.
В какой‑то отдельный момент состояние ума может быть радостно, или бодро, или счастливо, или добро, тогда как в другой оно может быть гневно, или алчно, или похотливо, или лениво. Ум на деле колеблется по тысяче раз в день между такими различными состояниями. Вследствие этой изменчивости состояний ума некоторые люди пытаются контролировать ум. Но я думаю, что важнее не давать уму контролировать нас. Некоторым представляется, что медитация – это останавливание ума. Хотя это и достижимо ненадолго, это состояние не уменьшит чувства привязанности к уму; больше того, поскольку и в этом случае «кто‑то» совершает «что‑то», и такое достижение может даже подкрепить иллюзорное «я». От останавливания ума мудрости не получится; она возникает от понимания природы ума. Благодаря такому пониманию отпадает самоотождествление с умом и появляется возможность освободиться.
Ничуть не лучше наблюдать за одним объектом, нежели за другим. Идеальный объект – это просто то, что происходит в данный момент. Когда мы следим за умом при помощи так называемого «осознавания без разбора», то мы берем сосредоточенность, развитую на первичном объекте, и разрешаем уму ежемгновенно переживать все, что возникает; все, что получает преобладание, усматривается с не создающим привязанности осознаванием. Мы просто следим без разбора за всем, что происходит. В такой открытости ума нет никаких суждений; она не предпочитает одного объекта другому. Это цель и метод разом; этим и красива такая медитация. Каждое мгновенье этой практики есть также и ее цель: внимательность, простая чуткость к тому, что есть.
Когда внимательность становится очень острой, мы начинаем видеть помыслы по‑новому, буквально переживая их возникновение и исчезновение, словно они вставлены в рамку, – словно бы мы видели кинофильм, проецируемый на экране; мы рассматриваем смену одного кадра другим, исследуем отдельные элементы того, что раньше мнили единством, непрерывным потоком. Мы видим возникновение и исчезновение сознания, всего, что считали собой. Это дает возможность микроскопического рассмотрения ежемгновенного ума, рассмотрения бытия по мере того, как оно развертывается. Тогда то, что бывает бессознательным, становится сознательным. Ничто не встречает препятствий, ничто не прибавляется; целая Вселенная предстает, как хочет, и нам дарована благодать ее восприятия.
Мы как бы стоим на берегу ручья и наблюдаем все помыслы, плывущие вниз по течению, подобно пузырям. И когда мы их наблюдаем, становится все яснее, что некоторые из пузырей – это мы сами, наблюдающие ручей, что даже наблюдатель являет собой всего лишь часть потока; осознавание просто переживает все, что есть.
Может оказаться полезным такой наглядный образ медитативной практики: представим себе, что мы стоим у железнодорожного переезда и наблюдаем проходящий мимо товарный состав. В каждом прозрачном вагоне находится какой‑то помысел. Мы стараемся глядеть прямо вперед, в настоящее; но наши привязанности привлекают наше внимание к содержимому проходящих товарных вагонов – мы отождествляем себя с различными помыслами. Когда же мы направляем внимание на поезд, мы замечаем, что в одном вагоне сервирован ужин; но мы только что поели, и ужин нас не привлекает. В следующем вагоне – прачечная, где сушится белье, так что мы на мгновенье размышляем о голубом полотенце, которое вывешено для сушки; но мы еще раз быстро пробуждаемся к настоящему моменту, поскольку в следующем вагоне видим какого‑то человека, занятого медитацией; и мы вспоминаем, чем заняты сами. Проходят еще несколько вагонов с помыслами, и мы ясно распознаем, что это помыслы. А в следующем вагоне рычит лев; он преследует кого‑то, похожего на нас. Мы следим за тем, поймал ли он нас, пока вагон не скроется из виду. Мы отождествляем себя с этим вагоном, потому что он для нас что‑то «значит». Мы испытываем к нему привязанность. Далее мы замечаем, что тем временем пропустили все прочие, пробегающие мимо вагоны; тогда мы освобождаемся от своего очарования львом и еще раз переводим внимание прямо вперед, в настоящее.
Мы удерживаемся на некоторых предметах и не останавливаемся на других. Поезд все еще там; кажется, там же находится и безмолвный свидетель на переезде. Таковы первые ступени попыток быть внимательными, первые ступени старания пребывать здесь и теперь.
Затем, когда мы попривыкнем к осознаванию содержимого, мы начинаем отмечать сам процесс прохождения поезда. Мы видим просто вагон за вагоном, и наше внимание уже не следует за каждым стимулом; мы более не теряемся в следах прошлого или в предвкушении того, что придет из будущего. Итак, мы глядим прямо вперед, не отвлекаясь содержимым какого‑либо вагона; но вот совершенно внезапно один из проходящих вагонов взрывается; нас привлекает это зрелище, и мы прыгаем в вагон и ввязываемся в происходящее там действие. Затем мы возвращаемся с кривой усмешкой, полные понимания – это был всего лишь образ взрыва, всего лишь помысел – вагон. И мы снова глядим прямо перед собой, только на процесс прохождения вагонов; и вот в одном из них оказываемся мы сами, и мы бьем свою жену. В уме тьма всякого хлама. А мы немедленно следуем за ним, сейчас же втягиваемся в него; и это продолжается до тех пор, пока мы не начнем видеть безличную, обусловленную природу всего процесса и его содержимого, пока не осознаем совершенную текучесть его самого.
Затем, глядя прямо вперед, мы замечаем, что начинаем проявлять способность видеть между вагонами. И мы начинаем видеть то, что находится по ту сторону вагонов, по ту сторону помыслов. Мы чувствуем, что этот процесс совершается на фоне неразличенной открытости, что ум ежемгновенно возникает и исчезает в безграничном пространстве.
И когда мы ощущаем ту систему координат, внутри которой протекает вся эта мелодрама, это переживание начинает освобождать нас от увлеченности – даже от увлеченности страхом. Мы начинаем видеть: «А, опять эта штука со взрывом вагона!» Или: «Снова этот сердитый начальник!» Что бы ни появилось, мы начинаем видеть в появившемся часть процесса; мы видим то, что появляется, в некотором контексте. Малый ум, отождествлявший себя со всем этим вздором, начинает расти и расти, начинает включать даже самого себя в более обширный ум, настолько более обширный, что в нем находится место для всего и каждого, включая и сам поезд, и наблюдателя. А затем даже и наблюдатель, который стоит на переезде, оказывается всего лишь содержимым одного из этих товарных вагонов, просто еще одним объектом ума. И осознавание, не останавливаясь нигде, сразу же оказывается повсюду.
Усядьтесь поудобнее, выпрямитесь; но не напрягайтесь. Пусть тело дышит просто и естественно; направьте внимание на самую заметную точку для осязания, где есть соприкосновение с током воздуха, когда он входит в ноздри.
Направьте осознавание на ощущение касания с входящим и выходящим воздухом. Установите внимание как караульного у городских ворот: он замечает всех, кто входит в город и выходит из него; но сам он не впускает и не выпускает, а только стоит на часах у ворот.
Удерживайте внимание только на одной точке и замечайте ощущение, сопровождающее каждое дыхание, когда оно течет в тело и вытекает из него в естественном дыхательном процессе.
Если внимание отклонилось, верните его к точке касания, замечающей дыхание, когда оно входит в ноздри и выходит из них. Отмечайте: «Вдох, выдох…» Не думайте о дыхании; даже не создавайте его зрительного образа. Просто будьте вместе с ощущением, когда оно возникает во время касания воздуха, входящего в ноздри и выходящего из ноздрей.
Возникают звуки. Возникают мысли. Возникают иные ощущения. Возникает и исчезает весь фон происходящего.
А на переднем плане находится ежемгновенное осознавание ощущения входящего и выходящего дыхания. Ничто не отталкивается, ничто не вызывает желания. Налицо просто ясное, точное, мягкое наблюдение за дыханием. Внимательность к дыханию.
В теле возникают ощущения. В уме возникают помыслы. Они приходят и уходят, как пузыри.
Каждому мгновению ума разрешено возникнуть и исчезнуть силою собственного движения. Нет никакого отталкивания ума, никакой страсти к дыханию. Присутствует только мягкое возвращение осознавания к ощущениям вместе со входящим и выходящим дыханием. Мягкое возвращение.
Осознавание дыхания – это передний план. А на заднем плане все прочее остается таким, каково оно есть; но открытый, спокойный ум не липнет.
Каждое дыхание единственно в своем роде: иногда оно бывает глубоким, иногда поверхностным; оно всегда слегка изменяется. Дыхание в целом чувствуется входящим и выходящим; все дыхание переживается на уровне ощущения, прикосновения.
Дыхание лишь происходит само собой. Осознавание просто наблюдает. Все тело расслаблено. Глаза спокойны. Лицо расслаблено. Плечи опущены. Живот полный и спокойный. Нигде никакой задержки. Только осознавание и дыхание.
Только сознание и объект сознания. Они ежемгновенно возникают и исчезают, скрываясь в обширном пространстве ума.
Не теряйтесь. Если ум отвлекается в сторону, осторожно, со спокойным неосуждающим и непривязывающимся осознаванием, возвратите его к дыханию. Отмечайте дыхание в целом от его начала до его конца, точно, ясно, от ощущения к ощущению.
Тело дышит само собою. Ум помышляет сам собою. Осознавание просто наблюдает этот процесс, не теряясь в его содержании.
Каждое дыхание по‑своему единственно. Каждое мгновенье – целиком и полностью новое.
Если внутри тела возникнет какое‑то ощущение, пусть осознавание распознает его как ощущение. Отметьте его приход и отметьте его уход. Мы не думаем о нем как о теле, или как о ноге, или как о боли, или как о вибрации. Просто отмечаем его как ощущение – и возвращаемся к дыханию.
Весь процесс идет сам собой. Осознавание от мгновенья к мгновенью наблюдает возникновение и исчезновение переживаний внутри ума и тела. Ежемгновенную перемену.
На переднем плане – осознавание дыхания, когда то само собою входит и выходит. Только дыхание и осознавание дыхания.
Отдайтесь дыханию. Переживайте дыхание. Не пытайтесь что‑то получить от дыхания. Даже не думайте о сосредоточении. Просто пусть осознавание проникнет до уровня ощущений, которые возникают сами собой и сами по себе.
Точка касания становится все более и более отчетливой и более напряженной вместе со входом и выходом каждого дыхания.
Ум делается заостренным на ощущениях, сопровождающих дыхание.
Если возникают помыслы, ясно отмечайте их движение в уме, их возникновение и исчезновение, подобное пузырям. Отмечайте их – и возвращайтесь ко внимательности к дыханию.
Если какая‑нибудь мысль или какое‑нибудь чувство становится преобладающим, осторожно, с открытым осознаванием, отметьте преобладающий элемент как «чувствование», или «думание», или «слушанье», или «вкушение», или «нюхание». Затем мягко вернитесь к дыханию.
Не задерживайтесь на помыслах. Не определяйте их содержание. Только отметьте переживание помысла, входящего в ум и исчезающего, переживание чувствования, любого внешнего ощущения, которое возникает в данный момент и исчезает в следующий.
Возвращайтесь к ровному току дыхания. Без тяги к чему‑либо, без отталкивания. Только с ясным осознаванием того, что преобладает в уме или в теле при своем возникновении.
Глубокое возвращение к пункту напряженного ощущения, которое служит отметкой прохождения воздуха при каждом полном дыхании.
Глаза полузакрыты; плечи опущены; живот расслаблен. Осознавание кристально чисто.
Преобладают все более и более тонкие ощущения. Преобладают помыслы. Каждый из них ясно отмечен внутри сосредоточенного осознавания дыхания.
Наблюдайте его движение, постоянную смену одного объекта другим, одного дыхания другим, ощущения ощущением. Эту постоянную перемену, подобную калейдоскопу.
Ежемгновенно объекты возникают и исчезают в обширном пространстве, в пространстве ума и тела. Спокойное, открытое осознавание, просто наблюдающее процесс возникновения и исчезновения. Осознавание всего, что получает преобладание, возвращается к ощущению дыхания.
Возникают чувства. Возникают помыслы. «Планирующий ум», «судящий ум». Осознавание переживает процесс их движения. Оно не затеряно в содержании. Наблюдайте помысел, проходящий через обширное пространство ума.
Эти слова, возникающие из ничего, исчезают в пустоте. Только открытое пространство, в котором весь ум, все тело переживаются в виде ежемгновенных изменений.
Звук возникает и исчезает.
Чувство возникает и исчезает.
Все, кем мы являемся, все, что мы думаем о себе, – это пузыри внутри ума, которые приходят и уходят каждое мгновенье; они возникают и исчезают в беспредельном, открытом пространстве ума. Осознавание без разбора. Ежемгновенное осознавание всего, что возникает, всего, что существует.
Все вещи, обладающие природой возникновения, обладают и природой исчезновения. Все, о чем мы думаем как о «себе», исчезает от мгновенья к мгновенью.
Ежемгновенно все это просто видится таким, каково оно есть, совершенно приходит и уходит само по себе.
«Так следует вам думать обо всем этом мимолетном мире: звезда на рассвете, пузырь в потоке, вспышка молнии в летнем облаке, мерцающий светильник, призрак, сновидение».
Очень редко случается так, чтобы мы прожили один день или даже один час, в течение которого не было бы таких состояний ума, которые нам хотелось бы не переживать, – состояний чувства неловкости, напряжения, гнева, отвращения, страха, зависти, утомления. Обычно и другое – в течение дня возникают весьма приятные, привлекательные состояния ума, и нам хочется, чтобы они бывали почаще, хочется продлить их навсегда. Каким‑то образом некоторый уголок ума хочет убедить нас в том, что мы – это только приятные состояния. Это лишь выборочное самоотождествление, привязанность к некоторому образу самих себя, какой‑то способ желаемого виденья себя.
От мгновенья к мгновенью ум, обусловливание, строит некоторый образ того, чем он считает себя. Мы думаем, что мы – прекрасные, приятные состояния; нам не хочется быть депрессией, гневом, взвинченностью, горем, разочарованием.
Мы привязаны к одному аспекту в противоположность другому, и поэтому нам не удается увидеть процесс, из которого все это происходит.
Однако увидеть то, что реально, очень трудно, если мы деятельно фильтруем все поступающее извне, если внутри нас есть «некто», старающийся быть чем‑то. «Я» воссоздается с каждым новым мигом, исходя из того, нравится нам или не нравится то, что происходит в уме. Это приобретенное суждение о всякой вещи, которая приходит на ум, производит выбор и отбор среди многочисленных помыслов и образов, и строит себе дом, который постоянно растворяется в естественном токе ума. Это «я» представляет собой фасад, избранный умом, чтобы представлять себя. Выбирая того, кем нам хотелось бы быть, мы отбираем из огромного склада то один образ, то другой, и отвергаем остальные на основании каких‑то рассудочных доводов. То, что мы выбираем, то, чему позволено остаться, мы называем «я», продолжая верить, что выбор производит это «я», а не что оно‑то само и выбрано. Таким образом, это воображаемое «я» постоянно вовлечено в подневольную активность ради самопеределки. Но само это отдельное «я», этот аспект ума, производящий отбор среди собственных образов, чтобы появилось нечто, – само это «я» являет собой всего лишь еще один ум, еще один преходящий помысел, еще один пузырь.
Мы строим и строим новый образ самих себя, мы хотим знать, каким будет следующий образ. Мы отвели себе очень небольшое пространство для незнания. Весьма редко мы обладаем мудростью не знать, оставить ум открытым для более глубокого понимания. Когда внутри ума наступает путаница, мы отождествляем себя с нею, говорим, что запутались, и держимся за это. Путаница возникает потому, что мы боремся со своим незнанием, которое переживает каждый момент заново, без предвзятых мнений или переживаний. Мы так переполнены способами видения и представлениями о том, какими должны быть вещи, что не оставляем зазора для возникновения мудрости. Мы желаем знать только определенным образом, таким способом, который подкрепит наш образ разумной личности, отдельной и независимой. Когда мы раскрываем свой ум, свое сердце, не стараясь понять, но просто не мешая пониманию проявиться, мы находим больше, нежели ожидали. Когда мы освобождаемся от своего незнания и путаницы, мы дозволяем возникнуть своему познающему уму.
Мудрость появляется в том уме, который пребывает в незнании, внутри спокойного ума, который просто есть. В том, чем обладает Будда, или Христос, или Мухаммед, нет ничего такого, что отсутствовало бы в нашем существе; это тот же самый родник, та же первоначальная природа, та же общая сущность. Освобождаясь от того, кем мы воображаем себя, освобождаясь от своей попытки контролировать мир, мы приходим к своему естественному существу, которое все эти годы терпеливо ожидало нашего возвращения домой.
Привязываясь к тому, что мы, по нашему мнению, знаем или не знаем, мы создаем препятствия для своего более глубокого познания. Осторожно освободившись от всего – не силою, не убивая, а просто видя все содержание в форме проходящего зрелища, как процесс и ток, – мы становимся всем своим переживанием, становимся открытыми для своего естественного понимания.
Возможно, будет полезно дать дальнейшее определение выражению «освобождение». Освободиться – значит не задерживаться на чем‑то, пришедшем на ум. Это выражение также означает переживание того качества осознавания, лишенного вожделения, которое ничего к себе из потока не притягивает, – переживание огромного простора, которое всегда просто не мешает всему приходить и уходить.
Мы лучше поймем этот простор, когда заметим, что обычно ум замыкается на каждом помысле. Ум принимает форму всякого входящего в него объекта. Ум думает о яблоке – и становится яблоком. Он думает о страхе – и сам становится страхом. Поэтому мы пришли к убеждению, что ум – это содержимое ума. Но ум есть содержимое ума не в большей степени, чем небо есть проходящие по нему облака. Это пространство, где проходят элементы его содержания, где они возникают и исчезают. Переживание этого простора и есть сущность отсутствия вожделения, освобожденности, наличия пространства для всего, способности не удерживаться ни на чем.
Когда мы вступаем в связь с этим открытым пространством вместо связи с его содержимым, мы не привязываемся ни к чему, что проходит через него. Если возникает страх или желание, оно оказывается видно изнутри окружающего его простора. Мы не теряемся в нем, становясь им, а просто видим его как всего лишь еще одно мгновенье, пришедшее без спросу, которое так же и уйдет.
Освобождаясь от всего, чем мы себя считаем, освобождаясь от мыслей о себе, как о теле или об уме, как о человеке блестящего ума или тупице, как о святом или глупце, мы наконец снова обретаем целостность и делаемся чутки к пребывающей внутри нас Вселенной. Если мы освобождаемся от всего, мы можем иметь все. А если мы вообще что‑то удерживаем, мы теряем все прочее; и та вещь, к которой мы привязаны, в конце концов должна измениться и стать причиной страдания.
Развитие ума, который ни к чему не привязан, открывает путь к мудрости. Возникают помыслы, чувствуются ощущения, внешние чувства открыты и восприимчивы; в просторе ума возникают предпочтения и мнения; но все это видится с ясностью, и нет никакого отождествления или вмешательства.
Таким образом, мы видим, что в просторе освобожденности возникает естественное равновесие. Благодаря нашему освобождению от путаницы возникает познание. Благодаря освобождению от гнева возникает любовь. Нам не приходится привносить любовь извне, нам нужно только освободиться от того, что ее не пускает. Благодаря освобождению от страха возникает спокойствие. Любовь и мир, заботливость и великодушие – все это естественные качества бытия, которые становятся очевидными, когда им нет препятствий со стороны таких качеств бытия, которые приобретены для сохранения и выражения воображаемой личности.
В тишине медитативной практики увидеть зти препятствующие состояния и освободиться от них довольно легко; но сделать это в течение дня не так‑то просто. Мы становимся забывчивы и снова впадаем в свои обусловленные верования и отождествления. Мы хотим узнать, как нам можно искоренить смятение, от которого начинаются пререкания, или избавиться от злости против начальника, от скуки или беспокойства на работе. В повседневной жизни мы обнаруживаем, что, пользуясь той же самой техникой – простым узнаванием состояния ума, как мы это делали во время медитации, простым называнием его и освобождением от него пространства – «А, снова гнев!», или: «Ну, чувствую, что становится немного страшно!» – мы переводим это состояние в свет осознавания, и оно теряет свою огромную власть над нами. Даже если мы сможем распознавать состояние своего ума один раз в час, эта практика отметок происходящего, когда оно имеет место, уменьшит напряженность самоотождествления с такими состояниями и даст больше простора всему дню. Если на протяжении дня мы распознаем страх или скованность, мы преодолеем это состояние. Каждый раз, когда мы узнаем какое‑то состояние ума, не осуждая его, а только отмечая: «Вот неуверенность», или: «Вот страх», или «Глянь, вон беспокойство», – это ослабляет указанное состояние ума, укрепляя способность освободиться от него.
По мере того, как ослабевают отрицательные состояния, положительные состояния возникают сами по себе. Такие термины, как «отрицательное» и «положительное» или «здоровое» и «нездоровое», не имеют в виду ценностного суждения; они скорее указывают на такие состояния ума, которые создают преграды свету понимания, и на такие, которые фокусируют его. Мы легко узнаем отрицательные состояния: они неудобны, мы можем почувствовать их в своем теле. Чему подобны чувства гнева, ревности или зависти? При них ощущается напряженность, озабоченность, какое‑то горение. А на что похожи чувства великодушия, открытости, доброты, любви? При них ощущаются теплота и открытость; мы чувствуем себя очень удобно.
Видение того, что происходит, даже если признать это неприятно, может вызвать очень хорошее чувство, потому что это истина данного момента, а истина прекрасна. Даже признание того факта, что «я дошел до крайности», сделанное открыто, без осуждения, освобождает нас от напряжения и от страха, который его поддерживает, и может снять преграды с сердца благодаря принятию самого себя. Попытки скрыться от этих отрицательных состояний, отвлечься или убежать, послужат для них просто приглашением вернуться в силу отрицательной привязанности. Такие попытки только затягивают узлы. Простор, разрешающий всему быть таким, каково оно есть, который разрешает напряжениям распутаться, освобождает нас от болезненности сопротивления.
Мы редко узнаем состояние своего ума, так как большую часть времени мы слишком с ним отождествлены. У нас нет зазора между вниманием и чувством, чтобы увидеть, что это не мы, чтобы вспомнить о необходимости просто признать то, что есть. Обычно мы даже не узнаем, как глубоко отождествлены с каким‑то настроением или состоянием ума, потому что видим целый мир внутри него. Мы судим обо всем и все комментируем с этой точки зрения, с точки зрения образа самих себя в данный момент, с точки зрения счастливого «я» с его пристрастиями или с точки зрения скучающего «я» с его желаниями. Мы сами становимся состояниями ума вместо того, чтобы дать им возможность просто пройти через осознавание, не прилипая к ним. Способствуя этому обширному, свободному от отождествления осознаванию, мы освобождаемся от всех попыток вообще быть кем‑то, вообще что‑то получить; мы не сдерживаем потока и не ускоряем его; мы просто не мешаем ему пройти так, как он идет.
Критический ум имеет мнение обо всем. Из потока ума он отбирает то, чем, по его убеждению, он должен быть, и отбрасывает все остальное. Он полон шума и старых знаний. Таково качество ума, который пристрастно поддерживает какой‑то образ самого себя. Он всегда старается быть кем‑то.
Критический ум надзирает за процессами всех наших помыслов и поступков и постоянно, въедливо болтает. Это один из голосов внутреннего диалога, который поддерживает то, что, как нам мнится, является нашим «я». Когда вынесено суждение, присутствует «кто‑то», выносящий суждение, существует какое‑то «я есмь», вовлеченное в танец отождествления с явлениями, как «я», как некто, совершенно отдельный от потока, от процесса. Все «да» и «нет» нашей жизни способствовали укреплению его власти, все «хорошее» и «плохое», все «правильное» и «неправильное», все противоречивые идеи о том, какими «надо» быть вещам. Это жестокий и постоянный критик всего, что появляется внутри ума. Но, поскольку это всего лишь еще один из процессов ума, его можно ввести в свет понимания и освободиться от него.
Иногда, когда мы медитируем и оказываемся увлечены помыслом, у нас появляется склонность думать: «Проклятье, я опять забылся в помыслах!» – т. е. склонность следовать за блуждающими помыслами с привычными, осуждающими комментариями, а затем, когда мы узнаем свое осуждение, реагировать таким образом: «Черт возьми, я опять осуждаю!» Мы критикуем критический ум.
Когда возникает суждение, если мы признаем его объемлющим, свободным от суждения вниманием, мы ослабляем его хватку благодаря тому, что видим его с состраданием к процессу, которым являемся мы сами, с почтительным признанием огромной силы той обусловленности, из которой нам нужно выбраться. Мы окажемся затеряны тысячи и тысячи раз. Но освобождение от того, кем, как мы думаем, мы являемся, вместо его осуждения, помогает нам смягчить свою жизнь. Отождествление с помыслом побуждает к суждению. Если мы просто осознаем, что ум выносит суждение, когда он этим занят, если мы признаем это с открытой и ясной внимательностью, критический ум начнет растворяться.
Но этот ум, который комментирует самого себя с напряжением суждения, не пускает тот простор, в котором существует пространство для всего бытия в целом. Простор не приказывает чему‑то прийти или чему‑то остаться; он просто не мешает проявиться природе ума.
Для удержания этого простора, могущего признать осуждающий ум, не вынося о нем суждения, – требуется уравновешивающее действие. Если мы чересчур близки к какому‑то помыслу или состоянию ума, если мы на самой их вершине, – то налицо давление, натуга, в которых для естественного потока не достает того пространства, которое ему необходимо, чтобы стать видимым во всей своей целостности. Вы словно прижали лицо к стеклу, чтобы увидеть какую‑то вещь на витрине. В этом случае мы искажаем зрение; но точно так же, когда мы стоим чересчур далеко от витрины, это лишает предметы отчетливости. Если бы мы стояли слишком близко, мы не смогли бы установить предмет в фокусе; а если чересчур далеко, мы оказались бы невосприимчивы к мелким деталям. Равновесие приходит благодаря исследованию того, как мы видим. Тонкое сообразование приходит благодаря доверию к интуитивной мудрости процесса.
Когда ясно отмечен критикующий ум, можно наблюдать его хрупкость. Мы видим, как мнения слепляются и растворяются подобно снежным хлопьям. Мы видим, что каждый комментарий подобен пузырю. Когда его касаешься осознаванием, становятся вполне очевидными его несубстанциональность, сущностная пустота. Приязнь и неприязнь со стороны критикующего – это всего лишь старая карма и штампы обусловленности. Но если мы реагируем на эти предпочтения подневольно, если отождествляем себя с ними, они становятся причинами новой кармы. Суждение может быть очень тонким; единственное мгновенье похвалы или порицания, приязни или неприязни поляризует весь наш мир. Эти автоматические привязанность и осуждение со стороны критического ума представляют собой поток кармы в его непрерывном движении и нет надобности в том, чтобы он порождал мотивы действия, создающего новую карму. Мгновенье критикующего ума, затерявшегося в отождествлении со старыми предпочтениями, – это мгновенье забвения, мгновенье незнания. Мгновенье распознавания критикующего ума – это мгновенье свободы и мудрости.
Кто‑то спросил: «Как можем мы сохранить себя, если не будем выносить суждений? Разве не станем мы тогда совершенно неразборчивыми?» Этот вопрос возникает вследствие глубинного отсутствия доверия к самим себе, неверия в то, что если мы действительно освободимся, у нас все пойдет хорошо. Некоторые уверены, что если мы освободимся от постоянного критикующего надсмотрщика, мы одичаем, обезумеем, озвереем; что если мы не будем находиться под постоянным надзором, не станем подавлять тот или иной помысел и постоянно манипулировать умом, то впадем в буйство и навредим окружающим. Мы не понимаем, что если ум легкий и нецеплючий, нас не захватывают мелодрамы, приносящие такую боль нам и другим людям. Мы можем довериться осознаванию, которое не мешает усмотреть в суждении всего лишь часть потока, результат предыдущего обусловливания, который не обязан как‑то направлять или ограничивать весь этот обширный ум. Критикующий ум пытается убедить нас, что мы должны быть постоянно идеальны, в лучшей форме, а если мы, дескать, этого не сделаем, то станем совершенно не приемлемы для тех, в чьей любви больше всего нуждаемся. Но на самом‑то деле нашу способность любить и быть любимыми можно просто приравнять к нашей мере способности освободиться от отделённости, позволить, чтобы нас любили, благодаря освобождению от своего критикующего чувства неловкости.
В некоторых переводах йогических текстов мы слышим о «контроле над умом»; и это склоняет нас к мысли, что нам надобно оттачивать эту критическую способность контролировать ум. Но осуществлять подлинный контроль – это значит отпустить. Свободны мы, когда отпустили и не держим, потому что ничто возникающее тогда не в состоянии на нас повлиять – ни гнев, ни жадность, ни страх; и в нас нет ничего, на что они могли бы налипнуть.
Когда мы наблюдаем ум, не вынося суждений, мы ясно видим различие между думанием и следящей мыслью. Следящая мысль представляет собой отпускание, неудерживание содержания, когда мы осознаем процесс, видя пространство вокруг каждого объекта ума. Думание же – это погружение прямо в самую карму, которая порождает думу, объект, которая подкрепляет свою активность и в то же время усиливает свою способность вызывать отождествление и реакцию в будущем.
Христос сказал: «Не судите, да не судимы будете». Чем больше мы будем пускать в ход на других деятельность своего критического ума, тем более усиленно критический ум будет поощряться к высокой оценке каждого из наших действий. Лучшим средством растворения критического ума окажется простое его узнавание без ценностного суждения, едва он возникнет.
Несколько лет назад я заметил, что в общественных местах ум у меня частенько начинает судить незнакомых людей, находящихся рядом в комнате. Это был машинальный процесс, – и довольно надоедливый; он был взращен в течение многих лет культом соревнования и сравнения. Казалось, таков был мой особый способ удерживать присутствие в комнате. Как ни смехотворно, но большую часть времени дело обстояло именно так; особенно заметным это бывало в ресторанах, когда я прислушивался к людям за соседними столиками. Я относился весьма критически к их способу общения, к тому, кем они, по моему мнению, считали себя. Я отмечал, насколько я, по моему убеждению, был выше их.
Ум, как будто погруженный в гипноз, непрерывно упражнял свою критикующую способность.
И вот я стал наблюдать его, не подавляя; я просто отмечал то, что он делает. Я наблюдал, как он одним махом оскорбляет меня и сидящих рядом людей. По мере того, как я работал с этим судящим качеством, я стал видеть, как осознавание и растущее чувство космического юмора пробиваются сквозь это довольно липкое состояние ума и чем дальше, тем больше ослабляют его власть. Я чувствовал, как слабеет его голос, как он теряет свое могущество. Хотя иногда я все еще замечаю, как мой ум судит разговор за соседним столом, эта активность ума оказывает на меня меньшее влияние. Я наблюдаю, как ее привычная инерция истощается.
Бывают моменты, когда мы свободны от внутренней борьбы; бывают и другие, когда подспудное течение обусловливания настолько усиливается, что мы опять втягиваемся в суждения. Когда голос осуждающего ума будет особенно громким, у нас появится возможность снова открыть силу прощения самих себя. Открытость, порожденная прощением самих себя, настолько велика, что она рассеивает напряженность критического ума. Вместе с добротой к самим себе мы развиваем сочувствие к тем трудностям, которые возникают во время постепенного пробуждения. Мы испытываем глубокое уважение к процессу, который раскрываем, и медленно понимаем. Мы видим, что осуждать себя за то, каковы мы есть, – все равно, что осуждать небо за погоду или море за приливы и отливы. Приятие себя и обширное осознавание позволяют нам переживать нашу драгоценную жизнь такой, какова она есть, без осуждения, которое вызывает раскол. Если быть добрыми и пробужденными по отношению к самим себе и освободиться даже от чувства никчемности – это открывает нас для нашей целостности.
Личность, которую нам больше всего хочется любить, – это мы сами; но когда мы пытаемся обратить на себя любовь, – может быть, при помощи какой‑то медитации, в которой культивируем это качество, или же в ходе нашей повседневности – мы обнаруживаем, что иногда не считаем себя заслуживающими любви. Мы видим, как возникающее сомнение в себе препятствует этой любви; это – некая помеха, которая, как становится понятно, присутствует в известной мере почти постоянно. Все это – чувство никчемности, которое мы носим за собой, как облако. Оно нас слепит, и мы не видим своей красоты. Я вижу, как для некоторых, прекраснейших созданий, которых я знаю, их чувство своей никчемности оказывается самым жгучим пламенем, с которым им приходится работать.
Откуда же берется это чувство никчемности? Дело, кажется, обстоит так: нам велят не доверять своему естественному бытию, учат такому недоверию; мы им обусловлены. Это результат того, что мы отворачиваемся от самих себя, что мы научились не доверять самим себе. Вот простенький пример. В раннем детстве, неуверенно шагая по полу, мы можем почувствовать, что хочется писать – и писаем прямо на пол. Тут же к нам подходит мама или папа и говорит: «Нет, нет! Нехорошо, так не делай!» А ведь мы ничего и не делали , мы только пустили струйку; просто через нас что‑то естественно проявилось. Но вот это событие каким‑то образом оказалось «нехорошим»! Оно заставляет нас все чаще сомневаться в своей естественности.
С возрастом мы приучаемся заботиться о себе, приучаемся к ответственности. Нас побуждают к тому, чтобы мы были какими‑то особыми людьми, достойными похвалы, выдающимися. И в течение курса обучения тому, как укрепить свою отдельность, нам, детям, вполне естественно в большинстве своем случалось солгать или что‑то украсть. Возможно, мы лгали, чтобы защитить свою «особенность», чтобы соответствовать какому‑то предполагаемому нашему образу, чтобы замаскировать свое естественное своеволие, чтобы стать кем‑то, кем мы не являемся, – просто так, как иногда мы можем что‑то украсть, чтобы насытить себя тем, что нам хотелось бы иметь.
Ребенку говорят только, чтобы он не крал и не лгал; но никогда не говорят, как . Наша естественность обвиняется. Наше недоверие к себе подкреплено чувством, что мы – единственные люди, которым случилось солгать или украсть, что в нас скрыты какие‑то глубокие недостатки.
И вот большую часть времени внутри нас звучит этот критический, осуждающий голос, комментирующий то, что мы делаем, и то, как мы это делаем, указывающий нам, что мы не соответствуем среднему уровню, что мы недостойны любви. Мы как‑то приходим к мысли, что любить самих себя – неподобающее дело, что мы недостойны любви к себе, а все потому, что мы утратили эту естественную любовь, естественное самоуважение.
Достаточно упоминания, что именно это чувство никчемности поддерживает «я». Нам не приходится сражаться с «я», сокрушать его. Большая часть того, в чем мы видим мотивацию «я», приходит от чувства никчемности. Когда же чувство никчемности отпадает, опора для «я» значительно уменьшается. «Я» – это не какая‑то сущность, выступившая на завоевание мира; большая часть мгновенных вожделений, которые мы называем «я», являет собой механизм восполнения, старающийся опровергнуть никчемность: это не столько старание показаться великим, сколько старание не показаться дураком. Мы полагаем, что, если будем кем‑то особенным, это компенсирует нашу неадекватность, покажет, что у нас на самом деле все в порядке.
Когда же мы освобождаемся от этого чувства никчемности, когда мы прощаем себе даже это, тогда не остается никого, кто пытается что‑то доказать. Тогда вся структура «я» начинает рассыпаться, тогда она раскрывается для большей любви и примирения с собой. Когда появляется самоосуждение, мы осторожно стараемся отпустить его. Вполне возможно, что следующей мыслью будет: «О, я не могу сделать этого, это потворство себе. Я не должен позволять себе этого!» – что опять‑таки будет проявлением того убеждения, что нам нужно контролировать себя, что мы не в состоянии доверять себе. Наше чувство недоверия к своему естественному бытию приобрело такую силу, поддерживается такой значительной частью общества, что многие люди от всего сердца соглашаются с тем, что нам нельзя доверять себе.
Существует столько недоверия к нашему естественному бытию, что многие люди убеждены в том, что человек по природе зол. Это и есть то самое чувство никчемности, о котором мы говорили в связи с осуждающим умом. Люди, имеющие такой взгляд на умственные препятствия, – на жадность и желания, на тот хлам, с которым мы все работаем, на гнев, эгоизм, – говорят: «Посмотрите на всю эту пакость! Можно ли доверять уму, наполненному этим?» Но когда мы высказываем предположение, что эти препятствия укрепляются таким отвращением и страхом, что можно освободиться от этого обусловленного ума и дать возможность возникнуть естественной мудрости, они отвечают: «Я не в состоянии отказаться от контроля, мне надо подкручивать гайки, или я действительно взорвусь!» На самом же деле наше чувство никчемности заставляет нас усиливать эти отрицательные качества. И поскольку все они поощряют дальнейшую отделенность, это обстоятельство заставляет нас чувствовать себя еще более нелюбимыми и недостойными любви, еще более затрудняет контакты с самими собой и с другими.
Мы можем отмечать свою никчемность точно так же, как и любое иное качество ума, свободно приходящее и уходящее в ответ на некоторые условия. Это всего лишь еще один момент ума, всего лишь еще одна часть преходящего зрелища. Мы можем доверять самим себе и силе осознавания, которая проникает до ясного постижения истины. Все наши попытки измениться, мысли о том, что мы должны что‑то сделать по поводу того, кто мы такие и как себя ведем, приходят большей частью из чувства никчемности, из чувства личного недоверия. Даже сейчас многие из нас говорят: «Да, но…» Это в большей мере все то же самое.
Одна женщина, моя знакомая, рассказывая группе о своей жизни, упомянула о том, что она назвала «переживанием космического сознания». За несколько месяцев до того она пережила чудесное понимание того, каковы вещи. И когда она рассказала эту историю, кто‑то в аудитории задал ей немного раздраженный вопрос: «А не хвалитесь ли вы обладанием таким переживанием, которым не обладает никто из нас? Не создаете ли вы привязанности к высочайшим переживаниям?» Она ответила: «Нет, видите ли, из этого переживания не вышло ни знания, ни мудрости, ни даже мира. Если что‑то в этом переживании было для меня действительно важным, так это чувство, что я была достойна его иметь».
Нет ничего необычного в том, что чувство никчемности становится более отчетливым; нам кажется, что оно усугубляется по мере того, как сознавание становится глубже и раскрывает все большее число наших глубоких наклонностей. Тогда оно становится основой для нашей работы над собой, для дальнейшего очищения.
Мы освобождаемся от своего чувства никчемности не потому, что кладем его под топор, не потому, что стараемся контролировать или подавлять его; мы освобождаемся от него, предоставляя ему достаточное место для того, чтобы оно увидело, что оно делает.
Чувство никчемности не делает нас никчемными. Оно было приобретено за время многих жизней, если не за миллиарды мгновений ума в этой жизни, когда нам говорили, что мы поступаем неправильно или неадекватно, и когда мы сами так думали. Каждый человек, по‑видимому, до известной степени обладает им. Не знаю, каждая ли культура поощряет его в одинаковой степени; но в нашем обществе оно получило весьма заметное преобладание. Но мы достойны того, чтобы освобождаться от своей никчемности, и нам есть зачем. Если бы мы не делали ничего, кроме практики освобождения от никчемности, значительная часть того хлама, над расчисткой которого мы столь усердно работаем, не имела бы подпорки. У нас было бы больше места, куда расти.
Мы сознательно отдаемся чувству никчемности; когда оно возникает, мы не развлекаем его кредитной карточкой «я». Работа, которая нас пробудит, – это проявление острого осознавания никчемности без его осуждения. Мягко, терпеливо и с большой любовью мы признаем то, чем в действительности являемся. Как это выразил один мой друг: «Всегда старайся видеть себя глазами Бога».
Чем больше мы принимаем самих себя, тем полнее переживаем весь мир. Чем более мы принимаем свой гнев, свою одинокость, системы своих желаний, тем более мы способны слушать других, тем более способны слушать самих себя. Тот объем пространства, который мы все еще отрицаем, – это расстояние между нами и полнотой. Потому что быть в полноте – значит не быть где‑то еще.
Когда мы способны пребывать с тем, что происходит в данный момент, налицо и наше чувство полноты. Когда мы раскроемся для всего того, что происходит в данный момент, тогда будет присутствовать и наше чувство целостности, завершенности. Нам не будет нужно что‑то делать для этого. Действие – это обычно желание, чтобы что‑то стало другим. Когда мы способны отдаться моменту без какой бы то ни было привязанности, так чтобы все, что возникает, было увидено мягким, несудящим умом, мы переживаем свою полноту. Мы способны пребывать со своей одинокостью, со страхом или даже со своей неловкостью во всей полноте. Мы видим, что это всего лишь преходящее состояние ума; и хотя его признание может оказаться болезненным, такое допущение его присутствия есть истина; а истина прекрасна. Она означает действительное приятие всего, что мы есть. Только когда мы принимаем все, что мы такое, мы видим то, что стоит за этим.
Гнев послужит особенно удачным примером такого факта, который мы не хотим признавать в самих себе, который мы осуждаем как нечто «плохое». Но когда возникает разочарование, часто за ним следует гнев. Пристально наблюдая за умом, мы можем увидеть, как разочарование превращается в гнев. Мы можем наблюдать, как неосуществленное желание внезапным рывком переходит в гнев. Мы видим, как разочарование стало гневом, знаем, что зачастую гнев ищет какой‑то объект для порицания. Гнев состоит в следующем: мы хотим вот этого, но мы его не получаем; тогда сжавшееся сердце превращается в сжатый кулак.
Гнев особенно хорош, как наблюдаемое состояние ума, еще и потому, что нам не раз велели не сердиться; при этом нас убеждал не сердиться кто‑то сердитый. Это очень странное задание. Ведь у большинства есть какой‑то гнев, где‑то, возможно, скрывается какой‑то узел бессильной ярости из‑за того, что все меняется, и притом помимо нашей воли. В нашем детстве у нас умирал щенок, или умирали родители, или мы куда‑то уезжали, или куда‑то уезжал наш лучший друг. Иногда нам может показаться, будто бы все, что мы любим, будет предоставлено воле обстоятельств: или оно изменится, или умрет, или это случится с нами. Как и у ребенка, которому все время велят что‑то делать, которого постоянно побуждают не доверять своему самому естественному побуждению, – так и где‑то внутри нас существует глубокое чувство утраты, и оно иногда порождает глубинный гнев.
Когда мы добираемся до этого узла страха и гнева, мы отчасти удивлены; но до тех пор, пока мы не примем его с подлинной любящей добротой к самим себе, пока мы не примем его с полным сочувствием к степени своей человечности, мы не сможем распустить его. Пока мы его подавляем, наша привязанность питает его корни. Признавать свой гнев для нас болезненно. Но сердиться – вполне хорошо; так же хорошо и не сердиться. Хорошо впустить гнев и выпустить. Нам следует слышать, каков он для каждого из нас. Когда я говорю, что сердиться хорошо, у некоторых людей мороз пробегает по коже: «Что вы имеете в виду? Разве сердиться хорошо? А мне говорили, что злиться плохо. Нехорошо оскорблять кого бы то ни было». Гнев – это состояние ума; для того, чтобы произвести действие, он совершает волевое усилие. Если же гнев ясно виден, он никого не оскорбляет; он оскорбляет кого‑нибудь только тогда, когда мы теряемся в нем. И один из способов потеряться в нем – это говорить: «Я не сержусь!»
Когда мы в гневе кого‑то ударили, это не больно творческий или здоровый кармический поступок в нашей жизни. Есть много удачных способов справиться с ситуацией; но подавление гнева и сжатие сердца по отношению к самим себе из‑за того, что мы сердимся, не будет одним из них. Мы можем доверять себе, когда признаем свой гнев, когда признаем свой страх. Когда мы раскрываем доверие к себе, у нас оказывается достаточно сострадания и терпимости к себе, чтобы работать с этими весьма мощными эмоциональными побуждениями – они становятся нашей работой над собой вместо того, чтобы оставаться проблемой. Эти состояния ума бывают крупными событиями только тогда, когда мы питаем их или боремся с ними. Когда же мы культивируем внимательность, которая способна их принять, мы признаем свою целостность и видим все это таким, каково оно есть: здесь просто еще какой‑то хлам, какие‑то пузыри, проходящие через обширное пространство ума.
Нет ничего такого, от чего нужно прятаться; мы можем сказать: «Ух ты! И внутри меня находится этот хлам?» Но это есть «я» до тех пор, покуда мы это прячем. Вынесенное на свет, оно не имеет над нами власти, не устремится к действию. Когда мы располагаем достаточным состраданием, достаточным терпеньем по отношению к себе, чтобы позволить такому состоянию появиться и быть видимым, оно медленно распадается. Сознание, свободное от осуждения, обладает силой увидеть нечто таким, каково оно есть, и освободиться от него. Когда мы оказываемся способны увидеть нечто не столько как содержание, сколько как процесс, мы узнаём, что весь этот эмоциональный хлам, который мы так часто принимаем за себя, в действительности не так уж лично наш.
Нам не следует бояться увидеть что бы то ни было. Когда мы ясно видим гнев, или страх, или неуверенность, или сомнение, каждое из этих явлений растворяется; оно не требует выражения, его реактивная сила рассеивается. Внимательность пробьется сквозь него; внимательность ослаблит силу его возникновения также и в будущем, даже несмотря на то, что она может иметь такую энергию, что на некоторое время удержится. Когда мы переживаем чередование мгновений внимательности и гнева, мы начинаем подрывать власть гнева.
Иногда мы пребываем в недоумении относительно того, как реагировать на какое‑нибудь упорное разочарование. Если, например, мы готовим ужин своим детям, а какой‑то незваный гость сует нос в холодильник и бесцеремонно съедает пищу, предназначенную на вечер, мы можем положиться на себя, ибо знаем, как поступить. Нам нет нужды выбрасывать его из сердца, когда мы выставляем его вон.
Природа ума такова, что когда наличествует осознавание, оно вытесняет тот вид вожделения, который порождает разочарование. У нас не могут существовать одновременно активное осознавание и вожделение. В одном и том же пространстве они несовместимы. Когда мы невнимательны, когда мы отождествляем себя с помыслом, – а это есть забывчивость, противоположная внимательности, – нас затягивает в процесс. Когда же мы внимательны, каждый помысел возникает и исчезает, сменяясь следующим; и прилипчивости нет. Поэтому когда мы внимательны к гневу, он не удерживается. Мы не подавляем его, мы его не устраняем. Мы просто внимательны к нему, переживаем его, наблюдаем, как он приходит и уходит.
Внимательность представляет собой мощнейшее средство для очищения, которым мы располагаем, потому что она взращивает в уме отсутствие вожделения. Любопытно, что в буддийской мысли не так много говорят о взращивании любви и доброты, как о развитии отсутствия ненависти; а об освобождении меньше, чем о развитии невожделения. Когда эти нездоровые качества, ненависть и алчность, в уме отсутствуют, раскрывается естественное состояние любящей доброты и великодушия. Когда отсутствует ненависть, становится очевидной любовь, всегда присутствующая в уме мудрости.
Внимательно вступить в данный момент – значит полностью принять самих себя. Мы знаем, что существуют чувства с неизвестными нам корнями, чувства, с которыми мы не соприкасаемся: «Я думаю вот так, но не знаю, почему; я испытываю неловкость, но не знаю, откуда она происходит; вот и сижу здесь с ней». Мы можем разрешить себе не напрягаться в ответ, не погружаться в него, не вызывать в уме противодействия, не противодействовать также и в теле. Если мы не знаем, то это хорошо – у нас остается место для знания.
Мы можем экспериментировать со своей практикой, чтобы увидеть для себя, что происходит в нас. Мы можем наблюдать, на что похоже чувство гнева, на что похоже чувство радости, или отдельности, или страха, или свободы от потока, или беспокойства. Мы можем увидеть, как работает освобождение. Мы можем целиком пережить самих себя. Мы создаем пространство для самих себя во всей полноте и со всей душой возвращаемся в поток – с умом, терпимым к самому себе, не пойманным в осуждении других душевных состояний.
Мы позволяем себе просто наблюдать выносящий суждения ум и видим, как оценивающее суждение, говоря словами третьего патриарха дзен, «помещает небо и ад бесконечно далеко друг от друга». Мы видим, что открытое пространство, в котором появляется содержание ума, само по себе полностью свободно от суждений, от мнений, от разделенности. Оно не останавливается на том или этом, оно принимает все. Суждение разбивает первоначальное пространство ума на миллиард осколков. Наблюдая выносящий суждения ум, проявляя к нему сочувствие, мы внимательно культивируем приятие самих себя.
Препятствие – это преграждение света ума‑мудрости. Вряд ли стоит называть его «грехом», лучше бы усмотреть в нем просто помеху для понимания, отвлекающую внимание, создающую отождествления, уводящую нас от уравновешенного осознавания потока. Препятствия составляют основу многих реакций поневоле и семена многой кармы.
Хотя существует множество препятствий, их обыкновенно делят на пять главных разрядов; это, если хотите, пять врагов уравновешенного ума. Вот они: чувственные желания , которые представляют собой особую форму алчности; ненависть или гнев , представляющие особую форму отвращения; леность и вялость; взвинченность и беспокойство ; наконец, пожалуй, величайшее препятствие для исследования и ясности – сомнение . Большинству из нас до некоторой степени свойственны все эти качества, хотя часто одно из них получает преобладание над другими. Например, в случае чувственного желания и ненависти, алчности и отвращения в какой‑то момент времени может присутствовать только одно из них, поскольку по своему действию они взаимно‑противоположны. Если мы страстно желаем чего‑то, мы стремимся к этому, мы готовы поглотить желанный предмет. Если же мы чувствуем к нему отвращения, мы стараемся оттолкнуть его подальше. Хотя ум способен измениться в течение какой‑то доли секунды, мы не в состоянии иметь и то и другое в один и тот же момент ума.
Алчность зачастую бывает желанием приятных состояний, желанием «больше, раньше, быстрее». Это не обязательно похоть, хотя она, несомненно, представляет собой легко узнаваемый аспект алчности. Это может быть даже страстное желание некоторых таких тонких состояний ума или вершинных переживаний; это может быть желанием лестных образов себя, скажем: «Я хорошо медитирую». Проблема этого препятствия, как и всех препятствий вообще, заключается в том, что оно направляет внимание во внешнюю сферу, а потому редко распознает себя. Конечно, без осознавания того, что происходит, очищению и освобождению возникнуть очень трудно. Мы можем уловить качество страстного желания в гораздо более тонкой форме, когда едем по шоссе и замечаем, что наши глаза читают дорожные афиши и объявления, хотя мы и не устремляли туда взора; такова обусловленная страсть ума к получению стимулов.
Это одна из преобладающих энергий, которые мы замечаем в уме, – вожделение к объектам, жажда переживаний. Вожделение может быть для нас самих крайне болезненным, а нередко болезненным и для вожделенного объекта, если объектом нашего вожделения оказывается другой. Вожделение по отношению к кому‑то, – плотское или более тонкое, когда мы желаем, чтобы этот человек служил отражением того, чем мы представляем самих себя, – так вожделение является причиной того, что данный человек становится предметом для удовлетворения, то есть объектом, лишенным своей удивительности, своей собственной внутренней ценности. Мы полностью отделены от таких предметов удовлетворения, мы питаемся ими, пользуемся ими. Этим мы не хотим сказать, что нам нельзя слегка потанцевать со своими желаниями; но музыка должна слышаться с обеих сторон, и сердца надо держать открытыми.
Второе препятствие – это отвращение, или ненависть; оно заключает в себя и страх. Это все, чего мы не хотим, все вещи, которые отталкиваем. Когда налицо отвращение, оно закрепощает тело и ум. Чувствуемые гнев, предрассудки, отвращение отталкивают прочь целый мир. Все эти виды отвращения противодействуют тому, что есть ; все они создают преграду для свободно текущего ума, который познает вещи в каждое мгновенье такими, каковы они есть, и не желает их переделать. Будда уподобляет гнев, наиболее обычную форму отвращения, протягиванию голой руки в костер, чтобы взять там уголек и бросить его в кого‑то другого. Прежде чем навредить другому, мы навредим самим себе. Наблюдая гнев, мы замечаем, что целью гнева бывает желание как‑то навредить другому, унизить его. Мы не в состоянии по‑настоящему рассердиться на кого‑то или на что‑то, не желая навредить ему. Таково злосчастное естественное свойство этого душевного фактора.
Когда мы ясно видим эти препятствия такими, каковы они есть, они не создают дальнейшей кармы. Чем скорее такие состояния будут отмечены, уже когда они начинают оформляться в уме, тем скорее можно будет от них избавиться, тем меньше силы будут они иметь для того, чтобы вызвать самоотождествление. Если мы знаем, что сердимся, и не осуждаем гнев, не испытываем отвращения к этому виду отвращения, мы можем раскрыть окружающий его ум, раскрыть предлагаемое осознаванием пространство и разрушить свою отождествленность с отвращением. Если мы открыто узнаём и признаём отвращение, когда оно есть, мы перестаем подпитывать пламя, и потом оно может остаться только в виде уменьшающегося результата былых помыслов. Пламя будет не усиливаться, а выжигать все те старые привычки ума, которые послужили причиной его выдвижения на первое место.
Когда мы следим, как эти препятствия действуют внутри ума, мы видим, что они нам не друзья. Хотя мы, возможно, долгое время находимся в теснейшей связи с препятствиями и думаем о них в значительной мере как о себе – «мой гнев», «моя алчность», – они остаются всего лишь качествами ума, как и любое иное качество. Когда мы видим их в свете понимания, они обладают все меньшей и меньшей силой для того, чтобы втянуть нас в деятельность, отвлечь ум. Мы можем исследовать для себя эти состояния ума, мы можем увидеть, как они создают из этого мира множество чудес.
Далее у нас имеются два наших старых товарища, лень и вялость, которые, как сказал один учитель, лучше всего олицетворены в банановом слизняке. Леность и вялость многообразны в своих проявлениях. Обыкновенно это – неповоротливость ума, которую мы время от времени ощущаем. Иногда, когда мы наблюдаем ум, мы отмечаем значительную долю сонливости и подавленности, которые становятся настоящим препятствием для ясности, потому что без должной энергии очень трудно быть проницательным. Леность и вялость, подобно другим препятствиям, могут зайти настолько глубоко, что станут частью нашего характера, способом нашего отношения к миру. Иногда это обстоятельство становится для нас очевидным, когда мы сидим и отмечаем такое свое думанье: «О, сейчас это уже лишнее…» или: «Думаю, пора остановиться!..», «Ну, для меня достаточно!» Это лень; и когда она присутствует, она способна воспрепятствовать дальнейшей работе. Эта сонная ослепленность погружает ум в особое состояние слабоумия; часто мы определяем его как «свою усталость» – вместо того, чтобы видеть в нем просто «утомление», «вялость», и оставаться с ним без противодействия, которое могло бы возникнуть в виде реакции на него.
Внимательность представляет собой самое мощное средство для преодоления каждого из препятствий. Мы можем сидеть с любым из них; и вместо того, чтобы препятствовать нашей медитации, они могут стать объектами исследования. Наблюдение за утомлением, за гневом или жадностью может оказаться захватывающе интересным, если ум при нем останется легким и свободным от осуждения. Мы можем просто осторожно и пристально наблюдать эту активность в уме и теле.
Когда внимательность недостаточно сильна для того, чтобы преодолеть препятствия, существуют некоторые искусные средства, предназначенные для работы с ними. В случае гнева и отвращения искусное средство для их нейтрализации в уме есть освобожденность, которая возникает благодаря зарождению чувства любящей доброты. Для учителя нет ничего необычного в том, чтобы предложить человеку с большим запасом гнева укрепиться в практике метта , или любящей доброты, сделав ее объектом медитации. В случае алчности мы видим, как неудовлетворительна по своей сути природа желания, и этот факт способствует противодействию такому качеству ума. К примеру, существовала традиция часто отправлять лиц с преобладанием чувственности на площадки для погребения трупов, чтобы они наблюдали там разлагающиеся тела и добились некоторого прозрения как в принцип непостоянства, так и в объекты своих сильнейших желаний. Менее радикальным и более подходящим для нашей практики средством будет поощрение умеренности в еде и сокращении сна. Такая внимательность к чувственному удовлетворению часто может служить противоядием по отношению к чувственным желаниям. Столкнувшись с вялостью и сонливостью, надо сделать несколько глубоких вдохов или даже выйти прогуляться, и это может послужить средством пробуждения сонливого ума. Может даже оказаться полезным постоять немного в состоянии внимания. В качестве средства, противодействующего упорной вялости, одному моему другу, бывшему монахом в Таиланде, учитель предписал продолжать медитацию, сидя на краю глубокого колодца. Каждый раз, когда его голова падала вниз, глаза раскрывались, и он видел перед собой зияющую пропасть. Очень быстро вялость разрушилась. Другой мой приятель медленно ходил задом наперед, пользуясь этим приемом как средством достижения такой же бдительности ради выживания, чтобы преодолеть томление, возникавшее во время длительной практики уединенной медитации.
Беспокойство, взвинченность и озабоченность составляют четвертое препятствие. Часто взвинченность приходит в сочетании с озабоченностью о чем‑то. Это значительное препятствие для ясности, потому что при нем взвинченный ум испытывает затруднения с сосредоточенностью. В большинстве своем мы переживали такие периоды, когда внимание просто не желало оставаться с дыханием, когда ум бывал отвлечен мыслями о неоплаченных счетах, или о недавних доводах в споре, или о том, что кто‑то думает о нас, или о причинах нашего беспокойства. Опять же, как и в случаях с другими препятствиями, здесь создается еще больше «я» – новые мысли о «моей тревоге», «моем беспокойстве», о «моей скуке». Это отождествление только создает новую тревогу, возбужденные проекции в будущее и его новые формулировки. Ум затерян где‑то в другом месте, не соприкасаясь с настоящим моментом. Часто, когда уму даешь возможность успокоиться, можно более искусно выработать ответ на весьма реальные проблемы, даже невзирая на мысли. Нередко именно тревога не дает возможности решения какой‑нибудь проблемы. Можно легко увидеть в взвинченности еще одно явление ума и таким образом его отпустить. Предписанное средство для восстановления спокойствия в уме заключается в подкреплении сосредоточенности посредством осторожного, терпеливого и упорного возвращения его обратно к дыханию.
Для работы с этими препятствиями надобно запастись терпением. Они не уйдут в одночасье. Баба Хари Дас говорит, что даже святой в возрасте девяносто одного года не свободен от препятствий. Они приходят в любое время, когда им вздумается. Большая часть нашей медитации имеет дело с препятствиями. Иметь с ними дело – это просто видеть их с открытым осознаванием, без ценностного суждения.
Пожалуй, самым мощным из всех этих препятствий является сомнение, ибо оно способно прервать практику. Хотя доля сомнения может стать полезным мотивом для более глубокого исследования того, что мы, будучи обусловлены, считаем истинным, но сомнение иногда может набрать такую силу, что закроет ум. Мы сомневаемся в том, что избранный нами метод доведет нас до цели; сомневаемся в собственной способности понимания; даже в существовании свободы. Когда сомнение возобладало, мы прекращаем работу над собой, мы опять опускаемся на четвереньки, мы склонны чувствовать жалость к себе и недоверие к Вселенной.
Сомнение может оказаться настолько тонким, что мы не распознаем его. Мы можем действительно чувствовать, что для кого‑то медитация благотворна, но наше сомнение в самих себе убеждает нас, что мы‑то просто не способны на какой‑либо прогресс. Когда мы сумеем увидеть в этом мгновенье сомнения всего лишь еще один возникающий и исчезающий пузырек ума, это освободит нас от изрядной спутанности и напряжения в нашей жизни,
У меня есть знакомая, которой в ее жизни приходилось очень туго. Она выросла в испанском Гарлеме и натерпелась горестей и несчастий. Когда ей было восемнадцать лет, она попала в Индию и как‑то узнала, что ей надо бы начать медитацию, чтобы очистить ум. Однако она была настолько возбудима, а ее сосредоточенность была настолько слабой, что ей не удавалось просидеть кряду более нескольких минут. Но, хотя большинство других препятствий досаждали ей, у нее не было сомнения. Поэтому она сумела сделать все. Она знала, что работу необходимо выполнить, и взялась за нее. У нее оказалось достаточно доверия к процессу, чтобы начать освобождение от его содержания. Ей потребовалось несколько месяцев, прежде чем она смогла просидеть целый час; а зато теперь она – одна из самых лучших в медитации, о которых я знаю. Ее ясность и свежесть ума восхищают многих.
Специфическим средством, искусным приемом для противодействия сомнению часто оказывается несколько большее понимание. Иногда сомнение облегчается от чтения толковой литературы или от беседы с каким‑нибудь уважаемым нами человеком; или же это даст нам возможность узреть переживание сомнения с более открытым умом.
Когда обостряется осознавание препятствий, мы познаём происходящее, когда оно происходит; и те состояния ума, которые раньше одолевали нас, становятся вехами на пути нашего прогресса. Когда возникают препятствия, в уме автоматически подается сигнал тревоги; этот сигнал будит нас и побуждает к исследованию помехи. Он напоминает нам, как легко мы теряемся и как внимательность удерживает нашу жизнь в простоте и легкости.
Величайший дар – это само дарение. Согласно традиции, говорится о трех видах даров. Есть дары нищенские, когда мы даем только одной рукой, все еще удерживая то, что даем. В дарах этого рода мы даем самое меньшее из того, что имеем, а потом нам еще хочется узнать, стоило ли давать вообще.
Другой вид даров называется «дружеским» даром, когда мы даем от всего сердца. Мы берем то, что имеем, и делимся имеющимся, так как считаем это уместным. Это чистый дар.
Затем есть вид дара, который называют «царственным». Он имеет место, когда мы даем лучшее из того, что имеем, даже если при этом для нас самих ничего не остается. Мы даем лучшее из того, что имеем, безотчетно и с добротой. Себя мы при этом считаем временными хранителями всего, что у нас есть, а в собственности нашей нет ничего. Здесь вообще нет дарения, здесь просто открытость, не мешающая предметам оставаться в потоке.
Все эти виды дарений в нашей жизни бывали – и от нас, и нам. Все мы знаем, каково переживание, когда держишься за то, что отдаешь, то есть, когда даешь с привязанностью к особому ответу на дар: «Полюбят ли меня за то, что я поднес этот дар?» Мы привязаны к себе, как дарители, и это не очень благотворное дарение.
Нам также случалось давать что‑то, когда мы чувствовали, что это будет только справедливо – отдать нечто в другие руки, просто отпустить вещь от нас туда. Такого рода дары осуществляются через людей, кого называют целителями. Они не держатся за отдаваемое – жизненная энергия движется прямо сквозь них. Нет того, кто исцеляет; просто происходит исцеление. Это вид «царственного» дара.
В более общем смысле, когда мы становимся зрелыми, оказывается, что мы делимся честно, от всего сердца. Это – хорошее чувство. Оно приводит нас к особому роду дружбы, к особому роду любви, питающей наш рост.
Дары могут сами по себе стать целой практикой. Возможно открыться для особого рода дарений, которые ничего не удерживают, которые позволяют нам отдать даже свой гнев, даже свой страх. Именно этот вид дарения мы вносим в практику, именно его культивируем, когда отдаем свое внимание дыханию. Отдача подобного рода поддерживает необъятность ума. Это просто освобожденность, непривязанность, которая ничего не требует для себя.
Самый чудесный дар, который мы способны дать, – это мы сами. Освободиться от самих себя так, чтобы мы могли заново переживать то, что мы такое, каждое мгновенье, как если бы это было даром. Если мы сможем относиться ко всему, что приходит к нам, как к дару, как к виду благодати, тогда мы способны отдаться, не держась ни за что, легко освобождаясь. Мы отдаем ум, отдаем тело. Мы просто не мешаем всему этому исчезнуть в проходящем мимо потоке. Мы все это переживаем и все отдаем.
Во время сиденья мы много раз делаемся нищими, мы не отдаемся. Мы удерживаемся, мы противимся некоторым состояниям ума, отдаваясь практике одной рукой и притягивая себя обратно другой. Мы постоянно выясняем, как мы действуем, измеряем то, что мы сейчас есть, оцениваем. Но когда мы пробуждаемся, мы все более и более начинаем отдавать себя. И когда мы постепенно больше отдаемся самим себе, мы естественно больше отдаемся и другим. Для нас существует особый способ пребывания с людьми, который облегчает нам и им возможность быть самими собой. Мы не делаемся кем‑то таким, кто побуждает их действовать по‑иному. Мы суть открытое пространство; мы не держимся ни за что, мы отдаем все.
Будда говорил, что если бы люди могли действительно увидеть ценность дарения, они отдавали бы часть каждой своей еды. Дарение – настолько могущественное качество, что оно ослабляет связанность ума и впускает в темные углы больше света. Оно создает ту открытость ума, которая способствует освобожденности и возникновению мудрости. Когда мы делаем ум как можно более великодушным, это освобождает нас, делает более открытыми и доступными.
И по мере того, как практика дарения медленно раскрывает нас, мы постепенно становимся способны отдаваться, освобождаться от всего, что препятствует прямому переживанию потока, от всего, что препятствует нашему пониманию.
Уму очень трудно раскрыть собственную работу. Ум думает, и, думая о том, что происходит, мы не раскрываем истины. Если бы думание приводило нас к истине, все мы к настоящему времени были бы великими мудрецами, потому что наше думание сделало все, на что мы способны; мы продумали все по поводу того, кто мы такие, что мы делаем, как надо это сделать.
Связанность и заблуждения ума яснее всего видны, когда на них смотрят из сердца. Сердце не наклеивает ярлыков, не манипулирует ими; оно просто дозволяет. Оно предлагает то терпеливое, неосуждающее, свободное от привязанности приятие каждого помысла, которое приносит истину. Когда мы отмечаем содержание ума, исходя из теплого простора сердца, нас не захлестывают попытки ума подменить реальность, изменить ее внешность своими постоянными комментариями и рассуждениями. Сердце принимает все это гораздо легче и проще. Когда мы пытаемся ударить умом об ум, он в еще большей степени создает то же самое. Думающий ум превращает в думание целый мир.
Мы привыкли к попыткам контролировать мир умом, контролировать себя своим умом. Но мы не в состоянии контролировать себя умом и все же оставаться целостными. Кто хоть когда‑нибудь попал в ум умом? Мы просто пугаемся и сердимся в душе; мы подавили самих себя. Мы перестали выказывать страх или одиночество, но этим одиночества не прогонишь. Это просто сделает боль сокрытой и не столь доступной для того, чтобы мы отпустили ее.
Если же мы наблюдаем из сердца, из этой открытости, – тогда мы наблюдаем из пространства сострадания, которое признаёт ум естественным процессом и даже не судит ни гнева, ни ревности, ни зависти. У него нет корысти в том, чем мы представляемся самим себе или миру. Оно способно услышать любой возможный урок данного момента. В сердце есть место всему.
Те, у кого существует некоторый конфликт между практикой, которая как будто в основном занята работой с умом, как это бывает при медитации внимательности, и практикой, которая кажется занятой по преимуществу работой с сердцем, такой как медитация преданности, обнаружат, что когда мы глубоко переживаем то, что происходит в данный момент, мы осознаем работу целой Вселенной. Тогда мы видим, что «сердце» и «ум» – это термины, удобные для употребления; но они могут оказаться ограничителями нашего понимания, если превратятся в понятия, усиливающие расчлененность ума. Когда ум отбрасывает понятия, он представляет собой не что иное, как сердце. Тогда нет ни сердца, ни ума; тогда существует только наше пространное, естественное бытие.
Есть образ, полезный для понимания процесса пробуждения; это – плод на дереве. Медленно, медленно зреет он, день за днем, пока наконец не созреет в не упадет с дерева.
Когда мы постепенно пробуждаемся, мы замечаем созревание некоторых качеств ума. Мы можем, например, отметить, что чувство никчемности, недоверия к себе уменьшается, что мы переживаем более глубокий уровень бытия, который не имеет такой тесной связи с запутанностью, повседневной житейской мелодрамы. Мы отмечаем, что множество отрицательных чувств, таких как страх и сомнение, с которыми мы долгое время отождествляли себя, утрачивают свое преобладание по мере того, как ум развивает более широкое осознавание.
Вступив в медитацию внимательности, один приятель, который провел несколько лет в занятиях практикой преданного почитания, сказал мне: «Думаю, мой путь изменился». Единственным ответом, который кажется подходящим для этого случая, был бы такой: путь не меняется; путь всегда лежит в сердце, а меняются только методы.
Мой друг сказал, что он не желает метода, который предлагает лишь постепенное пробуждение; ему хотелось огромной вспышки – и чтобы со всем раз и навсегда разделаться. Это напомнило мне историю про одного дзэнского монаха, который много лет очень усердно занимался практикой, чтобы достичь просветления. Он работал и работал ради просветления; и вот однажды, копая землю в монастырском саду, он подбросил лопатой в воздух камешек; камень ударился о бамбуковый ствол в садовой ограде, и послышался пустой, щелкающий звук. Когда монах услышал этот звук, его понимание природы вещей стало таким глубоким, что он в тот самый миг сделался просветленным. Так вот, что же это было – внезапное ли пробуждение или плод постепенного? Несомненно, он до того много раз бросал камни лопатой, много раз попадал ими в ствол бамбука; но сейчас он дозрел. Те мгновенья, которые возникали раньше, обусловливают степень, до которой мы оказываемся способны усвоить глубину каждого последующего мгновенья. Любое мгновенье могло бы дать нам просветление, если бы мы увидели его тотальность, его сложность, его простоту. Но, похоже, необходимо некоторое время, прежде чем мы достаточно очистим свои внешние чувства и свою обусловленность, освободимся от образцов и восприятий, чтобы просто слышать, просто видеть, воспринимать достаточно глубоко, и смочь понять способ бытия вещей.
Таким образом, постепенное пробуждение не так уж и отличается от внезапного. Рамакришна пользовался образом свежесорванного ореха. Когда его оболочка была еще зеленой, мы могли бы сбить его камнем и с трудом расколоть; но когда орех созрел, для того, чтобы его скорлупа раскололась, хватит и легкого удара. Таково и постепенное пробуждение, в котором мы все принимаем участие: это созревание, так чтобы скорлупа могла отпасть и освободить нас от нашего неведенья, от нашего воображаемого «я» и его неустанного позирования, открыть нас для прямого переживания ума‑мудрости.
Аналог этому процессу пробуждения и роста можно найти в тибетском классическом искусстве в форме мандалы. Хотя мандалы представляют собой сложные круговые картины, их можно также рассматривать, как изображения трехмерных лабиринтов. По мере того, как мы продвигаемся к центру мандалы, мы также поднимаемся вверх. Поскольку мы обычно мыслим в двух измерениях, мы думаем, что нам достаточно просто прыгнуть в центр, и это будет внезапным пробуждением. Мы не видим трехмерного пространства, постепенного подъема, созревания, которое происходит сразу повсюду.
Часто, когда мы становимся лицом к лицу с какой‑то возникающей вновь и вновь проблемой, мы думаем, что вообще в каком‑то смысле дурачим себя, рассуждая о каком бы то ни было пробуждении. «Я по‑прежнему не могу наладить взаимоотношения с родителями», или: «Я не в состоянии вымыть посуду, ничего не разбив», или: «Не могу бросить курить», – или что‑нибудь еще. Мы воображаем, что продолжаем спать, как спали всегда – «вот я нахожусь в таком же трудном положении, в такой же тягости, в таких же запутанных условиях; ответа нет». Мы не узнаём того, что выросло; а это не что иное, как осознавание своего затруднительного положения.
Прежде мы просто терялись в своей проблеме; теперь мы осознаём, что нам надо с ней работать. Это и есть пробуждение. Когда мы не знаем, что погрязли в проблеме, из нее нет выхода. А когда мы осознаем тот факт, что захвачены проблемой, мы уже освобождаемся. По мере того, как мы начинаем доверять себе и переживать это постепенное пробуждение, – не измеряя и не взвешивая его, не пытаясь пробовать его на вкус, но просто видя его таким, каково оно есть без какого‑либо подсчета, – оно терпеливо придает нашим ногам устойчивость на пути.
Практика очень сильно напоминает танец на туго натянутом канате: это равновесие энергий, осознавание, сосредоточенность, приведение в равновесие того, что соответствует данному моменту. В момент забвения мы падаем с этого туго натянутого каната, но только с тем, чтобы приземлиться на другом канате, тоже туго натянутом. Мы падаем каждое мгновенье. И оказывается, что существует только один момент, и этот момент – теперь. В своем пробуждении мы начинаем переживать тотальность данного момента.
Один из последних великих китайских наставников медитации дожил до ста двадцати лет; он умер в пятидесятых годах. В ходе своего учения он потратил десять лет на единственный аспект практики – на то, чтобы обходить кругом горы, что составило один вид практики; и еще десять лет на работу с мантрой в качестве другого вида. Когда он лет семидесяти начал учить, он говорил о терпенье «долготерпеливого ума». По его словам, нам так надо заниматься практикой, словно бы для завершения своей работы у нас было еще много жизней, по крайней мере, девяносто девять, – и при этом не терять понапрасну ни единого мига. Иными словами, у нас целая жизнь, чтобы выполнить работу: но мы не должны попустить, чтобы хоть одно мгновенье этой жизни прошло незамеченным.
Когда мы начинаем работать над собой, у нас появляется склонность осуждать некоторые качества ума или, пожалуй, чувство, что мы достигаем не столь многого, сколько, по нашим представлениям, могли бы. Вначале необходимо много усилий для развития устойчивой сосредоточенности, для того, чтобы приобрести большее осознавание; но есть и усилие другого рода, которое может замедлить наш прогресс, поскольку создает ожидание; а ожидание противоположно терпенью. Ожидание ждет, чтобы что‑то произошло; и такое ожидание не будет терпеливым. Истинное терпенье сохраняется в виде свободной от вожделения открытости по отношению ко всему, что приходит в следующий момент. Это спокойная решимость присутствовать, позволить осознаванию появиться, когда ему вздумается.
По мере того, как старание созревает в терпеливую решимость посвятить свою энергию практике, не хватаясь при этом за результаты, понемногу раскрывается целая Вселенная.
Иногда мы настолько заняты медитацией, что не в состоянии увидеть истину. Мы так переполнены искусными средствами, способами завоевать свет, что всеми своими делами препятствуем проявлению своей естественной мудрости. Просветление – это синоним способности просто присутствовать, находиться в настоящем моменте без какой‑либо привязанности к другому месту; вся наша жизнь находится именно здесь, именно сейчас.
Мы просиживаем в медитации час; но какую часть этого часа мы отсиживаем? Сколько времени мы тратим на думание о том, как сидеть, вместо того, чтобы просто сидеть?
Сколько времени мы оказываемся затерянными в думающем уме? Просто сидеть, просто быть бывает часто трудновато. Большую часть своей жизни нас тянет находиться где‑то в другом месте, в планах и замыслах.
Может быть, для того, чтобы мы смогли успешно продолжать свою работу, нужно убрать с пути все искусные средства и все ответы на любые вопросы. Искусные средства не дадут нам достаточной ясности для того, чтобы освободиться от мысли, что это сделает кто‑то или что‑то вне нас; а получится это только из постижения главного: то, чего мы ищем, уже находится здесь. Даже блуждающий ум, если мы наблюдаем его, не желая видеть его иным, содержит ключ к великой мудрости, потому что являет собой в точности то, что мы такое, – и именно в это время. Нам нет нужды быть кем‑то другим.
Переживая данное мгновенье, мы знаем истину; и эта истина применима и полезна только в это самое мгновенье. И мы не держимся за нее, потому что эта истина и есть истина того момента; в какое‑то другое время она может стать препятствием. Потому также и методы могут быть истинными только на мгновенье; это орудия, которыми пользуются и затем откладывают их в сторону. Методы могут быть средствами преодоления обусловленности – или же они могут стать просто дополнительным бременем. Методы подобны колючке, которую берут, чтобы вытащить другую колючку; а когда заноза вынута, обе выбрасываются. Все методы, все глубокие ответы на все глубокие вопросы суть отражения момента, которые надо увидеть и от которых надо в конце концов освободиться.
Мы можем сохранять преданность какой‑то единственной практике, не проявляя неподвижность, не впадая в предрассудки. Доверяя внутреннему ощущению того, что нужно, мы можем сохранить глубокие взаимоотношения с источником, который ищем. Доверие к природе Будды, к сердцу Христову, к самой сути любой линии преемственности, которой мы следуем, даже позволяет нам иногда допускать ошибки. Наша пагубная склонность всегда быть «правыми» оказывается большой преградой для истины. Она удерживает нас от того рода открытости, которая приходит благодаря доверию к своей природной мудрости.
Дзэнский наставник Судзуки Роси говорил о «просветлении до просветления», которое представляет собой такое состояние ума, когда налицо внимательность, когда нет вожделения к тому, чтобы вещи были каким‑то образом иначе, чем они есть. Это просто виденье настоящего момента, терпеливое и прямое.
Когда мы для достижения ясности применяем некоторый метод, мы часто работаем в понятиях просветленного или непросветленного ума. Но тогда мы все еще отделены от своей целостности, все еще не находимся внутри данного момента. Просветление не есть просветление; просветление – это слово. Одним из явлений, которые являются для нас преградой для достижения этого просветления, чем бы оно ни было, может стать наш голод по тому, чем мы воображаем просветление. Просветление может стать величайшей причиной страдания, потому что оно остается предметом нашего сильнейшего желания. Это наше величайшее «пребывание в другом месте», наш величайший вакуум. Просветление – это свобода; помысел о просветлении – это темница. Истина существует в данный момент. Если мы находимся где‑то в другом месте, ищем что‑то за пределами данного момента, мы находимся в тюрьме.
Когда‑то я полагал, что высочайшие переживания представляют собой признак достижения. У меня появилось некоторое новое переживание; затем несколько позже возникло еще другое прозрение, и я подумал: «Ага, так вот она, награда! Теперь уже близко!» Затем еще одно мимолетное переживание, а за ним – переживание интенсивного света… и каждый раз возникала мысль: «О, вот оно происходит!» Далее появились – мир «непревзойденной мудрости», затем «меня совсем нет, нигде нет», далее еще одно переживание и еще одно, и я все говорил: «Ну, брат, теперь оно уже недалеко!» Возникали новые и новые переживания. Тогда я начал понимать, как представлял дело: появится еще несколько дюжин переживаний – и все будет сделано, все будет кончено, останется чистое сознание в течение двадцати четырех часов в сутки. Но, оказывается, существуют целые сотни так называемых «наивысших переживаний». И все они – всего лишь переживания.
Один мой друг побывал в Индии; там учитель медитации поднял много шуму из‑за нескольких его необычайных переживаний. Но вот он вернулся в Соединенные Штаты и вскоре по возвращении отправился с визитом к хорошо известному корейскому дзэнскому наставнику. Тот спросил его, как идет практика. С некоторой гордостью посетитель рассказывал о множестве своих замечательных видений, о глубине отдельных мгновений в медитации. Корейский мастер оглядел комнату, немного обождал и спросил: «И где же эти переживания теперь?»
Ценность глубинных переживаний – в очищении, в проникновении в то, что есть, в то, что происходит в данный момент. А привязанность к какому‑нибудь переживанию, как к достижению или завоеванной истине, отвлекает внимание от реальности следующего мгновенья.
Так как же мы можем работать для достижения просветления без привязанности, без желания? К несчастью, в английском языке мы пользуемся словом «желание» для обозначения двух весьма различных психических установок. Есть «желание», жаждущее просветления, пожалуй, стремящееся к удовлетворению в более легкой жизни, и есть «желание», чтобы все живые существа были свободны от страдания, чтобы мир пребывал в мире. Может существовать желание очищения, которое по сути своей является «мотивацией» к завершенности. Это – свобода рук, скорее готовность принять, нежели стремление стать первым в своем квартале и загнать в угол вселенскую мудрость. Желание свободы, когда оно является мотивом для нашего естественного состояния, есть великая радость. Желание быть свободными от вещей, каковы они есть, оказывается великим страданием.
Никто из желающих быть просветленными никогда не станет просветленным, так как то, от чего следует просветлиться , это тот самый некто, желающий быть просветленным. Желание быть просветленным подобно «я», которое хочет присутствовать на собственных похоронах. Воображаемая личность, пытаясь обладать просветлением, не понимает, что она совершает самоубийство, потому что это будет отпадением того отдельного «я», которое делает возможными переживания нашей универсальной природы.
Это постепенное просветление; но даже зная это, мы можем временами отмечать укусы нашей обусловленности в какой‑нибудь момент глубокого мира или чистого прозрения, что сильно напоминает рыбу, которая выпрыгивает из воды, чтобы поймать жука. Мы можем убеждать себя не стремиться к высочайшему переживанию, потому что знаем, что оно представляет собой всего лишь часть преходящего зрелища; тем не менее иногда мы отмечаем, как обусловленный ум жаждет стать чем‑то иным, нежели то, что он есть. Но именно только это страстное желание, это постоянное становление заставляет ум казаться непросветленным. Когда же нигде не осталось вожделения, дело сделано; тогда налицо – первоначальный ум, сущность ума – уже чистый, уже сияющий ум. Когда мы переживаем это состояние хотя бы в течение тысячной доли секунды, оно останавливает весь мир и позволяет нам освободиться от какой‑либо надобности быть где‑то, кроме совершенства данного момента.
Все мы знаем больше того, что считаем известным. Мудрость доступна нам более, чем мы это понимаем. Мы не доверяем своему виденью, потому что полагаем, что мы не просветлены. Один мой друг говаривал: «Только выйди и притворись, что ты просветлен. Если ты будешь продолжать в том же духе… ну, кто знает?..» Вместо этого мы притворяемся непросветленными.
Но «непросветленный» или «просветленный» – оба эти выражения всего лишь слова, всего лишь помыслы. Когда мы наблюдаем ум, мы видим, как мелок помысел, потому что движение его лежит большей частью в области слов. Но на более глубоком уровне внутри ума есть движение, которое можно почувствовать, когда мы более не полагаемся на слова, когда просто переживаем. На этом уровне мы переживаем побуждение, которое почти можно было бы назвать «ностальгией по Богу», экстатической жаждой прийти домой, вернуться к источнику, быть завершенными. Это необусловленная бесконечность по ту сторону ума, чистое, недифференцированное бытие.
Слово «ум» употребляется во многих различных случаях. Его основное значение – механизм восприятия. Когда мы говорим об «уме», мы обычно имеем в виду думающий рассудочный ум, ум внутреннего диалога, ум как «я есмь», ум как это. Однако этот ум представляет собой только часть гораздо большего разума, далеко превосходящего то, что мы называем интеллектом.
Ум интуитивной мудрости – это ум более глубокого уровня бытия. В нормальных условиях мы чувствуем себя только думающим умом – и относимся к нему с незаслуженным вниманием, вкладываем в него все содержание реальности. Но все содержание реальности не воспринимается на думающем уровне ума. Всегда у нас есть еще тонкая подпитка из ума‑мудрости, которую мы называем интуицией. Мы переживаем более глубокое познание. Если рассудочный ум не имеет ярлыка для более тонкой вести, он склонен не доверять ей; он отвергает то, на что не может наклеить ярлык. Однако рассудочный ум неспособен разбить по разрядам всё, потому что сам он – это не всё.
Прозрения, возникающие в уме мудрости, часто переживаются в виде внезапных, бессловесных пониманий того, какими являются вещи. Этот уровень ума не так зависим от того вида «познания», который улавливает реальность в понятия и слова. Он просто может переживать бытие. Иногда во время уединенной прогулки по лесу я пребывал только в своем ежемгновенном переживании бытия. Когда мои ноги касались земли, переживание касания было всей реальностью. Когда глаза обращались к дереву, существовало только виденье – это была вся реальность. Пенье птицы – просто слушанье. Аромат кедра – просто обоняние. Трудно описать точность этого переживания, его кристальную чистоту. В это мгновенье все вырисовывалось в виде силуэтов. Даже помысел: «Ах, смотри, вот в этот миг все вырисовывается в виде силуэтов!» – был еще одним помыслом в ясности этого момента. Каждая вещь была в точности такой, какова она есть. Она существовала только в данный момент прямого восприятия, она не зависела от прошлого, не нуждалась в опоре или контексте, – что не означает, что она существовала вне памяти, – она не зависела от памяти или какого‑либо рода мысли для интерпретации настоящего; она и не опиралась на следующее мгновенье. Не было никакого желания, чтобы вещи существовали как‑то по‑иному. Подобные переживания очень трудно описывать словами, потому что они происходят на таких уровнях, где языка нет.
Когда мы постепенно освобождаемся от нашей полнейшей зависимости от рассудочного ума, мы освобождаемся и от знания о том, как надо медитировать, – и тогда мы просто медитируем. Конечно, рассудочный ум говорит нам: «Все это правильно, я буду освобождаться от рассудочного ума, но мне надо знать, как это сделать. Пожалуйста, научите ум этого уровня медитировать, так чтобы он смог выйти за пределы самого себя ». И вот этот ум впитывает наставления и действует наподобие хорошего слуги: «Прекрасно, я буду наблюдать дыхание, чтобы развить сосредоточенность».
«А что же мне делать, когда ум блуждает? – А‑а‑а, я продолжаю возвращаться к дыханию, верно? – Все правильно, делай это. – А что будет, если у меня заболит нога? – Правильно. – А что делать теперь, когда энергия вышла из равновесия? – О, это неплохая мысль! – Кстати, а что такое просветление? – О‑о – ох, извини, спасибо!»
Ученье идет все дальше и дальше. Вот для чего хорош рассудочный ум: собрать и применять некоторые технические знания и уменья – как водить автомобиль, как пользоваться картой, как читать книгу, как перевязывать раны, как уметь медитировать. Такой уровень ума полезен для ученья и для приложения этого ученья ради выживания среди сложностей этого мира. Это хорошее орудие, хороший слуга. Но слишком часто он превращается в ужасного хозяина.
Как хозяин, он делается чем‑то таким, что пытается овладеть нами при помощи навязывания ярлыков, при помощи мыслей о каком‑то объекте вместо его прямого переживания. Это ум как эго, ум как «я есмь». Он создает отдельную Вселенную с обусловленной задней мыслью, которая говорит: «Я вижу, я вкушаю, я касаюсь». Но это просто жизнь, которая вкушает, касается, которая есть. «Я» представляет собой вымысел, результат стремления мыслящего существа ума втянуть себя в центр, как если бы оно имело некоторое прочное, устойчивое и неизменное ядро. Где же это ядро? Где же центр ума? Мы кажемся безграничными, простором, свободным от ограничений; поэтому там нет никакого центра.
Нет ни одного места, о котором нам можно было бы сказать: «Это я». Потому что «это я» – просто еще один проходящий помысел. Хотя «я» представляет собой удобное средство повествования о внутренней перемене, где же можно увидеть это «я» в любом другом месте? Но рассудочный ум говорит: «Даже несмотря на то, что ты не можешь найти прочное отдельное „я“, оно все‑таки есть». Рассудок часто бывает безрассуден.
Когда люди начинают видеть относительность думающего ума, они говорят: «Убейте ум, ум – это мой враг». Но это говорит сам думающий ум. Не делайте «ум» врагом. Ум и есть медитация.
Когда мы видим, как приходят и уходят помыслы, как приходят и уходят чувства, как приходят и уходят ощущения и воспоминания, когда мы наблюдаем их таким умом, который не пытается овладеть чем‑нибудь, не пробует наклеить на все ярлыки, – мы открыты для понимания; и это по‑настоящему все, что нам нужно делать. Ум окажется сосредоточен весьма открытым способом. Ему не надо будет быть твердым или жестким.
Нет надобности пользоваться умом, чтобы проанализировать тот факт, где мы находимся. Просто признайте это. Анализирование спрашивает: «Кто такой я сейчас? Что заставило все получиться именно таким? Как все это пришло сюда?» Иногда мы даже пытаемся отследить свои последние мысли, чтобы установить, как ум попал туда, где сейчас находится. Это интересное занятие; однако здесь просто еще новые помыслы. Фактически именно этот интересный материал удерживает нас так долго в движении по кругу этой бесконечной карусели.
Есть такое древнее китайское проклятье: «Чтоб тебе родиться в интересное время!» Если мы родились в интересное время, наше внимание может быть отвлечено, и мы никогда не возьмемся за подлинную работу по раскрытию своей естественной мудрости. Затеряться в формах ума за пределами самих себя – это проклятье. Мы все кружимся и кружимся в этом мире, наблюдая за всеми происходящими в нем мелодрамами, за всеми формами, которые проецирует ум, но которые он редко признает за сновидения, каковы они суть. Действительно, вся Вселенная – это ум. Для того, чтобы признать его формой, нужно, чтобы он возник в том процессе, который мы называем умом. Без этого обусловленного думающего ума вещи суть всего лишь то, что они есть, без комментариев или оценки; это просто чистая «бытность» без всяких ярлыков, без «я», привязанного к их «познанию».
Но по ту сторону всех этих форм и сновидений думающего ума пребывает некое универсальное качество, сущность ума, совершенно чистая и свободная от кармических накоплений.
Это и есть ум – но до того, как думание раздробляет его на миллиарды представлений и предпочтений; это – чистое, открытое пространство без предпочтений или отвращения. Пожалуй, можно описать его единственное качество: это «таковость», открытость, где возникает всякая форма.
Она существует сама по себе; ее существование не зависит ни от каких условий. Это чистая сущность, и ее прямое восприятие оставляет нас с пониманием, что осознавание просто есть; что мы не есть какой‑то объект из содержания ума; что за пределами ума существует нечто иное, нежели то, что постижимо умом; что любая мысль о «я», или о теле, или об уме, вообще любая мысль – это не то, что мы. Именно это некоторые дзэнские традиции называют Единым Умом, общим всем существам. Это неограниченная реальность; и вся она существует внутри каждого из нас. Далеко за пределами относительных фактов пространства и времени существует Пра‑ум – ум до думания, ум до того, как Вселенная приобретает форму.
Усядьтесь удобно, так, чтобы смогли просидеть некоторое время; без напряжения или скованности; просто расслабьтесь в своем теле.
Пусть дыхание приходит и уходит само.
Теперь размышляйте о том, как гнев ощутим для вас, как он переживается. Размышляйте о том огне внутри тела и ума, который есть гнев. Размышляйте о разделении, которое он вызывает, об отъединении, одинокости и боли.
Гнев приходит из боли и возвращается к боли.
Чаще всего гнев хочет повредить своему объекту, человеку или предмету, на который он направлен.
Почувствуйте его в теле, в уме; почувствуйте этот вихрь, это страдание. Сердце замкнуто, закрыто от мира броней, отъединено.
Размышляйте о болезненности, о разделении, которое есть гнев, зависть, ревность.
Прочувствуйте напряжение, одинокость, отделенность гнева, его огонь. Будда уподоблял гнев подбиранию горящего уголька голыми руками с намерением бросить его в другого человека; все это время мы сами опалены, обожжены гневом.
Теперь размышляйте о его противоположности, о качествах тепла и терпенья, которые раскрывают для нас пространство, где мы можем существовать, можем расцветать. О том, как гнев отпадает, как развязываются узлы, как они растворяются в этой открытости тепла и терпенья.
С каждым дыханием вдыхайте тепло, выдыхайте терпенье. Вдыхается тепло; с выдохом медленно выходит терпенье. Тепло и терпенье. Тепло питает вас, кормит вас, взращивает вас. Терпенье дает всему этому место, открывает простор. Почувствуйте, как огонь гасится этой открытостью сердца. Исчезла всякая броня. Тепло и просторно.
Теперь пусть эта теплота и это терпение положат начало прощенью. Размышляйте сперва о тех, кто мог причинить вам боль в прошлом случайно или преднамеренно. Пошлите им прощенье. Сделайте это легко. Не напрягаясь или отталкивая. Пусть эти старые завесы ожесточения отпадут.
Нарисуйте в уме образ человека, когда‑то причинившего вам боль, скажите себе молча: «Я прощаю каждого, кто в прошлом намеренно или ненамеренно, мыслью, речью или делом причинил мне боль». Простите их как можно полнее.
Если где‑то все еще остается ожесточение, примите также и его; пусть оно рассеется по мере того, как растет прощенье. Разрешите себе прощать. Освободитесь от гордости, которая держится за ожесточение: «Я‑де вас прощаю». Просто освободитесь от всего.
Сила прощенья так велика. У нее есть место, чтобы простить.
Теперь – о тех, кому вы могли причинить боль. Попросите у них прощенья. Не с чувством вины, а с пониманием того факта, что мы спотыкаемся, что мы все бываем незрячи. Освободитесь и от самоосуждения.
И молча скажите про себя в точности так, как вы это чувствуете: «У всех, кому я намеренно или ненамеренно причинил боль своими мыслями, речью или действием, – у всех у них я прошу прощенья».
Пусть отпадет всякая жестокость, которая стесняет сердце.
Разрешите себе принять прощенье. Стеснение в груди, в теле, в уме – это всего лишь противодействие. Пусть оно уйдет. Освободитесь от своей обиды за себя. Простите себя. Скажите себе: «Я прощаю тебя».
Оставьте себе место в своем сердце. «Прощаю себя за всю причиненную боль, даже за те вещи, которых не хотел сделать».
Пользуясь своим собственным именем, скажите себе: «Я прощаю тебя».
Осторожно откройте сердце для себя. Осторожно; дайте время этому процессу. Самоотдача. Внесите прощение самому себе в свое сердце.
Создайте для себя место. Окутайте себя прощением и освобожденностью.
Теперь с этим чувством открытости направьте к себе эту любящую доброту; повторяйте в глубине сердца, как вам будет удобно, пользуясь такими словами, какие найдете подходящими: «Да буду я счастлив; да буду я свободен от страдания; да буду я свободен от напряжения, страха, тревоги; да исцелюсь я; да пребуду я в мире!»
«Да освобожусь я от страдания, да освобожусь от напряжения, от гнева, от разделенности. Да освобожусь я от страха, скрытости и сомнения. Да буду я счастлив». Полюбите себя.
«Да буду я счастлив. Да освобожусь я от всего, что причиняет мне страдания!» Пожелайте себе добра.
Скажите себе от всей души: «Люблю тебя». Пользуйтесь своим именем, если вам это нужно. Скажите: «…, я люблю тебя».
«Да буду я свободен от страдания; да найду я свою радость; да буду я наполнен любовью; да вернусь я к свету; да пребуду я в мире!»
Затем направьте эту любовь на кого‑то, чей образ существует у вас в уме, к кому вы чувствуете большую любовь – к учителю, другу, к кому‑то, кто вам очень нравится, – нарисуйте этот образ в уме и размышляйте: «Да будете вы счастливы, да будете вы свободны от страдания!»
«Дорогой друг, да будете вы целостны, да придете к своей завершенности. Да будете вы свободны от гнева, от ревности, от напряжения, от страха! Да будете вы счастливы, да будете свободны от страдания!»
«Да вступите вы в свою радость, в свою полноту! Да будете вы свободны от всех страданий!» Сосредоточенно направляйте этому любимому вами человеку благожелательность.
Нарисуйте в уме образ другого человека, к которому вы чувствуете любовь, кому желаете добра. Нарисуйте их ясно, так отчетливо и легко, как только можно, и направляйте на них свои чувства благожелательности, используя некоторые повторения: «Как хочу быть счастливым я, так да будете счастливы и вы. Да будете вы счастливы и свободны от страдания. Да отпадут от вас напряженность и сердечная боль. Да возрастет ваша радость. Да будете вы свободны от страдания».
Пусть ваша любовь распространится на каждого человека в доме, где вы живете, где сидите в медитации. Наполните комнату своей любовью, наполните ее сердечной заботой. Пусть вся комната, все эти люди пребудут в вашем сердце. «Да будем все мы счастливы!» Не забывайте себя; вы – тоже еще одно прекрасное существо.
Пусть ваша любящая доброта излучается на каждого человека. «Да будем все мы свободны от страдания, да будем все мы счастливы. Да вступим – мы все и каждый из нас – да вступим мы в свет. Да освободимся мы от преград; да освободимся мы от своего страдания, да почувствуем свое совершенное бытие. Да будем мы все свободны от страдания, да будем мы все счастливы, да будем свободны!»
Пусть это чувство распространяется наружу, пусть оно охватит всю окрестность.
Пусть оно охватит весь город, где вы живете; оно широко, пространно, участливо.
Пусть оно продолжает распространяться. На всю страну, на весь континент.
Откройте всему этому свое сердце. «Да будут все существа счастливы. Да будут все существа обладать чистым умом. Да будут их сердца открыты. Да будут они свободны от страдания». Медленно окутайте своей любящей добротой целую планету. Медленно и осторожно дайте своей любви распространиться повсюду, на все существа.
«Да будут все живые существа, все чувствующие существа, – да будут они свободны от страдания. Да полюбят они себя, да придут они к своему счастью. Да раскроют они радость своего истинного „я“. Все существа, повсюду.
«Да воссядут все существа в свете. Свободными. За пределами страдания. Да исцелятся все существа в участии друг к другу. Да будут все наши раны, все наши страдания – да будут они исцелены силой нашей любви к себе и друг к другу. Да полюбим мы друг друга».
Просто позвольте себе сидеть в свете этой любви, этой заботы о себе и друг о друге. Не пытайтесь что‑то делать. Просто пребудьте – в любви, в свете.
«Да разделят все существа эту открытость. Да почувствует каждый эту безграничность, эту открытость сердца».
«Я делюсь заслугой этой медитации со всеми живыми существами повсюду. Да узнают все существа тепло и участие в своей жизни. Да узнают все существа прощенье самим себе. Да научимся мы просто быть в одном мгновенье за раз. Без всяких ожиданий. Просто открытое сердце. Делимся этим, насколько можем».
«Да будут счастливы все существа. Да будут все существа свободны от страдания. Да будут все существа счастливы. Да будем все мы свободны. Да возвратимся все мы к своей завершенности!»
В медитации внимательности мы не поощряем понятийный уровень ума; он ведь был там просто объектом наблюдения. Он виден там, как простой наклейщик ярлыков. Зато медитация любящей доброты действительно работает с понятийным уровнем. И это, пожалуй, самое глубокое использование данного уровня, доступное нам. Наполняя этот уровень любящей добротой, мы очищаем его.
Эта медитация пользуется понятийным, мыслительным уровнем, ориентированным на слово пространством ума, так искусно, насколько можно. Мы культивируем некоторое душевное качество. Мы могли бы культивировать любое из них, к примеру, зависть или гнев. Практика в самом деле ведет к совершенству: практика зависти или гнева усиливает повторное возникновение зависти или гнева; практика любви способствует повторному появлению любящих мыслей в уме.
В нашем случае любящая доброта культивируется благодаря признанию огненных свойств гнева и благодаря переживанию открытости, покоя, а также противоположных гневу качеств – теплоты и терпенья. Благодаря признанию областей обиды и вины, благодаря освобождению от своей оторванности от других и от собственного глубинного «я», мы посылаем сперва себе, а затем и другим чувства благожелательности, пользуясь такими словами, как: «Да буду я счастлив, да буду я свободен от страдания». Сначала эти слова могут показаться в значительной степени механичными, просто словами. Они могут к тому же задеть наши чувства никчемности: «О, это всего лишь потворство себе, это отговорки!» Когда мы впервые пытаемся обратить любовь на себя, мысль о том, что мы ее не заслуживаем, нередко весьма заметна. Рассудочный ум‑«я» может выдвинуть разнообразные доводы и постараться разубедить нас в необходимости заниматься такой медитацией. Эти доводы возникают вследствие обусловленности, весьма ценной для наблюдения. Они обращают наше внимание на многое из того, что делает нас незрячими по отношению к совершенству жизни, к ее блеску. Именно этот хлам делает нас невосприимчивыми к собственной красоте и старается убедить нас в том, что мы действительно недостойны, неспособны пережить просветление, что мы – расколотые существа, которым суждено вечно оставаться на своем пути. В уме существует особый уровень, на котором такие мысли поощрялись и культивировались. Теперь мы культивируем нечто иное для их замены, и это – гораздо более мощная форма сознания, нежели отрицательные формы. Она заменит их мягкой настойчивостью и доверием.
Самокритичность и самоотрицание, столь обескураживающие вначале, подобны отвердевшему верхнему слою целины, который трудно пропахать; но когда он достаточно увлажнен, вспахан и смешан с небольшой добавкой удобрения, он становится почвой, которая дает высокий урожай. Мы учимся давать себе тепло, проявлять к себе терпенье и таким образом стать способными культивировать тепло и терпенье. Природа этих положительных свойств такова, что они естественно заменят собой менее здоровые энергии.
Один из способов постараться культивировать любящую доброту – это думать о наших собственных хороших качествах. Я работал с людьми, которые говорили: «У меня нет хороших качеств, во мне нет ничего, что было бы прекрасным».
А я говорил им: «Несомненно, должна существовать какая‑то помеха, из‑за которой вы чувствуете себя столь нелюбимыми и недостойными любви».
– Да, это чувство действительно ужасно – не быть способным никого полюбить, даже самого себя, хоть немножко…
– Должно быть, многие люди чувствуют то же самое.
– Чувствовать нечто подобное ужасно. Они так одиноки, так отрезаны от всех.
И тут проявляется исходящее от них невероятное сострадание к условиям человеческой жизни. Они говорят о себе с такой любовью, потому что открыли возможность позаботиться о нелюбимом, что было прежде для них недостижимо. И вот теперь они признали, что кто‑то находится в нужде; вышло так, что этот «кто‑то» – они сами; теперь они могут направлять благожелательность своих мыслей на то место внутри себя, которое так хочет быть целостным. Именно так следует практиковать медитацию. Мы посылаем любовь этому существу, которое так лишено любви, а затем излучаем изнутри эту энергию всем существам повсюду.
В начале этой практики, когда я чувствовал, что вовлекаюсь в процесс, – сержусь, скажем, в споре с кем‑нибудь, – я посылал собеседникам любящую доброту, надеясь, что это охладит их пыл; я также думал: «Как хорошо, что я медитирую!» Но я продолжал чувствовать гнев; это было мое страдание, которому мне нужно было противостоять. Так что я и был тем субъектом, который нуждался в любящей доброте. И я узнал, что мне необходимо сначала породить любовь к самому себе, а уж потом я мог бы открыться для другого. Посылать же любящую доброту другому человеку, на которого я сердился, было ловушкой «я», которое просто увеличивало разделение между нами. Я не оказывал им никакой помощи; и у моего действия был тонкий привкус превосходства и господствования. Но когда я смог расчистить в своем сердце место для самого себя, я сумел также принять свои гнев и разочарование, не ощущая с их стороны угрозы; я мог предоставить им пространство, чтобы они исчезли. Это также давало и другому возможность открыть пространство для освобождения себя от гнева. Чтобы послать любящую доброту другому человеку, мы сначала должны находиться внутри своего сердца.
Сила любящей доброты так велика, что когда мы сосредоточенно посылаем ее к другому человеку, такие люди часто могут испытать особое чувство, словно они находятся в этот миг в спокойном месте. Здесь действует ощутимая, хотя и тонкая энергия, и ее можно направлять сознательно; во многом она подобна той участливости, которая является главным началом целительства.
По мере того, как продолжается практика культивирования открытости сердца, мы начинаем ощущать поразительную силу этой любви. И мы видим, что со всеми нашими воображаемыми никчемностью и страхами, со всеми нашими сомнениями и желаниями, трудно все время быть любящими. Но еще труднее ими не быть.
Иногда мы сидим и медитируем безмятежно, в ясности и спокойствии. В другое же время нам очень долго кажется, что спокойствия никогда не будет, в уме словно много движения и много самоотождествления, мы как бы затеряны в пламени ума и склонны к тому, чтобы принимать это обстоятельство достаточно серьезно. Мы называем такие обстоятельства хорошей или плохой медитацией и, пожалуй, в то же время не признаем достоинств за «плохой», не признаем того очищения, которое продолжается, когда оказывается раскрыто блуждание ума, его возбуждение или беспокойство. Когда мы видим ум таким, каков он есть, это дает нам большую власть над его состоянием в данный момент. Говоря о «власти», мы имеем в виду способность не быть захваченными умом, способность освободиться; мы как бы обладаем силой, которая противодействует кармическому побуждению, заставившему его выйти на передний план, обладаем силой уравновешивания.
Когда говорят: «О, я действительно попадаю по ту сторону; мои занятия медитацией становятся такими прекрасными; это так чудесно, я могу просидеть весь день», – я думаю: «Они не во всей полноте чувствуют себя». Потерять себя в этих приятных небесных пространствах, в счастливых состояниях, приходящих с углублением сосредоточенности, в свете и мире, которые появляются с устойчивостью ума, – по‑настоящему легко. В эти мгновенья ум обладает целительной силой, и мы чувствуем себя преотлично.
Но иногда условия не предоставляют нам много энергии для создания устойчивой сосредоточенности; отвлечения давят на ум и не дают возможности поддерживать сосредоточение или сохранять равновесие с энергией; или же осознавание не приобретает достаточного постоянства, чтобы дать нам возможность распознавать состояния ума, сохраняя при этом равновесие. Поэтому когда я слышу, что не каждое занятие бывает «сверхотличным», я чувствую только облегчение, потому что у медитирующего имеется возможность сидеть с неприятным хламом, имеется случай пронаблюдать ум, когда тому хочется находиться где‑то в другом месте. Потому что это и есть тот ум, что создает карму. Именно этот ум, эта жажда ведут нас из тела в тело, от воплощения к воплощению. Это желание быть в другом месте, желание, чтобы вещи были иными.
Когда ум приятен и доставляет нам удовольствие, мы не видим этого страстного желания с отчетливостью. Мы можем даже и не заметить свою жажду просветления с такой ясностью, не обратить внимания на жажду высших состояний, на свои оковы, свое рабствование понятию свободы, страданию, внутренне присущим желанию, чтобы вещи стали какими‑то иными, а не теми, каковы они есть.
Наши «неудачные шаги», наши адские переживания зачастую оказываются наиболее продуктивными, наиболее плодотворными. Когда мы сидим и чувствуем неудобство, когда из стороны в сторону по лбу ползает муха, и мы взбудоражены, а ум не в состоянии прийти в равновесие, хотя наша практика углубляется, – в этот момент нам кажется, будто мы не медитировали никогда в жизни. Если же тогда мы сможем расслабить тело и просто присутствовать, мы ясно увидим то напряжение, которое опять втягивает нас в дурной сон; и тогда мы сможем освободиться. Когда вы принимаете ад, это более не ад. Ад – это сопротивление. Страдание есть сопротивление тому, что есть, его неприятие.
Мы чувствуем многие формы этого ада, когда наблюдаем ум и тело. И именно здесь мы встречаем демонов своего нетерпенья, своей жадности, своего неведенья; демонов привязанности к представлению о том, что де есть некто, подлежащий просветлению; демонов нашей привязанности даже к знанию и ясности, которые после хорошего занятия медитацией затрудняют способность выносить сутолоку, шум и тяготы этой изменчивой жизни. Демоны – это не шум; демоны – это наше отвращение к шуму. Демоны – это не нетерпенье; демоны – это наша привязанность, наше отвращение, наше нетерпенье по отношению к своему нетерпенью.
Когда вы способны принять неудобство, такая способность позволяет вам установить равновесие ума. Подобная сдача, подобное освобождение от желания быть иным, нежели то, что мы есть в этот самый момент, – и есть то, что освобождает нас от ада. Когда мы видим в уме сопротивление, неподвижность, скуку, беспокойство… это и есть медитация. Часто мы думаем: «Я не в состоянии медитировать, я беспокоен… я не могу медитировать, я утомлен… я не могу медитировать, у меня на носу муха…» Это и есть медитация. Медитация не в том, чтобы исчезнуть в свете. Медитация – это видеть все то, что мы такое.
До тех пор, пока существует какое‑либо состояние ума, которое вы предпочитаете любому другому состоянию ума, это и будет вашим адом. Поэтому мы сидим и говорим: «Вот мое беспокойство», – и видим в нем своего демона. Не что‑то такое, чего надобно бояться, а просто демона. Сила практики состоит в том, чтобы пробиться через нашу привязанность к этому состоянию. Если налицо беспокойство, ему нет необходимости быть нашим врагом. Если мы видим это беспокойство – «я беспокоен», тогда оно становится проблемой; мы на него смотрим, как на проблему; сделали его своей проблемой. Беспокойство есть всего лишь еще одна сторона нашей природы; то, что мы говорим: это – «наше» беспокойство.
Один дзэнский наставник говорит: «Если вы думаете так, то так; если вы думаете не так, то не так». Если мы думаем, что демоны реальны и это наш хлам, тогда демоны реальны и это наш хлам. Если мы думаем, что эти демоны – всего лишь клочья дыма, тогда мы способны избавиться от них без усилий, одним дуновением. Однако и в этом случае, если мы думаем, что Будда более реален, чем что‑то другое, если мы упорствуем в идеях о том, чтобы стать или не стать Буддой, тогда даже Шакьямуни Будда становится демоном, становится преградой для естественного света.
Когда мы видим, что поток – это то, что есть, когда мы становимся этим потоком, – не становимся «кем‑то», кто наблюдает, но просто будем, будем без имени, будем находиться здесь без всякой личности, – тогда нет ни демона, ни Будды, а просто существуют вещи, каковы они есть, каждая из них совершенна по‑своему. Мы обнаруживаем, что пока существует какая‑то часть нас самих, которую мы не принимаем, мы не освободимся от ада и не пробьемся сквозь все явления, гипнотизирующие нас удовольствием и страданием – сквозь все эти мысли о себе, сквозь все отождествление с телом, с восприятиями, с состояниями сознания. Эти аспекты нельзя увидеть отчетливо до тех пор, пока мы не примем все таким, каково оно есть, с большой долей самоприятия и сострадания. Как часто мы находились в аду своего представления: «Я рад, что никто не знает, о чем я думаю!» И все же как раз в этот момент возникает возможность прозрения в то, как мы проявляем себя в мире, в то, что удерживает внутренний мир отдельным от внешнего, что создает небеса и ад. Когда вы можете просто увидеть помысел, освободиться от помысла и осторожно вернуться к дыханию, к данному моменту, сделать это мягко и без осуждения, – тогда, в это самое время, в это мгновенье, внутренний и внешний мир сливаются воедино.
Когда мы вступаем в этот поток, когда начинают распадаться мифы о себе, когда они начинают становиться менее ощутимыми, может зародиться страх. Мы воображаем, что вот‑вот исчезнем в пустоте, и поражаемся: «Что же тогда действительно происходит? Что реально? Я хотел потерять „я“, потерять свою отделенность, хотел открыть свое сердце; а сейчас я боюсь, что здесь нет никого, кто контролирует происходящее. Что мне теперь делать? Все вышло из‑под контроля». Но дело здесь не столько в том, что из‑под контроля выходит и проявляет непредсказуемость поток, сколько в том, что он недоступен для некоторого воображаемого «я» и вместо этого оказывается совершенным развертыванием запутанных законов причины и следствия, законов кармы.
Пытаясь контролировать неконтролируемое, мы создаем ад. И когда он начинает отпадать, проявляется робость «я». Это «я» говорит: «Э, нет, я существую». Но то, что мы были и как существовали – по нашему мнению – не существует в таком виде, и это нас пугает. Это новое переживание – тоже просто «бытность». Мы видим, как появляются эмоции, как они проплывают в пустоте; и мы вспоминаем, что эта пустота – как раз то, что мы есть. Мы переживаем прохождение помысла через эту пустоту и хотим узнать, что происходит; но этот интерес отмечается, как всего лишь еще один пузырь, проплывающий в открытом просторе, который мы так долго принимали за твердое, драгоценное «я». И мы устремляемся за чем‑то прочным, мы опять хватаемся за сомнение или страх; мы создаем демона, чтобы он убеждал нас в нашей реальности. Личность, «я», говорит: «Я не могу оставить все, я должен быть реальным; мне нельзя быть обманутым». Сомнение отталкивает поток, отталкивает мудрость и непривязанность, рассеивающие ад.
Мы воображаем, что выход вещей из‑под контроля – это ад; но когда пережиты открытость и легкость естественного течения, когда все мысли и чувства окажутся в равной степени поглощены в процессе, мы будем освобождены от отождествления, которое создает «кого‑то», чтобы страдать. Ад становится только еще одной мимолетной идеей, обладающей не большей реальностью или субстанциальностью, чем та, которую мы ей приписывали.
Есть разные способы искусного подхода к боли, которые позволяют появиться прозрению в то, каким образом ум и тело взаимно проникают друг в друга. Когда в теле существует боль, мы можем увидеть, как она становится причиной некоторого состояния ума; она подталкивает к определенным помыслам. Тело воздействует на ум таким же образом, как ум воздействует на тело; точно так же как положение нашего тела отражает настроение, так и телесные условия создают душевные.
Когда мы вглядываемся в боль, первая очевидность – это сопротивление ей. Мы отмечаем физическое ощущение, называемое болью, и психическую реакцию, которая есть отвращение к неудобству, выпихивание. Это желание находиться в ином состоянии, не в том, в каком мы находимся; оно само по себе, пожалуй, является наиболее точным определением, которое мы можем дать душевному страданию: наше желание быть где‑то в другом месте. Желание, чтобы вещи существовали по‑иному, представляет собой самую сущность страдания.
Мы почти никогда не переживаем то, чем является боль, непосредственно, так как наша реакция на нее оказывается настолько немедленной, что большая часть того, что мы называем болью, в действительности представляет собой наше переживание сопротивления этому явлению. И это сопротивление обычно оказывается гораздо более болезненным, чем первоначальное ощущение. Точно так же мы не переживаем своего утомления, своей скуки, своего страха; вместо них мы переживаем свое сопротивление им.
Наше переживание этих состояний ума облачается в нашу обусловленность. Мы никогда не ощущаем полностью вкус самих вещей, потому что между ними и нами вклинивается наше обусловленное сопротивление им; оно усиливает сопротивление еще большей неприязнью. Поэтому подобные состояния ума редко оказываются включенными в нашу целостность и становятся постоянными перерывами в потоке. Мы часто переживаем состояния ума, которые отвлекают нас от сдачи, которые резко погружают нас опять в сон, вызывая автоматическую реакцию отвращения. Иметь дело с болью внутри тела – прекрасный способ начать распутывать эту привычную реактивность на неприятные состояния.
Когда мы освобождаемся от этого сопротивления – от всех появляющихся мыслей, от всех побуждений спастись, – тогда мы можем просто наблюдать их, позволяя им возникать в обширном и ненапряженном уме. Если сохранять ум мягким, чтобы он мог «баюкать» эти помыслы сопротивления, то это также позволяет расслабить всю область вокруг боли.
Если мы ощущаем боль в колене, мы даем возможность расслабиться всей области вокруг колена. Мы направляем внимание на расслабление всего соседства с больным местом. Телесная боль создает такое состояние ума, что оно напрягается, отвергает неудобство; а затем напряженное отвращение усиливает напряжение внутри тела. Мы получаем эффект рикошета, движение взад и вперед между телом и умом: возникает душевное напряжение, которое становится причиной напряжения физического, а то в свою очередь усиливает боль и напряженность ума. Напряжение держится за боль, и это усиливает боль и одновременно сопротивление этой боли. Существует боль сама по себе – и боль, окружающая эту боль.
Но когда мы создаем расслабление вокруг этого болевого ощущения, мы расслабляемся и вокруг ассоциированных с нею мыслей. Мы позволяем боли присутствовать; мы признаем ее и делаем нечто почти полностью противоположное тому, что делали в нормальных условиях. Вместо того, чтобы избегать боли, мы проникаем в ее глубину. Мы входим в то самое пространство, где находится боль, входим в него с сосредоточенным, исследовательским умом. И когда мы проникаем в самую глубину боли, освобождаясь от сопротивления, мы видим, что боль – это не единый монотонный лазерный луч чувства; вместо этого мы видим аморфную массу движущихся ощущений. Она не остается просто на одном уровне, в одном центральном узле, а движется вокруг этого пространства и в действительности не стоит на одном‑единственном месте. Она составлена из сложных ощущений.
Когда сосредоточенное осознавание входит в эту область и дает ей возможность быть такой, какова она есть, мы начинаем видеть эти сложные ощущения в форме отдельных событий. Мы наблюдаем, как они движутся, мгновенье за мгновеньем, сначала одно здесь, затем одно там. Когда сопротивление оставляет ум, вместе с ним уходит и понятие «боли», и мы можем переживать ее просто как чистое ощущение. Часто мы способны проникнуть в такое место, где наличествует только возникновение и исчезновение сложных ощущений, может быть, переживаемых в виде всего лишь покалывания, и их наблюдение иногда оказывается в самом деле приятным.
Конечно, не все виды боли дадут нам возможность такого значительного простора. Некоторые боли будут столь сильными, что станут долго удерживать ум в плену. Когда это происходит, мы наблюдаем, как внимание еще раз исчезает в отождествлении с болью, наблюдаем отвращение в форме обусловленной реакции.
Например, наша реакция на боль в колене представляется символом реакции на большинство вещей, вызывающих боль в нашей жизни. Мы хотим спастись от них, отвлечься, не иметь дела с неприятным, – и этим мы укрепляем власть боли над умом, ее способность опять отвлечь нас в другой раз.
Когда неприятные состояния не могут отвлечь нас, мы находимся на дороге к свободе. И, может быть, это происходит потому, что большинство из нас стало ошибочно принимать удовольствие за счастье. Обычно мы ищем удовольствия и избегаем боли. Но если мы понаблюдаем за собой более пристально, мы заметим, что удовольствие не делает нас счастливыми. Удовольствие есть удовольствие, то есть временное удовлетворение желания. Счастье представляет собой более глубокое удовлетворение, чувство целостности, отсутствие нуждаемости.
Сущность стремления к удовольствию – это нужда, жажда удовлетворения, чувство жизни в пустоте, всегда движущейся к объектам, приносящим удовольствия, всегда хватающейся за соломинку. Это стремление к удовольствию является, вероятно, величайшей причиной нашего страдания. Когда мы пристально наблюдаем за умом, мы замечаем, что если существует какой‑то желанный для нас объект, то глубоко в нашем желании (и при невозможности) иметь его присутствует чувство разочарования, напряженности, растерянности.
Интересно отметить, что даже в удовлетворении желания само чувство удовлетворенности имеет место только в процессе движения от необладания к обладанию. После обретения желанного объекта удовлетворенности больше нет. Процесс удовлетворения желания проявляется не в обладании желаемым объектом, а в прекращении болезненности желания. В самом же обладании этой вещью нет внутренней удовлетворенности. Большая часть нашего переживания удовольствия являет собой преодоление неудобства желания. Когда желание прекратилось, когда его предмет у нас в руках, тогда возникает боль, вызываемая желанием удержать его, желанием, чтобы ничто его не повредило, не разрушило.
Движение от необладания к обладанию составляет господствующее переживание удовлетворенности, которое позволяет естественная система нашего желания. Эта удовлетворенность проявляется в перемене, а не в самом объекте. Но искание удовольствия – это не поиски счастья. Мы ищем счастья в раскрытии ума, в раскрытии самого желания. Временами практика медитации может быть даже неприятной; но медитация питает наше счастье, раскрывая нашу существенную природу, позволяя нам пребывать в этой завершенности. Именно этот простор при отсутствии желания и будет счастьем.
Однако важно признать, что даже в том, что мы называем духовными путями, существуют те же самые элементы, которые отвлекают нас в нашей мирской жизни; это – наши склонности и влечения к приятным переживаниям и наше отталкивание от неприятных переживаний, отвращение по отношению к ним. Наблюдать мирные состояния ума гораздо приятнее, чем свою алчность или эгоизм. Собственно, одна из причин, почему сосредоточенность бывает столь приятной, заключается в том, что страсть к препятствующим элементам подавлена спокойствием. Покой нередко бывает слишком соблазнителен для беспокойного ума. Мощь, сила ума, которую создает сосредоточенность, не оставляет возможности для большой активности препятствующих факторов.
Привязанность к подобному спокойствию может вылиться в проблему. Столь редко находящийся в состоянии спокойствия ум стремится к получению глубокого удовольствия от этой тишины. Покой нередко оказывается чересчур соблазнительным для беспокойного ума, и тому не хочется продолжать свою работу. Ведь так чудесно просто «выключить свет» и выходить из тела, выходить из всех его болей и просто повисать в блаженстве или в тишине. Но привязанность к этим состояниям представляет собой тонкую форму недовольства. Если в уме ничто не движется, не возникает и возможности для понимания того, что нас связывает.
Существует практика, называемая «пересиживанием боли»; но я не думаю, что нам нужно делать именно это. Такая особая практика содержит опасность создания многих проявлений «я»: «Это Я сам сидел и сносил боль». Если здесь имеет место проверка на выносливость, вы просто создаете кого‑то выносливого и увеличиваете сопротивление и боль. И все же иногда кажется, что болезненный материал способен более действенно пробудить нас, чем это делают весь свет и все блаженство. Легко заснуть в состоянии удовольствия, но в состоянии боли это нелегко – когда ноет колено, когда появляется ненависть, или жадность, или неведенье. Когда мы учимся так искусно использовать свою боль, не создавая проверку на выносливость, мы очень ясно видим свои затруднения; они пробуждают нас и напоминают, как нам легко затеряться в своей обусловленности.
Так мы учимся не держаться даже за свою боль. Странным образом нам часто легче отказаться от удовольствия, чем от боли. Легче отказаться от половой жизни, от молочного пломбира или от ласковых шлепков по спине и тому подобного, чем освободиться от своей боли, от страха и неуверенности. Мы отождествляемся с ними, мы по‑настоящему держимся за эти виды обусловленности.
Американские индейцы устраивали довольно небольшое, круглое приспособление, применяемое в качестве потогонной комнаты. Участники сбиваются вплотную друг к другу внутри строения, сгибая спины, чтобы поместиться под низкой крышей; часто они стоят на коленях, согнувшись над невыносимо горячим паром. Однако они приняли обет не отступать, так что единственная оставшаяся возможность не сойти с ума – это просто уменье не обращать внимание на жар. Они не останавливают свое внимание на невозможности и далее сохранять такое положение; если бы они подумали об этом, им бы не выдержать. Вместо этого они преодолевают свое сопротивление, входя непосредственно в переживание данного момента, вступая в чистое ощущение. Они пользовались неудобством и своим противодействием ему как методом, позволяющим отбросить прочь все свои ограничения; но это делалось таким образом, чтобы не создавать еще одного «я». Такая практика вынуждала их выйти за пределы того, кем и чем они воображали себя, стать целиком и полностью открытыми для переживания превыше самих себя.
Когда мы освобождаемся от сопротивления, мы проникаем до непосредственного переживания отвлекающего нас явления, и его отвлекающее качество, его неудобство, растворяется в отчетливом виденье этого переживания.
Когда мы выходим за пределы привязанности и удовольствия или боли, дозволяя осознаванию встречать издавно обусловленные реакции вместо того, чтобы поневоле их отвергать, мы переживаем более глубокое счастье. Происходит раскрытие сердца и ума, чувство осуществления в этот самый момент.
Будда сказал, что корень всей кармы – желание, мотивация, намерение, стоящее за актом. То, что расхоже именуется кармой, являет собой результат того, что произошло ранее. Это следствие предыдущей причины, возникающее вполне механически и безлично. «Когда становится то, возникает это», – вот так Будда определил карму.
«Что такое моя карма? В том ли моя карма, что я здоров? Что я богат? Что я беден? Что я изуродован? Что я безумен? Что я не безумен? Что я добился успеха?» У нас возникает множество вопросов о том, что такое наша карма; здесь, пожалуй, налицо непонимание того, что карма не есть нечто такое, что находится вне нас самих. Это не совпадение, не удача; это совершенный результат того, что пришло прежде.
Нам нет надобности идти к астрологу или к хироманту, чтобы открыть, что такое наша карма. Наши помыслы и есть наша карма; легко увидеть, что наши приязни и неприязни – тоже наша карма. Есть сотни случаев приязни и неприязни, тысячи мнений, десятки тысяч обусловленных предыдущими переживаниями понятий о том, какими должны быть вещи. Все они ведут нас от поступка к поступку, создавая новую карму, новые причины грядущих результатов.
Мы мало властны над тем, что возникает в уме. То, что возникает, кармически обусловлено тем, что произошло раньше. Ни с каким‑либо объектом, если он уже возник, делать ничего не нужно. Сделать мы можем только кое‑что со своей реакцией на его возникновение. То, как мы реагируем, создает следующее мгновенье и обусловливает то, как мы отнесемся к этому же объекту в будущем.
Чем раньше мы замечаем возникновение настроений и помыслов, тем скорее понимаем, что они представляют собой просто кармические плоды прошлого, и тем легче можно будет их отпустить. Нет нужды усиливать эти состояния, реагируя на них, и становиться, говоря словами Трунгпа‑римпоче, «отрицательным к отрицательному». Когда возникают отрицательные, нездоровые состояния, не бейте их молотком. Не сердитесь на себя за то, что сердитесь; это только добавит кармы. Мы можем научиться реагировать искусным образом, что откроет возможность для сострадательного признания нашей собственной обусловленности, что снова и снова станет вытаскивать нас из нее. Затем мы станем понимать, почему на нас так часто находит гнев, ревность, эгоизм или алчность. И великое множество раз нам покажется, что таких нездоровых склонностей больше нет, и мы подумаем: «Ну вот, я с ним покончил». Потом мы увидим, что эта жажда «разделаться с ними» создает следующее состояние ума. И выйдет, что единственный выход – это отпустить все это.
В течение жизни многие обстоятельства даны кармически; одно из них – то, что с каждым объектом ума возникают кармически обусловленные чувства притяжения или отталкивания, а иногда и безразличия. Обычно наш опыт нам либо нравится, либо не нравится. С каждым впечатлением от органов чувств, с каждым помыслом сосуществует предопределенные кармически тонкое притяжение к данному объекту или отталкивание от него.
Поскольку мы находимся в теле, мы обладаем органами чувств; поскольку мы ими обладаем, существует чувственное соприкосновение; вследствие этого соприкосновения существует восприятие; вследствие этого восприятия существует распознавание, которое затем обусловливает возникновение чувства приязни или неприязни и тонкую эмоциональную реакцию на то, что было воспринято. Таковы неизбежные кармические данные. Но из этой приязни или неприязни проистекает страстное желание, которое выковывает вожделение, обусловливающее следующее звено в кармической связи. Если в силу своей обусловленности оно вам не нравится, возникает желание оттолкнуть его прочь, а если нравится, появляется желание притянуть его к себе. Желание обусловливает возникновение побуждения что‑то сделать по этому поводу – возникает воля, которая приводит к поступку. Только ясное признание такого чувства приязни и неприязни без реакции на него рассекает кармическую цепь.
Когда мы распознаём машинальную заинтересованность ума в объектах внутри него, то ясное осознавание этого процесса может разрушить механическое воспроизведение, ведущее к дальнейшей деятельности, создающей карму. Приязнь и неприязнь представляют собой результаты предыдущей приязни или неприязни; результат, плод прошлых предпочтений, который еще раз поведет к тому же. Он поддерживает вращение колеса кармы, создавая новую активность, то есть обусловливая новые желания и страсти. Но когда осознавание проникает в точку возникновения чувства притяжения или отталкивания по отношению к феноменам, кармическое затягивание в новое действие ослабевает как раз там, где желание обусловливает волевой акт, придающий активности энергию. Глубокое виденье этого уровня бытия распознаёт плод прошлой кармы, каков он есть, без всякой потребности брать его вновь, без потребности подневольно действовать на него и содействовать его воспроизводству.
Так мы видим, что приязнь и неприязнь – это кармические факторы, что нам нравятся некоторые вещи и не нравятся другие. Нам нравится приятное, нам не нравится неприятное. Постепенно мы доходим до того, что можем с ясностью наблюдать приязнь и неприязнь. Это ясное виденье может быть приятным переживанием, хотя сам отмечаемый объект может оказаться неприятным. Чем выше степень осознавания, тем ниже степень вожделения. Это – психологическая физика. Когда осознавание сильно, вожделение слабо. И когда ослаблено вожделение, волевое усилие по направлению к нездоровым действиям мало интенсивно.
Поскольку карма основана на волевом акте, на намерении, легко увидеть, что если в нашем намерении нанесение вреда другим, мы должны также опасаться возможности повредить и самим себе. Мы накличем себе параноидальные мысли. Это не обязательно означает, что кто‑то подставит нам ножку, когда мы свернем за угол. Мы сами подставляем себе ножку. Нам нет надобности куда‑то идти за своей кармой; мы сами и есть наша карма.
Осознавание, которое только отмечает намерение, очень тонко. Как мы сказали, в нормальных условиях мы чешемся, не замечая своего зуда. Но в конечном счете, если мы отметили намерение почесаться, мы до него распознали зуд. Преимущество такого распознавания зуда состоит в том, что тогда у нас есть выбор – чесаться или не чесаться. И вот если у нас не случай зуда, а действие, которое принесет вред кому‑то другому или нам самим, мы имеем возможность выбора: действовать или не действовать. Осознавание на этом уровне ума меняет взаимоотношения с нашей обусловленностью, с нашей кармой. Оно расширяет нам пространство для ответа.
Осознавание даже нездорового действия приближает нас к тому, чтобы не повторить его впредь. Если, к примеру, мы не говорим правду и, по крайней мере, знаем, что лжем, мы близки к раскрытию причин этого. Если мы лжем и не знаем этого, мы даже не приблизились к пониманию коренной мотивации нашей лжи. Тогда мы находимся гораздо дальше от того, чтобы развязать этот кармический узел. Развитие осознавания означает не только знание того, что мы вовлечены в некоторый поступок, но также и распознание намерения, реакцией на которое он является.
Но такие мотивации не должны быть темой для раздумий. Мы или видим это в данный момент, или нет. Это не аналитический ум, не прибор обратного видения размером 20x20 дюймов, который раскрыл бы кармический корень данного момента. Мы просто наблюдаем свой ум, и если мы его видим, это то, что надо. А если он не стал зримым, мы просто отмечаем то, что за ним следует. Если нам важно открыть специфическую мотивацию, чтобы выяснить какой‑то упорно повторяющийся стереотип, ставший причиной нашего горя, тогда мы можем применить созерцательное исследование. Но лучше не забираться в дебри мышления по кругу: «Зачем я это сделал?», – потому что таким образом мы не будем присутствовать в процессе данного момента, в котором раскрывается карма. Тогда мы признаем, что такое недоумение есть лишь мгновение возбужденности ума.
Акт дарения является хорошим примером того, как не надо теряться в анализе мотивации. Я обнаруживаю себя в актах, где я даю, и я хорошо осознаю, что я даю, причем понимаю, что отдача не совершается в величайшей чистоте. Я отмечаю некоторое самосознание себя как дарителя: «А, я делаю „хорошее“ дело!» Но я понимаю, что если ждать до тех пор, когда я смогу давать только с величайшей чистотой, с чистейшей непривязанностью, я, вероятно, никогда не встану со стула. Примите то обстоятельство, что неизбежно будут появляться не вполне бескорыстные мотивы; и все же они способны помочь в развитии открытости. Не осуждайте намерений; просто признавайте энергию, скрытую за деятельностью. Часто мы имеем возможность выбора – действовать или не действовать, если видим намерение, хотя иногда давление кармы оказывается столь значительным, что мы отмечаем его и все же снова теряемся в повторном действии. Ничего страшного! Чем глубже осознавание, тем глубже и очищение. Чем более глубоким будет осознавание, тем более естественной будет и способность освобождаться, тем больше свобода рук.
Мы живем в обществе, настолько завязшем в психологии, что оно почти стреножено всякими вопросами вроде: «Почему я сделал то‑то и то‑то?» Хотя психология выполняет мощную очистительную функцию, она, как и всякий метод, может стать ловушкой; и в эту ловушку попали многие из нас на Западе. Но чем больше мы действуем от сердца, от этого глубокого интуитивного пространства, тем меньше в дело будет вмешиваться плетение ума. Чем шире то осознавание, с которым мы что‑то делаем, тем больше мы действуем сердцем, тем больше приятие самих себя позволяет нам доверять этим действиям.
Когда я преподавал в тюрьме Соледад, мне задавали много вопросов о том, что такое карма. Заключенные часто спрашивали меня, является ли пребывание в тюрьме их кармой, и почему они попали в тюрьму за менее значительный проступок, тогда как ими совершены проступки и гораздо худшие. Почему их не задержали за один из крупных? Кое‑кто из неповинных в преступлениях, в которых их обвиняли, спрашивали, не совершили ли они чего‑нибудь «плохого» в предыдущей жизни. Что было причиной первого кармического действия, которое повело ко всем остальным? Будда говорил, что вопрос «что было началом кармы?» неразрешим; его исследование могло бы расстроить ум. Некоторые вещи происходят с нами в качестве естественного следствия тех вещей, которые мы совершили раньше. А иногда проследить сделанное нами невозможно. Это помогает нам не теряться в лабиринте анализа или не увязнуть в болезненных стараниях познать то, что, кажется, непознаваемо. Иметь дело с результатами, с плодами, какими они созрели к настоящему моменту, пользуясь адекватными и надлежащими ответами на то, что существует внутри ума, позволит нам в достаточной мере доверять себе и знать, что делать.
Иногда это действие может быть приятным, в другое время – болезненным; но в действительности таков совершенный процесс. Но временами, когда сосредоточенность и осознавание находятся в глубоком равновесии, можно пережить совершенство этого кармического процесса; бывает возможно ясно увидеть, что вещи не могут вести себя по‑иному, хотя зачастую могут казаться нам бессмысленными. Мы в состоянии научиться доверять совершенству раскрытия, даже несмотря на то, что временами оно кажется столь суровым.
«Как мне развязать этот узел?» У нас имеются кармические узлы, которые настолько интенсивны, что мы реагируем на них всякий раз, когда они появляются. Затем, в другое время, их давление ослабевает, и мы думаем: «Ну, я это преодолел», – а потом, в следующий раз на нас давит снова и вдвойне. Но вещи раскрываются только так, как им следует; хотя они иногда могут вызывать затруднения, они всегда предоставляют совершенную возможность для работы над собой в данный момент.
Когда некоторые буддийские учителя говорят о «недеянии», они не рекомендуют нам улечься в гамаке на необитаемом острове. Недеяние – не бездействие. Недеяние есть освобождение от ориентированного на себя волевого действия, от кармической цепи активности. Недеяние означает действие без чувства «себя»: это уместное действие, но без привязанности. Недеяние означает делать именно то, что содержится в данном моменте. Деяние есть страстное желание какого‑то удовлетворения, намерение получить некоторый результат, удовлетворяющий страсть. А недеяние – это просто пребывание с тем, что происходит, без впутывания «себя» в него.
Если наше движение в этом мире ведомо подневольным, ориентированным на себя действием, наша реактивная установка на реагирование порождает слепую приверженность круговой обороне. Если же наш путь направлен в сторону гармоничного недеяния, наша установка нестяжания порождает безграничное спокойствие и мир. Наши действия будут внимательны и увеличат осознавание.
В «Дхаммападе» есть изречение Будды:
«Дхаммы обусловлены разумом, их лучшая часть – разум, из разума они сотворены. Если кто‑нибудь говорит или делает с чистым разумом, то за ним следует счастье, как неотступная тень».
Иногда мы относимся к своему сиденью в медитации слишком серьезно. Мы мыслим в понятиях «своего прогресса» и близоруко не видим, как копятся силы осознавания, не видим Вселенную, в которой происходит этот прогресс. Мы упускаем из виду радость своего роста. Но простор, который приходит с пониманием, создает легкость; и она видит дальше всех наших эгоцентрических попыток преодолеть воображаемое «я».
Когда мы «упорно работаем над собой», мы иногда отталкиваем свой легкий ум, свое счастье быть прежде всего на пути. Мы теряем чувство своей абсурдности, которое может послужить противовесом серьезности нашей практики. Когда мы теряем эту открытость космическому юмору по отношению ко всему происходящему, мы теряем и перспективу. Мы становимся похожи на того петуха, который думает, что его кукареканье заставляет солнце всходить каждое утро. Мы думаем, что это «мы» подчиняем «я», не постигая того факта, что это Вселенная возвращается в себя. Вся мелодрама наших попыток завоевать свободу многое выиграет, если мы дадим возможность уравновесить их хорошо развитым чувством юмора. Ведь сказано в самом деле, что ангелы способны летать потому, что относятся к себе с легкостью. Нам всем неплохо помнить этот маленький урок аэродинамики.
Чувство юмора, которое развивается с углублением перспективы нашего неловкого положения, часто оказывается ключевым элементом в способности освободиться. Дон Хуан говорит о «контролируемом безумии», что является его способом выразить то чувство абсурда, в котором проявляется почтение к чуду, каким является даже пребывание здесь ради совместной работы.
Это весьма взвешенное признание. Мы делаем, как умеем, зная, что все получается так, как выходит, помимо нашего контроля, и не стремимся ни к какому иному результату, кроме естественного итога самого действия. Надо уметь танцевать, когда нас приглашают к танцу; а когда пришло время сидеть, надо уметь сидеть.
Это – космический фарс, та неизвестная новизна, которая удерживает нас на краешке наших сидений. Это глубокий, нежный смех не вмешивающегося сознавания, которое наблюдает за нами, когда мы стараемся постичь космос своим рассудочным умом; это в чем‑то напоминает хвост, который пробует вилять собачкой. Стоя легко перед лицом истин, как будто противоречащих одна другой, мы сохраняем уважение к естественному развертыванию вещей, не пытаясь контролировать их течение.
Мы поддерживаем свою практику, свое исследование того, что кажется реальным, даже когда вплотную сталкиваемся с видимыми противоречиями, парадоксами этой реальности; и мы знаем: все, что мы можем сделать, – это сделать зараз только одно дыхание и наблюдать за тем, что будет дальше. Наши переживания совершения значительных усилий, имеющих целью вступление в сознавание, свободное от усилия, или необходимость выбора для развития осознавания без выбора, – оставляют нас с чувством некоторого замешательства перед всем этим. Парение сразу же за пределами границ того, что мы иногда воображаем вполне разумным, мысль: «Не делает ли все это меня немного шизоидным?» – все это проходит через ум, который не отождествляет себя со своим содержанием, а только отмечает: «Помыслы, помыслы» «…Хм, что же реально?» «…Помыслы, помыслы», – всякая мысль о том, кто мы такие, не может быть принята, и мы держимся за нее не более чем тысячную долю секунды, – и все же вот мы: рассудок не знает, на какой путь ему свернуть, а сердце совсем не озабочено. Совершенная абсурдность этой ситуации сигнализирует о том, что мы каким‑то образом оказались на верном пути. И наше положение в этом мире становится чем‑то вроде суфийского учебного образа. Насреддин идет в банк получить по чеку. Кассир смотрит на чек и спрашивает: «Можете ли вы удостоверить свою личность?» Насреддин вынимает из халата зеркальце, поднимает его, глядится в него и говорит: «Ну да, это же в самом деле я!»
Направьте внимание на макушку. Почувствуйте ощущения, самопроизвольно возникающие в этом месте, которое было мягким, когда мы родились.
Почувствуйте эту жизненную энергию на макушке. Почувствуйте возникающие физические ощущения. Не проявляя тяги к ним, просто дайте возможность осознаванию раскрыть то, что уже есть. Почувствуйте мягкую ткань мозга, содержащуюся внутри этой костной коробки. Вещество мозга. Материю, полную ощущения, полную жизненной энергии.
Почувствуйте слои кожи, покрывающие черепную коробку; плоть щек и кожу на бровях; подбородок, губы. Материю, полную ощущений. Почувствуйте ее твердость, ее прочность. Всю голову, опирающуюся на шею.
Направьте внимание к мускулам шеи. Не к «помыслам о шее», а к возникающему там чувству. К порождаемой там энергии. Почувствуйте шею; трахею; почувствуйте дыхание, проходящее через трахею и создающее ощущение. Наблюдайте жизнь в шее, в трахее.
Почувствуйте плечи. Лопатки, как они закругляются, образуя крупные гнезда для плечевых костей, покрытые мускулами и кожей, порождающие тепло, плотность, вибрацию в теле.
Почувствуйте грудную клетку и ребра.
Живот.
Спину целиком, позвоночник и лопатки. Почувствуйте ощущения, ежемгновенно порождаемые жизнью во всем туловище, во всем теле. Почувствуйте его вибрацию, его мерцание.
Почувствуйте кишечник внутри брюшной полости. Желудок; мочевой пузырь. Почувствуйте мягкую материю внутри остова тела.
Воспринимайте тело, как вибрацию, как жар и плотность.
Руки – просто как ощущение. Никакого представления или обозначения «руки», только чувство, только ощущение, полученное от жизни внутри тела, от плеч, от кистей. Почувствуйте активность, сосредоточенную в ладонях, в пальцах, вибрирующую, пульсирующую. Чистую энергию, пребывающую в чистой форме.
Почувствуйте воздействие тяжести на эту телесную форму. Тяжесть ягодиц на подушке, ощущение плотности в точке соприкосновения с полом.
Откройтесь ощущениям, возникающим в ногах, в бедренных костях, сочлененных в тазобедренных суставах, от бедер к лодыжкам. Мускулы, плоть, кость. Полные ощущения. Насыщенные ощущениями, жизнью. Тыльные стороны стоп и их подошвы. Восприимчивые и живые, полные чувства.
Теперь направьте в поле сосредоточенного осознавания все тело. Дайте возможность ощущению возникать, как ему возникается, в любом месте тела: в голове или в плечах, в руках или в торсе, в бедрах, в силе тяжести, которая чувствуется на подушке или на полу, в ногах, в ступнях, в руках.
Прочувствуйте энергию, общую для всех нас; прочувствуйте общий поток жизни, вибрирующий в теле, оживотворяющий тело.
Прочувствуйте резервуар энергии в этой комнате.
Откройтесь для своего переживания этого резервуара, как бы это ни происходило. Войдите в обширное пространство энергии внутри тела. Войдите в него свободно. Войдите в жизненную энергию. Пусть ваше тело вступит в самый поток жизни.
Если ощущение жизни изменяется, изменяйтесь вместе с ним. Никакого противодействия, никакой отдельности. Чистое ощущение, чистая форма. Никакого тела, никакого ума. Пусть все это свободно войдет в обширное пространство жизненной силы.
Не держитесь ни за что. Нет слуха, нет вкуса, нет обоняния.
Пусть все, что держит вас в отдельности – мысль, чувства, ожидание, желания, осуждение, страх, гнев, сомнение, – пусть все уйдет обратно. Ничего не полагайте, ничего не утверждайте, ни за что не держитесь; не бойтесь. Войдите свободно, войдите в самый поток, текущий внутри нас всех.
Не держитесь ни за одну мысль. Все принадлежит энергии жизни, энергии осознавания в форме. Пусть все вернется. Не держитесь за эти слова. Пусть все они вернутся в поток жизненной силы. В общий поток; просто в жизнь. Пусть все придет; пусть все уйдет. Нигде не задерживайтесь.
Все тоньше и тоньше; пусть все просто будет. Войдите в это. Исчезните в этом. Не держитесь. Просто войдите. Отдайте вашу отделенность. Погрузитесь в целостность.
Освободитесь от ума, освободитесь от тела. Дыхание просто приходит и уходит, распространяется в никуда, возвращается в никуда; просто ежемгновенное бытие.
Ум приходит и уходит. Пузырьки проходят сквозь пространство. Ничто не задерживается; ничто не останавливается даже на тысячную долю секунды. Пусть все уйдет. Погрузитесь обратно в единую силу, в единый ум, в единое тело, в энергию самого осознавания.
Переживайте все по мере того, как оно возникает и исчезает, простое и легкое, приходящее ниоткуда и уходящее в никуда. Просто поток в обширном пространстве. Совершенно полное; вполне простое. Обширное и неизмеримое, просто бытие.
Отделенности нет нигде, кроме ума.
Мы существуем везде сразу, совершенно такие, как есть, законченные.
Окружение, в котором мы прежде всего живем, есть одновременно и окружение, которое мы меньше всего осознаем: это наше тело. Если закрепить наше внимание на различных точках тела, будут восприниматься многообразные ощущения; возникают они всегда, но обычно просто остаются ниже осознаваемого уровня. Внимание не является их причиной, но просто раскрывает то, что уже существует. Непрестанная болтовня ума и постоянная направленность вовне через внешние чувства отвлекают нас от распознания реальности тела.
Но по мере того, как мы осознаем то, что совершается в нашей жизни и в окружающем нас мире, мы также приходим к восприятию того, что происходит внутри нашего тела; и оказывается, что наше тело не так уж отличается от остальной Вселенной. Мы можем открыть всеобщие законы внутри тела, как и внутри ума.
Когда благодаря возрастанию сосредоточения и направленного осознавания восприятие утоньшается, мы открываем для себя одну из четырех «основных реальностей», которые очертил Будда.
Первая из этих реальностей – стихии, из которых мы составлены. Мы переживаем стихию земли, свою плотность – тяжесть, толщину нашей субстанции. Это чувство ягодиц, тяжело опирающихся на подушку или на скамью. Это чувство силы тяжести, действующей на наше тело, тяжесть рук или тугоподвижность шеи. Это нечто реальное, то, что мы способны пережить. Это не представление, не понятие, а прямое переживание; поэтому его можно считать первичной реальностью.
В стихии воздуха мы переживаем вибрирование, энергию. Мы чувствуем пульсацию тела, его биение, ибо клеточная структура постоянно рождается, существует и умирает. Мы можем почувствовать, как внутри нас обретает существование и исчезает Вселенная, точно так же, как могли бы открыть это на небе. Мы можем почувствовать, как питаются клетки, как они умирают и замещаются. Все это переживается на опыте.
Стихия воды – это стихия сцепления. Но её связывающее свойство тонко, и прямо пережить его не так‑то легко. Её действие раскрывают на следующем примере: частицы сухой муки не слипаются воедино, когда же к муке добавляют воду, тогда стихия сцепления становится явной. Она позволяет массе удерживать форму, очертания. Это – кровь, лимфа и клеточные жидкости тела.
Четвертая стихия – стихия огня; мы переживаем её в виде жара или холода; это стихия, производящая температуру и позволяющая нам использовать в теле питательные вещества.
Эти четыре стихии составляют всю материю и присутствуют в теле в любое время, хотя чаще всего одна из них преобладает над другими. Мы отмечаем, что нам жарко, тепло или холодно; но все же при этом налицо чувство вещества, плотности. Все еще существуют кинестетические впечатления, поступающие от земляной материи. Мы также продолжаем чувствовать внутри тела вибрации стихии воздуха.
Вторая из этих четырех основных реальностей – сознание, познавательная способность, которая встречает каждый объект органов чувств при его появлении; можно воспринять ее постоянное возникновение заново в вечно меняющемся потоке психических впечатлений.
Третья реальность – группа психических факторов: такие качества ума, как гнев, любовь, ненависть, сосредоточенность, внимательность, сомнение, радость, стыд, беспокойство, вера, энергия и т. п., которые определяют отношение сознания к своему объекту.
И вот это взаимное переплетение физических и психических реальностей составляет наше переживание мира. Переживание первых трех реальностей, которые все обусловлены теми способами, какими мы переживали их в прошлом, открывает путь к переживанию четвертой.
Четвертая реальность не обусловлена ничем из того, что происходило раньше. Это необусловленное состояние, называемое некоторыми нирваной. Но каким бы наименованием ни пользоваться для обозначения этого состояния, имя – это не реальность. Имя все еще оформлено; а состояние нирваны не имеет формы, и его нельзя ухватить в языке. Даже такие слова, как «вечное» или «бесконечное», обозначают время и пространство, т. е. понятия, с этой реальностью не связанные. Но, разумеется, есть только одна реальность, только одна истина, и это – настоящий момент. Если мы живем в своем теле, осознавая то, что происходит в поле ощущений, тогда мы соприкасаемся с первичной реальностью существования, какой она получена в настоящем.
Когда в теле раскрыто осознавание, мы уже не имеем склонности так терять голову; нас не так сильно смущает поток психических условий и состояний ума. Пребывание на уровне ощущения внутри тела позволяет видеть все гораздо более отчетливо в границах этого поля осознавания. Это – совершенная декорация, внесловесный уровень осознавания, доступный нам все время.
На самом деле ощущение внутри тела можно использовать точно таким же образом, как и мантру. Мы можем жить в этих ощущениях до такой степени, что будем всегда осознавать свое тело и животворящую его жизненную силу. И все, что прерывает это осознавание, ясно видно, как отдельный феномен.
Наконец, мы увидим, что ум и тело не слишком отделены друг от друга и не так уж значительно различаются. Поле ощущений внутри тела может быть использовано, как пузырьковая камера Вильсона, в которой находится тонкий туман, где можно увидеть даже мельчайшие космические частицы. Мы не в состоянии увидеть сами эти частицы, зато можем узнать их по оставленным ими следам. Подобным же образом мы можем почувствовать внутри тела и помыслы. Мы начинаем переживать помыслы и психические состояния во всей своей системе; затем чувство и думание становятся не слишком уж отличными один от другого аспектами одного и того же процесса. К несчастью, многие из нас настолько оглушены своим телом, что с трудом когда‑либо переживают этот уровень осознавания, если не почувствуют эмоцию грубейшего типа, подобную страху или гневу.
Тело держит ум так же, как ум содержит тело. Глубокие чувства утраты и боли запечатлены в тканях тела так же, как и в уме. Как в глубоком спокойствии ум может освободить тело от своей хватки, так в глубокой успокоенности и сдаче тело способно раскрыть глубочайшие тайны ума.
Тело может стать весьма чувствительным диагностическим инструментом; оно может сигнализировать о том, что с нами происходит; оно способно даже обнаруживать переживания других людей, когда мы улавливаем на уровне чувства психические состояния окружающих нас лиц.
Для того, чтобы культивировать это осознавание, чтобы привести внимание к уровню ощущения и поддержать его в течение дня, отмечайте получаемые ощущения, сохраняя некоторое осознавание положения тела. Просто знать, в какой позе мы находимся, отмечать, когда мы переносим свой вес, чтобы встать, знать, когда мы стоим или сидим, знать, где находятся наши руки, осознавать положение головы, осознавать состояние глаз – открыты они или закрыты, – все это обладает весьма мощным качеством пробуждения, которое приводит наше переживание прямо к реальности настоящего момента. Это звучит так просто; но мы, по всей вероятности, не сознаем реальности своего тела даже и десять раз за день.
По мере того, как мы все полнее погружаемся в тело, в осознавание того, что чувствуется, мы в достаточной степени пробуждаемся к своей внутренней реакции на условия, чтобы признавать то, что нужно. Мы обращаемся к этому тонко настроенному механизму диагностики, чтобы увидеть то, что вызвано к жизни, как лучше всего сохранить равновесие. Мы учимся читать самих себя, чувствуя и глубоко прислушиваясь к тому, как мы реагируем на то, что появляется на нашем пути. Мы следим за полученными едва заметными вестями, мы чувствуем, когда отклоняемся от гармонии или движемся в нужном направлении. Хорошим примером будет то чувство, которое мы отмечаем, когда разговор переходит от дружеской беседы к злословию или осуждению других: слегка напрягается желудок, грудная клетка чуть сдавливается; чувствуется что‑то неладное; иногда очевидна какая‑то расстроенность. Мы можем быть приведены к более ясному образу действий в мире, к большей честности и прямоте, отмечая, как тело незаметно реагирует, как оно съеживается или расправляется, как напрягается или расслабляется во время некоторых видов активности. Благодаря этой настроенности естественно развивается глубокая внутренняя добродетель, внутреннее чувство должного и необходимого для сохранения гармонии в любой данный момент. Это – нравственность далеко за пределами всех предписаний и повелений, естественный образ действий, гармоничное соучастие в настоящем.
Ежедневная практика медитации, как представляется, необходима для развития осознания и ясности. Посидеть полчаса или час утром, после пробуждения, и до того, как через нас пройдет множество слов, – это прекрасный способ начать день. По‑настоящему интересно замечать, что если по утрам прежде всего садиться помедитировать, то, даже несмотря на здоровый ночной сон, по мере того, как устраняются тонкие напряжения, один за другим порождаются слои расслабления. Становится очевидным, что даже во время нашего спокойнейшего отдыха ум продолжает работать, и его работа воздействует на тело.
Для людей, оценивших по достоинству, что такое ежедневная практика медитации, становится в обычае посидеть сначала утром, а потом еще раз вечером, перед отходом ко сну. По мере развития практики мы уже не станем выходить утром из дома без своего сиденья – как из тех же соображений самоуважения мы не вышли бы, не почистив зубы. Вечерняя медитация позволяет очиститься от того, что накопилось за день, и глубже проникнуть в те пути, на которых мир воздействует на наше бытие.
По мере того, как мы стараемся положить за правило практиковаться каждый день, медитация может оказаться затруднительной. Мы видим помысел: «Я чересчур беспокоен, чтобы сидеть и медитировать». Но мы даем себе возможность не действовать согласно этому намерению встать и развлечься. Полезно посидеть и понаблюдать за тем, как ум ищет удовлетворения и старается избежать неприятного. Поэтому мы сидим и наблюдаем свое беспокойство. Беспокойство становится медитацией. На самом деле наблюдение беспокойства может оказаться захватывающе интересной медитацией, потому что беспокойство и скука представляют собой различные аспекты одного и того же возбуждения внутри ума, который вновь и вновь хочет встать и что‑нибудь сделать , чтобы осуществить свое желание. Но когда беспокойство и скука не в состоянии принудить нас к действию, когда мы дали возможность перемене занять место даже этих неудобств, тогда цепь связи слепого желания со слепым действием начинает распадаться. Мы более не обнаруживаем мыслей: «Зачем я это сказал? Почему не доверял себе? Как я мог позволить себе повторно впасть в это состояние?»
В попытках понять природу таких глубинных влечений мы можем отвести некоторое время для ежедневной медитации, для исследования самих себя. Я знаю многих людей, которые сидят лишь несколько раз в неделю, когда им этого хочется; а это значит, что они медитируют только тогда, когда присутствуют некоторые качества ума, когда их не отвлекают мирские влияния. Таким образом, они видят только легкий ум, ум, который хочет сидеть; они не видят ума, который причиняет нам наибольшие страдания, не видят рассеянного ума, желающего делать что‑то другое. Они не видят ума, жаждущего удовлетворения, не видят подавленного ума, или одинокого, или даже беспокойного, обуреваемого желаниями, который заглядывает в холодильник или переключает телевизионные каналы и ищет себе развлечения. Они не видят ума, который хочет выйти на свободу. Поэтому они редко переживают великую силу медитации, когда она прорывается сквозь отрицательные состояния и неудобства и открывает обширную перспективу, где возможно освобождение от такого рабства.
Временами, когда мы пытаемся составить расписание своей ежедневной практики, мы можем испытать затруднения, желая сохранить время для медитации. До тех пор, пока мы не видим ценности медитации, нам, возможно, окажется трудно убедить себя в необходимости отвести утром и вечером время для исследования своего ума. Проявление таких чувств весьма обычно. Как‑то в тюрьме Соледад наша группа обсуждала наилучший распорядок дня. Один из группы сказал, что он может себе позволить сидеть только двадцать минут утром, а вечером – вообще нет. А когда я спросил его, почему, он ответил, что у него‑де очень много дел – работа, курсы французского языка, писанье писем, групповая терапия, любимые телевизионные программы, а потому времени нет. Другие члены группы рассмеялись и заметили, что поскольку он «сел» на пятнадцать лет, уж время‑то у него есть. Острота этого случая ясно показала, как ум постоянно ищет удовлетворения за пределами себя и редко дает себе возможность стать свободным.
Когда твердо соблюдаешь ежедневность практики, то общая внимательность становится заметной и в ходе всего дня. Она не является специфической, ежемгновенной, такой, какой бывает во время сидячей медитации, – ведь наша повседневность так активна и полна старых привычек и отвлекающих факторов; однако постепенно механичность нашей реакции на окружающее попадает в свет осознавания и становится основанием для постоянной практики, будь то во время вождения автомобиля, приготовления пищи, ухода за детьми, ответов по телефону или заваривания чая. Все, что мы делаем, становится почвой для расширения внимательности.
Сначала мы обнаруживаем, что есть много такого, чего прежде не осознавали: к примеру, в ощущении руки на телефонной трубке мы не различали холодка пластмассы; или же, поднимая эту трубку, мы не замечали напряжения мускулов руки; мы не замечали прикосновения трубки к уху или даже намерения говорить. По мере того, как расширяется повседневная практика, осознавание раскрывается и охватывает больший объем нашей активности. Когда же эта общая внимательность окрепнет, мы, например, замечаем, что если у нас неожиданно появляется гнев, мы сейчас же осознаём его. Он узнан до того, как выразился в словах или в поступках, до того, как вышел из‑под контроля. Мы замечаем, как автоматически исследуем сильные перерывы в потоке. Мы обнаруживаем, что чем раньше осознаём происходящее, тем больше наш выбор, какой путь избрать. И если мы видим, что вот‑вот потеряемся в какой‑нибудь мысли, в какой‑то эмоции, в каком‑то желании, мы все‑таки располагаем моментом выбора: «Я делал это уже десять раз и потом всегда жалел о случившемся; и вот опять то же самое. Думаю, на сей раз я освобожусь от этого и увижу, что почувствую теперь».
Такая всеохватная внимательность служит общим мерилом; она появляется благодаря самопобуждению к более глубокому взгляду на себя. Болезненные отношения и желания, когда мы видим их приближение, имеют меньше возможности появиться в уме в состоянии полной зрелости. Имеет значение не столько то, что возникает в уме, сколько то, как быстро мы осознаем, как быстро обращаем внимание на присутствие этого, как скоро отпадает забвение в самоотождествлении. Достаточно даже секунды, чтобы различить захваченность каким‑нибудь состоянием ума и радость, которая мгновенье спустя говорит: «Опять то же самое; как интересно, больше это меня так не увлекает!» Подобное чувство очаровывает, потому что постижение: «Как здорово! Я свободен от гнева!» – часто сопровождается признанием того факта, что в этот момент мы свободны от всего, – кроме гордости тем, как мы свободны.
Когда высокая ценность работы над собой становится более очевидной, мы подходим к практике с большей чистотой. Собственно, для того, кто изучает с чистыми мотивами, возможно приобрести многое даже у не вполне безгрешного учителя, – именно благодаря чистоте своей увлеченности. Такой ученик, достаточно чистый, чтобы не осуждать даже видимые недостатки своего учителя, хранит пришедшие через него чистейшие поучения и повсюду находит мудрость. И правда – именно чистота, бескорыстие и ясность намерения, которые мы вносим в практику, открывают нас для самых тонких аспектов учения. «Тайна» тайных учений – это наша готовность услышать то, что нам предложено, та «личная сила», о которой говорит Дон Хуан.
Есть история, иллюстрирующая важность нашего отношения к практике; в ней рассказывается о старом китайском крестьянине, который, после многолетних желаний обрести большее понимание, слышит наконец о том, что через их провинцию проходит известный наставник медитации. Закончив весеннюю посадку риса, он несколько дней идет пешком в поисках учителя; придя к учителю и его ученикам, он просит принять его. Днем ему дозволяют увидеть наставника. С величайшим смирением он предстает перед учителем и просит дать ему какую‑нибудь практику медитации, чтобы он мог с ней работать, чтобы это дало ему какое‑то прозрение, какое‑то понимание загадок жизни, которые он видит повсюду вокруг себя. Наставник, увидев чистоту мотивов крестьянина, удовлетворяет просьбу и объясняет, что мантра, которую он собирается ему дать, облечена силой тысячелетнего употребления монахами в монастырях его родины. На свитке мастер пишет по‑китайски: «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ». Крестьянин полон признательности и многословно благодарит мастера за помощь. Когда он собирается удалиться, мастер говорит ему: «Работай с этой мантрой каждый день и возвращайся ко мне через месяц – расскажешь, как у тебя идут дела».
Крестьянин возвращается домой и сейчас же развертывает свиток. Он начинает медленно читать мантру вслух и повторяет это несколько раз, чтобы лучше с ней ознакомиться. Но китайский иероглиф для слова «хум» по внешности очень сходен с иероглифом для слова «бык»; и вот крестьянин неправильно читает последнее слово. Он начинает внутреннее усвоение мантры следующим образом: «ом мани падме бык; ом мани падме бык; ом мани падме бык».
Он настойчиво трудится, чтобы поддержать действие мантры, снова и снова напоминает себе, что нужно возвращаться к практике; когда он пашет, он пашет для мантры; когда сидит, он сидит для мантры; когда он таскает воду, он таскает ее для мантры. И чем больше сил он отдает мантре, тем шире раскрывается его ум, тем глубже становится понимание. Проходят недели; ум становится все более ясным, он чувствует все большую признательность силе практики за раскрытие истины. Его жизнь расширилась, его взаимоотношения с женой и детьми лучше, чем когда‑либо. К тому времени, когда ему нужно вернуться к наставнику, он чувствует себя счастливее, чем когда‑либо прежде. Даже когда он снова идет по длинной дороге к стоянке наставника, он продолжает повторять мантру: «ом мани падме бык; ом мани падме бык».
Прибыв к учителю, он идет прямо к нему и говорит: «Я очень хочу поблагодарить вас за то, что вы дали мне эту практику. Целый день я повторяю: „ом мани падме бык, ом мани падме бык!“» Здесь брови мастера поднимаются вверх на два дюйма, и он восклицает: «Что такое?! Не „ом мани падме бык“, а „ом мани падме хум“. Наставник объясняет крестьянину, что тот каким‑то образом неправильно понял мантру, данную ему мастером, что ему надобно чтить тот способ, которым она произносилась целые тысячелетия. Он велит крестьянину вернуться домой и заново начать практику.
После бесчисленных извинений крестьянин возвращается домой; он опечален и несколько пал духом. День за днем он старается ввести в ум новую мантру, но без особой пользы. Скоро он обнаруживает, что его ум наполнен смущением и сомнениями. Вернувшись к учителю в унынии и смятении, он умоляет его заново укрепить быстро разрушающуюся практику. Наставник улыбается про себя, признавая, что сила практики крестьянина заключалась в чистоте цели, которая во время их предыдущей встречи оказалась поколебленной. «Для тебя, – шепчет учитель, – мантра будет такой: ом мани падме бык; ом мани падме бык».
В ходе практики наступает такое время, когда чистота наших намерений будет всем, что мы имеем, и никакие слова не смогут оказать заметной помощи; когда вам кажется, что вы полностью затерялись и лишены надежды, просто отмечайте состояние болезненного смятения с терпеньем и какой‑то глубокой нежностью; это все, что можно сделать. Когда мы просто сидим в данный момент, каков он есть, когда ум не обладает ясностью, и мы не обладаем способностью проникнуть через какое‑нибудь глубокое препятствие, – такой способ действий может весьма великодушно дать нам возможность раскрыться для самих себя. Тогда мы просто практикуем сострадание и самоприятие, чтобы и далее очищать свой ум.
Самое большое, что может сделать книга, подобная этой, – подготовить нас к предстоящей практике. Чтение книги о медитации, как и чтение книги о плаванье, не перенесет нас на дальний берег. Слова так же пусты, как и помыслы; и только прямое переживание того, что происходит в данный момент, приводит нас к полному пониманию истины. Только благодаря собственному столкновению с препятствиями для нашей естественной мудрости мы начинаем постепенно пробуждаться.
Когда мы начинаем пробуждаться, мы видим, как внутри нас что‑то раскрывается, подобно цветку. Мы отмечаем, что это «нечто» замещает наш образ того, какими должны быть вещи. Мы открываем, что мы не так уж твердо решаем всегда знать, кто мы такие. Именно переживание кажется самым важным; именно в бытии мы находим ценность. Кажется, что по мере того, как мы освободились от переживания обладания и просто даем возможность развернуться переживанию, цветок раскрывается все больше и больше, – больше и больше раскрывается сердце. И мы как‑то чувствуем, что все пойдет хорошо, что вещи действуют именно так, как это предполагается. Иногда они болезненны, иногда вызывают экстаз; но каким‑то образом все оказывается совершенным. По мере того, как мы проникаем все глубже и глубже, становится очевидным, что как раз ясность виденья питает наше раскрытие, тогда как сам наблюдаемый объект имеет мало значения. Нам трудно вообразить, как это мы когда‑то могли не видеть прежде всего этого совершенства или как можем когда‑либо его утратить вновь. Разве сможем мы когда‑либо снова оказаться слепыми по отношению к тому, каким простым, легким, естественным, совершенным образом существуют вещи? Переживание – это просто само переживание. И если, вглядываясь в этот цветок, мы видим в нем момент жадности или эгоизма, или страха, мы видим здесь его в контексте этого совершенства, внутри этой ясности; и это подобно еще одному лепестку цветка. Мы видим, что все это естественно. Эгоизм не заставляет нас чувствовать себя отдельными. Мы видим, как естественно мы эгоистичны; но в этом виденье нет самоосуждения. Мы видим все просто таким, каково оно есть, – совершенным. Из‑за этого нет необходимости быть отделенными. Мы полны прощенья к себе, полны освобождения, полны понимания. Все это существует, но это не мы. Это еще какой‑то хлам. В нас есть место для всего этого. Итак, мы наконец становимся теми, кем всегда хотели быть, свободными от множества оберегаемых образов себя, от чувства нехватки, которая в прошлом служила причиной столь многих неудобств. Но мы видим, что нам необходимо освободиться даже от этого «чудесного я». Существо, которым мы стали, все еще остается отдельным, хотя и более здоровым. Продолжает существовать этот тонкий «кто‑то», переживающий все это и желающий продолжения раскрытия. Существует кто‑то, не вполне растворившийся, не исчезнувший; все еще остается кто‑то, кто смотрит на совершенство вещей. И тогда мы понимаем, что для рождения плода цветок должен умереть.
Мы узнаем, что цветок существует всего лишь на более тонком уровне ума, что и его совершенство также оказывается понятием о том, каковы веши; и оно может стать тонким разделением, которое позволяет «кому‑то» наблюдать совершенство всего происходящего. Мы видим, что должны не мешать цветку быть таким, чтобы он смог опасть и оставить нам плод.
Нет никакой возможности описать плод, так как неважно какими бы словами мы ни пытались описывать его, мы все еще описываем цветок. Плод не существует ни в уме, ни в языке. Ум дает форму цветку; но для того, чтобы проявился плод, нужно оставить привязанность к форме и к уму, нужно, чтобы выступило на поверхность наше первоначальное лицо.
Этот плод, созревший в существах, подобных Христу и Будде, не имеет семян; там нет ничего, что должно вновь родиться, нет желаний, создающих карму, нет жажды удовлетворения. Этот плод не погибает, а остается в качестве приношения всем тем, кто приходит позже.
Приведите свое осознавание в тело. Переведите внимание на уровень ощущения, чувства в теле.
Почувствуйте тяжесть, плотность головы, когда она покоится на шее. Почувствуйте силу шеи, ее толщину, ее вещественность. Плоскость и твердость плеч.
Почувствуйте вес руки у плеча. Почувствуйте сбитость торса и тела. Почувствуйте толщину этого тела – сосуда.
Не гонитесь за ощущением. Просто получайте то, что возникает в этом теле, где мы обитаем.
Почувствуйте его плотность; почувствуйте силу тяжести, когда ягодицы покоятся на подушке, а колени касаются пола.
Почувствуйте возникающие ощущения то здесь, то там в этой форме. Множественные покалывания и ощущения. Кажется, будто они воспринимаются чем‑то более тонким – телом опознавания, которое переживает ощущения плотного тела, которое воспринимает эти уколы и вибрации. Это тело легче, чем тяжесть, чем весомость сосуда. Это тело света.
Войдите в это тело опознавания, которое переживает звук, как слушанье, которое переживает свет, как виденье, которое чувствует вкус, которое познает жизнь, когда она пережита в этой весомой форме.
Почувствуйте… ощутите внутри этого весомого тела более легкое тело. Это легкое тело, которое воспринимает ощущения, производимые в более весомой форме.
Каждое дыхание, входящее в весомое тело, переживается этим более легким телом в виде ощущения. Каждое дыхание, входящее в весомое тело, поддерживает это легкое тело, сохраняет равновесие, позволяющее оставаться этому телу осознавания.
Пусть это осознавание утвердится очень бдительно и очень осторожно на каждом вдохе и на каждом выдохе. Почувствуйте соприкосновение весомого тела с легким. Почувствуйте легкое тело в весомом, как в колыбели; они связаны с каждым дыханием и поддержаны им.
Только осознавание и ощущение. Переживание жизни в теле, поддержанное дыханием.
Прочувствуйте каждое дыхание. Прочувствуйте это тонкое равновесие от мгновенья к мгновенью, как ощущение, как само осознавание.
Делайте каждый вдох и каждый выдох, как если бы они были последними. Переживайте каждый вдох, как если бы за ним никогда не следовал другой. Каждое дыхание – последнее.
Каждое дыхание кончается без того, чтобы за ним следовало другое, разрывая связь между легким телом и весомым телом. Последнее дыхание. Конец жизненного пути.
Как отвечает ум на то, что больше нет дыхания, на то, что больше нет жизни? Какова мысль о том, что «больше нет вдоха, нет выдоха»?
Каждое дыхание – последнее. Освободитесь. Не удерживайте его.
Пусть каждое дыхание уйдет. Позвольте себе умереть.
Каждая мысль исчезает в пространстве. Время жизни окончено. Конечный момент. Освободитесь. Позвольте себе умереть.
Освободитесь от страха. Освободитесь от страстного желания. Раскройтесь для смерти. Вступите в смерть. Позвольте себе умереть. Умрите сию же секунду. Не держитесь ни за что. Просто умрите.
Освободитесь от мыслей. Освободитесь даже от представлений о смерти и жизни. Просто умрите. Освободитесь сразу же, целиком и полностью.
Идите далее сейчас же. Умирайте легко, погружайтесь в свет. Свободно парите.
С открытым сердцем освободитесь от всех вещей, удерживающих вас. Освободитесь от своего имени. Освободитесь от своего тела. Освободитесь от своего ума. Свободно парите. Позвольте себе умереть.
Не бойтесь. Держаться не за что. Легкое тело теперь свободно каждое мгновенье. Идите далее сейчас же. Мягко вступите в свет. Освободитесь от плотного тела, освободитесь от этого воплощения сейчас.
Свободно парите. Умрите, погрузившись в свет.
Идите в чистое, открытое сиянье своей изначальной природы. Только пространство. Пространство парит в пространстве. Умрите, погрузитесь в него. Освободитесь; освободитесь полностью. Войдите в свет. Только свет, парящий в обширном пространстве. Чистый ум. Открытое сердце. Освободитесь.
Освободитесь от своего знания. Освободитесь от своего незнания. Все, что приходит на ум, старо. Любая возникающая мысль – всего лишь старая мысль. Теперь парите свободными от всего этого. Позвольте себе умереть. Только чистое осознавание. Сам свет, переживающий себя в самом себе. Пространство внутри пространства. Свет внутри света.
Полностью ушли. Ушли по ту сторону. Ничего внутри. Ничего вне. Только «бытность». Только пространство. Чистое осознавание. Чистое переживание. Свободны от тела. Свободны от ума. Умрите в открытом, безграничном пространстве присущей вам чистоты. Раскройтесь в нее. Дайте себе умереть, погрузитесь в чистый свет.
Обширное пространство. Нет границы. Дайте себе просто быть. Открытое и бесконечное. Свет. Само пространство.
Теперь следите за каждым дыханием, как если бы оно приближалось издалека. Как если бы оно приближалось, проходя через обширное пространство.
Каждое дыхание – первое. Каждый вдох – это первое дыхание жизни. Каждое мгновенье – полностью новое. Рождение.
Сознание вновь переживает тело. Пространство в пространстве.
Чистое осознавание вновь вселяется в чистую форму. Снова рожден.
Осознавание идет вперед от мгновенья к мгновенью; оно идет так же, как всегда. Переживание того, что есть. Дыхание жизни опять внутри тела.
Эта легкость еще раз нежно животворит весомую форму, принимает рождение, чтобы исполнить свою карму, чтобы научиться тому, чему следует научиться, быть с вещами, каковы они есть.
Нет смерти. Нет рождения. Нет жизни. Только «бытность». В теле, вне тела. Только «бытность». Только простота. Только форма. Только бесформенное. Переживание, одно в каждое мгновенье данного времени.
Нет жизни. Нет смерти. Только теперь. Только это.
Вхождение в каждое мгновенье. Вхождение полностью пробужденными. Каждое мгновенье столь драгоценно. Все есть.
Когда мы наблюдаем ум с ежемгновенным осознаванием, мы видим, как одно состояние ума возникает со своими собственными склонностями, так сказать, с собственной личностью с собственным настроением, со своими ассоциациями мыслей; и мы видим, как оно исчезает. И в следующую тысячную долю секунды мы видим, как возникает совершенно новый ум. Мы видим, как внутри нашего сознания возникают и исчезают множественные воплощения ума. Мы видим рождение и смерть. Мы не оплакиваем исчезновения какого‑нибудь состояния ума, потому что это было нашим одним переживанием, за которым немедленно возникает другое. На самом деле мы даже редко видим эти возникновение и исчезновение. Обычно мы переживаем их как непрерывность, как единый ум; мы не видим, что здесь налицо непрерывные рождение и смерть, новое рождение и новая смерть. А на самом деле то, что соединяет одно мгновенье ума со следующим мгновеньем ума, не отличается от того, что связывает время одной жизни со временем следующей. Это одно и то же. Неосознанные склонности возникают, чтобы сформировать одно состояние ума; затем они исчезают при изменении условий – и снова возникают в новом уме. Точно так же как это бывает, когда мы умираем, и то, что было силой в уме, – его цели, стремления, желания, – все это продолжает существовать, чтобы еще раз заново возникнуть в новом теле.
Когда мы наблюдаем возникновение и исчезновение сотен новых воплощений в течение часа, мы переживаем рождение и смерть на очень глубоком уровне. Узнавание этого ежемгновенного рождения и смерти ума позволяет нам проникнуть сквозь иллюзию плотности, которая придает силу страху смерти, то есть боязни растворения после угасания физического тела. Ясное виденье продолжающегося процесса, в котором один ум ведет к другому, приносит глубокое постижение, что осознавание продлится после того, как сознательное начало более не найдет в теле гостеприимного пристанища. Это глубокое понимание позволит нам после смерти узнать, что мы умерли, понять, как продолжает существовать сознание, хотя тело лежит где‑то поблизости. Чем скорее мы узнаем, что мы умерли, тем лучше сумеем выбрать направление внутри кармических возможностей, открывающихся в посмертных состояниях.
Виденье этого ежемгновенного рождения и смерти ума позволяет нам видеть далее смерти этого преходящего тела. Видя относительную природу жизни, видя более широкий контекст, в котором на самом деле существует то, что мы принимали за себя, мы начинаем переживать смерть «я», уменьшение способности последующей силы желать и отождествляться с предыдущей мыслью, как с некоторой прочной, отдельной сущностью, как с «я». Не называя слух «моим» слухом, вкус – «моим» вкусом, думание – «моим» думанием, а просто признавая думание, слух, вкус, прикосновение, по мере того, как каждое такое состояние ума само по себе возникает и исчезает, как продукт предыдущих условий, мы начинаем переживать смерть понятия о самих себе, как о ком‑то отдельном от потока. Как выразился один дзэнский наставник: «Если вы пришли сюда не для того, чтобы умереть, вам лучше уйти домой – вы не готовы для практики».
Когда начинается смерть «я», мы глубоко чувствуем, что это отдельное «я», проявляющееся как личность, представляет собой наше отстояние друг от друга, нашу отделенность от реальности вещей, каковы они есть, нашу отделенность от бытия, общего всем нам. Эта великая смерть разделения и страха становится весьма могучей силой в нашей жизни, когда мы вступаем в чистое бытие, в процесс, иногда бывающий болезненным, где раскрывается тот факт, что мы не то, кем считали себя, что мы в действительности всегда в значительной мере были тем, кем никогда не хотели быть. Когда начинают распадаться границы того, кем мы себя считали, мы позволяем себе умереть, как отдельности, и переживаем единство со всем существованием.
Воображаемое «я» начинает умирать, когда мы более не придаем ему силы, не питаем его жаждой переживаний, словно они его собственные; оно начинает умирать, когда мы видим эти переживания просто как переживания в обширном уме. Ум виден, как пространство, где происходят все эти явления. Таковы условия ума, его обусловленность. Ум представляет собой безбрежный простор, чистый по своей глубинной природе, содержащий в себе все. Все эти умы, которые мы переживаем как самих себя, возникающие и исчезающие, все эти личности, которые мы представляем собою, оказываются содержанием гораздо более обширной ясности, не связанной, не смешанной, не отождествленной ни с чем из этого танца. Мы получаем гораздо более широкую картину, гораздо более глубокое признание того, кто мы в действительности такие, и более глубокое понимание того, во что мы переходим, умирая и покидая тело.
Благодаря наблюдению того факта, что содержание ума изменяется от одного явления к другому, благодаря тому, что мы прямо видим эту перемену по мере того, как она протекает, мы начинаем видеть весь процесс. И когда мы видим процесс, мы видим и координаты, в которых он происходит. Мы переживаем тот факт, что считавшееся нами прежде реальным, на деле не является таковым. Оно не обязательно нереально, оно всего лишь нереально в той мере, в какой мы воображаем его реальным. И наше восприятие смерти заметно меняется.
Смерть «я» может быть полной страха перед освобождением, перед шагом в пустоту, страхом перед мыслями о том, как ничто не остановит наше падение, непризнанием пустоты нашей истинной природы. Пустота – это необъяснимый простор, в котором мы возникаем; это – сама истина; и вся идея о том, что «кто‑то» шагает в пустоту, представляет собой просто еще один пузырь, проходящий мимо. И нам более нет необходимости определять, кто мы такие, поскольку то, чем мы становимся каждое мгновенье, гораздо больше того, что мы когда‑либо воображали. Нет необходимости ограничивать каким бы то ни было определением то, чем мы действительно являемся. Мы – все это. И только содержание этого необъятного простора ума, будучи определено, как отдельное «я», ограничивает то, что мы такое.
Смерть тела сопровождается гораздо меньшими мучениями, нежели смерть «я». Смерть «я» – это обрыв всего, что мы понастроили и считали прочным, дабы совладать с глубинной природой постоянно меняющегося процесса. Мы построили воображаемое «я», которое непрерывно подвергает фильтрации содержание ума и выбирает такое состояние его, которое заслуживает существования. Когда все это отпадает, налицо тошнота, головокружение; ибо это означает смерть всего, что мы узнали о себе; все мысли и проекции, которые так восхищали нас в прошлом или создавали кого‑то для будущего, – все они видны, как просто более естественные явления потока жизни, возникающие и исчезающие в необъятном просторе.
Когда все, чем мы воображаем себя, видно в своей – в сущности пустой, непостоянной – природе, мы глубоко чувствуем поверхностность отдельного «я». Когда однажды мы прозреваем сквозь эту сновидную отдельность, мы узнаем, что в реальности нет никого, кто должен умереть, что это только иллюзия отдельности, которая снова и снова принимает рождения. Тогда может возникнуть все, что угодно. Возникает одиночество, возникает ненадежность, возникает страх, возникает голод, возникает даже страстное желание, которое ведет нас от одного воплощения к другому, которое создает один ум за другим, – и все это видно, как просто приход и уход. Как сказано в «Алмазной сутре», это – «вспышка молнии в летнем облаке, мерцающий светильник, призрак, сновидение».
Тогда можно относиться к физической смерти с уважением, можно почитать ее, как чудесную возможность в процессе перехода из одного тела в другое, возможность для осознавания, которое признает относительность всего, что мы воображаем реальным, возможность гигантского прорыва. Потому что, уходя из тела, мы видим, что тело, которое мы принимали за себя, ум, который мы принимали за себя, чуть‑чуть отличаются от того, что мы когда‑либо воображали, а сама жизнь уже сильно отличается от той, какую мы когда‑либо могли себе представить; и здесь появляется чудесная возможность освобождения. Это – великий дар, который, если им воспользоваться разумно и мудро, может нам позволить разрушить многие из наших желаний, многие из наших страхов, значительную часть нашей отдельности, – так чтобы не осталось ничего личного, чтобы все оставшееся оказалось светом, вступающим в свет.
Я думаю, именно это хотел сказать Уолт Уитмен, когда писал в «Песне о себе»:
«Все идет вперед и вовне, и ничто не погибнет;
И умереть – это не то, что думает каждый, но лучше».
(Ср. перевод К.Чуковского:
«Все идет вперед и вперед, ничто не погибает,
Умереть – это вовсе не то, что ты думал, но лучше»).
Когда в глубоком безмолвии, впущенном в себя во время сиденья в медитации, мы видим то, что всегда происходит, но что мы так редко осознаем, мы понимаем, какое это чудо – жизнь, понимаем, как она замечательна. Пожалуй, чем яснее мы видим, какое это чудо, тем отчетливее обнаруживаем проблему попытки проявить в мире этот дух, эти прозрения.
Например, мне пришло в голову, что крест – это очень ясный символ тягот жизни. В вертикальной части креста можно видеть повышение осознавания; в некоторых традициях его можно даже уподобить позвоночнику, по которому поднимается духовная энергия. Горизонтальная часть креста подобна рукам человека, пришедшего в мир, чтобы проявить свое виденье, опирающееся на силу духовного осознавания. И вот через эти руки внутренняя мудрость осуществляется во внешнем мире, через эти руки мы делимся трудом в смирении и заботе.
То, что Христос был распят на месте пересечения внутреннего мира возносящегося духа и внешнего мира окружающих нас нужд, нельзя считать простым совпадением. Его сердце излучает сострадание в самом центре соединения этих двух реальностей. Для многих из нас это очень сильное зеркало, отражающее наше собственное затруднительное положение, потому что в нем наличествует большое смятение, глубокое сомнение по поводу того, как должным образом воплотить в жизнь это растущее понимание, это постепенное пробуждение ко благу других, в то время как мы все еще связаны с мирскими обязанностями.
«Что такое правильный образ жизни?» – этот вопрос люди чаще всего задают себе с началом пробуждения. «Где мне найти работу, полезную для других, в которой возможно справедливое соотношение отданного и взятого? Знать это для меня важнее, чем стать руководителем или возвыситься над окружающими; но как мне зарабатывать достаточно для жизни и для поддержания тех, кого я люблю, – и в то же время все еще оставаться полезным другим?» По мере того, как этот вопрос приобретает напряженность, символ креста становится все более признанным, поскольку можно видеть, что в образе Христа заключается как олицетворение этой дилеммы, так и путь, ведущий к ее решению: метод пробуждения, данный Христом, есть метод сердца. Именно слушая сердцем, мы слышим то, что соответствует данному моменту.
В Благородном Восьмеричном Пути Будда наметил три аспекта ясной работы в мире: правильная работа включает в себя правильную речь, правильное действие и правильный образ жизни. Таковы три средства проявления прозрения, проявления пробуждения в этом мире. Как мы осуществляем это? Так вот, мы производим внимательные действия, мы стараемся пребывать в осознавании того, что делаем. Мы пребываем в своем теле; мы наблюдаем за своим умом; мы знаем свой поступок и свой помысел. Мы обращаем внимание на свою речь: в своей речи мы воздерживаемся от сплетен, от злословия; мы сохраняем ее правдивость. В своих поступках мы воздерживаемся от причинения зла другим. Мы не крадем, не убиваем. Для того, чтобы иметь средства к существованию, мы выбираем такие виды работы, которые не приносят вреда нам или другим людям. Согласно традиции, Будда рекомендовал нам не заниматься охотой, не расставлять капканов, не ловить рыбу, не работать в оружейных мастерских, не способствовать войне.
Но нам нет необходимости обращаться к писаниям, чтобы узнать то, о чем нам возвещает сердце. Если мы проявляем внимание, становится вполне ясно, что в мире существует достаточно страдания и без того, чтобы его добавлять. Мы не хотим работать на бойне, мы не хотим быть палачами; мы хотим облегчать горе, а не причинять его. Мы видим, что правильный образ жизни начинается в сердце, что решение вопроса о работе в этом мире заключается в том, как нам можно больше работать над собой, как сделать каждое действие еще одной возможностью для практики. Когда мы исследуем вопрос о том, что такое правильный образ жизни, мы более не медитируем только во время сиденья – медитация охватывает весь день.
Часть нашей растущей пробужденности – это и рост доброты. Великодушия, мягкости… Как могу я сохранять благожелательность и выжить в обществе, которое не особенно ценит подобные качества? Некоторые становятся медицинскими работниками, трудятся в «профессиях помощи», принося пользу многим людям. Но вне зависимости от того, какую работу мы избираем, даже если эта работа кажется самой чистой, каждый день будут возникать одни и те же вопросы: «Насколько чище я мог бы проявлять свои энергии? Насколько ближе к истине, насколько менее алчным мог бы я оказаться сегодня?»
Вопрос о правильных средствах к существованию – это не просто вопрос о справедливом доходе; это вопрос о правилыюй жизни. Слова «средства к существованию» идут гораздо глубже, чем вопрос о том, за что мы получаем свою заработную плату. Это вопрос о том, как мы проявляем дух на всех путях. Это – действие в чистом виде.
Подлинная нравственность исходит из сердца, из ощущения того, что будет уместным в данный момент. Вопрос о правильном действии – это не какое‑то готовое неоспоримое утверждение, пригодное для всех ситуаций и в любом случае. Поэтому в большинстве дискуссий о правильном действии обычно возникает в той или иной форме вопрос об убийстве. Уместным ли будет полный отказ от него? А как быть, когда надо прополоть лужайку? Или что делать, если у нас в одежде завелись вши? Как быть с убийством ради еды? Что можно сказать об убийстве из милосердия? Всякое ли убийство препятствует проявлению света?
Конечно, при любом намеренном акте убийства, если мы пристально наблюдаем за умом, нам становится вполне ясно, что в момент убийства налицо агрессивная энергия; между нами и тем, кого мы убиваем, существует разделение. Но мы знаем, что будет правильным для нас, потому что мы можем почувствовать это в своем сердце. Если мы пребываем в сердце, если мы обращаем внимание на то, что действительно чувствуем, мы будем способны при каждой мысли ощутить, что будет здоровым, а что нездоровым, что полезно и благотворно, а что окажется вредным.
Примером того, как можно действовать в миру, пребывая в сердце, хотя бы и встречаясь с трудными проблемами, послужит одна моя знакомая, которая поняла, что ей необходимо сделать аборт. У нее уже была дочь, и отношения с дочерью сложились трудные. Многие окружавшие ее соглашались с тем, что если она принесет в мир еще одного ребенка, это, пожалуй, толкнет ее на край гибели. Ее психиатр и другие с готовностью поддержали эти отрицательные ожидания, которые оказывали на нее решающее влияние. Она не могла ни увидеть какую‑либо альтернативу, ни услышать ее. Мне она говорила: «Придется делать аборт: доктор утверждает, что мне нужно его сделать, то же говорит и психиатр; даже отец говорит то же самое; каждый согласен с тем, что мне нельзя иметь этого ребенка». И вот мы поговорили о возможности для нее аборта с тем же самым утверждающим сознанием, с каким она могла бы рожать – с действительным желанием добра этому существу в его переходе через ее тело; мы поговорили и о том, как она могла бы сделать аборт с величайшей возможной любовью, с добротой к самой себе, с признанием того, как легко для нее было бы отвлечься на путь вины. Позднее она рассказала мне, что это уменье обратить к себе понимание, доброту и любящее приятие, использование этого момента в качестве работы над собой вместо того, чтобы только принести себе больше страдания и ненависти, разделенности и печали, оказалось одним из самых прекрасных переживаний, которые у нее когда‑либо появлялись. Переживание оказалось для нее целительным. Она сделала все, что могла сделать в данных обстоятельствах: она послала любовь в такой ситуации, где могла бы проявить сильный гнев и ненависть к себе; а она пришла к свету самым совершенным образом.
Если мы прислушиваемся к сердцу и наблюдаем за своими действиями, мы учимся у самих себя. Мы узнаем, где нам нужно произвести работу. Нам нет необходимости налагать на себя всякие «надо» и «нельзя». Мы открываем для себя, что истина не имеет единственной формы, что истина находится только в данном мгновенье и ее всегда можно открыть именно здесь. Нет реальности, которую нужно создавать, есть только та реальность, на которую надо настроиться.
По мере того, как мы все более и более настраиваемся на свое сердце, на самих себя, мы открываем, что между людьми существует такая безмолвная передача сердца. Сердце признает, что зачастую слова служат людям только предлогом для общения в случаях, когда имеет место подлинное общение. Действительно, иногда слова даже становятся препятствиями для сердца, удерживая восприимчивость только в уме, вместо того, чтобы дать ей возможность ощущаться в том месте, где мы способны внутренне почувствовать другого человека. Когда мы переживаем эту глубокую связь одного интуитивного ума с другим интуитивным умом, разделение между двумя людьми растворяется, тогда общение в меньшей степени нуждается в словах.
Между двумя людьми может существовать настолько глубокое общение, что слова, любые слова, только помешают этой открытости сердец. Такую тонкую передачу сердца можно пережить, когда мы находимся в общении с кем‑нибудь, о ком очень сильно заботимся. Я переживал такое общение со своими детьми, а также с умирающими пациентами, с которыми долго работал.
Вместо того, чтобы говорить вслух, мы обнаруживаем, что способны безмолвно посылать мысли сердцем. Сначала, если мы вполне честны, мы, может быть, обнаружим, что говорим: «Даже не знаю, как я это делаю; но вот я. Что я стараюсь сделать – так это передать вам любовь, заботу своим сердцем. Я не пытаюсь изменить вас, я просто люблю вас, насколько могу». Позже, когда это тонкое общение получит развитие, оно будет напоминать практику медитации любящей доброты. Мы можем успешно работать с мыслями наподобие следующих: «Так же, как я желаю быть свободным от страдания и откровенным, так да придете и вы к своей целостности, к своей радости!» Иногда мы можем даже так общаться с животными и замечать их реакции. Временами это участие будет очень ясно воспринято каким‑то лицом, и тогда произойдет перемена настроения; изменится вся вибрация помещения. Часто то, что мы никогда не способны сказать вследствие неловкости, запретов и сомнений, можно сказать сердцем. При этом передаются не слова, а намерения; здесь сообщаются состояния ума, заботливое отношение.
Пользуясь сердцем, мы можем передавать наше возрастающее осознание и уважение к росту других; мы способны делиться духом с другим человеком. Мы можем передавать нашу заботу, не затерявшись в ее магии, с чистым намерением, которое открывается другим, которое вносит сердце в мир; это слияние внутренних и внешних реальностей, сущность сострадания и правильного действия.
Развивая это общение, мы обнаруживаем, что не только более способны говорить сердцем, но также и более способны слышать его, больше получать через сердце. Мы замечаем, что можем яснее почувствовать надлежащий ответ на условия данного момента. Правильный образ жизни оказывается более ясным и менее проблематичным путем, и его радость расширяет доступ к уму‑мудрости. Сердце явственно раскрываем ум – так же точно, как ум раскрывает сердце: это и есть правильный образ жизни.
Когда мы с Элизабет Кюблер‑Росс проводили курс обучающей медитации, она попросила меня посетить нескольких из ее умиравших пациентов. Очень скоро мне стало ясно, что работа с умирающими оказывается средством работы над собой. В потоке этой работы я встретил необычайную монахиню доминиканского ордена Патрицию Берне, с которой проработал несколько месяцев в онкологическом отделении Сан‑Францисской больницы. Когда я впервые пришел в эту больницу, мне стало очевидным, как моя практика подвергнется здесь проверке. Как выразился один учитель дзэн: «Ваша практика пригодна для покоя; а пригодна ли она для беспокойства?» А еще другой учитель спросил: «Сможете ли вы сохранить в аду свое сердце открытым?»
Я обнаружил, что больница является, пожалуй, наиболее трудным окружением для того, чтобы подлинно хорошо умереть. Больницы имеют целью сохранение жизни; смерть оказывается здесь врагом. К смерти здесь не испытывают большого уважения, большого сочувствия. Смерть окружена страхом, вызывает сильный страх; ибо смерть в больнице – это неудача для больницы.
Безнадежно больные пациенты в большинстве своем говорят, что им хочется не оставаться в одиночестве, когда они будут приближаться к смерти. Им хочется иметь доступ к людям, чтобы не чувствовать себя отрезанными. Однако во многих больницах, по недостатку понимания, как работать с умирающими и как принимать их смерть, медицинских сестер, врачей и технический персонал часто не допускают сколько‑нибудь разумным образом к умирающим пациентам. Исследования показали, что световой вызов к безнадежному пациенту требует больше времени для ответа со стороны ухаживающего персонала, чем вызов к такому пациенту, которому сестра чувствует себя способной «хоть чем‑нибудь помочь»; и это происходит не преднамеренно, а вследствие наших тонких психологических склонностей. Поэтому во время нашей величайшей надежды на контакт с жизнью мы имеем для этого наименьшие возможности. Больница – не слишком хорошее место для того, чтобы умереть.
Мне стало ясно, что в больницах существует та же проблема, что и внутри нас, и эта проблема – неведенье, отсутствие понимания идущего процесса. Это олицетворение страха и сопротивления, конкретизированное в отношении к некоторой части самих себя, которую мы не постигаем, и в отделенности от нее; и эта часть – наше умирание.
Я увидел, что хорошая медицинская сестра на дежурстве становится благословением для своих пациентов; и я установил значительные различия в этой области. В действительности выражение «хорошая медсестра» не будет правильным. То, что имею в виду я, говоря о «хорошей медсестре», – это такая медицинская сестра, которая находится в соприкосновении с собой настолько, чтобы позволить себе проявить заботу. Во многих школах и на многочисленных курсах медицинских сестер вполне обычно мы слышим: «Не сопереживайте жизни ваших пациентов». Однако именно это качество заботливости и участливости как раз и составляет сущность целительства. По сути дела, что происходит в больницах и вообще в медицинской профессии? Исцеление изъято из сферы человеческих отношений, из сферы передачи энергии, и перенесено в химико‑электрическую сферу лекарств и механических устройств.
Я почувствовал, как трудно выказывать заботу с теми огромными глыбами невежества, которые мы обычно несем с собой большую часть времени. Как легко мы отождествляемся со своей обусловленностью по отношению к умиранию, как болезненна для нас утрата нашей перспективы относительно страдания. Я знаю очень немногих людей, работающих с умирающими, которые не были бы глубоко задеты этой работой и нередко утомлены ею. Подобная работа предъявляет большие требования. Только когда мы можем видеть жизнь и смерть не как столь отдельные друг от друга стороны, а как части протекающего процесса созревания, возвращения домой, к Богу, к источнику, – какими бы понятиями мы не пытались определить этот процесс, – только тогда можем мы оставаться внимательными к контексту, внутри которого происходят боль и умирание. Тогда, работая с людьми, испытывающими боль, мы будем относиться с почтением к их трудностям, мы увидим, как им тяжело; но при этом мы не усиливаем их сопротивлений этой боли разговорами о том, как ужасна боль, не обостряем этих их страданий. Не станем мы также говорить: «О, эта боль – всего лишь следствие кармического процесса», – потому что такие слова не будут, состраданием: мы просто разговариваем по душам, не работая над собой; мы не поддерживаем такое состояние ума, которое сохраняет разделение. Их страдания, – их карма – эта правда ; но такое понимание должно прийти из глубокого переживания данного момента, из сердца, а не из головы. Нам же необходимо почувствовать их положение, как нашу карму, а не просто их карму. Мы должны открыть карму в самих себе, открыть ее не как понятие, а как протекающий; процесс, как раскрытие. Наше развертывание, их развертывание – все это часть одного и того же процесса. Содержание нашей жизни и их жизни может быть различным, как и содержание ума отличается от содержания ума каждого другого человека; но сам процесс совершенно одинаков. Естественные законы, управляющие причиной и следствием, законы, управляющие взаимоотношениями ума и тела, совершенно одинаковы; и вот эта‑то одинаковость является путем ко внутреннему пониманию, способом не быть захваченными содержанием – как нашим, так и их содержанием. Фактически установление контакта возможно как раз на уровне этой одинаковости.
Такая одинаковость существует, когда я вхожу в комнату человека, который охвачен сильной болью, и я чувствую ее своим нутром; но это чувство окружено простором, тем простором, который просто пребывает с болью, какова она есть, который охотно позволяет ей следовать естественным путем. Это может быть психологическая боль, подобная гневу, страху или глубокому сомнению; или это может быть рак, разъедающий нервную систему. Я нахожусь в комнате, где налицо крайне невыносимая обстановка, крайняя неудовлетворенность настоящим. И я сижу с ними и позволяю себе войти в это чувство; но я вхожу в такое состояние, взяв с собой понимание того процесса, того контекста, в котором мы все существуем. И входя в это переживание так глубоко, как могу, я прохожу через него, когда они смогут это сделать. Эти слова, разумеется, не передают самого переживания. Но когда я сижу с кем‑то, я могу войти в него, я как будто почти становлюсь им. Тогда я – не кто‑то отдельный от него; расстояние между мною и человеком, с которым я нахожусь, не является препятствием для моей способности быть доступным для него. А это означает – оставить образ самого себя, как некоего великого белого рыцаря, как полководца кармы, пришедшего исцелить больных и умирающих, в голове которого скрывается некоторое тонкое отрицание того обстоятельства, что и я сам болен и умираю, что и я сбит с толку привязанностью и неведеньем. Я мудр, а они – нет; я здоров – они больны. Это заблуждение.
Будда говорил, что счастье меняется, как взмах лошадиного хвоста. Два человека находятся в этой комнате, и они находятся в ней в силу кармы. Один лежит и устремляется прочь из этой жизни; другой находится здесь потому, что нет иного места, где он мог оказаться более полезным самому себе или кому‑нибудь другому. Нам обоим надобно проделать какую‑то работу над собой. Если бы мы находились в этой комнате по какому‑то другому случаю, мы не извлекли бы максимальной пользы из ситуации. То же самое относится и ко всему, что мы делаем; но когда мы пребываем с собой во время собственного умирания, это просто более очевидно.
Со мною в комнате находится человек, который очень близок к смерти; и он боится. Я могу почувствовать страх смерти и в самом себе. Перерабатывая свой страх, я даю ему возможность, может быть, безмолвную, переработать свой. Если я вхожу в комнату и говорю: «О, вам нечего бояться; все мы проходим через смерть и затем вновь рождаемся», – это не принесет большой пользы; такой подход окажется способом не иметь дела с силою данного момента – со страданием в этой комнате, со страданием человека, который лежит на кровати, а также со страданием того человека, который сидит у этой кровати.
Именно способность страдать, способность почувствовать свой собственный неудовлетворенный ум, свою собственную неудачную равнодействующую кармы, – это и есть способность очиститься и закончить дело. Работа с умирающими подобна тому, как если бы мы смотрели в прекрасно отшлифованное, очень точное зеркало, отражающее нашу собственную реальность; потому что мы видим здесь свои страхи, видим, как сильна наша неприязнь к боли, к неприятным телесным и душевным состояниям; эта обусловленность весьма велика – она непременно будет чем‑то таким, с чем мы работаем большую часть времени. Осуждающий ум опирается на мое плечо и говорит мне, какой я незрелый тип, как много мне нужно работать над собой. Если я останусь открыт для этого промежутка времени, мне будет очень больно; но очевидно, работу нужно выполнить, и вот я остаюсь с ней и кое‑когда обнаруживаю, что мой ум оказывается очень открытым, мягким, сострадательным и пребывающим глубоко в настоящем.
Привязанность, которой хочется, чтобы кто‑нибудь умер как‑то не так, как умирают другие, для умирающих бесполезна; это – моя проблема. Я учился не заставлять кого‑нибудь другого умирать за меня моей смертью. Не приносить свои проблемы в эту комнату стало процессом дальнейшего очищения. Иногда, если я нахожусь в общении с каким‑то лицом и чувствую, что у меня не клеится дело, мне нужно просто сказать: «Сегодня у меня дело не клеится»; но в этом высказывании больше правдивости, чем в том, что человек, может быть, переживает за весь день. В больничных палатах так много притворства. Человек в постели часто притворяется, посетители притворяются. Моя работа в этой комнате – просто быть. Никакого притворства. И для того, чтобы мне быть, необходимо мое присутствие. Я должен быть способен принять всего себя. И часть меня самого страдает и лежит на этой кровати. По истине, в такой вот час происходят две смерти.
Но честность не означает насильственного навязывания моей истины кому‑то другому. Она означает – присутствовать, быть реальным. Я мог почувствовать, что чем больше я открыт, чем более восприимчив к человеческому состоянию, к страданию, которое приходит с нашим невольным вожделением, с нашей огромной забывчивостью, тем большее пространство я могу отвести для нашего роста. И тем большее сострадание я чувствую даже к своим собственным проекциям и страхам. Я могу увидеть, что сострадание не является вмешательством. Оно никого не вовлекает насильно в мою карму. Сострадание приходит от чувства чужого страдания и преодоления его в самом себе, от предоставления им свободного пространства для роста или даже для смерти, как они сочтут возможным, как они кармически способны.
Я обнаружил, что сострадание не означало слов: «О, как хорошо вы сегодня выглядите!», – когда больные худеют и сереют; оно скорее означало предоставлением им возможности болеть, когда они действительно больны . Пусть они принимают самих себя. Не усиливать их отвращение к болезни, потому что эта болезнь и есть то, с чем им нужно работать. Таков их метод.
Я видел, как сильно мы недооцениваем способности человеческого сердца, как мы думаем, что можем оказаться полезными только благодаря какому‑то знанию. Но интуитивное понимание ума‑мудрости может позволить нам быть доступными для другого человека, не теряясь во множестве «дел». Мы просто здесь, потому что открыты для пребывания здесь. Это значит, что если кто‑то смертельно болен, мы принимаем его болезнь – и принимаем ее также в свое сердце. Когда боль в комнате так велика, что она как бы взламывает сердце, мы не держимся за такие вещи, которые отличаются чем‑то от того, чем они являются на самом деле, – и благодаря этому как будто почти исчезаем в той точке, где ум и сердце совпадают, – мы чувствуем, что находимся внутри сердца, открытого для понимания. Мы переживаем другого человека, как самих себя; мы говорим с ним, как если бы говорили с самими собою. Тогда даже техника беседы при помощи сердца, описанная выше, становится техникой беседы с собою.
В такие моменты, когда я более не был «подателем» или даже дающим, но просто находился там в качестве двух аспектов самого себя – одного умирающего и одного наблюдающего, – я воссоединялся со своей полнотой, и вся усталость исчезала. Я оказывался напитан из того же самого источника, из безграничного простора, где нет ума, из чего‑то большего, нежели мое ограниченное «я»; и этот источник питал также и другого.
Когда мы даем нечто из этого источника, а после этого выходим из комнаты, мы даже не знаем, кто мы такие. Здесь столь огромный простор ума, что мы просто не знаем. Человек умирает, и мы даже не знаем, помогли ли мы ему. Мы сделали все, что могли, и научились благодаря этому; но мы даже не знаем, чему научились. Все, что нам известно, – то, что шел процесс, процесс движения к простору, к нашему потенциалу, к тому, чтобы стать тем, кем мы едва ли даже воображали себя.
Мы сидим в кругу. Это имеет большой смысл, потому что все точки круга равны.
Круг – это природная форма. В природе все вещи движутся циклически. Существуют времена года, день и ночь, жизнь и смерть. Свет движется во тьму и возвращается к свету.
Американский индеец говорил о Великой Петле, которая охраняет всех людей. Когда эта петля разорвалась, люди перестали жить в циклической природе того, что они есть; они потеряли свое «познание», свое соприкосновение с потоком. Индейские народы оказались рассеяны и почти уничтожены.
Кажется, что и энергия движется кругами: орбиты планет, орбиты электронов вокруг ядра атома. Когда мы входим в круг, мы вступаем в поток. Но мы толкаемся об этот круг, когда пытаемся думать о «круге» или о «потоке»; мы делаем их линейными от начала и до конца, мы их искажаем.
Каждое мгновенье – это совершенный круг. Когда мы проникаем в тотальность мгновенья, мы видим, что ни одна точка на этом круге не обладает большим правом смотреть свысока на остальную часть круга, чем любая другая точка. Мы видим, что каждый момент является совершенным итогом всего, что произошло раньше, а также совершенным предшественником всего, что последует.
Наше сиденье становится похожим на вхождение в совершенный круг, где есть место для всего. Мы никогда не затеряемся, потому что нам некуда уходить. Мы постоянно приходим домой, в настоящий момент.
Сдача, смирение – это совершенное соучастие в круге. Освобожденность позволяет нам плыть, стать целым кругом. Держаться за какую‑нибудь точку круга – значит потерять свою первоначальную природу, потому что там нет такого места, откуда мы начинаем, и такого места, где мы заканчиваем.
Внимание! Сайт является помещением библиотеки. Копирование, сохранение (скачать и сохранить) на жестком диске или иной способ сохранения произведений осуществляются пользователями на свой риск. Все книги в электронном варианте, содержащиеся на сайте «Библиотека svitk.ru», принадлежат своим законным владельцам (авторам, переводчикам, издательствам). Все книги и статьи взяты из открытых источников и размещаются здесь только для ознакомительных целей.
Обязательно покупайте бумажные версии книг, этим вы поддерживаете авторов и издательства, тем самым, помогая выходу новых книг.
Публикация данного документа не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Но такие документы способствуют быстрейшему профессиональному и духовному росту читателей и являются рекламой бумажных изданий таких документов.
Все авторские права сохраняются за правообладателем. Если Вы являетесь автором данного документа и хотите дополнить его или изменить, уточнить реквизиты автора, опубликовать другие документы или возможно вы не желаете, чтобы какой-то из ваших материалов находился в библиотеке, пожалуйста, свяжитесь со мной по e-mail: ktivsvitk@yandex.ru