

|
|
|
Юрий Линник
АМАРАВЕЛЛА
ХРУСТАЛЬ ВОДОЛЕЯ
Книга о художнике Б. А. Смирнове-Русецком
ПЕТРОЗАВОДСК
«СВЯТОЙ ОСТРОВ»
1995
Юрий Линник. Хрусталь Водолея. – Петрозаводск: Святой остров, 1994. – 232 с.

Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий
(1905-1993)
Выдающийся русский художник Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий (1905-1993) родился под знаком Водолея. Все его духоносное творчество предвещает эру этого созвездия – ныне в нее вступила наша Земля, уповая на высветление своих плотных и тонких планов. В картинах Б. А. Смирнова-Русецкого мы видим взаимопросвечивание этих планов: материя здесь уже преобразилась, очистилась – и потому скрытое от взора стало явным. Удивительный прозрачный космос! Сквозь хрустальные сферы нам дано прозреть сияние первичного Духа; и бессмертную архитектуру мира идей; и флору астральных измерений. Художник учит нас трансцендировать – выходить за пределы доступного. Но при этом мы не покидаем наш мир, а видим его в новом контексте – то на фоне космоса, то в перспективе вечности. Поэтому наше земное бытие обретает особую значительность: этот сквозящий березняк, этот северный валун, этот закат – на всем лежит напечатление софийности. Б. А. Смирнов-Русецкий восстанавливает ценности идеализма. Как живописец-мыслитель, он создал свою модель мира, глубоко созвучную исканиям русской поэзии и философии «серебряного века». В молодости мастер учился одновременно у В. В. Кандинского и Н. К. Рериха: творчество этих очень разных художников имеет тем не менее свой инвариант – обращенность к духовным уровням реальности. Б. А. Смирнов-Русецкий в течение всей своей долгой жизни эстетически осваивал эти уровни. Его творчество обладает бесценной способностью расширять сознание – вплоть до космологического горизонта событий и дальше: вместе с художником мы переступаем черту, разделяющую мир и иномир, время и вечность – на их таинственном порубежье написаны многие картины мастера.
Средства от этого издания направляются в фонд создания Музея космического искусства им. Н. К. Рериха в Карелии.
© Ю. В. Линник, 1995
© Т. Г. Юфа, 1995
СВЕТ НЕСКАЗАННЫЙ
Б. А. Смирнов-Русецкий родился в 1905 г. в Петербурге, где прожил до 1917 г., когда его семья переехала в Москву. Ранние впечатления бытия нередко определяют, как бы программируют становление личности. Петербург начала XX столетия, навсегда оставшись в сердце художника, существенно повлиял на весь его душевный строй, на мироощущение и стиль.
Как поэтика Петербурга – а это понятие здесь вполне уместно, ибо перед нами не просто город, но и произведение искусства – преломилась в п о э т и к е Б. А. Смирнова-Русецкого?
В своей замечательной книге «Душа Петербурга» Н. Анциферов называет северную Пальмиру «г о р о дом двойного бытия». И далее он пишет о том, что здесь «грань между явью и сном стирается». Так вот: юный Б. А. Смирнов-Русецкий несомненно уловил это столь характерное для Петербурга отсутствие грани между реальностью и вымыслом, – первые наброски сделаны им на том порубежье, где вещное и духовное, действительное и мнимое взаимопереходят друг в друга.
Весомость каменных масс, – и их бесплотность в белую ночь; рациональная четкость планировки, – и невнятица петербургских туманов, метелей; прозаизм обыденной жизни, – и присутствие на каждом шагу чего-то мифического, фантасмагорического: Петербург говорит одновременно как бы на двух языках, сплетая их в сложнейшем контрапункте. Отсюда его двуплановость; отсюда ощущение, что он реален и ирреален одновременно. Причем реальное и грезящееся не разделены, а просвечивают одно в другом, взаимопронизают друг друга.
Эти взаимопроникания и взаимоотражения, впервые открывшиеся художнику в облике Петербурга, будут осмыслены им философски. Подходя к натуре, он не станет ограничиваться передачей ее внешней конкретно-чувственной оболочки, – взгляд мастера уйдет в глубину предмета или пейзажа, дабы прозреть в ней нечто сущностное, изначальное. От явного – к скрытому; от плотного – к тонкому; от вещи – к идее: в этом устремлении духа мы найдем ключ к пониманию лучших картин художника.
Двойственность петербургского пространства подчас имеет трагическое выражение. Однако двуплановость бытия, впервые пробрезжившая художнику в пространстве северного города, проявляет себя среди природы иначе: более мягко, более гармонично. В городе – антиномии, в природе – созвучья. Б. А. Смирнову-Русецкому оказалось ближе последнее. Но все-таки именно Петербург – быть может, благодаря своим трагическим напряжениям, когда пространство разламывается и двоится, – помог художнику осознать главное: мир, жизнь нельзя разместить на одной плоскости – за этой эмпирически доступной плоскостью сквозят иные слои, иные уровни. Высвечивание этих уровней стало для Б. А. Смирнова-Русецкого непосредственной художественной задачей.
Эстетике Б. А. Смирнова-Русецкого глубоко созвучны такие строки Владимира Соловьева:
И под личиной вещества бесстрастной
Везде огонь божественный горит.
Образно выраженный в этих словах принцип имеет значение для мира с минимум двумя уровнями, – в одноуровневом мире нет ничего кроме вещества, такой мир аналитически разложим без остатка. Но подобная модель бытия художника не устраивала. Да, вещество может играть всеми красками; да, вещество формирует себя по законам красоты. И поэтому искусство часто удовлетворяется воплощением именно этого вещественного слоя. Но мы знаем и другую традицию,— когда наитие художника через кору вещества пробивается к духу, к свету несказанному. Это традиция Платона и Чюрлениса, Рублева и Врубеля, – Б. А. Смирнов-Русецкий тяготеет к этой линии в истории искусства.
В автобиографической книге «Идущий» художник вспоминает зиму 1922 года: «От той зимы сохранился цикл карандашных эскизов на зимние темы. Зима была сухая, морозная. Я очень любил ледяные узоры на окнах трамвая, сквозь которые виделся призрачный город». Первый план – росписи инея на стекле, второй план – зимний городской пейзаж. Семнадцатилетний художник понял: накладка этих двух планов друг на друга создает исключительно тонкий живописный эффект. Однако этот эффект не является самоцелью: формальный прием помогает здесь выразить нечто мировоззренчески значимое, существенное.
Интересная деталь: как раз в 1922 г. вышла книга П. А. Флоренского «Мнимости в геометрии», где много говорится об эффектах двоящегося, даже троящегося пространства. Флоренский вспоминает:
«Как-то мне пришлось стоять в Рождественской Сергиево-Посадской церкви, почти прямо против закрытых царских врат. Сквозь резьбу их ясно виделся престол, а самые врата, в свой черед, были видимы мне сквозь резную медную решетку на амвоне. Три слоя пространства; но каждый из них мог быть видим ясно только особой аккомодацией зрения, и тогда два другие получали особое положение в сознании и, следовательно, сравнительно с тем, ясно видимым, оценивались как полусуществующие».
Совершенно аналогичное расслоение пространства мы наблюдаем в цикле Б. А. Смирнова-Русецкого «Прозрачность». В храме – резные решетки, в природе – сети крон. Однако оптическое состояние пространства в обоих случаях тождественное,— просвечивание нескольких сквозящих слоев создает ощущение глубины, даже бездонности. Нас завораживает эта глубина; нас манит эта бездонность. Пространство как бы разверзается перед нами, являя скрытые в нем измерения. Вчера еще казавшееся непроницаемым вдруг становится хрустально прозрачным. И прозрачность эта структурная, грановитая: она обладает способностью улавливать, преломлять, усиливать свет несказанный...
Этот свет и есть тот огонь, о котором говорил Вл. Соловьев. Картины Б. А. Смирнова-Русецкого из цикла «Прозрачность» открывают нам непосредственный доступ к этому свету. Иногда их хочется сравнить с таинственными многолинзовыми приборами: проходя сквозь каждый слой-линзу, идущий из глубины свет как бы концентрируется и умножается, изливаясь из рамы ровным широким потоком.
У нас возникает искушение промерить эту глубину. Но какой лот подойдет для такой цели? Входя в пространство картин Б. А. Смирнова-Русецкого, мы интуитивно чувствуем: у этого пространства нет предельного края. Оно неисчерпаемо! Но это бесконечность не пустого, а наполненного, не однородного, а сложного пространства. В эстетике Б. А. Смирнова-Русецкого понятия бесконечности и прозрачности взаимосвязаны: бесконечность – прозрачна и прозрачность – бесконечна. Взгляд художника вовсе не отодвигает предметы в сторону, дабы они не заслоняли беспредельную даль, – нет, бесконечность ему открывается непосредственно через предметный мир, обретший удивительное свойство прозрачности.
Тема бесконечности является одной из доминирующих в творчестве Б. А. Смирнова-Русецкого. Как известно, решающее значение для эстетического освоения бесконечности имело открытие прямой перспективы, сделанное в эпоху Возрождения. Б. А. Смирнов-Русецкий мастерски владеет перспективой. Достаточно вспомнить его цикл «Острова в пространстве», где облака и галактики выстраиваются в одну перспективную цепь, образуя целостную и непрерывную последовательность, – пожалуй, космические расстояния здесь впервые получают наглядное живописное воплощение. Однако помимо перспективы художник владеет еще и другими средствами для воплощения бесконечности. В самом деле, многие картины из цикла «Прозрачность» имеют плоскостное решение, – однако неисповедимым образом они создают ощущение глубины, бездонности. Это ощущение возникает благодаря наложению прозрачных планов друг на друга. Перед нами фактически новый, впервые сознательно и целенаправленно используемый метод воплощения бесконечности. Это художественное открытие Б. А. Смирнова-Русецкого.
В 1926 г. из рук Н. К. Рериха, посетившего Москву на пути в Центральную Азию, Б. А. Смирнов-Русецкий получил две книги – «Зов» и «Озарение». Они открывали тринадцатитомную серию «Живой этики» – монументального произведения, в котором Н. К. и Е. И. Рерихи синтезировали духовный опыт Востока с устремлениями современной науки. Во время бесед Н. К. Рериха с членами группы «Амаравелла», объединившей молодых художников-космистов, прозвучали идеи, впоследствии получившие разработку в других книгах «Живой этики»[1]. В 1930 г. вышла книга «Беспредельность», открывавшаяся такими словами:
«Даем книгу «Беспредельность».
Дельно ли говорить о Беспредельности, если она недосягаема? Но ведь она есть; и каждое великое, если даже оно незримо, то все же оно заставляет обдумать пути к нему. Также и теперь нужно обдумывать пути к Беспредельности, ибо она есть и она ужасна, если она не осмыслена. Но даже в жизни Земли можно приближать и закалять дух к принятию бездны».
В подтексте этих строк говорится о своеобразной инверсии эстетических ценностей: вчера бесконечность была для человека чем-то негативным, внушающим ужас, – об этом ярко писал Б. Паскаль; но сегодня она становится средоточием прекрасного и возвышенного; более того: отныне она занимает главенствующее положение в иерархии эстетических ценностей.
На призыв Рерихов осознать и принять красоту Беспредельности члены «Амаравеллы» ответили как художники. Впервые в истории живописи бесконечность стала самодовлеющим предметом художественного осмысления. Как это созвучно начавшемуся в 20-е годы процессу космизации естествознания! Художественный образ бесконечности на картинах Б. А. Смирнова-Русецкого глубоко диалектичен. Интересно отметить: в некоторых картинах цикла «Прозрачность» бесконечность разворачивается не только вширь, но и как бы вглубь мира – малое содержит в себе великое, деталь укрупняется в панораму. Бесконечность здесь эстетически осознается и интерпретируется как неисчерпаемость мира.
Цикл «Прозрачность» в творчестве Б. А. Смирнова-Русецкого органически связан с циклом «Космос». И это понятно: прозрачная земная даль не может оборваться у горизонта, – она плавно и естественно переходит в космическую перспективу. Этот волнующий переход изображен на многих картинах мастера. Переход-превращение, переход-метаморфоза! Земные огни превращаются в огни космические; сквозь кристаллы хрусталя проступают кристаллы созвездий. Включенность нашей Земли в контекст космического целого, пронизанность ее пейзажей космическими токами, – эти мотивы в творчестве Б. А. Смирнова-Русецкого глубоко созвучны мировоззрению В. И. Вернадского, К. Э. Циолковского, А. Л. Чижевского.
Как художник-пейзажист, Б. А. Смирнов-Русецкий тяготеет к традиции романтического пейзажа, поднятой на новый уровень А. И. Куинджи и его учениками. Близок Смирнову-Русецкому и В. Э. Борисов-Мусатов. Подобно своим предшественникам и учителям, Б. А. Смирнов-Русецкий стремится воплотить не только красоту пейзажа в ее объективности и безусловности, – художник передает еще и те трепеты, отсветы, оттенки, которые накладываются на пейзаж нашим восприятием, нашими чувствами.
Подчас субъективный момент у него даже выходит на первый план, – и здесь он идет гораздо дальше пейзажистов конца 19-го – начала 20 века. Как оценить эту тенденцию в творчестве мастера?
В манифесте «Амаравеллы», написанном в1927 г., есть такое положение: «Наше творчество, интуитивное по преимуществу, направлено на раскрытие различных аспектов Космоса – в человеческих обликах, в пейзаже и в отображении абстрактных образов внутреннего мира». Характерная черта: пейзаж и абстрактные образы, несущие в себе субъективное содержание, здесь соположены, поставлены в один ряд. Это далеко не случайно. Молодой Б. А. Смирнов-Русецкий увлекался творчеством В. В. Кандинского, переписывался с ним. Раскованный мир абстрактной живописи властно тянул к себе, – но с неменьшей силой художника влекла и конкретная натура: формы и краски леса, прозористость осенних далей. Казалось бы, тут должен действовать принцип взаимоисключения: или мир абстрактного, или мир конкретного. Но догматическая формула «или-или» перестала работать как раз в 20-е годы, на которые пришлось становление Б. А. Смирнова-Русецкого, – сменил эту формулу замечательный принцип дополнительности Н. Бора. Вот его суть: противоположности дополнительны.
И конкретное, и абстрактное! Дополнительность этих начал мы видим во многих пейзажах художника, где линии и объемы реальной природы исподволь превращаются как бы в абстрактные знаки, символы. Нет, пейзаж при этом не теряет своей конкретности, но в нем открывается новая глубина, – словно в Книге природы мы видим теперь не только ее обложку, но и прозреваем доселе скрытый от нашего глаза загадочный текст. Можно сказать, что подобным пейзажам Б. А. Смирнова-Русецкого присуща специфическая знаковост ь, – конкретные реалии природы здесь подвергнуты своеобразнейшей семиотизации, в них внесен – или из них извлечен – некий дополнительный смысл. Искусство всегда одухотворяло и очеловечивало природу. Б. А. Смирнов-Русецкий сделал это по-своему. Учеба у В. В. Кандинского очень пригодилась ему как художнику-пейзажисту, – развив в себе чувство абстрактной формы, Б. А. Смирнов-Русецкий по-новому взглянул на природу.
Текстура орской яшмы; изумительные росписи инея; краски на крыльях бабочек, – перед нами абстракции природы. И сколько же в этих абстракциях подлинной меры, гармонии! Ведь все формирующееся и развивающееся на Земле вторит вибрациям Космоса. А эти вибрации ритмичны, упорядочены. Древние называли их «музыкой сфер». Отзвуки этой музыки они улавливали всюду: в симметрии растений, в гармонии кристаллов, в теоремах геометрии. Пифагорейские представления о ладе бытия были близки и В. В. Кандинскому, и Б. А. Смирнову-Русецкому, – но если для Кандинского резонатором космической музыки стал его субъективный мир, то для Смирнова-Русецкого и космическое, и субъективное соединились в линиях, ритмах земного пейзажа. Некоторые картины художника могут удовлетворить как вкус любителя абстрактной живописи, так и вкус тех, кто верен конкретной природе. Это не преувеличение. Художник убедительно показывает нам, что алгоритм перехода от конкретного к абстрактному заложен в самой природе, а не является чем-то абсолютно произвольным и субъективным. Тончайшая гармония конкретного и абстрактного, вносящая в картины художника многозначность и многоплановость, является его замечательным творческим обретением.
Понятие духовности очень рано вошло в сознание Б. А. Смирнова-Русецкого. Сфера духовного для него – это не только мир сознания, но и проекция этого мира вовне: на природу, на космос. Б. А. Смирнову-Русецкому созвучно введенное В. И. Вернадским понятие ноосферы. Но только ноосферу он видит и чувствует по-своему – как художник, умеющий прозревать скрытые планы бытия. Вот в озерных глубинах проступил град Китеж: это часть ноосферы. Вот в очертаниях созвездия мы угадываем Озириса: это часть ноосферы. Вот светится в ночи аура разрушенного собора: это часть ноосферы.
Мир на картинах Б. А. Смирнова-Русецкого заряжен духовностью. И этот заряд так мощен, что вызывает самосвечение мира. Свет нереченный, свет не-глаголемый! Да не иссякнут его источники в природе и сердце человеческом.
Часто в картинах Б. А. Смирнова-Русецкого мы видим два источника освещения: свет физический взаимодействует со светом духовным. Интерференция двух световых потоков порождает удивительно тонкий и гармоничный узор. Он прорисовывается на картинах Б. А. Смирнова-Русецкого со всей очевидностью.
Ноосфера у Б. А. Смирнова-Русецкого простирается далеко за пределы Земли. Золотистый свет несказанный окутывает на его полотнах острова далеких галактик. Значит, и там процвела жизнь; значит, и там утвердились начала добра. Это очень важно: наполненность, насыщенность космоса светом добра. В этом космосе нет смерти, – есть бесконечная череда превращений; в этом космосе нет энтропии, – горение духа не дает миру остыть. Такова замечательная космологическая модель «Амаравеллы», в разработку которой Б. А. Смирнов-Русецкий внес существенный вклад. Мир как целое; мир в его восхождении по ступеням эволюции; мир в проекции на шкалу абсолютных ценностей, – вот художественная проблематика цикла «Космос», увлекающая своей новизной и масштабностью.
Начало духовности неразрывно связано с началом памяти. Устремление к будущему у Смирнова-Русецкого симметрично уравновешено вниманием к прошлому. Художник создал несколько циклов на темы памятников архитектуры. Прошлое в этих картинах предстает как активная творческая сила, – оно питает поколения, оно продолжает излучать. Псковские храмы на полотнах мастера – как сосуды со светом несказанным. Древние стены прозрачны для этого света. Поэтому их теплота ощутима почти физически. Художник нас убеждает: напечатление духа нестираемо – его не могут смыть потоки времени. Краски Б. А. Смирнова-Русецкого делают для нас зримым это тончайшее напечатление.
В юности Б. А. Смирнов-Русецкий любил стоять возле двух египетских сфинксов, расположенных на набережной Невы, против здания Академии художеств. Вячеслав Иванов писал об этих сфинксах:
Волшба ли ночи белой приманила
Вас маревом в полон полярных див,
Два зверя-дива из стовратных Фив?
Перспектива египетская – и перспектива петербургская: сколь естественно они совместились в очарованном пространстве северной Пальмиры! Такое совмещение происходит уже как бы под знаком вечности, – одолевается разрозненность времен, явления разных эпох становятся синхронными. Это удивительное единство столетий, становящихся гранями в кристалле вечности, тоже может передать кисть художника. Достаточно вспомнить такие его картины как «Старый Углич» или «Силуэты Вильнюса».
Здесь наслаиваются друг на друга не только пространства, но и времена, – эпохи взаимопросвечивают подобно пластинам прозрачной слюды.
Вечное, непреходящее: вот тема многих картин Б. А. Смирнова-Русецкого. Художник одолевает время. Поставим в один ряд его первые наброски из цикла «Прозрачность», датированные 1922 годом, – и последние воплощения этой темы: картины с датой 1993. Да, мастерство художника растет, углубляется, – но этот рост и это углубление происходят словно не по временной оси, а развертываются внутри вечности. Работы 17-летнего юноши и зрелого мастера как бы переходят, переливаются друг в друга. Будто здесь нет разрыва в 71 год. Поразительная верность теме! И поразительная цельность художнической судьбы.
В двадцатые годы был начат и цикл «Осенние раздумья», пополнявшийся каждый год. Осень Б. А. Смирнова-Русецкого покоряет своим лиризмом. В полотнах цикла с наибольшей полнотой обнаруживается сопричастность художника поэтическому началу. Картины-элегии, картины-медитации! Они являют глубину мира, открытую для просветленного взгляда.
Хочется долго-долго смотреть в эти картины.
И заряжать свою душу исходящими из них потоками света.
В эпоху различных кризисов – нравственных, социальных, экологических – Б. А. Смирнов-Русецкий создавал удивительно устойчивый, цельный и гармоничный мир. Приобщение к этому миру поможет нам в одолении кризисных ситуаций. Ибо мы лишь тогда сумеем сотворить светлое время, когда вернем себе интуицию вечного, абсолютного. Эта интуиция одухотворяет полотна мастера, необыкновенно углубляя и высветляя их. Побывав в поле излучения его картин, мы хотим быстрее освободиться от всего суетного, преходящего. Борис Пастернак писал:
Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты – вечности заложник
У времени в плену.
Эти слова поэта вполне можно отнести к творческому деянию Б. А. Смирнова-Русецкого.
ПОЭМА
Б. А. Смирнову-Русецкому
Под знаком красоты мы идем радостно.
Красотою побеждаем.
Красотою молимся.
Красотою объединяемся.
Николай Рерих
1. Валуны Севера
Я знаю:
Психология камней
Когда-нибудь возникнет как наука,
Ну а пока – поэзия она:
Предвосхищенье, домысел, догадка,
Что нет природы мертвой –
есть живая.
Всегда живая!
Мастер как психолог
Решил однажды к камню подойти –
И не ошибся:
камень вдруг раскрылся,
Ему являя заповедный лик
И свой характер;
Прямо в душу камня
Художник изумленно заглянул,
Вдруг прозревая внутреннюю жизнь
И глубину переживаний в древнем
Замшелом валуне...
Его нутро
Сияло аметистовой жеодой,
В себе таящей некий нервный центр,
Подобье мозга...
Как вчитаться в мысли
Камней,
Сосредоточенных на вечном,
О сущем философствующих?
Мастер
Проникся духом этих валунов,
Уже решивших много лет назад
Загадку бытия...
Художник понял,
Что память камня,
Скрытного по нраву,
Для нашего наития открыта:
Вот вижу я пейзаж палеозоя,
Вот явлен мне таинственный архей.
Как россыпь ледниковых валунов
Японский сад камней напоминает
И композицией, и настроеньем!
Художник подтверждает эту связь,
Передавая образ валуна
В мышленье...
Что ни камень, то характер,
Что ни валун в альбоме, то портрет,
Психологический по самой сути,
По замыслу,
По технике письма.
Портреты камня!
Это новый взгляд,
Так дивно расширяющий сознанье:
Все в этом мире дышит и живет.
2. Кредо
Прозрачным по прозрачному пишу,
Прозрачность наблюдаю
сквозь прозрачность,
Накладывая планы друг на друга,
Как слюдяные чистые слои:
Вон за колком березовым опять
Виднеется прозрачнейший осинник,
А сквозь него мне брезжут ивняки,
В которых даль сквозит:
сентябрь хрустален!
И я сейчас могу как кристаллограф
В нем тридцать ясных граней насчитать,
Преобразуя их в систему линз,
Ночами наведенных на Плеяды! –
Они горят на уровне осота,
Среди росистой лебеды горят.
Гляжу на мир сквозь пристальную сетку
Стрекозьих крыл:
в одной ячейке ясень.
В другой зависший жаворонок! –
словно
Непринужденно разграфлен сентябрь
Таинственной системой жилкованья,
Впечатанной в прозрачное крыло
Стрекозки...
Переимчива душа:
Прозрачность мира ей передается –
И в сердце сохраняется навек.
3. Туманность Ориона
Туманность Ориона самородком
Горит на черном бархате ночном,
Лучась живыми токами...
Они
Пронизывают нашу биосферу,
С собою информацию неся
Для кодов генетических:
Сегодня
Возникнет на планете новый вид,
Мутируя в космических лучах,
Направленных далеким Орионом.
Как будто светомузыка в пространстве
Сейчас звучит! –
Цветные облака
Клубятся в бездне, спектрами играя, –
И стройный Орион стоит за пультом,
И все созвездья слушают его
С дыханьем затаенным...
Бетельгейзе
Бросает на пюпитр свой желтый свет,
Мерцает красный Ригель...
Вдохновенно
Горит в ночи прекрасная туманность,
Пронизывая мертвые планеты
Лучами жизни...
Вещий Орион!
Ты колыбелью был для нашей Геи,
С тобой не потерявшей и доселе
Живительную лучевую связь.
4. Небо
Мы плохо понимаем облака,
Но чутко прозревает живописец
Неведомую форму жизни в них.
Глядите:
Вот непонятое небо,
Где процветает дивное искусство,
Где грезят и мечтают...
Рядом, рядом
Сквозят иные планы бытия,
Иные уровни, –
Не сто парсеков,
А полверсты меж нами...
Возле нас
Ты процветаешь, возносясь над нами,
Великая культура облаков!
Люблю твои фантазии...
Все стили
Предвосхитило ты в воздушных замках!
Вон облачное пышное барокко,
Вон облачная готика, –
Как шпили,
Взмывают золотые облака,
Наполненные силой духоносной,
Духоподъемной:
Мысль взлетает вверх!
Вот облако-медуза.
Недалече
В лазурь ныряет облако-дельфин,
А рядом лебедь-облако на север
Проносится...
О, фауна небес!
О, чудное разнообразье видов,
Способных превращаться на глазах
Друг в друга...
Здравствуй, облако-посланник!
Ты погостишь сегодня в нашем небе! –
А завтра снова в космос уплывешь,
Переносясь в туманность Андромеды,
На родину...
О, космос облаков!
5. Память
Художник пишет память этих мест,
Накладывая план воспоминаний
На план реальности! –
И сквозь осинник
Угадываешь силуэты башен
И световые абрисы домов:
Здесь прежде город был –
давным-давно;
Быть может, целое тысячелетье
Тому назад...
Но образы его,
Похожие на эйдосы Платона,
Невидимо наполнили пространство,
Где ныне лес растет, гнездятся дятлы,
Венерин башмачок цветет...
В природе
Забвенья окончательного нет:
Ушло явленье, но прозрачный слепок
Оставило в пространстве навсегда.
Есть у искусства некий проявитель:
В него художник погрузил пейзаж,
Чтоб проступили образы былого
Сквозь настоящее...
Пласт за пластом
И слой за слоем открывает мастер,
Высвечивая дальние века,
Заглядывая в душу Атлантиды.
Мы в Памяти живем –
внутри нее:
Со всех сторон нас окружает Память,
Как некая незримая среда.
Культура – это Память.
Гиблый хаос
Беспамятство с собой приносит...
«Помни!» –
Я повторяю Рериха завет.
6. Синестезия
Художник пишет звуки –
тишина
Ему как фон.
Вот это полотно
Звучит в сознанье щелканьем синичьим:
Здесь нарисован первозданный март,
Весь исходящий светом...
Бирюзовый,
Звенящий космос! –
и синица в нем
Как звуковое средоточье мира,
Как изумленный голос бытия.
(Синицы нет,
А все-таки звучит
За плоскостью холста:
и это чудо! –
Как может петь по-птичьи полотно?)
А вот виолончельные напевы
Приладожских таинственных холмов! –
Как будто здесь не кистью, а смычком
Художник водит,
Извлекая звуки
Из дивного рельефа этих мест.
А Вильнюс на картине –
как орган,
Огромный и звучащий! –
Прямо к звездам
Возносится хорал архитектуры,
В которой строгость вечности самой
И высшая духовность...
За органом
Сидит художник,
Превративший город
В прекрасный музыкальный инструмент!
И ночь аккомпанирует ему.
Художник пишет звуки:
месяц май
Играет на пастушеской свирели,
Сентябрь на золотой трубе.
И часто
Звучит с его возвышенных полотен
Гармония пифагорейских сфер.
7. Сумерки
Вот – мастер сумерек:
умеет передать
Утонченность и духоносность крон,
Наполненных вечерним синим светом.
Как будто он с подрамником своим
Стоит внутри огромного сапфира
И дивно ограняет изнутри
Лазурный воздух:
в призрачные грани
Вошла увеличительная сила,
Приблизив к сердцу сущность бытия.
О, сумерки-посредники!
Они,
Связуя ирреальное с реальным,
Стоят в березах:
Сказка или явь?
Да будет безответен мой вопрос,
Да вечно длится синее мгновенье!
Сквозь сумерки я всматриваюсь в память,
Гляжу в себя, –
И как-то примиренней
Воспринимаю скорый бег времен,
Лишь в сумерках чуть медлящий, –
как будто
Застыло время,
Чтобы оглянуться
И погрустить немного на пути.
Люблю тишайшую печаль вселенной.
Люблю лиризм вечернего сиянья.
Люблю темнеющий лазурный свет.
Уже на дне пространства мирового
Жемчужиной мерцает Процион,
А сумерки в душе звенят, звенят,
Как самая хрустальная струна
Небесной Лиры.
Все звенят – не молкнут,
Хотя вокруг ночная темнота.
8. Осень
Художник любит осень.
Потому ль,
Что чистое сквозящее пространство
Таит в себе оптические свойства,
Благодаря которым может взгляд
Охватывать весь космос целокупно
И видеть глубину его души...
Относится художник к сентябрю
Как к личности:
Сентябрь очеловечен –
Он мыслит,
он страдает,
он поет!
Вникаю в философскую систему
Сквозящих рощ:
О, золотая мудрость!
Любая мысль, любое настроенье
Способны нас безудержно увлечь
И вдохновить...
Люблю печаль берез
И очерк их уже пустынных крон,
Как аурой прозрачно окруженных.
Здесь явлена душа деревьев взгляду,
Здесь понят мир как свет и красота.
9. Окна
Картина –
как морозное окно,
Но на планете около Арктура:
Светла инопланетная зима,
Где тоже дети, тоже чародейство
Снегурочки
(хотя другой состав
У белого,
У неземного снега).
По мановенью мастера мазки
Мельчайшими кристалликами лягут,
А полотно прозрачность обретет:
И вот парят узоры невесомо
Как на невидимом стекле,
– не сказка ль
В далекой ноосфере процвела?
Картины – окна:
вижу дальний мир;
Родные нивы;
Звездное пространство.
Одно окно открыто в снегопад,
Другое смотрит на ночной Египет,
А третье пристально застеклено
Прозрачностью осенней...
А сейчас
Гляжу в иллюминатор звездолета:
О, валуны на спутниках Сатурна! –
Как будто заколдованные лики
Из этих глыб потерянно глядят,
Жалея о былом:
За прегрешенья
Им надо эволюцию пройти
От самого начала,
От нуля:
Сочувствую я этой неудаче
И не сдаю духовной высоты!
Картины –
окуляры волшебства:
К ним припадая, вижу я воочью,
Как расцветают новые миры.
10. Кормчие звезды
Художник знает:
Небо – это текст,
Досель не расшифрованный...
Созвездья
В узорах информацию несут
О смысле мира.
Как его постичь,
Как до глубин таинственных добраться?
Созвездья не случайны:
вот художник
Очерчивает профиль Ориона,
Ему трехмерность дивную придав
Своим искусством...
Звездные Весы
Отрегулирует художник точный,
Чтоб убедиться:
Красота весомей,
Чем страх и зло!
Вселенная есть космос,
А не бессвязный хаос! –
это знанье
Мы получаем от прекрасных звезд,
Сигналящих всем биосферам мира:
«Вас ждет Контакт!»
Чудесная картина
На зеркало рефрактора похожа,
В чьей глубине дрожит звезда двойная
И цветовую сеть интерференции
Из лучевой материи плетет.
О кормчих звездах думает художник,
Вмонтировав в любое полотно
Незримый компас, –
Проведет он сердце
По сложным лабиринтам бытия
И непременно выведет на свет
Гармонии и истины...
Художник
Передает всю душу Волопаса,
Живописуя чуткое созвездье,
Стоящее в ночном окне, –
и небо
Нам предстает как средоточье жизни
И высших напряжений бытия.
Борис Алексеевич СМИРНОВ-РУСЕЦКИЙ
Монографический очерк
1. ПОРА НАЧИНАНИЙ
Б. А. Смирнов-Русецкий – художник лирического склада. Его картинам свойственна стилистическая прозрачность; они покоряют своей тонкостью, одухотворенностью. Б. А. Смирнов-Русецкий пейзажист по преимуществу. Но его волнуют и космические образы, и символические темы. Однако пейзажное начало преобладает и в работах этого ряда.
Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий родился в 1905 г. Он вырос в интеллигентной петербургской семье, где поддерживались духовные интересы мальчика. Гармония родного Петербурга исподволь повлияла на становление стиля художника, – впечатления от кристаллической ясности городских перспектив, от поэзии белой ночи отложились в цикле «Прозрачность». Начатый еще в юношеские годы, этот цикл пополнялся им до последних дней жизни. Он является главным деянием мастера.
В 1917 г. семья художника переехала в Москву. Совсем еще юный, Б. А. Смирнов-Русецкий быстро утверждается в своих эстетических симпатиях, – это М. Врубель и Н. Рерих. Наметившаяся еще тогда духовная связь с Рерихом во многом предопределила и жизненные пути, и художнические искания Б. А. Смирнова-Русецкого. Углублению этой связи содействовало общение с дядей художника А. П. Ивановым. Это был крупный знаток творчества Рериха. Работая хранителем отдела современного искусства в Русском музее, он охотно знакомил Смирнова-Русецкого с художниками «Мира искусства» и «Бубнового валета», с новейшими направлениями. Но особенно часто он задерживал внимание племянника на работах Рериха.
Первые серьезные занятия живописью у Б. А. Смирнова-Русецкого относятся к 1919 г. Талант будущего мастера раскрывался в сложнейшем контексте художественной жизни конца десятых – начала двадцатых годов. Перекрестные влияния очень естественны в пору ученичества. Однако художник рано нашел себя. В семнадцать-двадцать лет он создавал работы, отмеченные самобытностью и мастерством. Периода прямой подражательности у него практически не было. Но в ряде ранних работ чувствуется очень творческий и вдумчивый отклик на стилевые поиски крупных мастеров того времени. Пора начинаний у Б. А. Смирнова-Русецкого была очень интересной. Развиваясь быстро и динамично, художник уже в ранней юности четко осознал свои творческие задачи, заложил основы своего неповторимого письма. При этой кристаллизации стиля были отброшены некоторые замечательные пробы, свидетельствующие о том, что развитие художника могло идти и в других стилевых направлениях. Это удивительная, даже уникальная особенность: ранний Б. А. Смирнов-Русецкий весьма многогранен. И это отнюдь не признак эклектической неопределенности, – каждая серия проб несла в себе задатки цельного стиля. Художнику пришлось делать выбор не между внешними влияниями, а между теми изобразительными концепциями, к которым он пришел внутренне, в результате самостоятельного поиска. Иногда эти стилевые концепции могут быть ассоциированы с ведущими для того времени школами и направлениями. Но и в этом случае они свободны от прямых заимствований и реминисценций.
Выделим несколько ранних циклов Б. А. Смирнова-Русецкого, чьи богатейшие стилевые потенциалы он предпочел оставить нераскрытыми, сделав выбор в пользу лирико-философского пейзажа. Названия циклов условные, – они даны по характерному признаку или главной работе цикла.
Геометрический цикл. Молодой Б. А. Смирнов-Русецкий проявлял определенный, хотя и сдержанный интерес к супрематизму. Однако опыты художника с геометрией пространства имели несколько иную духовно-идейную направленность. Внимание к формальному моменту у него никогда не было самодовлеющим. Мир автономных форм является одноуровневым в том смысле, что располагается на плоскости чисто структурных задач, не поднимаясь к высотам духовной проблематики. А художника больше влекли многоуровневые модели бытия. Этот момент принципиален для его творчества. Форма ему тем и интересна, что в ней просвечивает иной план, иной уровень – семантический, содержательный. Через язык форм мы постигаем сущностные гармонии бытия. Можно сказать, что у Б. А. Смирнова-Русецкого любая форма – природная или отвлеченная – всегда имеет отношение к семиотике: является знаком, символом.
В этом отношении весьма характерна работа «Устремление» (1924 г.). Формально она может быть сопоставлена с геометризмом школы К. Малевича. Для такого сравнения хорошо подошла бы «Архитектоническая композиция» Л. Поповой (1918 г.). Обе работы построены на динамическом взаимодействии плоскостей. Но решают художники разные задачи: Л. Попова – чисто конструктивную, Б. Смирнов-Русецкий – скорее философскую. Геометрические образы в его картине рождаются как бы из света. Свет для них является своего рода маточным раствором. Проявляющиеся формы вносят прерывность и определенность в доселе однородное бытие. Однако первичный световой континуум не только выделяет из себя формы, но и развоплощает их в своем лоне, в своей всерастворяющей стихии.
Оба эти момента – рождение и поглощение – выражены в картине. Но преобладает все же воля формы к проявлению, самоосуществлению! Картина полна глубоких значений. В ней очень органично и естественно, без всякого намека на литературщину, выразились философские поиски автора. Картины геометрического цикла крайне своеобразно преломили и увлечение Б. А. Смирнова-Русецкого индийской философией, и его интерес к пифагорейско-платоновской традиции. Для обеих философских школ характерно учение о многоуровневости бытия, – причем особое значение уделяется взаимосвязи, взаимопросвечиванию уровней. Б. А. Смирнов-Русецкий стремится художническими средствами выразить это взаимопросвечивание. Полностью эта тенденция развернется в цикле «Прозрачность». Но и в геометрической серии она весьма ощутима.
Вот работа «Трансцендентные перспективы» (1923 г.). Мы видим своеобразную цепную структуру, уводящую взгляд в некое запредельное пространство. Это как бы динамическая связка между разными планами бытия. Многоуровневость мира здесь трактована как геометрическая многомерность. Картина пробуждает чувство глубины, дали. Причем эта глубина задается не монотонной перспективой, а дискретным рядом образов, создающих ощущение многослойности, многоярусности.
Геометризм раннего Б. А. Смирнова-Русецкого философичен. Он окрашен в пифагорейские тона, что не свойственно чистому конструктивизму. Для пифагорейца число есть нечто живое, одухотворенное, – это душа предмета, а не только его абстрактно-рациональная характеристика. Геометрический цикл мастера свободен от крайностей рационализма. Многие вещи этого цикла звучат тепло, лирично. И главное: они всегда несут определенную духовную нагрузку.
Музыкальный цикл. Под этим названием мы объединяем работы, написанные под воздействием конкретного музыкального впечатления, – а также подчеркнуто музыкальные по своему построению композиции, близкие традициям М. К. Чюрлениса. Музыка занимает огромное место в духовной жизни Б. А. Смирнова-Русецкого. Он пытается художнически перенять свойственные ей свободу воображения и многозначность образа. В предметном изобразительном искусстве эти качества проявляются более скованно. Но художник вслед за Чюрленисом стремился привнести в живопись пластику музыкального языка Особенно это удалось ему в «Желтых растениях» (1923 г.). Картина ассоциируется с образами музыкального импрессионизма. Как и в музыке Дебюсси, конкретное впечатление здесь причудливо преломляется, обращаясь в фантазию. Образам земной осени художник придает едва ли не инопланетные черты. Это осень в другом измерении, – осень иных планов бытия. Они приоткрылись нам благодаря музыкальному воплощению осенних реалий. В зеркале музыки мир становится неизъяснимо глубоким, – плотное и непроницаемое в нем вдруг начинает просвечивать как янтарь. Такое зеркало художник перенес в свою картину.
«Лунная соната» (1923 г.) очень самобытно развивает опыт живописных сонат Чюрлениса. Б. А. Смирнов-Русецкий идет несколько отличным от него путем: он ищет музыкальную экспрессию в формах и состояниях природы, – тогда как Чюрленис широко использует в своих сонатах абстрактные образы. Впечатления от музыки Бетховена художник передает через ночные пейзажи. В трех частях сонаты лунный свет модулирован очень по-разному. Художник ему придает то чарующе мягкое, гипнотизирующее, – то контрастное, отрывисто резкое звучание. «Лунная соната» Б. А. Смирнова-Русецкого выявляет светомузыкальные ресурсы природы: смена состояний пейзажа передает здесь динамику в развитии темы. Идея многоплановости бытия раскрывается в этом произведении очень своеобразно: за планом вещным проступает план звуковой. Предметные реалии несут в себе нераскрытый музыкальный потенциал. Это убеждение Б. А. Смирнов-Русецкий пронес через всю свою творческую жизнь. Музыка растворена в его пейзажах. Она организует и движение линий, и гармонию красок. Она задает и глубинную семантику картины. Художник хочет сказать о первичности музыкального начала. Как Пифагор и Кеплер, он слышит гармонию сфер. Прежде всего музыкальная первооснова мира раскрывается через ритм пейзажа. Никто из пейзажистов не обращал такого внимания на этот аспект гармонии. Художник мастерски выявляет ритмический строй ландшафта. В некоторых ранних работах эта ритмическая канва становится самодовлеющей, – и тогда внутренний музыкальный напор вещи подчиняет себе всё: цвет, объем, фактуру. Они поглощаются ритмом, работают на ритм.
Театральный цикл. Под этим названием мы объединили работы, в которых ощутимы впечатления от мира сцены. Прежде всего это «Ангелы» (1923 г.) и «Образ Индии» (1923 г.). Художник любит кулисное построение пространства. Структура сцены как бы моделирует многоплановость бытия. А это для мировоззрения Б. А. Смирнова-Русецкого главное. Театр он полюбил с ранних лет. Это всегда волнует: раздвигаются кулисы – и нам предстает иная реальность. Как бы ни сближалась она внешне с привычным миром, в ней всегда будет нечто волшебное, фантастическое. Ведь это театр, вторая вселенная!
В «Ангелах» и «Образе Индии» использован эффект раздвигающихся кулис. Вот они разошлись – и открылось небывалое. А что если весь мир подобен сомкнутым кулисам? И надо в смелом наитье попытаться их развести? В этих вопросах, по сути дела, сформулирована программа романтизма. Она близка Б. А. Смирнову-Русецкому. Художник устремляется к скрытому, потаенному. Мир для него многозначен – и не все смыслы лежат на поверхности. Их надо искать, высвечивать. Раздвинув одни кулисы, мы часто видим другие. Плоскостное, двумерное неожиданно разверзается глубокой перспективой! Слой за слоем, кулисы за кулисами. Эти слои художник делает прозористыми, проницаемыми для взгляда. На этом строится поэтика цикла «Прозрачность». Она опосредованно связана с традициями театрального художничества. Художники сцены часто используют для декораций сетки, – это создает иллюзию сквожения, взаимопросвечивания предметных реалий. Не повлияла ли на Б. А. Смирнова-Русецкого эта замечательная техника? В пейзажах мастера мы иногда ощущаем таинственность сценического пространства. Сейчас вспыхнет свет за прозрачным задником горизонта – и начнется космическая мистерия красок, звуков, образов.
«Ангелы» и «Образ Индии» содержат еще одну деталь, связанную с миром сцены: мы видим здесь восходящие вверх складчатые структуры, похожие на оборки подымающегося занавеса. Пространство на этих картинах раздвигается по всем координатам. Эффект такого раздвижения художник широко использует в своих пейзажных работах.
Египетский цикл. Как и другие циклы, он представлен весьма немногими охранившимися работами, – однако они очень важны для понимания эстетики Б. А. Смирнова-Русецкого. В своей периодизации художественной жизни человечества Гегель связывал искусство Древнего Египта с символической стадией. Б. А. Смирнов-Русецкий питал особый интерес к этой фазе в развитии человеческого духа. Символический образ двуслоен, двупланов, – в нем опять-таки есть глубина и перспектива, гак увлекающие художника. Внешнее бытие символической формы не совпадает с ее глубинной внутренней жизнью. Это несовпадение часто культивируется сознательно – художник как бы зашифровывает свой замысел. Для его понимания необходим ключ. Говоря "на языке мистерий, мы должны пройти посвящение, только тогда нам откроется заповедное.
В искусстве египтян много своеобразной тайнописи. Это волновало Б. А. Смирнова-Русецкого. Его поэтически ориентированное сознание было склонно видеть в мире нечто закодированное, ушедшее в подтекст. Пейзажи у художника словно несут в себе какую-то тайну. Стихия прозрачности лишь усиливает ее, ибо делает очевидным, что эта тайна находится вне чувственного плана. Она незрима, она несказанна. Это – душа пейзажа, это – сокровенное в нем.
Египетское искусство любит акцентировать такие скрытые, подчас эзотерические смыслы. Эту его особенность передает «Виденье» Б. А. Смирнова-Русецкого (1927 г.). Пирамида здесь трактована как хранительница тайны. Чудесное клубится над ней заряженным облаком, – наэлектризованность атмосферы тонко передается мастером. Что за фигура метнулась из облака? Это на мгновенье проявился заповедный план бытия. Проявлять скрытое – призвание пирамиды. Она сама есть символ. Художник попытался одновременно воплотить и внешний, и внутренний план пирамиды. «Виденье» передает мировосприятие египтян, их склонность видеть в явленьях двойной смысл – экзотерический и эзотерический. Взаимопросвечивание этих смыслов придает картине особую значительность, таинственность.
Б. А. Смирнову-Русецкому дорого искусство эпохи Эхнатона. Реминисценции солярных образов Тель-Амарны явственно ощутимы в картине «Поэма солнца. День» (1976 г; первый вариант создан вначале двадцатых годов). Картина несет в себе элементы тонкой стилизации. Искривленные потоки солнечных лучей образуют фантастическую арку. В торжественном молчании она возносится над прозрачными островками зимних березняков. Картина органически сочетает символическое и реальное. Оба момента гармонически уравновешены. В египетское искусство такая гармония пришла вместе с реформой Эхнатона.
Семиотический цикл. Б. А. Смирнова-Русецкого всегда волновала поэзия неразгаданных письмен. Древние знаки ушедших культур окружены ореолом таинственности. Они кажутся насыщенными некоей магической энергией. В свои ранние живописно-музыкальные композиции Б. А. Смирнов-Русецкий иногда вводит своеобразные знаковые структуры. Обычно их конфигурация полна внутренней жизнью, динамикой. Они несоотносимы с алфавитами известных цивилизаций. Быть может, эти знаки несут в себе информацию других миров? Или это попытки понять изнутри глубинную жизнь символа?
Изображения знаков в картинах Б. А. Смирнова-Русецкого создают напряженные смысловые поля. Древние верили в потаенную власть знаков, – магическое начертание способно воздействовать на вещный мир. Не эту ли силовую эманацию знаков передают ранние опыты художника? Он помогает нам понять тайное тайных в магическом мировоззрении. А это очень ценно в культурном отношении – ведь искусство в своем генезисе связано с магией. Мы должны пытаться вникнуть в мышление наших пращуров. И Б. А. Смирнов-Русецкий содействует этому.
Стилистически все проанализированные нами циклы весьма разнородны. Каждый из них мог бы дать начало целому периоду в деятельности художника – или даже предопределить всю его творческую судьбу. Однако такую роль было суждено сыграть циклу «Прозрачность». Первые входящие в него работы были сделаны одновременно с вещами из других циклов. Художник напряженно искал адекватные стилевые методы для выражения своего мировоззрения. Подчеркнем еще раз, что главное в художнической философии Б. А. Смирнова-Русецкого – это ощущение многозначности и многоплановости бытия, стремление разгадать внутреннюю тайну формы, высветить содержащуюся в ней смысловую перспективу. В каждом из проанализированных нами циклов мы обращали внимание на эту важнейшую особенность творчества Б. А. Смирнова-Русецкого. В своих наитьях он видел мир необыкновенно прозрачным и глубоким. Стеклянно просвечивающие осенние леса уводили его взгляд в беспредельность. Художник научился делать форму проницаемой для интуиции. Такое виденье мира запечатлелось в цикле «Прозрачность», создававшемся на протяжении более семидесяти лет.
2. «ПРОЗРАЧНОСТЬ»
Б. А. Смирнов-Русецкий в своей автобиографии «Идущий» вспоминает о зиме 1922 года: «Зима была сухая, морозная. Я очень любил ледяные узоры на окнах трамвая, сквозь которые виделся призрачный город». Эти впечатления – один из источников цикла «Прозрачность». Художник любит наложение двух планов: окна в сквозящей росписи инея – и за ними ирреальный зимний пейзаж; сетево голых ветвей – и в нем нимбы фонарного света; кисея млечных туманностей – и сквозь нее синева беспредельности.
Изображение прозрачных сред и сквозящих планов является интересной задачей для живописи. Художник достигает высшей изощренности в передаче наслаивающихся друг на друга осенних крон. Картина превращается в удивительную оптическую систему. Каждый план в ней подобен линзе, – выстраиваясь в одну перспективу, эти планы-линзы сообщают картине какую-то волшебную увеличительную силу. Полотно вмещает в себя не одну, а много далей, – они зовут, притягивают. Есть особая щемящая красота в этих взаимопрозрачных пространствах; есть большая лирическая сила, – в чем-то творчество Б. А. Смирнова-Русецкого созвучно и Тютчеву, и Блоку.
Прозрачность является для Б. А. Смирнова-Русецкого эстетической категорией. С ней художник связывает представления о чистоте, духовности, просветленности. Без этих начал он не мыслит себе искусства. Неоплатоники учили о единстве света и красоты. Б. А. Смирнову-Русецкому это очень близко. Свет у него не только выявляет внешнюю форму предмета – он пронизает ее насквозь, делает прозрачной для взгляда.
Это особый свет. Не все его частоты мы найдем в электромагнитном спектре, – картины художника несут в себе и свет физический, и свет несказанный. Оба аспекта неотделимы друг от друга. Они словно взаимодействуют в картинах мастера, порождая своеобразную интерференцию. Но что такое свет несказанный для художника?
Это образное понятие несет в себе огромную смысловую нагрузку. Почему мы говорим о светлом сердце, о светлых людях, о светлых мечтах? Физический свет здесь используется как аналогия для обозначения иного, духовного света. Называют его светом невидимым, светом нереченным. Искусство издревле пытается передать этот свет визуальными средствами. Делается это опять-таки по аналогии с физическим светом. Но достаточно посмотреть на икону или средневековую миниатюру, чтобы понять: освещение здесь особое – свет идет как бы из глубины предметов. А часто его источник нельзя установить – он словно трансцендентен по отношению к изображаемому.
Б. А. Смирнов-Русецкий тонко чувствует гармонию физического света. Как художник-пейзажист, он мастерски передает сложнейшие эффекты освещения, наблюдаемые им в природе. Но художник умеет бросить на природные формы и свет несказанный! В этом ключ к его самобытности. Картины художника изображают не только состояние природы, но и состояние просветленной человеческой души. Пространство внешнее, физическое и пространство внутреннее, духовное как бы совмещаются в картинах мастера. Дабы такое совмещение было органичным, два пространства должны стать взаимопроницаемыми друг для друга. Этого и добивается художник, высветляя природный мир, делая его прозрачным. Проникающая способность спета несказанного – света творческого озаренья! – настолько огромна, что мир преображается. Таким мы видим мир на картинах Б. А. Смирнова-Русецкого.
В 1922 г. художник вошел в состав группы «Амаравелла», возглавляемой П. П. Фатеевым. Один из тезисов программы группы гласит: «Наше творчество, интуитивное по преимуществу, направлено на раскрытие различных аспектов космоса». Декларируя интуитивный характер своего творчества, члены «Амаравеллы» явно полемизируют с эстетикой аналитического и рационалистического искусства.
Роль интуиции в творчестве Б. А. Смирнова-Русецкого особенно велика. Наитье, прозренье, просветленье – это все понятия одного ряда. Важнейшей чертой интуитивного познания является снятие границ между объектом и субъектом: «я» и мир сливаются в одно нерасторжимое целое, познающий отождествляется с познаваемым – будь то дерево, звезда, птица. Это мы и видим в цикле «Прозрачность». Здесь нет средостений между внешним и внутренним миром. Стихия прозрачности роднит природу и душу. Одно становится другим; одно выражает себя через другое, – такая взаимопревращаемость явлений составляет основу интуитивного творчества. В рамках рационалистического подхода эти явления считаются традиционно противоположными, даже полярными. «Я» и мир, внутреннее и внешнее, сознание и природа – это все тезы и антитезы, жестко отграниченные друг от друга. Но для интуиции нет непроницаемых водоразделов! Она снимает все межи и порубежья, утверждая высшее единство бытия. Рассудок знает лишь полярность противоположностей – тогда как для интуиции внятна их сокровенная гармония. Рассудок видит противоположности резко разделенными – тогда как интуиция познает их во взаимопроницании, взаимопросвечивании.
Гармония... Вот еще один важнейший аспект прозрачности. Картины Б. А. Смирнова-Русецкого воспевают сокровенную гармонию бытия. И раскрывается эта гармония через прозрачность, вносящую в природу лад и открытость. Это источник умиротворенности и просветленности пейзажей Б. А. Смирнова-Русецкого. Природа здесь словно застигнута в миг высшего озарения. Она размышляет о чем-то сущностном, заповедном. Все преходящее уже изжито, отринуто. Волны чистоты и прозрачности идут через леса, звезды. Мир просматривается насквозь – до своих первосущих глубин. Он торжественен как музыка Баха. В нем не осталось ни одного темного уголка – все заполнилось светом несказанным. Мир открывается сердцу. Мир поет, лучится.
Для выражения своей концепции прозрачности Б. А. Смирнов-Русецкий разработал сложную технику. Многое он взял у природы. Художник пристально изучал утренние туманы, – ему было интересно проследить, как за их переменчивой кисеей смотрятся золотые рощи или зеркала озер. Он наклонялся над лесными родниками, – в их бурлящей, бугрящейся прозрачности рождались мгновенные линзы, за которыми укрупненно виделось роение донных песчинок. Он вглядывался в слюдяные крылья стрекоз, – и они становились оптическим прибором, приближающим к сердцу эти тростники, эти утиные выводки. Он смотрел на мир сквозь кружево росной паутины, – и они ложились визирной сеткой на синеющую даль, на тонкий-тонкий просвечивающий месяц.
Прозрачность соприсуща природе. Не случайно две важнейших для жизни среды – водная и воздушная – являются прозрачными, проницаемыми для света. Художник особенно любит эти среды. Он тонко чувствует жизнь воды, воздуха. Прозрачность у него имеет различные градации. Как и обычные цвета, она бывает то более, то менее интенсивной, – ее можно сгущать и разрежать; ее разные виды можно смешивать на палитре.
Как ученый-физик, Б. А. Смирнов-Русецкий много работал с кристаллами. Изучение их прозрачных форм также сказалось на технике художника. Прозрачный космос кристалла пленил его своим совершенством. Мир на картинах цикла «Прозрачность» иногда кажется кристаллизованным. Правда, присущая кристаллам геометричность здесь смягчена, стушевана, – но тем не менее хрустальная огранка проступает и в созвездьях, и в деревьях.
Художник любит не только беспримесную, но и окрашенную прозрачность. Коричневая вода мочажин, настоянная на лиственной опали; лазурная глубина сапфира, словно наполненного небесной субстанцией; прозрачные перистые облака, сквозь которые феерия заката становится еще прекраснее; таинственное пространство января, – художник любит изучать его с лупой, уходя в фантастические измерения. Все эти явления природы дают возможность одновременно наслаждаться и прозрачностью, и цветом.
Художнику пришлось работать вместе с П. К. Ощепковым, создателем интроскопии. Методы Ощепкова позволяют делать прозрачным любой предмет, – используемые им излучения проницают толщи, недоступные для рентгеновских волн. Конечно, художническая интроскопия Б. А. Смирнова-Русецкого не имеет ничего общего с этими методами. Но все-таки факт его сотрудничества с П. К. Ощепковым представляется нам значительным для творческой биографии художника. В последнее время много говорят о взаимодействии науки и искусства. Одна из их общих целей такова: сделать мир прозрачным для познания.
Первые работы цикла «Прозрачность» связаны с разработкой зимней темы. Ясность русских зим; звонкая стеклянность воздуха; гармоническая плавность сугробов. Все это находило особый отклик в душе художника. «Зимняя сказка» (1922 г.) отмечена чертами графичности. Это отвечает характеру изображаемого: перед нами сквозящие зимние деревья. Снег на их ветвях – как световая ретушь. Узорная и ритмичная сетка ветвленья, занимающая весь передний край картины, словно наведена на предельную резкость. Однако при движении вглубь картины эта резкость как бы сбивается, – мы видим лилово-грифельные оплавленные силуэты; над ними клубятся невесомые серые массы, – быть может, это своеобразно стилизованный дым, поднимающийся из труб. Поражает удивительная легкость воссозданного в картине пейзажа. Художник передал поэзию зимних сумерек, когда мир кажется почти бесплотным, духоносным.
Зимой особенно ощутима пространственность русского пейзажа. Несомненно, что цикл «Прозрачность» мог родиться только в России, – он глубоко национален в своей живописной и поэтической основе. Картина «Снежные дали» (1976 г.) захватывает неисповедимой глубиной. Это гимн русскому простору. Наши дали и необъятны, и лиричны. Они не подавляют своим величием – им присуща особая мягкость. Это обусловлено волнистостью среднерусского рельефа, – Б. А. Смирнов-Русецкий очень смело и обобщенно передал его ритмику. Эти накаты холмов, эти просвечивающие гребни лесов на них... Ландшафт здесь дышит спокойно и ровно. Такое дыханье появляется у человека, когда он думает о вечном, о непреходящем. Картина внушает зрителю этот ритм дыханья, – она отрешает от всего мелкого, случайного, сосредоточивая нашу мысль на главном. Это свойство многих картин Б. А. Смирнова-Русецкого.
Прозрачность – явление сложное: многоликая и разнообразная, она варьирует со сменой времен года, меняет свой тембр, свою тональность. Художник любит раннюю весну. Прозрачность в эту пору становится теплой, одухотворенной. Еще голые кроны деревьев окутываются еле заметной дымкой. Это значит, что к лесу вернулось дыханье! Художник улавливает его – и делает атмосферой своей картины. К числу его больших удач можно отнести «Дыхание весны» (1976 г.). Воздух в этой картине словно парной. Таким он бывает после снеготаянья. Зеркала талой воды в лесу чуть мглистые. Сети крон похожи на карандашный набросок.
Впечатляют в этой картине образы деревьев. Во всем цикле «Прозрачность» они играют очень важную роль. Б. А. Смирнов-Русецкий часто окружает дерево прозрачным опалесцирующим ореолом – как бы заключает его в наитончайшую оболочку из газовой ткани. Это одновременно и декоративный прием художника, и тонкое наблюдение натуралиста. Состояние воздуха в кронах особое. Он пронизан живыми токами, пропитан испареньями, росами. Прозрачность в кронах как бы сгущена – и потому явственно отличается от прозрачности окружающей их атмосферы. Разумеется, это различие усилено в пейзажах Б. А. Смирнова-Русецкого – но оно имеет вполне реальную основу.
Силуэты деревьев кажутся вырезанными из слюды. Это придает картине некоторое сходство с аппликацией – только используется в ней не обычная бумага, а плоские кристаллы мусковита, целлофан, калька. Изображения наслаиваются друг на друга – и постепенно их контуры становятся все более зыбкими, размытыми. Взаимодействие прозрачных и полупрозрачных сред художник изучил досконально.
Б. А. Смирнов-Русецкий тонко передает контрапункт хвойных и лиственных деревьев. Вот и в «Дыхании весны» прозрачное марево березовых крон прорезано темным готическим силуэтом ели. Эта деталь усиливает музыкальное звучание картины. Можно говорить о ее тонко продуманной оркестровке: каждый силуэт, каждая линия ведут свою партию. Лиственные здесь хочется сравнить с группой смычковых; а маленькой ели придано чистое и сильное флейтовое звучание.
В «Дыхании весны» мы видим и другой характерный для Б. А. Смирнова-Русецкого прием: перспективу деревьев он исподволь переводит в перспективу облаков. Этот прием можно назвать пластической рифмой, – художник выявляет ритмическое единство форм, их созвучность. Такие пластические рифмы широко используются в цикле «Прозрачность». Одна из форм часто играет роль камертона, на чье звучание откликаются другие формы. Художник охотно прибегает к линеарным повторам, вариациям. Это опять-таки напоминает ткань музыкального произведения. У художника безупречный слух – в сложной полифонии его ритмов и форм не найдешь ни одного диссонанса.
Б. А. Смирнова-Русецкого можно назвать мастером живописной интонации. Одна из весенних картин цикла – «Рассвет» (1976 г.) – покоряет интонационным единством. Она удивительно доверительна, даже интимна по своему звучанию. Художник живописует музыку утренних сумерек. Где-то под горизонтом начинают бить родники прозрачности. Она наполняет мартовские кроны, похожие на друзы кристаллов. Оживают снега. На розово-желтом фоне зари еще ярко горит Венера. Выше нее светит льдисто-прозрачный тонкий месяц.
Художнику удалось выразить одухотворенность сумерек. В их завораживающем свете мир кажется особенно значительным. Сумерки помогают нам осознать высшие ценности бытия. Это лучший час для медитаций, для углубленного самопознания. Ранней весной сумерки полнятся светлыми предчувствиями. Эти еще неясные томленья, эти еще невнятные наитья! Их можно передать только через интонацию. Это и делает мастер.
Летняя пора для художника неразрывно связана с темой белой ночи. Наиболее полно она разработана в цикле «Север», который написан по карельским впечатлениям. Но впервые белая ночь пленила душу художника еще в годы его петербургского детства. Дань великому городу он отдает в картине «Космический ветер» (1976 г.). Над знакомыми силуэтами вознеслось необыкновенно светлое и углубленное небо. Таким оно бывает лишь в белую ночь. Звезд этой порой почти не видно – но близость космоса весьма ощутима. Он раскрывается сейчас новыми гранями. Это серебристые облака начинают свое волшебное космическое действо. Как непомерно высоки они! Нужно закинуть голову, чтобы увидеть сказку: матовые ленты колышутся, переплетаются. Вот облако-лебедь, вот облако-стрела. Так они непохожи на обычные облака. Чувствуется их сопричастность Млечному Пути, далеким туманностям. Будто на выпуклый экран земного неба они проецируются из дальнего космоса.
В этой картине гармонически соединены городские и космические мотивы. Разные уровни бытия охватываются одним взглядом. Здесь многоуровневость мира дается в своем вертикальном сечении. Для других картин цикла характерно движение вглубь, к горизонту. Мастер последовательно высвечивает слой за слоем. Прозрачность у него имеет как бы пластинчатое строение, – и эта ее тектоника символизирует многоплановость бытия.
Прозрачность – архитектурна. Внутри нее есть силовые линии, есть подобье кристаллической решетки. Мастер не любит аморфности. Даже самые зыбкие, почти совсем растаявшие формы у него едва ли не всегда оконтурены. Б. А. Смирнов-Русецкий практически не применяет технику размыва. Эффект прозрачности и тонкости достигается другими, более структурными способами. Формы у мастера никогда не покидают своих границ. Но зато они становятся взаимопроницаемыми друг для друга.
Пространство для Б. А. Смирнова-Русецкого не отождествимо с пустотой. Этим оно отличается от ньютонова пространства, имеющего свои аналоги и в живописи. Пространство Б. А. Смирнова-Русецкого имеет архитектонику. Можно говорить о его строении, о его динамике. В этом художник близок современным взглядам, – пространство Эйнштейна тоже структурно и динамично.
Пространство в цикле «Прозрачность» многосвязно: его нельзя непрерывным образом стянуть в точку, – в нем много сложных структурных градаций, пересечений. Но это гармоническая, тонко упорядоченная сложность. Вызываемое ею ощущение можно выразить загадочной строчкой из «Спекторского» Б. Пастернака:
Пространство спит, влюбленное в пространство.
Иногда кажется, что в картинах Б. А. Смирнова-Русецкого сопряжено сразу несколько пространств! Они вложены друг в друга, как хрустальные сферы у Пифагора. Но только на поверхность этих сфер нанесен рисунок: сквозящие леса; воздушные замки облаков; растянувшиеся цепью северные острова.
Цикл «Прозрачность» передает ощущение сложности бытия, наличия в нем скрытых планов, уровней. Между ними нет четких границ, – они взаимодействуют, как бы диффузируют. В магических кристаллах этих крон могут просквозить другие измерения. Они – рядом. Художник дает нам возможность ощутить близкое присутствие тайны. В этом магия и очарование цикла «Прозрачность».
3. «ОСЕННИЕ РАЗДУМЬЯ»
Образы осенней прозрачности сложились у мастера в отдельный цикл. Особая любовь к осени типична для русской культуры. Это самая просветленная, самая духоносная пора. Естественно, что она дает исключительно богатый материал для разработки темы «Прозрачности». Цикл «Осенние раздумья» – это поэзия в живописи. Он складывался под двойным воздействием: со стороны русского осеннего пейзажа – и под влиянием русской лирики, посвященной осени. Ее неповторимые интонации Б. А. Смирнов-Русецкий воплощает живописными средствами. Эпитет «прозрачный» является излюбленным в русских стихах на осеннюю тему. Они всегда подчеркнуто музыкальны. Б. А. Смирнову-Русецкому дорог строй стихов Ф. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака. Картины художника хорошо воспринимаются в контрапункте с их осенними стихами.
Б. А. Смирнов-Русецкий психологизирует природу. Осень для него знаменует высшую сосредоточенность духовных сил. Природа в эту пору уходит в себя – и через интроспекцию постигает вечность. Осень мудра, философична. Она потворствует душам, стремящимся к самоуглублению. Этим даром обладают и картины мастера. Есть в них очищающая и просветляющая сила. Потоки несказанного света изливаются из этих картин.
«Лесные силуэты» (1964 г.) свидетельствуют о том, как углубляется прозрачность при лимонно-золотом освещении, – в ней начинают звучать самые высокие и чистые тона; она обретает проникновенный лиризм. В картине два основных плана: первый – прозрачно-золотой, второй – зыбко-фиолетовый. На редкость гармоничное сочетание! В композиции картины есть что-то от сценического пространства. Осенний пейзаж трактован как прекрасная декорация. На ее фоне разворачивается незримая мистерия души.
Картина «У пруда» (1965 г.) романтична по своему замыслу. Силуэты елей напоминают контуры старинного замка. В зеркале пруда повторяются прозрачные кроны берез. Этот повтор является основой композиции. Водные поверхности у художника обычно спокойные, – изображение рябящей или волнующейся воды нетипично для него. И это понятно: зеркальная гладь настраивает на тихое созерцательное раздумье. Художник избегает полной симметрии отражений, – они у него часто срезаны береговой линией. Это разнообразит композицию.
Б. А. Смирнов-Русецкий умеет использовать различные эффекты асимметрии. Гармоническое равновесие композиции в картинах мастера никогда не бывает статичным. Хотя картина «У пруда» воплощает состояние высшего покоя, но в ней нет мертвой неподвижности, она внутренне активна. Художник разделяет мысль К. Г. Паустовского о действенной силе созерцанья. Оно не инертно. Дар созерцанья – творческий дар. В тихом созерцанье душа человека, слившись с природой, наполняется высокими смыслами. Такое наполнение художник передает в картине. Природа здесь словно смотрит в самоё себя, – и отражения подчеркивают это самоуглубление. Но уход в себя оборачивается обретением беспредельности. Смотрите: пространственные перспективы рождаются из глубины духа.
Картина «Тени ветвей» (1972 г.) – как остановленное мгновенье: за окном вспыхнул свет – и на экране затуманенного стекла обозначилось сете во ветвей. Больше ничего не видать: только этот причудливый силуэт. Но как много можно сказать через малое! Рисунок ветвей подлинно драматичен. Перед нами пульсирующий клубок жизни. Ночная душа дерева здесь явлена в своей неожиданной глубине. Сколь сложный характер раскрывается через это ветвленье! Тут и порывистость, тут и смиренье, тут и тревога: линии, абрисы несут разную эмоциональную нагрузку. Но они сочетаются, переплетаются, наслаиваются. Возникает сложнейший узор. Глядя на него, думаешь: это узор самой жизни – ее противоречия и ее гармонии.
Картина «Березки» (1926 г.) является одной из самых лиричных в цикле. У осенних крон особая оптика. В их просвечивающем золоте всё высокое, сокровенное становится ближе к сердцу. Потому ли так тянет глядеть на небо сквозь прореженный березняк? Художнику ведома эта тяга. Золотая осень в его полотнах – как волшебный окуляр: смотреть и смотреть бы через него на стаи пролетных гусей. Прозрачность у березок тающая, ускользающая. Тем дороже черты мира, увиденные через эти кроны. Как хороши они на иссиня-лиловом фоне! И сколько трепета в линии этих белых стволов.
Золотое вещество березовых крон невесомо. Художник хочет сказать: осенью преображаются и дух, и материя. Световое начало в них берет верх над всем грузным, заземленным. За рощей вдруг просквозит нечто небывалое, сказочное. Это будущее просветленное состояние мира? Это сбывшиеся чаяния всех мечтателей и поэтов?
«Осенние раздумья» Б. А. Смирнова-Русецкого пробуждают в душе чувство свободного паренья. Они приподымают, окрыляют. В золотом свете исчезают вес, масса. Духовное начало, уже ничем не стесненное, обретает свободу. Оно первенствует в том счастливом мгновенье, когда несказанный свет пронизает нас. Картины цикла заряжены этим светом.
4. «СЕВЕР»
Влечение Б. А. Смирнова-Русецкого к природе карельского севера возникло в результате изучения жизни и творчества Н. К. Рериха. Еще в молодости у него возникло стремление повторить северные маршруты своего учителя. Особенно Б. А. Смирнова-Русецкого влекла Сортавала (бывший Сердоболь), где прошли два очень важных года жизни Н. К. Рериха (1916-1918). Свою мечту художник смог осуществить только в шестидесятые годы. Природа Приладожья дала новый импульс работе над циклом «Север», который стал складываться в начале тридцатых годов.
Художник хорошо знает природу нашей страны. Он воспел валдайскую равнину; у него есть великолепный коктебельский цикл; ему удаются образы горного Алтая. Но почему же именно северная природа заняла главное место в пейзажах Б. А. Смирнова-Русецкого?
Владимир Соловьев писал о севере:
Эти мшистые громады
Сердце тянут как магнит.
Что от смертного им надо,
Что за тайна здесь лежит?
Магнитная власть севера...
Н. К. Рерих рассказывал молодым московским друзьям в 1926 г.: есть на земном шаре места, где заложены особые духовные магниты. В этих местах легче раскрывается самосознание; они отмечены красотой и гармонией. Быть может, такой магнит сам Рерих оставил в Сердоболе? И Б. А. Смирнов-Русецкий ощутил его притяжение?
Пусть рассказ Рериха является легендой. Но гипнотическое воздействие северной природы бесспорно, – его ощутил на себе каждый, кто бывал в Карелии. Б. А. Смирнов-Русецкий нашел в карельских пейзажах нечто особо близкое, отвечающее самым глубоким потребностям духа. Это очень интересная проблема: соответствие, аналогия между ландшафтом и душой человека. Иногда в пейзаже как бы угадываешь самого себя – словно природа здесь нашла точнейшее образное выражение для твоего внутреннего мира.
Такие ощущения Б. А. Смирнов-Русецкий не раз переживал на севере. Это всегда было как открытие: пейзаж чудодейственно становился зеркалом, в котором отражалась душа художника. Такое узнавание себя в природе является условием ее понимания. Далеко не в каждом крае это возможно. Часто среди изумительной природы мы чувствуем себя случайными гостями. Это не наша природа. В ней нет того зеркала, которое отражало бы нашу сущность, наш внутренний мир. Художники-пейзажисты активно ищут это зеркало. Б. А. Смирнову-Русецкому посчастливилось найти его в Карелии.
Природа севера гармонична. В ней есть классическая полнота самоосуществления. Тут все уже найдено, все отстоялось, – и потому пейзаж дышит на тебя величием совершенства. Это очень точно передают многие работы Б. А. Смирнова-Русецкого. Вертикали в картине «Крутизна» (1977 г.) – песнь духовной высоте севера. В этих скалах есть экстатический порыв, свойственный великим горным вершинам. Их мощь величава и утвердительна. Н. К. Рерих не раз отмечал: скалы Приладожья пробуждают такие же чувства, как Гималаи. Различие масштабов не имеет значения. Идею возвышенного природа Приладожья выразила по-своему – и не менее убедительно, не менее торжественно, чем это сделала гималайская природа. Однако стиль Приладожья сдержаннее, классичней. У Б. А. Смирнова-Русецкого это всегда выявлено, подчеркнуто. В Приладожье сочетаются: величие и мера. Тут нигде нет чрезмерности, безмерности. Природу Приладожья можно сравнить с эпосом – но этот эпос написан стройным стихом. Сочетание в приладожском пейзаже гармонического и возвышенного особенно дорого Б. А. Смирнову-Русецкому.
Природа Приладожья философична. Есть в ней некая глубина, некая обобщенность. Глядя на картины Б. А. Смирнова-Русецкого, иногда думаешь: эта природа посвящена в высшие тайны бытия. Она знает что-то такое, что неведомо человеку. Возникает желание приобщиться к сокровенной истине. Путь к ней – через озарение. Не этот ли миг передает картина «Лучи заката» (1977 г.)? Над приладожскими скалами зажегся космически таинственный закат. Рдяно-фиолетовые гряды облаков; прорезающий их веер широких лучей; золотые скалы. Создается ощущение, что это их сны, их откровения проецируются в небо! Природа раскрывает затаенное. Вот ключ к тайнам космологии; вот память ушедших цивилизаций. Лишь на мгновенье озарилось сокрытое. Но художник успел запечатлеть сказку.
Сказка... Это слово часто встречается в письмах Б. А. Смирнова-Русецкого, в названиях его картин. Природа севера воистину сказочна. Есть в ней что-то колдовское, магическое. В картине «На Ладоге» (1977 г.) острова кажутся парящими как ковры-самолеты! Такое возможно только в сказке. Ее и сочиняет природа: гладь озерного зеркала она сделала невидимой – и острова словно повисли между реальным и отраженным небом. Подобное чудотворчество постоянно происходит в приладожской природе.
Северная природа пространственна. Но ее дали не однообразны: бесконечные кулисы всхолмлений, ритмичные цепи островов, – перед нами структурно организованные перспективы. Природа севера словно идет навстречу любимым приемам Б. А. Смирнова-Русецкого – она наслаивает сквозящие планы друг на друга, уводит их в бесконечность. Здесь нет разрыва между ближним и дальним. Это подчеркнуто в картине «Ветка сосны» (1977 г.). Переход от детали к целому тут осуществлен с поразительной естественностью – ветка сосны словно дирижирует уходящими к горизонту островами.
Север прозрачен. Это свойство порой не теряется и в ненастные дни. Иногда даже наоборот: при пасмурном небе воздух обретает особую прозористость. Это передано в картине «Серый день» (1977 г.). В ее оловянных тонах есть удивительная приподнятость. Знающие север подтвердят: при низком сером небе часто открывается абсолютно прозрачная даль, – и находящиеся у горизонта острова в эти часы кажутся совсем близкими. Каким вдохновеньем полна тогда природа севера! Художнику удалось запечатлеть это вдохновенное состояние пейзажа.
Север молчалив. А культура знает: через молчание постигается самое заповедное. Это сложная категория. Вот ее смысловые оттенки: бессуетность, отрешенность, сосредоточенность. Все это есть в природе севера. Ее молчание полно скрытых значений. Это наполненное молчание. Такой карельская природа предстает в картине «Тишина» (1969 г.). Время здесь остановлено – от пейзажа веет вечным, бессмертным. Кажется, что это высокое белое облако утвердилось в небе навсегда, – и в нем красота ландшафта достигла своего апофеоза.
Гармоничность и сказочность; молчанье и мудрость; пространственность и прозрачность. Все эти черты северной природы даны у Б. А. Смирнова-Русецкого в их живом единстве. Созданный художником образ севера удивительно целостен. В картинах цикла всё пережито, всё понято изнутри. Вживание в натуру здесь было по существу слиянием с ней. А это и есть творческое счастье, творческая удача.
Лес, вода, камень: их триединством определяется облик севера. Каждая из этих трех основных граней севера художнически исследована в этюдах Б. А. Смирнова-Русецкого. Обычно три стихии предстают совместно, – но иногда к каждой из них художник подходит как бы монографически: например, в 1978 г. он создал серию этюдов, посвященных исключительно северному камню. Это очень выразительные работы. Перед нами предстают портреты северных валунов. Да, именно портреты! У каждой из глыб свой характер, своя экспрессия. Иногда это одиночные, иногда групповые портреты. В последнем случае между персонажами намечены сложные отношения. Замечательное одухотворение камня! И главное – поразительно естественное, органичное: после знакомства с этюдами художника удивляешься, почему не замечал раньше эту содержательную жизнь камня.
Поверхность северных камней покрыта своеобразной биоживописью. Это лишайники. Их колера разнообразны, их формы причудливы. Лишайники образуют на камнях интереснейшие композиции. Б. А. Смирнов-Русецкий перенес эти абстрактные фантазии природы в свои этюды. Художник наделил их сложной семантикой. Разве эти кружева пармелий не отзываются в памяти галактическими спиралями?
Поверхность камня становится окном в космос. Этюды включают самые разнообразные ассоциации. Они очень поэтичны.
Ассоциация является ядром метафоры. Б. А. Смирнов-Русецкий – художник-лирик: ему близка поэтическая образность. Замечательным выражением ассоциативно-метафорического мышления художника является цикл «Острова в пространстве».
5. «ОСТРОВА В ПРОСТРАНСТВЕ»
Картины этого цикла очень разнообразны по содержанию. Но структурно они схожи: мы видим уплывающие в беспредельность острова, облака, галактики. Композиционно все картины цикла изоморфны друг другу. Это сознательный прием. Художник хочет показать, как на первичное впечатление начинают накладываться ассоциации: слой за слоем – будто хрустальные планы в цикле «Прозрачность». Такое наслоение ассоциаций – не только игра воображения. Здесь через метафору выявляется сущностное родство явлений.
Островное начало соприсуще Вселенной. Мы все островитяне: наша Земля – остров; наша Галактика – остров. Не является ли мир своеобразной иерархией островов? Именно такую космологию развивает цикл Б. А. Смирнова-Русецкого.
Первичные впечатления для цикла почерпнуты на севере. Художника зачаровали островные перспективы Приладожья. Иногда горизонты на Ладоге кажутся необыкновенно высоко поднятыми, – и тогда создается ощущение, что острова отрываются от озерного зеркала и взмывают ввысь. Далеко-далеко они исподволь переходят в цепи кучевых облаков! Это настоящая метаморфоза, взаимопревращение: можно даже различать переходные формы между островами и облаками.
Приладожье подарило художнику очень выигрышную в композиционном отношении перспективу. Она стала своего рода структурной матрицей для цикла «Острова в пространстве». Ассоциативный переход от островов к облакам подсказывается самой природой. Незабываемо движение кучевых гигантов над приладожским архипелагом! Мы воочию видим: на разных уровнях бытия повторяется островная организация. Это созвучье запечатлено во многих картинах северного цикла. «Острова в пространстве» придают ему силу философского обобщения.
Художник любит облачные острова. Иногда они ему кажутся населенными – в их формах просвечивают фигуры, лики. Где-то на пределе видимости облака словно уходят в открытый космос. Это захватывающее зрелище! Будто земные парусники устремились к звездной реке Эридан.
В картине «Острова мечты» (1976 г.) продолжается метаморфоза темы. Это центральная работа цикла. Мы видим, как расширяется горловина ладожского фиорда, – и пространственная перспектива чудодейственно превращается в духовную даль! Ладожские острова становятся островами цивилизаций. На их скалах вырастает изумительная архитектура. Вот древнерусский белокаменный град. Вот остров готических башен. Вот купола и мечети Востока. Прекрасен этот фантастический архипелаг. Острова мечты невесомо парят в пространстве – возле далекого окоема они превращаются в облака. Картина построена как серия сказочных преобразований. Это философская лирика Б. А. Смирнова-Русецкого. Ее высокое и чистое звучание западает в душу. Просторы «Островов мечты» зовут к благородным целям, к духовным странствиям. Глядя на картину, глубже ощущаешь единство человечества – и красоту как основу этого единства.
Островная перспектива уводит в бесконечность. Новые метаморфозы происходят уже в дальнем космосе, – им посвящены другие картины цикла «Острова в пространстве». Земное претворяется в космическое. Для Б. А. Смирнова-Русецкого это естественный и закономерный переход. Во многих его земных пейзажах угадывается космический контекст. Таково мироощущение художника. Ему близок космизм современного мышления. В работах К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, А. Л. Чижевского выявлена связь нашей планеты с космосом. Художник эмоционально переживает красоту и глубину этой связи. Он пытается воплотить ее в символических по своему звучанию образах.
Волнует картина «Ночь» (1980 г.), одна из лучших в цикле. Острова городских кварталов искрятся точечными огоньками. Они увидены с высоты – как на подлете к аэродрому. Рои городских огней над горизонтом переходят в звездные рои. Чарующая метаморфоза! И светы земные, и светы небесные образуют непрерывную цепь. Макрокосм отражен в микрокосме. Эта античная идея здесь получает ошеломляющее по своей новизне воплощение. Космос воспринимается Б. А. Смирновым-Русецким не отчужденно. Он рядом. Его, напечатления угадываются в земных ритмах, формах, красках. Вот и ночной город отражает в себе космос, становится его моделью, подобием.
В этой работе Б. А. Смирнов-Русецкий проявляет себя как мастер ночного городского пейзажа. Перед нами картина-ноктюрн. В ней захватывающе передана поэзия полночных пространств. Мастер показал космическое окружение города, – это новая для живописи задача. Пробудившееся еще в древности «вселенское чувство» поднимается ныне на новую ступень. Творчество Б. А. Смирнова-Русецкого содействует этой космизации сознания.
На художника большое впечатление произвело творчество И. А. Ефремова. Мечта писателя о великом кольце цивилизаций своеобычно преломилась в картине «Сакральные острова» (1979 г.). Только это кольцо расширено до метагалактического пространства. Млечные острова, окруженные светящимися ореолами, уплывают в даль. Это острова-ноосферы: в них процвел разум. Из звездных туманностей проступают фигуры, – световая ретушь нимбов едва намечает их. Композиция этих фигур вызывает ассоциации с евангелическими сюжетами мирового искусства. Художник хочет сказать о духовном единстве космического человечества. Всюду – свет несказанный, всюду – взаимность любви.
Космический лиризм «Сакральных островов» глубоко впечатляет. Возвращаясь к первоистокам цикла, удивленно думаешь, что в основе этой работы лежат впечатления, полученные на берегах Ладоги. Какое удивительное развитие образа! От картины к картине пространство расширяется с геометрической прогрессией. Но на всех уровнях бытия, охваченных мастером, мы видим цепи островов. С берегов Ладоги его ассоциативная мысль ушла в межгалактический простор. Б. А. Смирнов-Русецкий художнически осмыслил аналогию между разномасштабными явлениями. Островная организация мира трактуется им как проявление единой гармонии. Картины цикла выстраиваются в последовательный ряд, – с каждой картиной не только увеличивается охват бытия, но и расширяется сознание зрителя: его эстетическое чувство объемлет саму Беспредельность.
В 1922 г. произошла встреча Б. А. Смирнова-Русецкого с художником-фантастом П. П. Фатеевым. Фантастическая живопись Фатеева носит философский характер, – моделируя далекие миры, художник в их необычной гармонии находит ответы на глубинные вопросы бытия. Человек широкой эрудиции, П. П. Фатеев приобщил молодого художника к новым духовным источникам – и прежде всего к литературе, связанной с проблемами космического сознания.
Б. А. Смирнов-Русецкий к этому времени уже хорошо изучил творчество М. К. Чюрлениса. Дополнительные импульсы от П. П. Фатеева укрепляли его интерес к космической тематике. Однако художник не встал на стезю живописца-фантаста – его обращение к темам космоса имеет иную направленность. Б. А. Смирнов-Русецкий является одним из зачинателей жанра космического пейзажа. Сама натура в данном случае требует отхода от прямой передачи – живые впечатления должны быть пропущены через призму фантазии. Для творчества Б. А. Смирнова-Русецкого в целом характерно стремление черпать из двух источников одновременно: природы и воображения. Оба начала у него сложно взаимодействуют, образуя органический сплав, синтез. При воплощении космических образов это взаимодействие просто необходимо.
Очень редко художники-живописцы дерзали изобразить звездное небо. Чисто натуралистический подход здесь приводит к мертвой иллюстративности, – картины получаются похожими на таблицы из астрономического атласа. Не зря Ван Гог пошел на смелое дополнение и претворение натуры, – спиральные вихри в его «Звездном небе» выражают внутреннюю динамику космоса. Ван Гог выбрал путь экспрессии – это отвечало его темпераменту. В своих картинах на темы звездного неба Б. А. Смирнов-Русецкий использует другие методы, – они сравнимы с вангоговскими если не по характеру, то по новизне и смелости.
«Космическая геометрия» (1964 г.) захватывает своими глубинами. Звездное небо здесь как бы кристаллизовалось, – слюдяные грани и перемычки означились между звездами. Мирозданье трактовано как прозрачный многогранник. Это – метафора, это – символ. Картина вызывает ассоциации с космосом пифагорейцев. Хрустальные сферы; геометрический порядок; сопричастность вечному. Всё это передано Б. А. Смирновым-Русецким. В отличие от Ван Гога он берет небо не в его космогонической активности, а как образ гармонии. У Ван Гога – движение, изменение; у Смирнова-Русецкого – незыблемость, покой. Оба подхода дополняют друг друга.
В «Космической геометрии» использован опыт цикла «Прозрачность». Кристаллы созвездий волшебно взаимопросвечивают. Космос просматривается насквозь, – и эта прозрачность структурная, ограненная. Конфигурация звезд для Б. А. Смирнова-Русецкого не является случайной. Она осмыслена, она упорядочена. Звездные чертежи несут информацию. Когда-то астрологи пытались найти ключи к ней. Стоит ли их искания считать тщетными? Ведь книга небес полна скрытых значений. Кажущееся нам в природе беспорядочным часто оборачивается высокой и сложной гармонией. Открытие В. А. Амбарцумяном звездных ассоциаций выявило связность в рисунках ночного неба. Это новое для астрономов качество предугадано в картине Б. А. Смирнова-Русецкого.
Первый вариант «Космической геометрии» был создан в 1927 г. Картина демонстрировалась на выставке «Корона Мунди», организованной Н. К. Рерихом в Чикаго в 1928 г. Это одна из пионерских работ в космической живописи. Она создавалась в замечательной духовной атмосфере двадцатых годов. В науке шел процесс интенсивной космизации мышления. В 1926 г. была издана «Биосфера» В. И. Вернадского, где выявляется связь жизни и космоса. Одна за другой выходили брошюры К. Э. Циолковского, развивавшие новый космический взгляд на эволюцию человечества. Под эгидой Н. К. и Е. И. Рерихов вышли первые книги «Живой этики», в которых много говорилось о дальних мирах и расширении сознания. Активно работали Н. А. Морозов, А. Л. Чижевский, А. А. Богданов, Н. Г. Холодный, в чьих трудах зарождался и креп научный космизм. В эти же годы много сделали последователи космической философии Н. Ф. Федорова. В Москве и Петрограде существовали группы поэтов-биокосмистов, для которых космос стал источником высоких вдохновений.
Не приходится говорить о великих сдвигах, произошедших тогда в астрономической науке. Была окончательно установлена внегалактическая природа спиральных туманностей, – шкала космических расстояний выросла в невероятной прогрессии. И самое главное: Эдвин Хаббл открыл наблюдательными методами нестационарность Вселенной.
Вот на каком замечательном историческом фоне работала группа «Амаравелла»; вот в каком духовном контексте создавалась «Космическая геометрия». Эту картину можно по праву считать одним из ярчайших деяний двадцатых годов.
В последние два десятилетия художник особенно часто обращается к космической тематике. Одна из его удач – картина «Беспредельность» (1980 г.). В этой работе удивительно сочетаются величественность и лиризм. Мы видим прозрачный, иссиня-зеленоватый, как бы светающий космос. Только земное ли это небо? На горизонте видны два едва означенных восходящих диска. Быть может, это солнца другого мира. Необычно небо тишайшей планеты. Мы видим на нем большие жемчужные туманности, – увы, в земном небе непосредственному наблюдению доступны лишь куда как более скромные Магеллановы облака и Туманность Андромеды.
Картины многих современных художников-фантастов, посвященные другим мирам, часто бывают крикливо яркими, манерными. Художники хотят нас удивить необычностью изображаемого – но по сути они остаются в плену тривиальных подходов. Простая и лаконичная по своему замыслу «Беспредельность» Б. А. Смирнова-Русецкого разительно отличается от современной живописной фантастики. Ей свойственна высокая и мудрая сдержанность. Мастер понимает: нагромождение образов неуместно, когда речь идет о Беспредельности. В этой картине нет ничего лишнего. Художник раскрывает душу бесконечности. Она добра и прекрасна, она благоволит разуму. Это новые обертоны в эстетическом восприятии бесконечности. Раньше она казалась чем-то отчужденным, даже пугающим, – вспомним известные слова об «ужасе бесконечности».
Но современное мироощущение адаптировано к цространственности космоса. Картина Б. А. Смирнова-Русецкого рассчитана на зрителя с расширенным сознанием. Космос в ней является источником просветленных и нежных чувств. Светлое лирическое вдохновенье полнит эту картину. Необычное сочетание: нежность – и бесконечность. Но в нем заключается вся новизна авторского замысла.
Интересная серия работ Б. А. Смирнова-Русецкого посвящена знаменитым космическим туманностям. Две из них – «Туманность Ориона» и «Туманность Лиры» – являются боковыми частями триптиха, в центральной части которого художник поместил «Беспредельность». Это очень удачное композиционное решение. Туманности воспринимаются как отдельные красочные фрагменты космического целого, – здесь словно укрупняется, телескопически приближается то, что в «Беспредельности» намечено легким световым бисером.
В образах туманностей художник хочет показать красоту и светосилу космических форм. Огромной малиново-рдяной бабочкой распласталась на черном бархате ночи туманность Ориона; многоцветным кольцом повисла в бездонном пространстве туманность Лиры; пером космической птицы кажется легкая и бесплотная туманность Лебедя. Художник-пейзажист поставил свой этюдник перед дальним космосом. Дерзание привело к бесспорным удачам.
В цикле «Космос» художник развивает идею о связи земных и космических планов. Часто эта связь получает ассоциативно-поэтическое осмысление. Б. А. Смирнову-Русецкому удаются своеобразные картины-метафоры, где в одном образном ряду сополагаются разномасштабные явления. Такова серия работ, посвященная одуванчикам. Это земные цветы или космические туманности? Образу сознательно задается двойной смысл. Но это не только игра ассоциаций, а еще и выявление реальных аналогий. Симметрии космоса повторяются в симметриях биосферы. Художник развивает тему макро- и микрокосма на материале ботаники.
В одуванчике Б. А. Смирнов-Русецкий нашел удивительно выигрышную натуру. Их млечные просвечивающие ореолы как нельзя лучше подошли для отработки тонкой техники художника. Мастеру дорог мир растений. Он любит воспринимать его в космических тонах. Лютики на картине художника имеют солнечную светосилу. Как ярко они полыхают среди небесной лазури! Такой космизм в восприятии трав вполне закономерен. Земная флора вторит космическому разнообразию. На русских лугах можно пережить всю полноту общения со Вселенной.
Космические ноты улавливает мастер и в фантазиях зимы. Его «Морозные узоры» (1962 г.) кажутся окном в дальний космос. Синие излучения этой картины создают сказочную атмосферу. Флора каких миров проступила на стеклах? Словно кристаллики земного инея уловили информацию, идущую откуда-нибудь из Весов или Водолея.
Космос и культура, космос и ноосфера: эти связи глубоко волнуют художника. Великие цивилизации прошлого создали немало эстетически значимых моделей Вселенной. Астрономия и поэзия были по существу едиными для древности: небо воспринималось как поэтический текст, насыщенный яркими метафорами. Все названия созвездий метафоричны, – они запечатлели смелость ассоциативного мышления древних. Картина Б. А. Смирнова-Русецкого «Озирис» (1979 г.) дает нам возможность проникнуть в образный строй этого мышления. На фоне светающего неба мы видим силуэты египетских пирамид. Над ними возносится созвездье Ориона. Его очертанья изящны и гармоничны. На звездный абрис наложена легкая световая фигура Озириса. Она прозрачна для ночных излучений.
В «Озирисе» воедино связаны культурные и астрономические образы. Поэтизации этой связи посвящены и другие работы мастера. Особенно впечатляют «Звездный алтарь» и «Кормчие звезды». Космос здесь осмыслен как неотъемлемый фон культуры. Ноосфера развивается в космическом контексте.
7. ОБРАЗЫ НООСФЕРЫ
В картине «Млечный путь» (1977 г.) мы видим белокаменную церковь, изображенную на фоне глубокого вечереющего пространства. Матовой просвечивающей лентой уже означился на небе Млечный Путь; по тихому озерному зеркалу световой струйкой тянется отражение звезды.
Прекрасен закатный свет на северной стене церкви. Изображена весенняя ночь, – на псковских землях заря в эту пору уже не гаснет. В узких окошечках церкви горит огонь. Он не очень яркий – от алтарных свеч. Но мы чувствуем: их ровное и тихое горенье сопричастно высоким светам Млечного Пути.
И сама церковь воспринимается как маяк на великой звездной дороге. Она вторит космосу, отражая в своих пропорциях и ритмах его гармонию, – она космична по своей сути. Храм для наших пращуров был моделью Вселенной. Ставился он всегда на высоком месте – это символизировало его посредническую роль между землей и небом. Картина Б. А. Смирнова-Русецкого раскрывает сокровенное в древнерусской архитектуре. Ее образы дороги художнику. Б. А. Смирновым-Русецким создан замечательный цикл, посвященный памятникам древнего зодчества. Он много работал в Угличе, Ростове Великом, Пскове, Изборске.
Художник умеет передать пластичность русского зодчества. Особенно сильно это качество проявилось в псковской архитектуре. На картинах мастера подчеркнут живой характер ее объемов, симметрии, ритмов. Эти одушевленные, почти органические формы! В них нет мертвой правильности; они дышат теплотой, сердечностью. Псковские церкви кажутся вылепленными, изваянными. Б. А. Смирнов-Русецкий тонко передает их скульптурность. Мастер всегда находит освещение, акцентирующее духовность дивных творений. Это начало выступает в картинах архитектурного цикла на первый план. Мы угадываем незримое сияние, исходящее из белозорного камня. Оно пропитывает краски художника, придает значительность его замыслу. Б. А. Смирнов-Русецкий пишет не только сам храм, но и создаваемое им магнитное поле духовности, чистоты. Эта тайная фосфоресценция – добрый свет ноосферы.
Понятие ноосферы кажется нам очень важным для анализа творчества Б. А. Смирнова-Русецкого. Ноосфера – сфера разума: та светоносная оболочка нашей планеты, что создана мыслью, культурой. Этим понятием В. И. Вернадский и Тейяр де Шарден обозначили весь комплекс духовных явлений: деянья человеческого труда, явления искусства, наша внутренняя жизнь – мысли, чаянья, предчувствия. В понятии ноосферы есть что-то глубоко волнующее, поэтическое. Творчество духа здесь получает планетарное обобщение. Любой фрагмент бытия, хранящий на себе напечатление мысли, есть часть ноосферы. Родник, который считают святым, – это уже не только природное, но и ноосферическое явление. В ноосферу входят: звезды, объединенные мыслью в созвездья; воды, где обитают наяды, русалки и берегини; травы, одухотворенные в своих поэтичных названиях. Ноосфера – это не только явления культуры, но и очеловеченная природа.
«Каменный сказ» (1976 г.) повествует о зарождении ноосферы. Картина навеяна северными впечатлениями. Древние сейды и лабиринты, встречающиеся на берегах Белого моря, завораживают своей таинственностью. Искусство здесь только-только начинает отделяться от природы. Это волнующий момент! Перед нами почти естественная композиция камней. Но человек что-то переставил в ней, что-то акцентировал. И вот валуны заговорили на новом для себя языке. Случайное стало осмысленным, превратилось в магический текст.
Дивные облака над этими камнями – как их неразгаданные значения. Художник не расшифровывает смыслов каменного сказа. Картина строится на поэтике недосказанного, недоговоренного. Но все-таки мы можем догадаться о семантике каменного ансамбля. Здесь выражены две основополагающие для становления ноосферы идеи. Во-первых, это идея собирания, соединения: установив новые смысловые связи между камнями, человек достиг замечательного эффекта, – так и на других путях соединение приводит к успеху, к одолению сил хаоса. Во-вторых, каменное сооружение уже несет в себе начатки пирамидальной структуры, – человек ощутил зов неба, высоты: взгромоздив камень на камень, он сделал первый шаг к звездам.
Художник ищет в природе места, овеянные дыханием тайны. Вот картина «Лесные камни» (1977 г.). Эти валуны словно собрались на вече! Так их расположила природа, – тут нет касания человеческих рук. Но все-таки волей художника эти камни стали частью ноосферы. Сколько торжественности в их молчании! Здесь могли собираться древние волхвы. Здесь может залегать один из тех магнитов, о которых художник услышал от Н. К. Рериха.
Существенной частью ноосферы являются мифы, легенды, символы. Олимп и Валгалла, Беловодье и Шамбала входят в ноосферу как высшие реальности духа. Они играют огромную роль в сознании человечества. Сколько людей стремилось к реющим вдали образам Грааля и Китежа! Это не просто мираж – это проявление высшей активности ноосферы. Человеком движет мечта. Часто она облекается в форму мифа. И часто образ чаемого будущего – совершенного, прекрасного, чистого – относится в миновавшие времена.
Такова легенда о граде Китеже. Художник посвятил ей прекрасную картину «Град нетонущий» (1977 г.). Эта вещь очень важна для понимания творчества Б. А. Смирнова-Русецкого. Мастер умеет запечатлеть самое тонкое в ноосфере – ее мечты-мыслеобразы, ее глубинную духовную жизнь. Картина изображает ментальное, идеальное. Вот почему ее архитектурные образы освобождены от всякой вещественности. Говоря словами Гейне, перед нами «золотой сон человечества», – а всякий сон нематериален. Воды Светлояра – как волны сна: они размывают контуры, формы. И всё же Китеж хорошо различим. Золоченые купола, белые стены – сквозь вибрации лиловатой воды. Нереченное, несказанное! Все мечты русских зодчих воплотились в архитектуре Китежа. Правда и свет воцарились здесь навсегда.
Перед нами картина-мечта, картина-грёза. Воплощение замысла потребовало от художника наитончайшей техники. Он живописует неуловимое. Картина безусловно фантастична. Но это совершенно особая фантастика. Ее жанровое своеобразие не знает аналогий. В связи с этой и подобными ей картинами Б. А. Смирнова-Русецкого мы бы ввели понятие символической фантастики. Воссозданный им мир воображаемого обобщен до значения символа. Это высокий символ. В нем просвечивают духовные первоосновы ноосферы. Полный светлых предчувствий, «Град нетонущий» воплощает образ будущего, свободного от всякого зла.
В иные тона окрашен известный миф об Атлантиде. Он еще в юности увлек художника. Печальной судьбе Атлантиды Б. А. Смирнов-Русецкий посвятил большой цикл произведений. В разработку этой необычной темы художник вложил глубокое гуманистическое содержание. Ведь и современное человечество может оказаться на пороге катастрофы! Для воплощения пейзажей затонувшей Атлантиды художник использовал весьма сложные технические приемы. Картины цикла тревожат. Говоря словами Б. Пастернака –
Не передать того волненья,
С каким он погрузился в чтенье
Евангелья морского дна.
Сквозь воду Атлантики, взбаламученную катастрофой, мы видим странные формы. Это рельеф дна? Или руины храмов? Живописный язык цикла удивительно многозначен. Его реквиемное звучание полифонично. Атлантида здесь трактована как часть ноосферы. Она живет в глубинах нашей памяти, она воздействует на наше сознание.
Ноосфера немыслима без исторической памяти. Формы этой памяти многообразны: зданья, преданья, мифы. Но есть еще одно ее проявление – дух места, сокрытая память места. Особая атмосфера царит там, где некогда свершалось великое. Художник умеет живописными средствами передавать эту атмосферу. Вот картина «Старый Углич» (1976 г.). Древний город грезит, медитирует о своем прошлом. Он уже опустился на дно синих вечерних сумерек – но в изжелта-лиловатом закате еще реют образы памяти. Это – духовные слепки с исчезнувших башен; это – светящиеся ауры разрушенных соборов. Величественное виденье! Словно и впрямь проступили силовые поля памяти. Их не стереть, не затушевать.
Картина развивает излюбленную мысль автора о многослойном строении действительности. В «Старом Угличе» взаимодействуют два плана: реальный, конкретный – и ментальный, воображаемый. Такова структура ноосферы. Она несводима только к телесному, вещественному, – ее пронизывают токи мысли, памяти, мечты. Живопись искони вдохновлялась передачей первого плана. Но она дерзала изображать и второй! Искания Б. А. Смирнова-Русецкого связаны с определенной традицией в истории изобразительного искусства. Выявив связь мастера с этой традицией, мы четко обозначим его место в искусстве.
8. ИДУЩИЙ[2]
Взаимодействие реалистических и романтических тенденций характерно для разных эпох в истории искусства. Нередко оно принимало формы противоборства. Но известны примеры и гармонической дополнительности этих начал. Б. А. Смирнов-Русецкий тоже не видит в них основы для антиномии. Его можно назвать реалистом-романтиком. Внешне это очень простое определение. Однако синтез обеих тенденций – реалистической и романтической – требует огромной духовной работы.
Б. А. Смирнов-Русецкий изучает природу как художник-реалист: он пристально внимателен ко всем ее формам, состояниям. Сокровищницей мастера являются его этюды. По степени своей проработанности они часто имеют значение вполне законченных картин. Б. А. Смирновy-Русецкому ведома власть натуры. Он умеет передать трещиноватую поверхность скал и фактуру сосновой коры, из его этюдов не трудно составить документально точный и вместе с тем художественно значимый атлас облаков. Художнику удается реалистически воплотить самый разный пейзаж, – ритм и структуру рельефа он чувствует как ученый-географ. Можно говорить о познавательной ценности его этюдов, посвященных различным состояниям неба, – они могли бы украсить учебник по аэрономии. Сколь разнообразные зори запечатлел мастер! Он блестяще передает и атмосферу предгрозья, и легкость тумана, и синеву зенита. Мастерство Б. А. Смирнова-Русецкого как художника-реалиста бесспорно. И всё же в природе его особенно влекут такие формы и состояния, которые ассоциируются в нашем сознании с романтическим началом.
Природа индифферентна по отношению к нашим стилевым школам и направлениям. Она – натура, она – естество. Поэтому все в ней реалистично, вещно. И тем не менее в природе иногда открывается нечто такое, что кажется нам сверхприродным – сказочным, чудесным. Такой для многих народов была радуга. Она встраивалась в пейзаж как что-то ирреальное, волшебное. Солнечные венцы; зодиакальный свет; северные сияния – все это своеобразный романтизм природы, свидетельство ее умения выходить за рамки обычных состояний. Конечно, в понятия обычного и необычного мы здесь вкладываем оценочно-субъективный, а не физический смысл. Для физика радуга вполне обычна, – но она навеки останется сказочной для поэта. Поэтому мы не рискуем оказаться неправильно понятыми, если скажем, что в природе Б. А. Смирнова-Русецкого больше всего волнует необычное, чудесное.
Это типично романтический подход к бытию. Для романтика мир не ограничивается своей достоверно вещной, эмпирически наблюдаемой гранью. Мир по его мнению имеет и другие грани! Пусть они находятся за рамками физических измерений – однако для души, для сердца они достоверны. Только романтик мог назвать березу плакучей. За физическим планом дерева он прозрел скрытые духовные наслоенья. Естественно возразить: это надприродное содержание вложено в березу человеком! Пусть так. Но ведь проекциями идеального в материальное и творится ноосфера.
Б. А. Смирнова-Русецкого можно назвать мастером таких проекций. Вот его небольшая картина «Метель» (1962 г.). Художник изобразил танец снега среди лесных сумерек. С каким мастерством передана изящная спиральная лопасть метельной воронки! Картину хочется назвать аэродинамически точной. Но ценность ее всё же не в этом. Художник создал образ одухотворенной и вдохновенной метели. Она романтически воспринята как необычная форма жизни. Быть может, это танцующий лесной дух? Хотя такая мифопоэтическая интерпретация не является единственной, но она возникает закономерно, – ведь для романтического мировосприятия вся природа одушевлена.
Художнический антропоморфизм Б. А. Смирнова-Русецкого ярко проявляется в его изображениях северных скал. Эти проступающие из камня загадочные лики! Среди скал Б. А. Смирнова-Русецкого чувствуешь себя как в заколдованном царстве. Замшелые валуны у него заряжены памятью ушедших цивилизаций. Это вложено в натуру или открыто в ней? Ответ здесь предопределен позицией зрителя, его мироощущением. Романтик видит в природе тайнопись. Она для него полна символов.
Б. А. Смирнову-Русецкому близка эстетика романтизма. Но вот что крайне важно: у него нет свойственного некоторым романтикам пренебрежения реальным – вымышленное у него всегда опирается на опыт глубинного общения с природой, жизнью. Сказка у художника поверена реальностью. Поэтому мастеру никогда не изменяет вкус. Ему чужда псевдоромантическая чрезмерность, вычурность. Созданный художником мир необычен, – но он построен с чувством меры и гармонии. А эти качества воспитываются изучением природы.
Как творчество Б. А. Смирнова-Русецкого, так и деятельность всей группы «Амаравелла» можно соотнести с живописью английского и немецкого романтизма. При более широком культурно-историческом контексте не трудно уловить определенное сходство – пусть и весьма отдаленное – между эстетикой «Амаравеллы» и традициями западно-европейской средневековой живописи. Усвоен художниками группы и опыт древнерусской иконописи.
В этом предельно кратком экскурсе мы сблизили весьма различные явления культуры. Но у них есть один общий инвариант: восприятие Вселенной как многоплановой структуры – высвечивание в ней скрытого, потаенного. Эта традиция была воспринята и развита художниками, которых можно считать учителями Б. А. Смирнова-Русецкого – М. К. Чюрленисом, Н. К. Рерихом, П. П. Фатеевым. Их влияние было в основном духовным, мировоззренческим, – свой живописный язык Б. А. Смирнов-Русецкий вырабатывал самостоятельно. Художник учился у них видеть природу в ее многозначности, в ее ассоциативной многослойности. Вспомним «Сонату весны» Чюрлениса, «Небесный бой» Рериха, цикл «Стволы» Фатеева. Это очень разные по живописному языку произведения. Объединяет их одушевление природы, – виденье за ее внешними реалиями очень богатой и сложной внутренней жизни.
На этом строится поэтика цикла «Прозрачность» Б. А. Смирнова-Русецкого. Главная его координата – это духовная глубина. Эмпирически непроницаемое художник утончает до слюдяной прозрачности. Это дает нам возможность увидеть доселе скрытые аспекты, грани. Наше восприятие расширяется. Картина выполняет эвристическую функцию – заставляет нас задуматься о многоуровневости бытия. Не случайно творчество Б. А. Смирнова-Русецкого высоко ценится в среде научной интеллигенции[3]. Ученый-кристаллограф, кандидат наук, он знает, как важно для исследователя устремление в глубину. Концепция многоуровневой реальности особенно импонирует ученым романтического склада. Они охотно допускают существование в природе скрытых уровней и факторов, смело отказываясь от известного методологического принципа, получившего название «бритвы Оккама»: не вводи лишних сущностей. А как быть, если такими сущностями оказываются нейтрино, космические лучи, биополя? Наука постоянно высвечивает неизвестные ранее слои бытия, – то есть вводит новые сущности, формулирует новые законы. Научный поиск скрытого, не всегда предсказуемого глубоко романтичен.
Мы не хотим прямолинейно сближать цикл «Прозрачность» с научной методологией. Это совершенно излишне. И все же стоит отметить, что мировосприятие художника в чем-то глубоко родственно современной науке, осознавшей многомерность бытия. В картинах Б. А. Смирнова-Русецкого заложена неисчерпаемость, бесконечность. А ведь именно через эти понятия новая наука раскрывает основные свойства бытия, материи.
Художник творчески воспринял опыт русской живописи первых десятилетий XX века. Хочется отметить его тяготение к мирам В. Э. Борисова-Мусатова и М. В. Нестерова. Б. А. Смирнов-Русецкий был знаком с М. А. Волошиным: тонкие акварели поэта созвучны циклу «Прозрачность». Для всех этих мастеров характерно одухотворенное восприятие мира. А для Б. А. Смирнова-Русецкого это главное. Он ценит в искусстве его духовную сторону. В этом плане эстетика «Бубнового валета» будет, пожалуй, альтернативой к эстетике Б. А. Смирнова-Русецкого. Однако это контрастное сравнение нам нужно лишь для того, чтобы подчеркнуть своеобразие эстетических позиций мастера. Его никогда не увлекали форма как таковая, цвет как таковой. Чистый вещизм или чистая колористика глубоко чужды Б. А. Смирнову-Русецкому. Отлично владея и формой, и цветом, он наполняет их духовным смыслом. Ему всегда важна семантика. Причем не поверхностная, а глубинная: художник ищет в природе высокие смыслы.
Духовность, высокость – вот определяющие характеристики мира, созданного Б. А. Смирновым-Русецким. Его творчество имеет не только эстетическую, но и этическую ценность. Оно учит возвышенному и просветленному взгляду на мир. Причем эта цель достигается без ложного пафоса: художник видит значительное в малом, обыденном.
Здесь Б. А. Смирнов-Русецкий близок опыту японского искусства. Эстетика дзен-буддизма говорит о смысловой наполненности каждого фрагмента бытия. Замшелый валун может неожиданно обрести значимость космологической модели. Для такого раскрытия потаенного смысла вещи необходимо с а т о р и – озарение, инсайт. Многие картины мастера запечатлевают мир, увиденный во всепроникающем свете подобного озарения. Художнику небезразличны и чисто живописные приемы дальневосточных школ. Ассимиляция этого опыта дала очень органичные результаты.
Судьба художника складывалась непросто. Очень интенсивно он работал в интервале между 1921-1930 годами. Последующее десятилетие не благоприятствовало исканиям «Амаравеллы». А с 1940 по 1955 год подвергшийся репрессиям художник вообще был выключен из нормальной художественной жизни. Но даже в это крайне тяжелое время ему удавалось создавать чудесные пейзажи-миниатюры. Они свидетельствуют о силе человеческого духа, способного воспринимать красоту и в трагических обстоятельствах. С 1955 года у художника начинается новая активная полоса творчества. Вернувшийся из заключения мастер работает увлеченно, как юноша. Призыв Н. К. Рериха к расширению сознания сохраняет для него действенное значение. Художник продолжает высвечивать скрытые планы и уровни в строении космоса. Год от году его письмо становится всё тоньше, одухотвореннее. Идущий: эта краткая автохарактеристика Б. А. Смирнова-Русецкого предельно точна.
***
Предлагаем вниманию читателя наш комментарий к избранным работам мастера. В выборе произведений мы руководствовались как принципом разнообразия, так и нашими личными пристрастиями.
9. АНТОЛОГИЯ
«Звезда»
Наверно, это первая в мировой живописи попытка создать образ отдельной звезды! И попытка безусловно удачная. Среди мировой синевы парит бриллиант чистой воды. У него длинные симметричные лучи. Это звезда первой величины. Звезда-прима, звезда-альфа.
В живописи Б. А. Смирнова-Русецкого каждое явление имеет личностное начало. Оно всегда индивидуализировано. Острова-миры у художника не сливаются в однородную сплошность, – каждый из них самобытен, каждый имеет свои неповторимые черты. Это же относится и к деревьям Смирнова-Русецкого: зыбкое ауральное свечение как бы подчеркивает индивидуальность любого из них[4]. А камни, а скалы на картинах художника! Что ни камень, то новый характер; что ни скала, то новые лики.
Художнику чужда всякая нивелировка, всякая схематизация индивидуального: он пристально прослеживает, как ограняется в природе высшая ценность Вселенной – неповторимая личность. Сколь важен этот поиск в наши дни, когда философы предупреждают об опасности обезличивания!
Индивидуальны ли звезды? Невозможно спутать голубую Бегу с багряным Альдебараном. А тревожный блеск Гранатовой звезды в Цефее никак не похож на жемчужное сияние Регула, альфы созвездия Льва. Поэты давно ощутили индивидуальность звезд – и потому обращались к ним как к живым сущностям, небесным собеседницам людей; И. Бунин писал о великолепном Сириусе:
Пылай, играй стоцветной силою,
Неугасимая звезда,
Над дальнею моей могилою,
Забытой богом навсегда!
Многие звезды имеют личное имя. Это свидетельствует о том, что наши пращуры воспринимали мир не обезличенно, – они и со звездами говорили по душам. Чудесная русская песня «Звезда полей» напоминает нам об этом. Звезды заветные, звезды загаданные! Радостно узнавать вас по ночам.
Б. А. Смирнов-Русецкий блестяще передает в своих картинах индивидуальность созвездий. А теперь он поставил свой этюдник перед звездой. Как Б. Пастернак, он хочет «...звезду донести до садка на трепещущих мокрых ладонях». И это удается мастеру! В садке картины – блескучая звезда. Она живая, настоящая. Ищущий прекрасное может ориентироваться по ней.
«Водопад»
Дно в горных ручьях иногда кажется многоцветным как мозаика. Оно выложено чудесными камушками, которые как бы оживают в воде. Это разнообразные сердолики; фрагменты яшмы; кусочки нефрита и лазурита. Вынь эти камушки из ручья – и они словно погаснут, поблекнут. Но в живительном лоне струй они становятся необыкновенно радужными.
Краски у этой картины такие же яркие. Какой необычный, какой вдохновенный колорит! Тайна его проста: пейзаж здесь увиден сквозь свет любви. Этот свет для красок картины – как прозрачная вода для сердоликов. Что будет, если он погаснет?
Тогда мы увидим первоначальный вариант картины: обычные гаммы, обычное освещение. Перед нами очень хороший, реалистически точный, но в общем ничем особым не отмеченный пейзаж. Какое же чудесное преображение произошло с ним?
Это называется наитьем, озареньем. Бывало, проходишь мимо какого-нибудь пейзажа – и не видишь в нем ничего выдающегося: красиво, интересно, но весьма заурядно. И вдруг что-то вспыхивает в тебе, в пейзаже! Мир обретает значительность, в нем открывается глубина. Ореол чудесного зажигается над каждым валуном, над каждой травинкой. Это и произошло с художником, когда он работал над темой.
Вот соединяются среди скал два разобщенных потока. И в этот момент над ними возникает прозрачная воздушная линза! Это радуга, нимб, ореол, аура? Удивительный оптический эффект может быть истолкован по-разному. Но только физика здесь ни при чем: над встретившимися потоками вспыхнул свет несказанный – свет любви.
Картина символична. Ей даже присущ аллегоризм – очень деликатный и ненавязчивый. Художник говорит нам о космической всеобщности любви. Мы не вправе приписывать это высокое чувство только себе. Оно растворено во всей природе. Помните лермонтовскую «чету белеющих берез»? Или его же: «звезда с звездою говорит».
Лученосный венец любви вспыхивает и над встретившимися облаками, и над соединившимися реками. Это извечное чудо художник увидел среди сортавальских скал. Как преображается мир в свете любви! Об этом свидетельствует «Водопад», лиричнейшая из работ Б. А. Смирнова-Русецкого.
«Гора света»
Эта картина написана в 1926 году, после встречи с Н. К. Рерихом. Великий художник-мыслитель рассказал молодым московским друзьям об одной поэтичной гималайской легенде. Где-то в лабиринте заповедных гор таится чудесная страна Шамбала. Она основана звездными учителями человечества, посланцами ноосферы, достигшей высочайшей ступени развития. Обитатели Шамбалы вступают в ограниченные контакты с лучшими из землян. Туда стремятся те, кто понял неправду мира – и хочет помочь людям. Но попадают в Шамбалу лишь избранные.
Излагая эту легенду, мы сознательно использовали некоторые современные понятия. Ведь легенда говорит о связи землян с представителями космической цивилизации! А это так актуально для наших дней. Н. К. Рерих отнесся к преданию о Шамбале с доверием. Вспомним: нередко казавшееся мифом получало подтверждение. Разве открытия Шлимана и Эванса не вернули истории Трою и критский лабиринт?
Н. К. Рерих рассказывал: иногда над Шамбалой вспыхивает необычное сияние. Его наблюдали многие горные путники. Б. А. Смирнова-Русецкого поразила эта деталь. Внутренним взором он увидел волшебную панораму: грифельные силуэты ночных гор – и над ними зарево несказанного света. Этот свет словно пропущен сквозь призму: мы отчетливо различаем спектральные слои, полосы.
«Гора света» демонстрировалась на выставке «Корона Мунди» – под эгидой Н. К. Рериха она состоялась в Нью-Йорке в 1927 году. Картина снискала большой успех, о ней одобрительно писали в прессе. Перед нами зрелое и самостоятельное произведение. А ведь Смирнову-Русецкому был 21 год, когда он написал «Гору света». Талант художника раскрывался с необыкновенной динамичностью. Юношеские наброски многие десятилетия давали художнику материал для оригинальных работ.
Горы в бессолнечный вечер кажутся угольно-сизыми. Свет сумерек едва угадывается: он – в невнятном подбеле горных складок, он – в прозрачности иссера-пепельного воздуха. Таинственное пространство! Но вот над дальним миром вспыхивает горнее сияние. Стоцветным веером раскидывается оно над вершинами. Это не просто атмосферное явление – это призывный свет Шамбалы-Беловодья. Гори, гори, свет несказанный! Зови людей к правде, к гармонии.
«Космическая катастрофа»
Мы живем в нестационарной Вселенной. Она импульсивна и динамична. Ее гармониям, ее симметриям часто предшествуют необыкновенно бурные, взрывные по своей природе процессы. Мир как целое возник в результате так называемого Большого Взрыва. Он положил начало продолжающемуся и сейчас расширению Вселенной. Без всяких преувеличений можно сказать, что мы живем как бы внутри взрыва – и тем не менее чувствуем себя в безопасности. Наша солнечная система вполне стабильна; соседние с нами звезды находятся на таких стадиях эволюции, когда никакие катаклизмы не угрожают, – светят они ровно и дружелюбно.
Но так было не всегда. В 1054 году в созвездии Тельца – как раз над его нижним рогом – вспыхнула ярчайшая звезда-гостья. Это был невероятно мощный взрыв сверхновой. Сейчас на месте космической катастрофы можно с помощью телескопа различить слабое туманное пятнышко. Это знаменитая Крабовидная туманность. Когда-то известный астроном Мессье спутал ее с кометой – и это побудило его составить первый каталог туманностей. Крабовидная туманность идет в нем за номером один: М 1 – Мессье один. В большие телескопы она выглядит феерически прекрасной.
Имел ли породивший ее взрыв последствия для соседних очагов жизни? На этот вопрос отвечает фантастическая картина Б. А. Смирнова-Русецкого. На фоне Крабовидной туманности мы видим странный печальный мир. Это черные кристаллы? Или обугленные зданья? Или траурные обелиски? Необычные формы звучат в миноре. Перед нами космический реквием, написанный с необыкновенной силой.
Что ж, такие катастрофы вполне возможны для биосфер космоса. На путях жизни встречаются неисповедимые трудности. Были они и в эволюции земной биосферы. Вымирание крупных динозавров палеонтолог О. Шиндевольф объяснял резким увеличением космической радиации. Не взрыв ли сверхновой вызвал гибельные мутации?
Есть фантастическая гипотеза: взрывы сверхновых –
деятельность разумных сил. Но всегда ли наши старшие звездные братья осторожны
и мудры в своих действиях? Высвобождение скрытых энергий требует большой
вдумчивости. По мнению некоторых ученых, ядерная война на Земле может вызвать
своеобразную детонацию, которая породит цепную реакцию взрывов в окрестностях
солнечной системы.
Мыслящий человек должен предвидеть всё. К этому и взывает замечательная
картина Б. А. Смирнова-Русецкого.
«Поэма солнца»
Этот мажорный триптих – о полнозвучье земного дня. Утро, полдень, вечер. Три состояния, три гармонии. Вместе они образуют процессную цельность, единство.
Земная природа может быть воспринята космически. Такой она была в глазах В. И. Вернадского и А. Л. Чижевского. Так ее видит и Б. А. Смирнов-Русецкий. В пейзажах Земли иногда словно пробрезжит что-то далекое, запредельное. Удивленно вздрогнешь: будто перенесся в другой мир! Все здесь другое – и облака, и деревья. Веет неземным, чудесным. Но это Земля! Только в лучах восходящего Солнца она обрела особую новизну. Такой ее запечатлел художник в картине «Утро». Лиловые и розовые снега; прозрачные березовые рощицы; огромная жемчужина Солнца. Оно еще не совсем поднялось из-за леса. Три луча взметнулись от него вверх. А вокруг Солнца намечено пять прозрачных концентрических полукружий.
Что бы означала эта солнечная геометрия? Художник хочет сказать: Солнце – источник порядка и гармонии. Это живой порядок, это живая гармония. Земной пейзаж в картине «Утро» и лиричен, и космичен одновременно.
Вторая часть триптиха – «День» – глубока и пространственна. Но состояние пространства здесь особое: оно заметно искривлено – как в неевклидовом космосе. Кривизну пространства Эйнштейн связывал с действием гравитационных масс. Но здесь причина явно другая. Используя выражение поэта Льва Озерова, можно сказать, что в картине действует «неземное тяготение». Это духоносная сила любви, это магнитное поле участья. Под их воздействием пространство как бы свертывается, замыкается на себя, – и этим создается ощущение мирового уюта, какой-то доброй защищенности. Так геометрический прием обретает у Б. А. Смирнова-Русецкого символическое звучание. Картина «День» раскрывает космологию автора, – в его неевклидовой Вселенной торжествуют свет и добро.
Вечер. Солнце ушло за окоем – но облака еще улавливают его свет. Какие у них необычные росчерки! Покажется вдруг: огромная птица – вся просвечивающая, аметистовая – приближается к Земле из вселенских далей. Художник любит вечерние зори, – разве не реют в них космические образы?
«Желтый закат»
Вот другой закат, – другой шедевр заходящего солнца. В желтых сполохах – лиловые зигзаги. Это силуэты птиц? Или тайные знаки? Закат многозначен как великий текст. Так он и воспринят художником, – хочется понять небесные символы.
Б. А. Смирнов-Русецкий неоднократно встречался с Андреем Белым. Поэт всерьез говорил о необходимости создать «закатологию». В этой науке сочетались бы черты метеорологии и искусствоведения. Хотя Андрей Белый и не поддержал философских идей Н. К. Рериха, с которыми в конце двадцатых годов его познакомил Борис Алексеевич, но все-таки рериховский тезис о «расширении сознания» был ему близок. Поэт считал: закаты расширяют сознание! Они вносят в мировосприятие людей новую космическую координату. Не случайно образы закатов так часто встречаются в прозе и поэзии А. Белого.
Вклад Б. А. Смирнова-Русецкого в закатологию весьма существен. Из его картин можно выбрать своеобразнейшую коллекцию космических закатов. Почему именно при заходе солнца в природе проявляется дар художника-фантаста? Словно в этот час открываются какие-то неведомые каналы – и Земля начинает принимать информацию из дальнего космоса. Облака воплощают эти мыслеобразы в зримые формы. И тогда мы видим на небе пейзажи дальних планет – их фауну, их прекрасный растительный мир. Конечно, наша гипотеза – чистая фантастика. Но бесспорно одно: созерцание закатов содействует становлению космического чувства.
О воздействии необычных закатов на культуру Земли много писал Николай Морозов. Он считает, что именно из закатных феерий библейские пророки черпали образы, которые ими интерпретировались как картины будущего. Пророки буквально читали закаты! Конечно, с Николаем Морозовым можно не соглашаться. Но бесспорно одно: закаты помогают нам развивать воображение. Б. А. Смирнову-Русецкому они много дают как художнику. Ведь это небесная лаборатория красок и форм. В закатах ему открываются те неведомые уровни бытия, о реальности которых зримо свидетельствуют картины мастера.
«Ступени»
Это одна из самых многозначных картин Б. А. Смирнова-Русецкого. В ней автор хочет сказать о гармонии духа и космоса, о ступенчатом восхождении к высшим целям. Уже сама композиция картины несет сложный смысл. Загадочно сближение двух прозрачных полусфер. Это зримая формула мировой симметрии? Или символ встречи духовно близких друг другу ноосфер? Толковать картину можно по-разному. Но все-таки любые толкования будут взаимопрозрачны. Разве встреча любящих – это не восстановление симметрии? Законы гармонии едины для разных уровней бытия.
Можно говорить о видимой и невидимой архитектуре космоса. Ее зримые аспекты мы видим в эллипсах орбит, в спиральном каркасе галактик. А незримый план связан с различными полями, которые тоже имеют сложную архитектонику. Картина Б. А. Смирнова-Русецкого как бы проявляет, очерчивает световой ретушью незримую архитектуру космоса. Это настоящее эстетическое открытие.
Б. А. Смирнов-Русецкий напоминает нам об универсальности двух форм во Вселенной. Это форма шара, выражающая замкнутость и совершенство космоса, – и форма лестницы, моделирующая бесконечность иерархических уровней Вселенной. О шаровидности космоса много рассуждали греки. Его иерархическую бесконечность прозревали индусы[5]. Оба аспекта не противоречат друг другу, – их можно диалектически соединить в одном синтезе. Так, релятивистский космос Эйнштейна воплощает в себе единство конечного и бесконечного: конечный в пространстве, он бесконечен и неисчерпаем во многих других отношениях.
Картина Б. А. Смирнова-Русецкого тоже, по сути, осуществляет такой синтез. Мастер творчески сгармонизировал впечатления от греческой и индусской космологии. Н. К. Рерих говорил: синтез ведет к красоте. Разве картина Б. А. Смирнова-Русецкого не подтверждает этой мудрой мысли?
Вот она, прозрачная архитектура космоса! Между двумя полушариями мы видим ступенчатую перспективу. Куда восходят острова цивилизаций? К высокой цели, к гармонии и единству. Вероятно, мы занимаем одно из средних звеньев космической лестницы. Наша эволюция продолжается. Ее направленность становится отчетливо космической. Будем трудиться на нивах Беспредельности. Об этом хорошо сказал Андрей Вознесенский, поэт и архитектор:
когда тоски не погасить,
греховным храмом озаримый,
твержу я: «Неба косари мы.
Косить нам – не перекосить»[6].
«Северная часовенка»
Когда «Северная часовенка» подъезжаешь к Никольскому скиту на Валааме, то невольно думаешь: эта похожая на восьмигранный фонарь церковь играла когда-то еще и роль маяка. Она стоит на мысу, выдвинутом далеко в Ладогу: как бы указует путь в тишайшую монастырскую бухту. Дивно смотрелась она с огнями в окнах, на фоне полыхающих ночных созвездий!
Картина Б. А. Смирнова-Русецкого «Северная часовенка» явно навеяна валаамскими впечатлениями. Но мастер создает обобщенный, символически звучащий образ. Мы видим высокий мыс, уходящий в открытое озеро. Иссиня-фиолетовый лесок просвечивает на скале прозрачным гребнем; едва намечаются в ночном зеркале причудливые отражения; серебристые россыпи звезд манят к далекому, несказанному.
На вершине скалы – деревянная церковка. Чуть правее нее – небольшая колокольня. Как органично вписался этот скромный ансамбль в ночное пространство! Контуры церкви и колокольни выражают извечную устремленность человека к звездам. Перед нами космические корабли духа.
Н. К. Рерих любил Валаам. В годы своей жизни на карельской земле он высказал интересную мысль: природа севера торжественна, космична, – и поэтому она была бы наилучшим фоном для музея искусства новой эры. Это эра Человека Космического! Она характеризуется расширением сознания, устремлением к синтезу, духом сотрудничества. Искусство Н. К. Рериха принадлежит этой эре. А равно и искусство его учеников, сподвижников – членов художественной группы «Амаравелла». Еще в двадцатые годы они стали разрабатывать космическую тему. Их достижения прекрасны и значительны.
Осуществляется ли мечта Н. К. Рериха? Для этого уже сделано немало: в Петрозаводске собрана богатая коллекция космической живописи. Встает вопрос: где ее разместить? Думается, что Приладожье было бы самым подходящим местом для рериховского музея. Ведь ладожские шхеры ныне объявлены заповедником. Удобных для музея мест там достаточно. И лучшее из них – рериховский Тулон.
Картина Б. А. Смирнова-Русецкого помогает представить то природное и космическое окружение, в котором мог бы находиться будущий музей имени Николая Константиновича Рериха. Пусть осуществится мечта великого художника!
«Февраль»
Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий принимал большое участие в делах создающегося музея. Им подарено свыше сорока работ, – они являются украшением экспозиции. «Февраль» был первой картиной, переданной мастером в наши фонды. Это работа из цикла «Прозрачность». Она очень типична для художника. Мы видим элегичные февральские сумерки. На переднем плане – слюдяной березняк. Местами он прорезается силуэтами сосен.
В картину эту хочется глядеть долго-долго – как в наипрозрачнейшую ключевую воду. Откуда это гипнотическое притяжение? Что за властью обладает прозрачность? Просветленная даль, просветленные чувства! Картина открывает нам и пространственную, и духовную перспективу. Ее воздействие можно определить через греческое понятие катарсиса. Это особое очищение сердца, вызванное приобщением к гармонии.
В картине царит мудрая тишина. Она помогает нам сосредоточиться. Душа становится этими березами, этой далью. Ее наполняют спокойные чистые чувства. Она проникается светлыми наитьями февраля.
Это магия искусства: вживание в образ – и слияние с ним.
Это волшебство картин Б. А. Смирнова-Русецкого. Вглядываясь в их глубину, мы лучше понимаем себя. Картины высвобождают в нас доброе начало. Они учат открытости сердца. Они учат прозрачности чувств.
Да воцарится прозрачность! Ее порой так не хватает в мире. Поэтому подойдите к этим картинам. Они похожи на широко распахнутые окна. Окна, которые никогда не зашториваются!
В них – свет.
В них – красота и гармония.
В них – мировая прозрачность.
Шел тридцать первый год.
Благословленный
Великим Рерихом,
Собрался в путь
Смирнов-Русецкий.
Путь повел на Север! –
Туда,
к мерцанью белой ночи;
к соснам,
Свободно возносящимся над камнем;
К таинственным гнездовьям лебедей;
К морошковым болотам...
Майской ночью
Является для птиц ориентиром
Блескучая Полярная звезда, –
На свет ее пошел Смирнов-Русецкий
С этюдником и рюкзаком.
Онего!
Вдается клином в зеркало твое
Прекрасный Заонежский полуостров,
Магнитный для души...
Невдалеке
От Кузаранды делает привал
Художник-странник...
Длинная коса,
Усыпанная щедро валунами,
Уходит в озеро;
Ее изгиб
Напоминает очертанья лука, —
Звенят вокруг заточенные стрелы
Молоденького тростника.
Какая
Динамика у берега!
Какой
Великолепный разворот пространства!
Ответно расширяется сознанье
И дух растет...
Все это незабвенно:
Волнистость оловянных облаков
Над озером бушующим;
Церквушка,
Светящаяся ночью на мысу,
Как пристальный маяк;
Крутые скалы,
Которые по осени красны
От вызревшей брусники;
Мочажины,
Зияющие за полночь на мшарах,
Как окна в бездну;
Сумрачные ели
С начесами лишайников.
Навеки
Запомнит сердце
Каждую деталь...
На Север! –
память говорит. –
На Север!
И вновь седого мастера в дорогу
Зовет весной Полярная звезда.
1. Космическая геометрия
На берегу,
Среди безветрия,
Впервые ты открылась мне –
Космическая геометрия,
Блистающая в тишине!
Голубоватыми кристаллами
Созвездья кажутся сейчас, –
Не лучевыми ли сигналами
Насквозь высвечивают нас?
Среди молчанья озаренного
Услышу я в ночном селе,
Как бьется сердце Орионово,
Внушая вечный ритм Земле.
2. Огненные мысли
Космизм заката!
Что за светосила
У этих небывалых облаков?
Как будто на земные небеса
Сегодня проецируются сцены
Инопланетных мифологий...
Вижу,
Что кучевое облако над лесом
Вдруг превратилось в огненного сфинкса, –
Какую мудрость он в себе таит
И знания каких цивилизаций,
Его к Земле пославших? –
но на этом
Не прекращается метаморфоза:
Растет на небе облачная башня,
Являя людям дивный образец,
Космического зодчества!
Но снова
Легко преобразились небеса –
И перед нами пламенное древо:
Вот ствол, вот ветви...
На какой планете
Растет его могучий прототип?
Художник понял,
что в земных закатах
Таится новизна иных миров –
Их сказки, их пейзажи.
Перед нами
Этюд с названьем «Огненные мысли», –
Не просто перистые облака
Изобразил художник с вдохновеньем,
А стрелы мудрых мысленных посланий,
Летящих к нам из Шамбалы.
Примите
Душой и сердцем
Дружескую весть!
3. Рядом
Ястребинка на холсте: зыбкий нимб и сумрак леса. Будто вижу в темноте звездный рой из Геркулеса. Легкий шарик, дальний свет! Вдохновенен мастер строгий, мне раскрывший свой секрет небывалых аналогий. На холсте лесной туман или Млечный Путь осенний? – Космос рядом: в снах землян, в звездной ритмике растений.
Космос рядом! – Волопас прислонился прямо к стогу. Славки метят в поздний час путь на юг по Козерогу. Голубая стрекоза, ты из дальней биосферы? – заглянув в твои глаза, вижу радуги Венеры. Мастер пробует мелки и глядит, душой теплея, как вписались светляки в древний абрис Водолея.
1. Лесной алтарь
Лес-беломошник!
Вековечный сумрак
Торжественной таинственностью полон:
Как будто входишь в темный лес колонн
Забытого святилища,
– и сразу
В душе переключаются регистры,
Настраиваясь на высокий лад.
Вот колыбель всех наших мифологий
И верований –
Глубина лесная
Потворствует возникновенью сказок,
Былин и рун.
Таится их начало
В стозвучном шуме этих древних крон.
Какой магнит в лесу заложен? –
мастер
Почувствовал наитьем этот зов, –
И вот,
Закинув на плечо этюдник,
Уходит он в лесную глубину,
Доверясь только внутреннему чувству,
Как компасу...
Ни одного просвета
Среди стволов покуда не видать, –
Лес бесконечен и однообразен:
Сосна да ягель;
Да паучьи снасти;
Да валуны...
Но вот художник замер:
В расположении замшелых глыб
Почудилось ему напечатленье
Руки разумной! –
Этот круг камней
Напоминает образ мирозданья:
Срединный камень словно символ Солнца,
А вкруг него планеты, –
дивный строй
В серебряном блистанье Зодиака
Узрел Коперник древний...
Что за расы
Здесь жили в допотопную эпоху,
Каким созвездьям возносили гимн?
Полна природа знамений как древле;
Вновь каждый камень – знак и указатель.
Как бы разверзлась глубина времен, –
И видятся воочью архетипы,
Лежащие в основе наших снов.
2. Легенда о башне
Есть башня в Гималаях,
– про нее
Лишь избранные знают на планете:
На картах не отмечены пути
К загадочному древнему строенью,
Хотя оно считается по праву
Духовным маяком для всех землян.
Не гаснет пламя у валунных стен! –
Пылает Агни,
Добрый дар созвездий,
Когда-то принесенный на планету
Из недр мерцающего Ориона, –
Там по преданью расположен центр
Великого Космического Братства.
Затеплены от этого огня
Все очаги земных цивилизаций,
Все светочи духовные...
Есть башня
В заснеженных высоких Гималаях:
Внутри нее хранится Звездный Текст,
Где повествуется о вечных связях
Земли и космоса...
Горит костер,
Врисовываясь в яркие созвездья, –
Как бы соравен этим звездам он,
Содружен с ними.
Справа Бетельгейзе,
А слева мудрый Сириус горит, –
Костер вздымает пламя между ними,
Свидетельствуя:
Юная планета
Включается в содружество миров!
3. Гора Света
Бывает –
раз в году! –
такая полночь,
Когда над нашей сумрачной горой
Восходят радужные ореолы
И спектры небывалые горят.
О, как мерцают световые спицы,
Переливаясь в дивных полукружьях,
Встающих друг над другом, –
Будто нимбы
В ночи зажглись.
Но где источник света,
Творящего такие чудеса? –
Послушайте забытое преданье:
Гора хранит –
Примерно в середине
Меж звездным пиком и глухим подножьем –
Магнитный камень:
Был на Землю он
Доставлен в незапамятные годы
На серебристом диске.
Чинтамани –
Зовется так неведомый магнит,
Включающий
всего лишь раз
в году
Свое самосветящееся поле,
Которое уходит в Беспредельность,
Связуя наш еще незрелый мир
С великой Иерархией.
Сияй,
Волшебный камень! –
Я гляжу на гору,
Любуясь перламутровым сияньем –
Там,
за горой,
космические сферы
Играют скрябинского «Прометея»!
Пусть он звучит всю ночь во славу Агни –
Единого вселенского огня.
1. Золотая мощь
Картина,
собирающая в фокус
Все золотые светы октября!
Ее увеличительная сила
Ко мне вплотную приближает осень, –
И я вхожу в тишайший березняк,
Легко перенимая вдохновенье
Прозрачных крон.
...Как светоуловитель,
Стоит в лесу этюдник:
полотно
Незримо насыщается сияньем
На месяцы и годы.
Навсегда!
Картина говорит:
Сохранно все,
Что красоте причастна.
Этим краскам
Без убыли в столетиях светить.
2. Вечная осень
Осень, ты вечности автопортрет! – жаль, что фиксажа надежного нет, чтобы мгновенные эти черты свято сберечь от земной суеты. Вот промелькнула, – и вновь нам смотреть в серое небо сквозь черную сеть.
Что-то от знаменья в осени есть! – лишь полупонята добрая весть. О, золотой неразгаданный код! Кроны пустуют, дождит небосвод. Мастер зашторил глухое окно – но засветилось его полотно.
Невероятного мастер достиг: я узнаю тот единственный миг, что приоткрыл глубину бытия, самых заветных слоев не тая. Пламя березок, сиянье рябин! – черпает осень из вечных глубин.
Мир первозимья! – он тих, молчалив. Вспомню про свет золотых перспектив, – мастер, спасибо! Ты щедро запас эту духовную силу для нас: за полночь вновь подойду к полотну – и в озаренную вечность взгляну.
3. Ночные ветви
Ночные ветви высветил художник
Лучом своих наитий
– и увидел
Сырую фиолетовую сеть
На фоне мглы и ливня.
Что за петли,
Что за узлы образовала крона? –
Как будто в лабиринте сетевом
Хотела выразить метафорично
Всю сложность бытия...
Язык природы
Глубинное способен передать.
Предисловие
Художник как-то показал мне маленький потертый фотоальбом – в нем хранились любительские снимки с его картин, погибших в давние трудные годы. Хотя черно-белые фотографии потускнели от времени, но мне вдруг показалось на миг, что они первозданно заиграли красками оригиналов. Картины были прекрасны! И я с горечью думал о том, что они навсегда утрачены. Неужели в мире нет никаких сил, способных вернуть жизнь этим полотнам? Мне захотелось воскресить картины в своих стихах. Так возник этот цикл, навеянный полотнами на египетские темы, – названия стихов соответствуют названиям картин Б. А. Смирнова-Русецкого.
1. Траурное
(сонет; адажио)
Я не чинил зла людям.
Я не нанес ущерба скоту.
Я не совершил греха в месте Истины.
Из египетской «Книги мертвых»
Все в этом мире оставляет след,
Спасая суть от горького забвенья! –
И сердце знает, что распада нет,
Что иллюзорен миг исчезновенья.
Быть может, на какой-то из планет
Я соберу развеянные звенья, –
И сложатся в отточенный сонет
Припоминанья, мысли, озаренья.
Восстанут из предвечной пустоты
Погибшие поэмы и холсты:
Все истинное повторится снова.
Об этом ли предчувствие твое? –
Не верится никак в небытие!
И память в мире светит как основа.
2. Звездные руны
(аллегро)
Летит летящий. Он улетает от вас, люди, ибо он не принадлежит
земле, он принадлежит небу.
Тексты Пирамид
Зябкая затемь.
Дрожливые росы.
Смотрят
на звезды
ночные колоссы, –
Снова над Фивами Сириус встал.
Древнее небо звенит Орионом, –
Я наслаждаюсь таинственным звоном
И навожу на созвездья кристалл.
Свет преломляют волшебные грани:
Вот я на Марсе – в светающей рани
Вдоль голубого канала иду.
Как марсианская пахнет осока!
Сдвину кристалл – и в мгновение ока
Переношусь на другую звезду.
Каждая грань – это мир самобытный.
Грани бесчисленны! Дух ненасытный
Хочет вселенскую бездну объять.
Истина мира таится не в книге ль
Мудрых созвездий? Серебряный Ригель
Над пирамидами всходит опять.
3. Пирамида
(скерцо)
И нет гибели под твоей защитой,
Бытие твое вечно,
Годы твои бесконечны,
Сын твой Гор умножает дары твои вечно.
Из гимна Амону-Ра
Вчитавшись в иероглифы светил,
Строитель мой по вещему наитью
В ступенчатой структуре воплотил
Свой творческий порыв к самораскрытью.
Чреде моих ступеней нет конца!
И нет черты последней у познанья, –
Возвысившись до Лиры и Стрельца,
Не нахожу границ у мирозданья.
4. Египетский лик
(финал)
Проникая материю, Вечность дает ей
бессмертие и незыблемость.
Гермес Трисмегист
Время исчезло! Проникнусь всерьез
Ритмами древнего лада, –
И попаду под прекрасный гипноз
Неугасимого взгляда.
Брат мой по духу! Как ты ни далек,
Я призываю к общенью, –
И начинаю с тобой диалог,
Сердцем внимая Ученью.
Древняя истина воскрешена,
Вызваны книги из праха.
Смерть иллюзорна! – лишь майя она,
Лишь наваждение страха.
Я это ты! – говорит фараон. –
Тем же признаньем отвечу.
В небе бессмертно горит Орион,
Нашу приветствуя встречу.
(сюита)
1. Перспективы
У мастера
Космос прозрачен –
И это духовности знак!
Едва на холсте обозначен,
Сквозит молодой березняк.
Откроются в свете нерезком
Такие глубины опять,
Что явственно за перелеском
Другой перелесок видать.
Что это: канва паутины?
Иль сетка рябящей воды?
Как будто писались картины
На сколах карельской слюды.
2. Прозрачный верлибр
Кристаллография осени.
Пустые леса как сетевая решетка.
Просветы затянуты исчерна-светлой слюдой.
Остался – остов.
Сохранился – каркас.
Уцелела – основа.
Прозрачная тушь.
Прозрачный грифель.
Прозрачная жженая кость.
Это интроскопия Вселенной! –
Все сущее высветил мастер.
И открылась
на тонких полотнах
сквозная канва бытия.
3. Сквозь кроны
Древо сквозь древо! – наслоены тысячи крон. В этих сетях слюдяных полыхал Орион. Роща сквозь рощу! – этюдник с собой захватив, мастер уходит в прозрачность лесных перспектив. Дали сквозь дали! – природа ясна до основ: синие сумерки живописует Смирнов. Холст или линза? Мне кажется, что полотно первым ледком в озарении застеклено. Мир многопланов! – и ныне хрустален насквозь. Десятикратное эхо в лесу отдалось. Мир духоносен: препятствий не встретит мой взор. Я подключаюсь к осеннему зренью озер. Вижу сквозь камни. Скала мне как цельный кристалл! За полночь Ригель за гранями зябко блистал. Вижу сквозь землю! – глубок освященный родник. В тайное тайных я взглядом духовным проник. Ночь глубока. Но среди ледяной тишины все пифагоровы сферы прекрасно слышны. Эту прозрачность, провидя возвышенный лад, мастер зачерпывал ковшиком чистых Плеяд. Луч интуиции вечность легко пронизал! – и открывалось для взгляда Начало начал.
4. Проясненье
У нас – туман и дождь...
Осенний морок
Клубится вновь над северным селом,
Как первозданный хаос, –
В серой зге
Ориентиры начисто исчезли:
Мир превратился в глиняный расплав,
В начальную субстанцию без формы
И очертаний...
Приуныл художник –
Глядит с утра в холодное окно
И ждет чего-то...
К вечеру морозец
Угнал туман на дальние болота,
А за полночь открылся в облаках
Большой прорыв, похожий на колодец,
И показалась в черной глубине
Сверкучая звезда.
Да это ж Вега!
Потом все тучи разом унесло –
И совершилось чудо:
дальний космос,
Как никогда
Приблизился к Земле.
Художник вышел на скалистый мыс
И стал этюд набрасывать:
Возничий
Блескуче проступил на полотне,
Натягивая лучевые вожжи,
А ниже соразмерный Орион
Означился в преображенном виде:
Как будто внутрь огромного кристалла
Его вписал художник, –
В зыбких гранях
Переливался несказанный свет.
Вернулась во Вселенную прозрачность!
Морозец все созвездья застеклил,
Хрусталь нарезав по извечным схемам:
В квадрат Пегаса,
как в пустую раму,
Вставляет он холодное стекло, –
И точно подгоняет по размерам
Прозрачный блок для звездного ковша
Большой Медведицы!
Все мочажины
Накрыла ночь оптическим ледком:
Когда б глазами стрекозиной нимфы
Я глянул сквозь него, –
ошеломленно
Я в этом небывалом объективе
Увидел бы:
Вращаются спирали
Плывущих в бесконечности миров.
Высь после этих дивных превращений –
Как бы алмаз огромный.
В средоточье
Ночного грановитого пространства
Склонился над этюдником художник, –
Он сердцем постигает красоту
И меру бытия:
Мир снова космос.
5. Пифагоровы сферы
Художник!
Прозрачны для ясного взора
Все десять
космических сфер
Пифагора! –
Одна сквозь другую сегодня видна.
О, ясность Вселенной! о, сфер перспектива!
Пусть ночь повторится внутри полотна,
Чтоб замерли мы в лицезрении дива.
О, сферы!
Вы светитесь в бездне застылой;
Вы славитесь
увеличительной
силой!
Художник сегодня сквозь вас увидал,
Как родственный мир из соседней Вселенной
Направил в другое пространство сигнал, –
И Землю нашарил ажурной антенной.
О, сонмы вселенных!
Открылась для взгляда
Структура
вселенского строя
и лада!
К иным измереньям означился путь, –
Достаточно выйти на эту поляну,
Чтоб в самую бездну небес заглянуть,
От сердца дивясь вековечному плану.
О, мир многомерный!
Пространство слоисто –
Одно
сквозь другое
мерцает лучисто!
Художник в слоях самородной слюды
Увидел модель многомерного мира.
Картины-кристаллы!
В них лучик звезды
Дробится внутри как на гранях сапфира.
Картины,
Таящие светлые чары,
Для зренья
духовного
как окуляры!
Художник подводит меня к полотну, –
Сейчас через чуткую оптику эту
Я в самое сердце Вселенной взгляну
И тихо возрадуясь вечному свету.
6. Весной
Встает художник около пяти
И в лес уходит, –
Он в конце апреля
Особенно прозрачен и сквозист.
Раздумчиво перебирая краски,
Художник оставляет лишь одну
Для утренней работы:
эта краска
Есть на палитре только у него, –
Она не появляется в продаже,
Хотя ее запасы грандиозны:
Они повсюду –
В реках и лесах.
Но надо знать особые секреты,
Чтоб эту краску древнюю сгустить,
Не добавляя примесей, –
от века
Зовется эта краска так:
Прозрачность! –
Умеет мастер тысячу оттенков
Увидеть в этом колере простом.
Прозрачный мир!
Вот на прозрачной ветке
Сидит прозрачный дрозд;
неподалеку
Звенит прозрачным родничком овсянка,
А в небе вечереющем плывет
Прозрачный месяц, –
Он зайдет сегодня
За этот березняк,
Прозрачный всклень...
Тогда художник сложит свой этюдник
И возвратится в старую избу,
Где он живет, –
В окно его светлицы
Вплывет прозрачно ранняя звезда,
Чтоб высветить прозрачные раздумья
О сущности добра и красоты.
7. Превращенья
Стрекозы едва ли не сплошь небеса застеклят! – и эта прозрачность стократно усилит мой взгляд. Как будто гляжу я в живой и подвижный витраж, – его переменчивых трепетов не передашь. В сквозящих узорах я высшие смыслы читал, – и влажная радуга преображалась в портал, а этот валун походил на высокий амвон! – накатами плыл голубых колокольчиков звон...
Прозрачные крылья. За ними весь мир как собор! Таких превращений не видывал я до сих пор. Лишайник на скалах, – он с фресками схож в этот час: мне нимбы пармелий напомнили иконостас. В хрустальные четки роса превратила траву. Прозрачнейший космос! Я взгляд подниму в синеву, – и буду растроган гармонией этой до слез, провидя иные вселенные в крыльях стрекоз.
8. Живописцу
Радуга
В росистой паутине,
Света перламутровая дрожь!
Не ее ли, мастер, на картине
Вдохновенно ты передаешь?
Но гляди! – вот в неводок паучий
Попадает первый желтый лист.
Открывая тайный мир созвучий,
Воплоти все это, пейзажист.
Пусть ложится сетка световая
На твое сквозное полотно, –
Тонкое с прозрачным сочетая,
Светится наитьями оно.
9. В росе
Туман свершает чудо:
паутину,
Невидимую в солнечных лучах,
Он как бы проявляет, –
и она,
Преображая весь осенний космос,
Вдруг делается зримой...
Ранним утром
Легла на нити бисерная влага, –
И проступили дивно кружева,
Возникли сети,
Засквозили сита,
Провисла кисея.
О, чудный мир!
Он рядом с нами:
Он прозрачно встроен
В обычный мир;
Столь явный для наитий,
Он скрыт от взгляда.
Я его сравню
С таинственным четвертым измереньем,
Которое вот здесь! –
Но недоступно
Для наших грубых и неточных чувств.
Вы только посмотрите:
Паутина
Положена в два-три сквозящих слоя –
Этажик над этажиком.
А рядом –
Среди провисших этих гамаков,
Палаток, парусов –
иное диво:
Ажурные творенья кругопряда
Являют стиль,
Классически простой
И строго соразмерный...
Без линейки
И циркуля наведены круги,
А в них напоминающие спицы
Сквозные радиусы.
Красота!
Но солнце поднимается все выше
Рассеивая золотой туман, –
И снова тихо тает на глазах
Мир паутины.
Незабвенной сказке
Идет на смену звонкий будний день.
10. Кода
Пальцы от холода утром свело,
Но из колдобины все-таки выну
С увеличительной силой стекло:
Первого льда слюдяную пластину.
Здесь паутина как тонкий визир;
Здесь у озер велика светосила, –
Ибо пречистая осень весь мир
И зарешечила, и застеклила.
Соединяя стекло и слюду,
Крылья стрекоз и хрустальные грани,
Эту систему на мир наведу:
Как он прозрачен в светающей рани!
В чем моя истина?
Где мой исток?
Я углубляю сейчас перспективу,
Глядя на мир сквозь тончайший ледок,
Глядя в себя сквозь опавшую иву...
Научно-фантастическая повесть
От автора
Космическое искусство ошеломляет своей новизной, фантастичностью. В поисках адекватной формы для передачи этих его качеств я пришел к мысли синтезировать черты искусствоведческого анализа с элементами научно-фантастической прозы. Так возникли повести о Б. А. Смирнове-Русецком, А. П. Сардане, В. Т. Черноволенко. Действие в них перенесено в будущее: я пытаюсь писать о творчестве художников с позиций завтрашнего дня, – такая необычная точка зрения дает возможность по-новому оценить художнические прогнозы мастеров «Амаравеллы». Повести можно назвать опытом фантастического искусствоведения. Художники как бы переносятся в мир своих картин, – этот условный прием помогает передать своеобразие их искусства.
ПРОЛОГ
Над моим рабочим столом висит картина Бориса Алексеевича Смирнова-Русецкого из цикла «Прозрачность». Если долго глядеть в ее завораживающую глубину, то происходит чудесная метаморфоза: рама становится венцом колодезного сруба, а полотно превращается в зеркало спокойного родника. Вода в нем особая! Это вода-невидимка. Так она чиста, так хрустальна. И лишь легкие отражения обнаруживают ее присутствие, – да еще осиновый желтый лист, невесомо парящий в иллюзорном пространстве.
Вечереющий космос пристально глядит в родниковое зеркало, – и оно кажется чуть вогнутым как зеркало телескопа-рефлектора. Сейчас в его фокусе дрожит Вега, похожая на зябкую ртутную каплю.
Я подхожу еще ближе к картине-роднику, – и этим как бы усиливаю увеличение: теперь я вижу планетную систему вокруг Веги. О, эти блескучие бусины, расположенные вокруг светила в гармоничнейшем порядке! Я угадываю этот порядок сердцем, – мне не нужны никакие расчеты: так наслаждаешься стихами или музыкой, не вникая умом в их структуру, ибо она целостно охватывается наитьем.
Но вот я отступаю на шаг от картины, – и тут же из космоса возвращаюсь на Землю: сквозь стеклянное сетево осенних крон виднеются звезды. Дивен узор пустых ветвей! Деревья открываются мне как великие графики: сколько мастерства в каждом штрихе, сколько естественности в каждой линии.
У осенних крон есть неисповедимые оптические свойства: когда глядишь сквозь них, то природа входит в тебя, – и ты воспринимаешь ее изнутри. Печаль оставленных гнезд переживаешь как трагедию своей души; а даль откликается в тебе так глубоко, что ты словно вживаешься в ее сирую протяженность, – и сознание разливается по этим неизмеримым пространствам. Кажется тогда: ты развоплотился, исчез, – стал этими полями, этими валунами.
Да, картина могла делать в твоей душе удивительное переключение. Вся Вселенная переживалась как внутренний мир, – в тебе восходил серебряный Орион; в тебе летели поздние журавли; в тебе падали последние листья. Границы между «я» и «не-я» растворялись начисто: сейчас ты – этот трепещущий жаворонок, а через миг – вон тот осанистый лось. Эти превращения свершались с удивительной легкостью, ибо ты нес в себе полноту всего бытия.
Ты переставал быть внешним наблюдателем. Хлопоты жука, рост былинки, блеск росы – это все находилось внутри расширенного сознания: простираясь до беспредельности, оно совпадало со всей Вселенной.
Я открыл у картины еще одно необыкновенное свойство. Оказывается, она помогала мне думать, – неявная мысль вдруг огранялась кристаллом, когда я наводил на нее картину-линзу. Это воспринималось как чудо! Бывало, мечешься в хаотической невнятице идей и образов, отыскивая верную нить, – и вот отчаялся уже: проблема кажется неразрешимой. Но случайно бросишь взгляд на картину – и словно озарение сходит к тебе. Такая прозрачность в сознании! Видны горизонты, доселе скрытые. За самым дальним из них брезжит решение проблемы. Обнадеженный, движешься к цели. И достигаешь ее.
Я понял: в картине передано состояние высшей концентрации духа. При этом состоянии мир становится прозрачным – все уровни бытия просвечивают друг сквозь друга. Тогда-то и открывается сущностное! Открывается поэту и ученому: ведь два образа мира – художественный и научный –совпадают в часы высших прозрений.
Через картину в меня ощутимо входила некая духоносная сила. Кажется, я нашел для нее название: сила прозрачности! Доброе излучение пронизывало меня насквозь, исподволь растворяя все суетное и преходящее. Это было своего рода терапией, – картина снимала нервное напряжение и разгружала подсознание. Я теперь ясно чувствую, чего нам не хватало раньше: именно прозрачности! Мы сделали мир слишком непроницаемым, – потому сами стали непроницаемыми. Быть может, это было самозащитой? Но всему есть мера: дефицит прозрачности люди ощущают все острее.
Не потому ли нас тянет к природе, к искусству? Ведь красота обладает даром высвечивать душу – делать ее прозрачной и для себя, и для другого. Как в детстве, захотелось посмотреть на мир сквозь крылья стрекоз. Или преломить его в стеклянной ребристой сосульке! А как это здорово: наклониться над кружевом манжетки – и выпить с него крупную каплю росы. Чувствуешь? – чистая влага высветляет сердце. Сойки садятся в двух метрах от тебя – словно ты стал невидимкой для них; лоси без боязни проходят рядом с тобой – будто видят насквозь твою душу и не обнаруживают в ней никакого зла.
Прозрачность! Это понятие становилось для меня сложной категорией – философской, эстетической, этической: я понял, что подлинная гармония недостижима без прозрачности. Греческий мудрец Фалес утверждал, что первоосновой мира является вода. Эта стихия стала символом прозрачности. Да не затемнятся вовеки ключевые истоки Вселенной! Повсюду бьют родники прозрачности: они в звездах, лесах, душах, – мы щедро черпаем из них, радуясь ясности и свежести бытия.
Глава 1.
КРИСТАЛЛЫ ДУХА
Орис был разносторонне одаренным человеком. Профессиональные занятия живописью он сочетал с глубокими исследованиями в области кристаллографии.
Как это ни странно, но интерес к кристаллам имел у Ориса гуманитарную подоплеку. С юных лет он размышлял о сути прекрасного. Его эстетическая концепция была близка идеалам античности, – понятие красоты Орис связывал с мерой и гармонией космоса. Он был убежден в том, что красота лежит в самом фундаменте мироздания. Наука тогда лишь приближалась к великой проблеме: почему космос является организованной системой? Почему материя противостоит силам хаоса и распада?
Космос на полотнах мастера пронизан творческой активностью. Он порождает все новые и новые очаги жизни. А жизнь неуклонно движется к духу! И вот мы видим: разум процвел на бесчисленных планетах, соединенных в одну космическую ноосферу.
Эту духоносность космоса изумительно передает картина Ориса «Сакральные острова». Синяя бесконечность простирается перед нами – ив ней плывут самосветящиеся галактики. Они уже стали светочами жизни и духа! – это чувствуешь сразу: особая теплота излучается млечными островами.
В космосе Ориса нет ничего враждебного человеку, – воистину он полон дружелюбия и сердечности. Нет, это не оговорка! И даже не метафора. У прекрасного космоса действительно есть сердце: оно задает бытию единый ритм, единую пульсацию. Кто лучше Ориса ощутил это ровное биение мирового сердца? Он первым положил руку на пульс Вселенной – и передал его частоты в спокойной ритмике своих картин.
Космос организован. Одно из начал мировой гармонии Орис видел в кристаллизации. Аморфное превращается в оформленное! Из маточного раствора вдруг вырастает прозрачная готика кристаллов. Их симметрия прекрасна. Их пропорции великолепны. Этот процесс обретал для художника особые символические черты: в рождении кристалла как бы повторялось рождение космоса. В обоих случаях порядок торжествовал над хаосом.
Орис написал блестящую диссертацию о кристаллах – он впервые подошел к ним с точки зрения архитектурной эстетики. Уже сам метод исследования свидетельствовал об устремленности художника к синтезу. Сопрягая физические и гуманитарные понятия, Орис совершенно по-новому высвечивал сущность красоты и гармонии.
Оказалось, что человек в своей архитектуре повторил многие численные меры и пропорции, заложенные в кристаллах. Если одни и те же системы пропорций реализуются на столь различных уровнях, то это заставляет задуматься о существовании универсальных законов прекрасного. Потрясающие созвучья! Словно ростом кристалла и мышлением зодчего движет единое начало.
Несомненно, Ориса можно считать одним из пионеров системного мышления. Он не сразу был понят своими современниками. Однако молодежь все больше пленялась необычными идеями, – прежде всего привлекал чисто поэтический момент в концепции Ориса: его смелые сближения имели сходство с лучшими метафорами мировой поэзии. Ведь как дерзновенно он соотносил друг с другом разнородные явления! Для этого была нужна фантазия. А Орис-художник был щедро наделен даром воображения.
И это помогало Орису-ученому. Собственно, само такое деление неправомерно – искусство и наука были для Ориса ипостасями неделимого целого. Это придало исключительное своеобразие всей его деятельности.
Замагниченные личностью художника-ученого, его юные последователи проходили закономерную эволюцию: если на первых порах проводимые Ориcoм параллели воспринимались ими как факт поэзии, то впоследствии за метафорами они учились видеть глубинные аналогии. Но поэзия не утрачивалась при этом, – выявляемое Орисом единство бытия переживалось эмоционально: душой, сердцем.
Ориса интересовала не только структура вещества, но и его окрашенность. В этой области художник считался большим знатоком, – составленная им цветовая классификация кристаллов до сих пор не потеряла ценности. Великолепна точность колористических эпитетов, найденных Орисом! – наметанный глаз художника, в единстве с отменным чувством слова, помогал ему найти нужную лексику для передачи тончайших цветовых нюансов.
Но особое внимание Орис уделял бесцветным кристаллам: «камни чистой воды» – вот что составляло гордость его прославленной коллекции. Интерес к таким кристаллам был обусловлен художническими увлечениями Ориса: как живописец он умел мастерски передавать различные прозрачные среды – воздух, воду, хрусталь. Он любил писать прозрачное сквозь прозрачное: в некоторых его картинах можно насчитать до десяти планов, просвечивающих друг в друге.
Прекрасны эти сквозящие перспективы! Будто смотришь в небывалую подзорную трубу – роль стекол здесь играют крылья стрекоз, пустые кроны, чистые ливни. Изумительная оптика усиливает не только физическое зрение, но и твою интуицию. Происходит удивительное топологическое замыкание взгляд, обращенный в бесконечность, неожиданно оказывается взглядом в себя, – за матовыми кружевами галактических спиралей вдруг видишь глубины своего сознания. Словно художник работает на порубежье между внешним и внутренним миром! Более того, он делает границы между ними условными, относительными – ты созерцаешь взаимопереходы духовного и материального, ты наблюдаешь взаимодействие сознания и космоса. Взгляд вовне становится взглядом вовнутрь! И наоборот: самопознание оказывается методом изучения Вселенной.
Ориса интересовала не только эстетика прозрачности – он видел в проблеме и глубокие естественнонаучные аспекты. «Прозрачность в природе» – так называлась монография Ориса, выдержавшая в течение столетия шесть изданий.
Почему на разных уровнях организации природа создает прозрачные среды? Орис не только первым задумался над этим вопросом, но и осознал всю его глубину, – понятие прозрачности неожиданно приобрело космологический и эволюционный смысл.
Если процессы жизни связаны с восприятием информации, то наличие среды, прозрачной для соответствующих сигналов, становится непреложным условием. Понятие прозрачности Орис толковал расширенно, – так, если есть существа, обменивающиеся информацией с помощью нейтрино, то непрозрачное для нас вполне прозрачно для них: толщи горных пород, мощные свинцовые экраны, массивные бетонные стены, – для нейтринных потоков они так же прозрачны, как для светового луча проницаемы слюдяной ледок или венецианское стекло.
Вообразим существо с еще более фантастическими органами восприятия: пусть роль носителей информации для них играют гравитационые волны. Наша планета для них подобна насквозь прозрачному шару! Да и вообще любое тело в космосе для таких существ будет прозрачным – ведь гравитация вездесуща, от нее невозможно экранироваться. Не правда ли, сверхпрозрачный космос кажется нам сказочно прекрасным?
«Хрустальный мир» – так называется цикл картин Ориса, навеянный раздумьями о разных видах прозрачности. Мы узнаем на полотнах хорошо знакомые нам явления, но только они чудодейственно преображены: планеты, деревья, горы, – все сделалось насквозь прозрачным. Взгляд нигде не встречает препятствий! – по мановению волшебства мир стал абсолютно проницаемым для наших наитий.
Орис любил первозимье. Он всегда караулил пору, когда в заливах появляется ледяная кромка. Будто крылья невиданных птиц или вайи древних папоротников отпечатывались в стеклянном ледке! – ведь он никогда не бывает ровным, а всегда несет на себе рельефно выступающие лучевые структуры. Ориса с детства волновали ледяные узоры на окнах. Есть ли в разнообразии их форм какие-либо закономерности? Орис со всей серьезностью отнесся к этому вопросу, – ответом на него стало исследование «Морфология ледяных узоров». Орис иллюстрировал его своими картинами, – они перерастали значение чисто научных иллюстраций: это были подлинные шедевры искусства. Академическая монография стала модным подарком на дни рождения и свадеб! Столь великолепны были узоры, запечатленные кистью Ориса.
Художник живописал зимние окна в разных уголках земного шара, – он любил путешествовать: частая смена мест диктовалась как эстетической потребностью в разнообразии, так и интересами научной работы. Художник не сразу заметил, что географическое положение отражается на характере морозных рисунков. Однако со временем эти различия стали для него бесспорными! Вполне понятна необходимость такой науки, как география растений. Но кто мог подумать, что и флора заледеневших окон подчиняется определенным географическим закономерностям?! Так возникло новое научное направление: «Экологическая кристаллография».
Стилевое своеобразие морозных кружев обусловливалось разными причинами, – существенную роль здесь играли геомагнитные и гравиметрические факторы: ледяные узоры несли тонкую информацию о всей сумме условий своего образования. Зимние окна оказались своеобразными текстами! – Орис нашел ключ для их перевода: в Книге природы была расшифрована еще одна страница.
Правда, некоторые детали этих письмен не удалось понять до конца. Казалось бы, Орис перебрал все параметры среды, – и все же загадка была далека от разрешения. Оставалось одно: расширить понятие среды, – расширить прежде всего в пространственном смысле. Это означало необходимость учета космических факторов в процессах кристаллизации!
Орис не сразу принял собственную гипотезу – уж очень фантастической она выглядела даже для него самого. Какое отношение космос может иметь к узорам на зимних окнах? Причинные отношения в данном случае представлялись просто немыслимыми. И все же Орис взялся за проверку невероятного предположения.
Результаты были получены очень скоро. И они ошеломляли! Выяснилось, что морозное окно является идеальным самописцем для регистрации космических ритмов. Именно они запечатлевались в некоторых тонких особенностях кристаллической структуры – как бы направляли ее образование, задавали канву рисунка.
Парадоксальная ситуация: обычные стекла из окон деревенского дома стали для науки не менее ценными, чем первые фотопластинки с треками космических частиц. Кристаллы оказались необыкновенно чуткими к слабым воздействиям извне. Конечно, это была избирательная чуткость – ледяные узоры реагировали на колебания лишь определенных частот. Источниками этих колебаний могли быть самые разные космические тела: Солнце, планеты, звезды, – и даже далекие галактики. Поскольку у каждого объекта есть свои неповторимые частоты, то оказалось нетрудным определить, чей ритм оказывает информационное воздействие в каждом конкретном случае.
Воздействие носило именно информационный характер, – энергия его была слишком мала для того, чтобы как-то сказаться на процессе кристаллизации. Поэтому удаленность источника не имела особого значения – и самые малые сигналы существенно влияли на рост кристаллов. Даже знаменитая радиогалактика в созвездии Девы оставляла свой ритмический росчерк на окнах Земли! Зимой Дева восходит под утро, – тогда и мороз самый крепкий: поэтому след от далекого источника излучения остается почти всегда.
Открытие Ориса находилось в русле уже сложившихся традиций земной науки, – в свое время была показана связь между космическими ритмами и жизнью биосферы. Появлялись исследования, доказывавшие влияние космоса и на неживую природу, – так, геологические процессы четко соотносились с ритмами нашей Галактики. Однако на работах Ориса лежала печать несомненной новизны. С потрясающей простотой и изяществом он вновь убедил землян в том, что их планета отнюдь не изолирована от космоса. И как наглядно это было показано! – не ленты сложных самописцев, а заиндевелые стекла несли на себе информацию о далеком космосе: они запечатлевали его ритмы, его гармонию, его красоту. Вот одна из картин мастера: окно с полупрозрачными набросками инея – а за ним сквозящее зимнее небо с бессмертными созвездьями. Художник дивно передает сопричастность всего земного величию космоса.
Философы издревле развивали свой излюбленный тезис – единая причинность связует все бытие в rapмоническое целое. Земляне охотно верили в правильность этого утверждения, однако оно было для них слишком абстрактным, а потому и оставляло равнодушным. Но вот появились прямые доказательства включенности Земли в космическую причинность! И среди них открытие Ориса было самым впечатляющим. Кристаллы оказались посредниками между человеком и космосом, – благодаря им земляне получили возможность живо ощутить дыхание Вселенной.
Интерес Ориса к кристаллам еще более углубился благодаря необычным археологическим открытиям. Они были сделаны в районе Великих египетских пирамид – Орис давно тяготел к этим памятникам древней культуры. Художник называл их кристаллами духа! Ведь пирамиды свидетельствуют о пробуждении космического сознания у человека, – в них выразились высшие устремления культуры к внеземному, запредельному.
Еще в годы юности Орис обратился к теме пирамид. Мастер любил писать их при лунном свете, когда они кажутся прозрачными. Будто это гигантские кристаллы сапфира, – синие грани влекут своей глубиной и таинственностью.
Эти картины Ориса оставляют совершенно магическое впечатление. Невольно задумываешься о том, что многое в пирамидах еще не понято нами. Разве это только погребальные сооружения? Нет, их значение бесспорно является более сложным.
На картинах Ориса пирамиды кажутся какими-то грандиозными приборами. Художник тонко передает космизм пирамид. Достаточно один раз взглянуть на эти полотна, чтобы понять связь между древними постройками и звездной высью, – они возведены во имя космоса и ради его познания.
Орис изучал геометрию пирамид: в математике он хотел найти ключ к их тайнам. Такой подход был не новым. Однако Орис и здесь проявил оригинальность – его метод следовало назвать скорее физико-геометрическим, чем просто геометрическим. Известно, что теория относительности установила глубокую связь между физикой и геометрией: структура пространства – и прежде всего мера его кривизны – определяется материальными массами. Интуиция подсказала Орису, что эта зависимость может иметь значение и для познания пирамид: не пытались ли их строители как-то воздействовать на геометрию пространства, манипулируя массами и объемами?
Планету облетела сенсация: недалеко от пирамид найдены прозрачные кристаллы явно искусственного происхождения. Рядом с ними археологи обнаружили остатки химической лаборатории – калильную печь, специальную посуду, тигли. Кристаллы по форме напоминали октаэдр, – это были изящные восьмигранники: как если бы две маленькие модели пирамиды срослись основаниями. Точные угловые обмеры кристаллов дали удивительный результат: это действительно были миниатюрные подобия гигантских пирамид! Поднеся один из кристаллов к глазам, Орис посмотрел сквозь него на пирамиду Хеопса. Художник нашел такое положение, когда грани кристалла совместились с гранями пирамиды: совпадение пропорций было абсолютным, – это сходство и восхищало своей красотой, и томило своей загадочностью.
Орис приступил к всестороннему изучению кристаллов. Химический анализ показал, что их состав весьма обычен, – во многих отношениях они были близки к корунду. Однако оптика кристаллов оказалась весьма странной! Световой луч иногда словно терялся в прозрачных недрах кристалла, – при определенных положениях восьмигранник нельзя было просветить насквозь: казалось, что он удерживает каждый фотон внутри себя. Это не удалось объяснить внутренним отражением или особенностями преломления. Как бы напитываясь светом, кристалл обретал трепетную лученосность! Будто свет циркулировал внутри него по замкнутому кольцу, – и долго не мог выйти наружу: он становился пленником кристалла.
Орис решил исследовать таинственные многогранники с помощью рентгеноскопии. Результаты озадачили: кристаллическая решетка обнаруживала явные отклонения от обычной геометрии! Орис нашел то, что хотел найти великий Гаусс: нарушение извечного правила, согласно которому сумма углов в треугольнике равна ста восьмидесяти градусам. Но Гаусс искал это отклонение на большом пространстве, – углы треугольника у него намечались горными вершинами. А Орис обнаружил отклонение от классической геометрии в пределах малого кристалла. Неужели действительно его внутреннее пространство является неевклидовым? Трудно было принять такое объяснение. Считалось, что постулаты Евклида могут нарушиться лишь в масштабе космических расстояний, – возможность таких нарушений удалось доказать экспериментально: мощный лазерный луч шел в космическом пространстве по искривленной траектории. Но мыслимо ли искривление пространства в малом объеме? Глядя на удивительные кристаллы, Орис думал про себя: быть может, это лучшее доказательство правоты Лобачевского и Эйнштейна!
Неевклидовость кристаллического пространства хорошо объясняла странности со световым лучом, – если хотя бы некоторые траектории в кристалле замкнуты на себя, то свет будет двигаться как бы по кольцу: кристалл станет для него своеобразной ловушкой. Однако почему в кристалле повторилась геометрия большой Вселенной? В малом явственно светилось великое: за прозрачными гранями Орис брезжил лучащийся космос.
Как в условиях Земли могли образоваться такие кристаллы? Или они попали на нашу планету из глубин мирового пространства? Но вот следы древнем химической лаборатории: все признаки говорят о том, что кристаллы были выращены землянами. Правда, тут можно было легко возразить: а что если кристаллы – природные образования, но только возникшие не на Земле? Предположим, что они были доставлены к нам другой цивилизацией. Причем вовсе не для того, чтобы удовлетворить наше любопытство! Это могли быть лекарственные препараты инопланетян. Или части их оптических приборов, – гипотезам тут нет числа: ведь назначение кристаллов остается совершенно неясным.
Если это был палеоконтакт, то он осуществился без разумных свидетелей. Прошли миллионы лет. И вот случайно древние египтяне нашли в песках странные кристаллы! Они завораживали красотой, они будили мысль.
Алхимики попытались воспроизвести кристаллы в своих лабораториях – небезуспешно: опыты не удавались. И тогда за эту задачу взялись зодчие! – пирамиды есть не что иное, как модели кристаллов. А не наоборот. Люди решили воспроизвести находку в огромных масштабах, – словно они интуитивно угадали космический смысл кристаллов: возводя пирамиды, египтяне давали Вселенной знак о рождении ноосферы.
Сколь ни поэтичной казалась эта гипотеза, но Орис не принимал ее всерьез. Нет, он не отрицал возможности палеоконтакта. Более того: Орис считал, что получение знаний от инопланетян не делало человеческую историю менее самобытной. Ведь учимся же мы у природы! И часто ее уроки превосходят наше понимание. В конце концов, все в мире взаимосвязано: поэтому обмен информацией во Вселенной столь же естествен, как и обмен энергией. Если разум есть явление космическое, то почему мы так упрямо отстаиваем свою уникальность? – наше достоинство ничуть не пострадает от того, что мы воспользуемся советами и уроками братьев по разуму. Не существует ли в космосе единая Ноосфера? – сопричастность к ней может быть предметом законной гордости.
Однако Орис понимал более широко возможность космических влияний. В гипотезе прямых подсказок из космоса его не устраивала пассивность той роли, которая отводилась землянам: контакт представлялся Орису как сотворчество, в котором обе стороны проявляют активность. Кроме того, контакт вовсе не обязательно должен осуществляться в прямой форме: космическая информация может поступать в сознание землян через творческие озарения, прозрения, сны.
Орис понимал, сколь фантастичны его представления. Но все же он их считал эвристически полезными. Слишком упрощенными казались ему существующие модели контакта. Космос несомненно воздействовал на Землю – и на ее природу, и на ее культуру. Однако это воздействие, по мысли Ориса, было несравненно более тонким, чем это казалось сторонникам прямого контакта. Погруженная в поток космической информации, Земля черпала из него только то, к чему была внутренне готова. Более того: она сама пополняла этот поток! Ведь каждый мир уникален. Поэтому космос должен был выработать механизмы, обеспечивающие творческую индивидуальность миров. Разве интересно повторять уже известное? Разнообразие жизненно необходимо космосу. Вот почему от каждого мира он ждет самобытных идей. И разве прямое влияние извне не уменьшило бы это разнообразие? Механическое воспроизведение когда-то добытых знаний лишено творческого начала. Поэтому Орис весьма скептически относился к гипотезе непосредственного контакта. Он верил в мощь человеческой интуиции! – сканируя космос, лучи наших наитий приносят новое знание. Да, космос идет нам навстречу, – но инициатива здесь принадлежит человеку.
Поэтому Орис отверг мысль о том, что кристаллы являются своеобразным посланием внеземной цивилизации, – если космос через них действительно обращался к человеку, то для этого не нужны были посредники.
Не произошел ли такой контакт с космосом в Древнем Египте? Орис полагал, что очаги культур приурочены к особым точкам планеты. Собственно, это очевидно для каждого, кто пристально посмотрит на карту из учебника истории. Но какие свойства делают эти точки предпочтительными? Почему именно они благоприятствуют развитию культур? Орис интуитивно чувствовал, что ответы на эти вопросы имеют непосредственное отношение к проблеме кристаллов.
И он построил рабочую гипотезу. Суть ее заключалась в том, что на планете имеются места, где контакт с космосом облегчен. Это обусловлено структурой Земли: в некоторых регулярно расположенных точках ее поверхности образуются деформации пространства, – и там планета непосредственно соприкасается с Большой Вселенной.
Вероятно, космические условия могут варьировать во времени. Почему бы не предположить, что в эпоху пирамид они были наилучшими? Вплотную приблизясь к Земле, неевклидово пространство влияло на самые разные процессы: от образования видов до зарождения идей. Существовала благоприятная среда для творчества, – и это было обусловлено живыми связями с космосом.
По сути дела Орис закладывал новое направление мысли, – космическая экология культур теперь получила широкое развитие. В каком-то смысле она восстанавливала старые теории о влиянии среды на культурный процесс, – но это было возвращением к пройденному на повышенном основании: понятие среды качественно обогащалось, ибо подразумевало прежде всего космическое окружение Земли. Не могло быть и речи о прямом воздействии наземные процессы со стороны этого окружения! Но космос – способствовал, но космос – помогал. Это воздействие могло осуществляться по разным каналам – и через электромагнитные поля, и через резонансную передачу ритмов. Не исключено, что искривления пространства иногда меняли картину ночного неба, – в нем возникали непонятные явления, будившие мысль. Странности и парадоксы всегда были лучшим ферментом для развития сознания. Быть может, звездное небо щедро дарило египтянам удивительные феномены, воспринимавшиеся как чудеса, – ни-то и запечатлены в астральных мифах Египта.
Орис попытался воссоздать эти небесные феерии, – так возникла его знаменитая «Египетская серия».
Сейчас она по праву заняла почетное место в залах Каирского музея. Мастер блестяще раскрыл взаимодействие земных и космических планов. Созвездья на этих картинах – такая же часть среды, как цветы лотоса или гнезда удодов: наша история протекает среди созвездий – внутри созвездий! Орис убедил нас в этом. Он помог осознать землянам, что они жители космоса: вся наша деятельность осуществляется в мировом пространстве, – Арктур и Спика влияют на нас не меньше, чем окрестные леса или близкие грозы. В творчестве Ориса ярко заявило о себе геокосмическое мировоззрение.
Древние египтяне ощутили благодарную тягу к небу, – это выразилось в первенцах их гениального зодчества. Самая ранняя пирамида, возведенная Имхотепом, имела ступенчатую форму. Словно по этой гигантской лестнице человек хотел взойти к звездным Весам и положить на их чашу свою лепту! На вершину пирамиды поднимались, дабы пережить благодатное вдохновение, – здесь к математику приходило решение трудной задачи, а поэт создавал свои самые прекрасные образы. О, эта радость космического сотворчества! Ничто в мире не может сравниться с нею.
Поднявшись в звездную ночь на пирамиду Хеопса. Орис почувствовал небывалый прилив сил. Он слышал, как ритмично дышит астральный Овен; ему воочию стала видна звездная структура Млечного пути; Плеяды хором читали для него свои древние руны.
– Небом единым жив человек! – прошептал Орис прекрасные строки поэта. Он понял функцию пирамид: это были резонаторы космического пространства – они усиливали гармонию сфер и доносили ее до слуха землян. Грани пирамид становились гигантскими деками: в них отдавались ритмы пульсаров; они повторяли диалог Ориона и Геркулеса; к ним припадали жрецы, дабы услышать небесную Лиру.
Орис бывал на величайших горных вершинах планеты. Но только пирамиды смогли вплотную приблизить его к звездам! Орису показалось, что он вошел в самую гущу Гиад, – звезды окружали его со всех сторон, небо обрело необыкновенную трехмерность. Но Орис вдруг почувствовал, что его восприятие расширяется, – небо открывало ему четвертое, пятое, шестое измерения. Весь многомерный космос предстал перед ним в дивном мгновении! – космос радужный, космос неисчерпаемый.
Следующий день Орис провел внутри пирамиды Хеопса, – он делал некоторые обмеры, нужные ему для задуманных экспериментов. Близился вечер, – солнце должно было вот-вот уйти за горизонт. Орис взглянул на часы: да, солнце заходит. Но внутри пирамиды диск Атона не был виден. И вдруг Орис узрел его! – это ошеломляло, сбивало с толку. Толща пирамиды стала словно стеклянной, – сквозь нее прекрасно просматривалась вся панорама заката: огромный красный шар казался наполовину зарытым в пески. Поражало и другое! – одновременно с Солнцем были видны звезды. Атон находился вблизи точки летнего солнцестояния, у восточной границы созвездия Близнецов. И надо же! – прямо над ним сияли ярчайшие звезды этого созвездия, Кастор и Поллукс.
Орис успел нажать затвор фотоаппарата, – сейчас этот снимок знает вся Земля: небо сфотографировано сквозь пирамиду.
Художнику сразу пришла в голову мысль об интроскопии – в свое время он работал с одним из крупнейших специалистов в этой области. Но каким образом могла быть высвечена твердотельная пирамида? Идея о неизвестном излучении была не по вкусу Орису, – фактор-Х следует вводить лишь тогда, когда исчерпаны все возможные объяснения. Быть может, для интроскопии вовсе не обязательно прямое высвечивание? Ведь в теории схожий эффект можно получить, меняя геометрию пространства, – для этого его нужно как бы раздвинуть, встроить в него еще одно измерение.
Не существуют ли своего рода флуктуации земного пространства? – тогда оно на мгновенье увеличивает свою размерность. И в этот миг наш евклидов мир соприкасается с неевклидовым космосом! И мы расширенным взглядом видим не только интерьер пирамиды, но и весь окружающий мир, – внешнее и внутреннее становятся относительными в многомерном пространстве.
Орис пошел еще дальше в своих дерзких предположениях: а что если такие флуктуации пространства приурочены к особым точкам нашей планеты? И наши пращуры сумели интуитивно нащупать эти точки?
Если эти предположения верны, то сам собой напрашивается такой вывод: пирамиды построены возле особых точек земной поверхности. Здесь контакте космосом достигал особой полноты и силы. Пережив великую радость слияния со Вселенной, люди начали культивировать это могучее творческое чувство.
Возможно, пирамиды усиливали природный феномен. И это достигалось благодаря тонкой системе пропорциональных соотношений. Да, геометрия становилась активной силой! Древние обнаруживали это стихийно. Найденные ими пропорции обладали резонирующими свойствами, ибо соответствовали частотам глубинных космических ритмов. И поэтому в определенные мгновения грани пирамид отзывались на высшую музыку сфер.
Орис вспомнил слова Уилера: «Вещество есть возбужденное состояние геометрии». Быть может, это утверждение звучит слишком радикально. Однако оно отмечено несомненной новизной! Ведь геометрические соотношения мы привыкли считать чем-то абсолютно пассивным. Но уже древние ощутили, что это не так. Разве лучшие творения зодчества не обладают духоподъемной силой? Значит, мудрый выбор геометрической меры может что-то изменить в нас, – архитектура влияет на духовную энергетику нашей личности. Но здесь геометрия воздействует на идеальное пространство души! А если она что-то меняет и в физической среде!? Дабы ответить на этот вопрос, Орис поставил интереснейший опыт. Суть его заключалась в следующем: один сосуд с маточным раствором для кристаллизации помещался внутри пирамиды, а другой, контрольный, в отдалении от нее. Потом Орис проводил сравнительное изучение полученных кристаллов.
Что же выяснил Орис? Его опыты показали, что кристаллизация внутри пирамиды протекает более быстро: словно раствор ассимилирует в себя какую-то добавочную упорядоченность, поступающую извне. Убыстряется не только рост кристаллов! Орис установил, что живые ткани, помещенные в глубине пирамиды, регенерируют почти в три раза быстрее, чем контрольные образцы. Значит, пирамида может оказывать целительное воздействие! – раны в ней должны заживляться с большей скоростью.
Но вот главное достижение Ориса: ему удалось синтезировать кристаллы, совершенно аналогичные тем, какие были найдены археологами. Пирамида породила свое собственное подобие! Так была разгадана тайна прозрачных многогранников. И вместе с этой разгадкой была понята еще одна функция пирамид: они являлись колоссальными химическими лабораториями, в которых возникали совершенно особые условия для роста кристаллов.
В кристаллографии огромное значение имеет принцип П. Кюри: любое тело отражает симметрию той среды, в которой оно возникло. Если в пирамидах пространство иногда становилось неевклидовым, то это неминуемо запечатлевалось и в структуре кристаллов: они сохраняли в себе память о флуктуациях пространства! Можно сказать, что эти кристаллы были детищами космоса, выношенными в чреве пирамиды: неевклидов мир, вплотную приближаясь к Земле, оставлял свой прекрасный образ в прозрачных многогранниках.
Так земляне получили удивительную возможность изучать геометрию дальнего космоса. Это содействовало мощному подъему космического сознания. Люди как никогда глубоко ощутили свое соседство со Вселенной, – за прозрачными гранями кристаллов им открылась бесконечность.
В глубине пирамид были организованы уникальные исследования, – древность и современность сочетались в замечательном синтезе. Кто бы мог подумать, что пирамиды окажутся могучим средством познания? – по значимости получаемых результатов были оставлены позади и мощные ускорители, и гигантские радиотелескопы. Еще бы! Ведь люди теперь могли непосредственно – в земной лаборатории – исследовать структуру космоса.
Выяснилось, что рост многогранников подчиняется фенологическим ритмам. Это казалось странным: ведь внутри пирамид имеется устойчивый микроклимат. А сезонные колебания внешней среды – кстати сказать, не очень значительные – вряд ли могли прямо влиять на кристаллизацию. Оставалось предположить одно: в росте кристаллов отражается космическая фенология нашей Земли! – и прежде всего ее проекция на пояс зодиакальных созвездий.
В строении кристаллов запечатлевались различные космические ритмы. Для выявления их источников очень пригодились работы Ориса, посвященные морозным узорам, – ведь зимние окна в каком-то смысле являются ритмограммой звездного неба: при начальной кристаллизации, происходящей почти мгновенно, запечатлевается сложная система вибраций. Для их расшифровки не трудно подобрать ключи – Орис выработал надежные способы такого декодирования: из деталей кристаллической структуры он извлекал сложную информацию о космических ритмах.
Казалось бы, это очень разные науки: экология и ритмология. Однако нельзя упускать из виду, что космические вибрации являются неотъемлемым элементом нашей среды – мы живем внутри многомерной сети ритмов, способных оказывать тонкое влияние на различные аспекты нашего существования. Сам факт этих влияний теперь считается бесспорным. Кажется странным, что когда-то они могли отрицаться, – столь изолированными от дальнего космоса чувствовали себя люди.
Экология вступила в новую область исследований. Было доказано: космические вибрации накладывают свой отпечаток на генотип растений и животных; они предопределяют некоторые существенные черты в психологических особенностях личности; благоприятные сочетания ритмов повышают жизненную активность, – и наоборот: накладка некоторых ритмов друг на друга дает отрицательный эффект.
Человек ощутил свою биосферу частью космоса. Вон серебристо переливается в небе Капелла! – ботаники показали недавно, что ее ритмы ускоряют прорастание семян. А правее Капеллы мерцает Алголь: его переменность отражается в работе нейронов нашего мозга. Мириады нитей, протянутых от космоса к человеку и его биосфере, вдруг стали зримыми. Ориентация в этих ритмических сетях сулила людям новые удачи. Расширилось и человеческое сознание. Никогда еще наука не влияла так сильно на духовную и эмоциональную жизнь человека.
Иногда говорят: «Новое – это хорошо забытое старое». Космическая ритмология возникла не на пустом месте – она имела некоторые параллели в древней культуре. Астрологи давно утверждали, что звезды влияют на судьбы людей. Было ли это поэтическим домыслом или гениальной интуицией? Вероятней все же последнее. Люди могли заметить, что положение небесных тел как-то сказывается на земных явлениях – как-то влияет на них. Человек очень рано ощутил свою сопричастность космосу. Потом в силу различных причин это ощущение ослабло. И теперь вновь вспыхнуло с небывалой яркостью!
После нескольких лет исследований удалось получить единую ритмограмму окрестного космоса. В неимоверно сложном кружеве вибраций угадывалась несомненная периодичность и регулярность. Бросалось в глаза сходство с колеблющейся кристаллической решеткой. Будто Вселенная и впрямь была грандиозным кристаллом! Хотя сходство являлось чисто внешним, но в системном отношении оно имело несомненную ценность: человек вновь убеждался в структурном единстве мира.
Метафорическое сравнение Вселенной с кристаллом опять напомнило о работах Ориса. Неизменно восхищает зрителей его цикл «Космические кристаллы». Орис на этих полотнах изобразил древние созвездья. Они выглядели необычно – будто чудодейственно кристаллизовались в синеве зимних сумерек. Созвездья-кристаллы! Каждое из них воспринималось как некая целостность, а не случайная группа звезд. Это было совершенно новое видение звездного неба. Художник разработал оригинальный живописный язык для воплощения темы. Как дивно переданы прозрачно-матовые грани, соединяющие звезды в кристаллизовавшемся небе! Космические кристаллы просвечивают друг сквозь друга, – млечный опалесцирующий свет наполняет их внутреннее пространство.
Нашла подтверждение еще одна интуиция художника, – Орис предсказывал, что на Земле должна быть система точек, возле которых возможны флуктуации пространства. Еще в древности Платон увидел мир в образе правильного многогранника. Античный мудрец предвосхитил поиски современных ученых! Действительно, в объем земного шара как бы вписан огромный кристалл, – в пересечении его граней возникают особые области, которые теперь называются точками Ориса. Египетские пирамиды находятся возле одной из таких точек. К. аналогичным точкам были приурочены и очаги других цивилизаций.
Удалось построить точную модель геофизического многогранника, – это открыло возможность для поиска новых точек Ориса. Собственно, была необходимость не столько в поиске, сколько в проверке свойств этих точек, – ведь их положение модель указывала однозначно. Вскоре к новопредсказанным точкам Ориса выехали экспедиции.
Было доказано: возле всех точек наблюдаются ожидаемые эффекты. У каждой из точек имелись индивидуальные особенности, – это отражалось в архитектуре выращенных кристаллов. И геометрически, и стилистически они весьма отличались друг от друга.
Кто-то подметил однажды: есть некоторое сходство между формой кристаллов и зодчеством данного региона. Значит, это соответствие характерно не только для Египта! Но на поразительную аналогию не обратили внимания. Психологически это можно понять – за последние годы на человечество обрушился буквально шквал новизны. Адаптация к потрясающим открытиям требовала много сил: никогда еще столь радикально не расширялось сознание человека – нужна была передышка, пауза.
Поэтому явное структурно-стилистическое подобие между кристаллическими и архитектурными формами, возникшими в окрестностях той или иной точки Ориса, не привлекло должного внимания. А ведь здесь таилась возможность для развития нового научного направления! Теперь это совершенно ясно. Но потребовалось еще несколько десятилетий для того, чтобы поставить вопрос о влиянии космоса на развитие искусства Земли.
Конечно, космические воздействия были очень тонкими. К тому же в каком-то смысле они имели вторичное значение, – ведь своеобразие архитектурных форм задается прежде всего внутренними причинами: талантом зодчего, национальной традицией. Но на эти основные факторы накладывается глубокое воздействие космоса. Проходя через сложные трансформации, космические ритмы вновь оживали в архитектурных пропорциях. Каждая точка Ориса давала свое преломление этих ритмов. И это неоднозначным образом отражалось в неповторимости архитектурных стилей.
Возле точек Ориса было выращено большое количество великолепных кристаллов. За их разнообразием стояла неисчерпаемость Вселенной! – моделируя космос, земные кристаллы словно хотели передать все его богатство. Кристаллы несли в себе колоссальное количество информации. Но они имели еще и бесспорную эстетическую ценность. Земляне расширили свои представления о красоте, – в дивных кристаллах им брезжило великолепие иных миров.
Близилось столетие со дня открытия загадочных восьмигранников. Археологи высказали блестящую идею – показать на одной выставке необычные кристаллы и картины Ориса. Идея была реализована, – экспозиция «Прозрачный космос» стала событием в духовной жизни планеты.
Казалось, что полотна и кристаллы родились вместе – в неразрывной гармонической связи друг с другом. Диалог картин и кристаллов увлекал своей глубиной. Будто природа и художник хотели выразить одну идею. Несмотря на различие пластических средств, эта общность идеи угадывалась душой, интуицией. Образ Вселенной! – воплощенный в своих разных ипостасях, он покорял красотой и совершенством.
Композиция выставки была тонко продумана – при определенных ракурсах зритель смотрел на картины Ориса через кристаллы. Прозрачное сквозь прозрачное! Такое сочетание усиливало эстетический эффект. И утверждало нас в убеждении: мир прозрачен для луча интуиции.
Мир прозрачен для поэзии.
Мир прозрачен!
Глава 2
НОЧНЫЕ СВЕЧЕНИЯ
Долгая жизнь художника-ученого Бориса Русова отмечена удивительным единством. Это единство в разнообразии – оно выявляется и осознается не сразу. Поначалу поражает пестрота научных и художественных интересов Русова, – создавая ощущение разнобоя, они подчас кажутся несовместимыми. Что же объединяло исследовательские интересы Русова? Ответ односложен: новые уровни реальности. Сколь ни различны они по своей природе, но у них есть нечто общее – они недоступны непосредственному восприятию, прозрачны для взгляда.
Русов не только выявлял скрытое – ему хотелось запечатлеть в красках все то, что внезапно делалось зримым при свете интуиции. Эту потребность Русов ощутил еще в детстве.
Диалоги с детством...
Мы подчас не подозреваем, сколь существенны они для нас: через сон, через воспоминанье, через мечту мы связаны со своей начальной порой. Обычно эта связь неощутима. Но она не только реальна! – она жизненно важна для нас. Обрыв этой тайной артерии приводит к оскудению мысли: свежесть и новизна мира вдруг пропадают для нас.
Один из ценнейших моментов детства – это ощущение сложности мира.
Бытие для ребенка не исчерпывается тем, что можно непосредственно потрогать. Говоря философски, мир детства является многоуровневым! Пусть эти уровни населены фантазиями – главное все же заключается в самом богатстве структуры мира. Потом эта структура беднеет – мир становится плоским, однообразным... Тогда выключаются творческие механизмы. И это опасно! Ведь стремление к неизвестным уровням бытия питало все великие поиски. Поэтому очень важно перенести из детства в зрелость многоуровневую картину мира. Конечно, она должна быть качественно преобразована и обогащена. Но это скорее касается деталей, а не самой структуры.
Уровни бытия можно представить в виде лестницы, возносящейся ввысь: ступень над ступенью, ярус над ярусом. Однако мыслима и другая картина, когда уровни видятся вложенными друг в друга, – бесконечная иерархия матрешек наглядно моделирует такое представление. По всей вероятности, обе картины равноправны, – одна дополняет другую, в каждой верно отражена неисчерпаемая реальность.
Русову была ближе вторая картина, – всю жизнь он развивал и углублял ее.
Иные миры рядом с нами – вот тут, в двух шагах от нас. Впрочем, еще ближе! – они незримо пересекают наш мир, почти не взаимодействуя с ним. Лишь иногда миры обмениваются информацией. Это жизненно важно для них, но такой контакт должен быть затаенным. Ведь полнота бытия дана каждому миру! И они, будучи творчески индивидуальными, развиваются независимо друг от друга. Но все же изредка открываются щели, через которые видны скрытые уровни реальности. Часто это происходит во сне: какая-то непроницаемая мембрана вдруг становится прозрачной – и к нам просачивается из соседних измерений таинственная информация.
Проявлять незримое! Вот как можно сформулировать одну из задач познания. Для науки это – постижение скрытого, для искусства – воплощение несказанного. Русов в равной степени владел тем и другим, – поиск истины и созидание красоты сливались для него в одном процессе. В часы прозрения он видел, как на мир ложится особый свет, – непроницаемое тогда становится прозрачным, а прозрачное словно расцвечивается изнутри. Дар этого прозрения Русов получил от детства!
Мальчика все больше влек мир живой природы, – пробудившийся к ней интерес определил судьбу Русова. Раскрытию тайн биосферы он посвятил свою жизнь. На этой щедрой ниве в полной мере проявился его дар интуиции.
Прогуливаясь по вечереющему лесу, Русов погружался в мир совершенно особых впечатлений. О, эта наполненность леса веяньями волшебства! Стоило лишь прислушаться – и слышались чьи-то оклики, увещевания. Будто граница с другим измерением здесь становилась настолько прозрачной, что можно было услышать шум иной жизни.
Русов любил ночной лес. Кто лучше его мог передать поэзию мерцающих светляков? Что-то космическое было в этих пульсациях зеленоватого света. Словно светляки переговаривались с другими цивилизациями! Они становились соравными звездам, – один вспыхивал внутри Лиры, а другой изменял очертания Пегаса. Космос нисходил на Землю. Или Земля возносилась к космосу! Не это суть важно. Главное – в гармонии планов: земного и космического. Они беспрепятственно проходили друг сквозь друга, – пространство рассекало пространство, объем просвечивал сквозь объем. Тогда казалось, что токующий вальдшнеп летит на уровне звездного Лебедя! А уютное гнездо зяблика находится в недрах блистающих Плеяд. Все различия между великим и малым становились относительными. Росчерк метеора, крик филина, блеск росы! Каждая деталь была частью целого, – туман над мочажиной и Туманность Андромеды входили в одну картину мира.
Светляки подсказали Русову выбор первой научной темы. Он всерьез увлекся проблемой биологической люминесценции. Как это часто бывало и в будущем, эстетические впечатления направляли интеллект Русова-ученого. Его заворожила красота живых свечений! Русов мастерски живописал ночное пространство. Однако мерцания светляков казались невоплотимыми в красках. Художник отдал много сил, чтобы найти нужную технику. Для этого ему пришлось глубже задуматься над природой явления.
Исследуя биоэнергетику светляков, ученый пришел к поразительному выводу: чудесные жуки способны отзываться на жизнь космоса! В ночь с магнитной бурей свечение насекомых резко усиливалось. Когда Русов окончательно убедился в этом, то он испытал радость, знакомую ему по детским первооткрытиям.
Русов умел ассоциировать явления, казавшиеся далекими друг от друга. Эти ассоциации не были произвольной игрой воображения – ценность их в том и состояла, что за ними скрывались реальные связи. И сколь неожиданны были эти связи! Русов стягивал в один узел нити поиска, не имевшие явных точек соприкосновения.
Казалось бы, какая связь может быть между лесным светлячком и сверкающим космосом? Лишь поэты вправе сопрягать столь разные уровни. Но Русов с доверием отнесся к свидетельству своей поэтической интуиции. От светляка потянулась нить к ионосфере, от ионосферы она ушла еще дальше, в космос!
Вселенная заряжает ионосферу своими излучениями. Энергии неба аккумулируются светлячком. Эта причинная цепь столь красива, что она кажется фактом поэзии! Будто это метафоры нанизываются друг на друга в поэтической строке.
Ночной лес подсказал Русову немало идей. Он любил подолгу сидеть над темным зеркалом вод, в окружении своих любимых берез. Над берегом проносились летучие мыши. Они были почти невидимы, – и все же Русов хорошо различал их. Будто с других планет прилетели эти странные существа! Небо расчерчивали их ультразвуки, – Русов прозревал сетку незримых вибраций, наброшенную на созвездья. Это ультразвуковое кружево он тоже запечатлел на своем полотне.
А вот по небу метнулся слабый луч света! Русов догадался: это взгляд совы. Глазища-линзы испускали в пространство световые кванты. Будто сова хотела просканировать альфу Дракона! Пусть это гипербола, но в одном Русов не сомневался: луч зрения реален – око может быть источником света. Как ни слаб этот луч, испущенный совиными глазами, но благодаря ему в мире открылись новые грани.
Темная ночь была прозрачной для Русова. На своих картинах он прекрасно передавал эту иссиня-черную прозрачность! Постепенно приноравливая взгляд, зритель вдруг начинал видеть в темноте. Вот они, странно-стеклянные деревья! Их кроны просвечивают, – видны все гнезда. Но и стенки гнезд прозрачны, – различимы уютно спящие пеночки. Если
присмотреться, то заметишь их птичьи сны, – они витают над очарованными деревьями.
Вздрогнув, ты видишь, как просвечивает лесная скань. Означились все логова, проступили все норы. В этом мире больше не нужно таиться! Добро взяло верх над силами зла, – и поэтому ночь стала такой прозрачной. Волны добра окружают тебя со всех сторон. Очарованный, ты благодарствуешь миру!
Поэт мировой прозрачности, Русов видел ее высшее воплощение в росе. Это явление природы мало исследовалось учеными, – оно считалось вполне заурядным: конденсация паров воды, ничего больше. Ученые не делали различий между росой, выпадающей на телах мертвой природы и растениях. Между тем, вода очень восприимчива к свойствам среды, с которой она связана.
С детства запали в память Русова листья манжетки, похожие на изящные оборчатые зонтики. Какое растение может столь же непринужденно подносить нам небывало крупные капли росы? Это как уникальный дар, исключительность. Здесь у манжетки нет равных. Создаваемые ею росы следует считать подлинными шедеврами!
Русов знал, что в древней медицине роса манжетки считалась целебной. Он пил ее из вогнутого листа, наслаждаясь прозрачной студеностью. Вместе с росой в него входила первозданная свежесть утра, – сознание расширялось, охватывая весь круг бытия; мысль работала четко и ясно. Русов чувствовал, что прозрачность росы перенималась душой, – внутреннее пространство сознания становилось идеально чистым. Ни единой соринки не оставалось в нем! Роса растворяла все суетное, наносное, – уходили мелкие мысли, забывались обиды. Прозрачность торжествовала. С открытой душой Русов шел к светающей природе, радуясь ее краскам и звукам.
Художнику захотелось проследить за тем, как на листе манжетки рождается роса. Выбрав для этого хороший вечер, он ушел с ночевкой на лесную поляну. Ели темным высоким кольцом окружали разнотравье, – после покоса в нем первенствовала сильно разросшаяся манжетка.
Казалось, что она протягивает к звездам свои ажурные листья! В округлой капле, лежавшей на дне листа, повторялся весь небосвод. Русов навел на росинку телескопическую лупу – и увидел несколько блескучих точек: это мерцали звезды первой величины – Вега, Денеб, Арктур. Но вскоре Русов стал различать и более мелкие звезды! Даже полоса Млечного Пути отражалась в росинке. Воистину, она была микрокосмом: великое целокупно повторялось в малом – и сердце замирало от этой вековечной гармонии.
Русов нашел манжетку, где еще не образовалось росы, – лишь крохотная бисеринка блистала на донце листа. Верно, в ней находилась исходная точка роста.
У Русова был с собой небольшой походный ауроскоп: этот аппарат он изобрел сам, с его помощью удавалось усиливать различные слабые свечения. Верно, это была подсказка наития: Русов решил навести ауроскоп на лист манжетки. Открывшаяся картина поразила его! Словно он заглянул в будущее, – три крупных росинки четко очерчивались на экранчике ауроскопа. Тогда как при визуальном наблюдении лист казался пустым.
Вначале Русов опешил от неожиданности. Но потом понял: ауроскоп усилил свечение поля, очертившего контуры будущих росинок.
Русов теперь глубже осознал удивительную целостность росинок, – наряду с силами поверхностного натяжения тут играли роль и полевые факторы. Русов не удивился бы этому, будь перед ним органические формы: их целостность действительно задается биополями. Но сейчас он наблюдал за ростом всего лишь капелек влаги! И тем не менее в этом процессе было нечто, вызывавшее ассоциации с явлениями жизни.
Выпуклая поверхность росинки словно помогала Русову сфокусировать наитья и предчувствия.
Художник думал о гармонии космоса. Разве случайно во Вселенной возникает жизнь? Нет, она подготовлена всей историей космоса. Значит, возможность жизни как бы заложена в недрах самой материи. Поэтому так много аналогий между живым и неживым – и поэтому эти два вида материи связаны в одно целое.
Русов вспомнил предание о живой воде. Этот прекрасный образ дал новый толчок его мыслям: Русов решил проверить, отражаются ли каким-нибудь образом свойства самой манжетки на росе, образующейся в лоне ее чашевидных листьев. Началась серия уникальных исследований. Скромную манжетку окружили сложные приборы, снимавшие разнообразные данные о ее электромагнитной активности. И вот стало очевидным: манжетка направляет процесс образования росы! Она как бы намагничивает хрустальные капли: благодаря этому структура воды приобретает высшую упорядоченность. Не этим ли обусловлены целительные свойства росы? – тогда можно лишь удивляться наблюдательности и интуиции древних целителей.
В каждую росинку была вписана сложная магнитная структура. Русов не сразу разгадал ее функциональное назначение. Помогла аналогия: сходство чуть сплюснутой росинки с двояковыпуклой линзой. Русов всегда эстетически радовался этому подобию! Капля давала примерно трехкратное увеличение, – сквозь нее укрупненно виднелись ячейки листа. Фантазируя, художник мысленно наводил росяную линзу на кристаллы кварца и глаза кузнечиков, на узоры лишайников и крылья стрекоз! – все в этой оптике как бы преображалось: красота форм и структур осознавалась с особой глубиной.
Быть может, линзы-росинки собирают в пучок солнечные лучи? Это маловероятно: ведь солнце быстро выпивает росу, – да и нет у манжетки необходимости в такой дополнительной аккумуляции света. Но тогда остается другая возможность: росинки втягивают в себя атмосферное электричество.
Аналогия помогла решить проблему! Русов непреложно доказал: в каплях конденсируются слабые токи, циркулирующие в окружающей среде. Это играет большую роль в жизнедеятельности манжетки, – ведь регуляция многих жизненных функций обеспечивается электромагнитными полями. Они суть такая же часть среды, как гравитация, воздух, свет.
Манжетка как бы становилась зрячей благодаря чутким росинкам, – только это было особое зрение, не связанное с оптической частью спектра. Наклоняясь над росой, Русов чувствовал сердцем, что глядит в глаза растения. Взгляд манжетки был детски чистым и пронзительно ясным! – от него светлела душа.
Прекрасен цикл картин Русова «Росы». Художник изображал Вселенную, увиденную изнутри зыбкой капли. Дивен мир в ее трепетных преломлениях! В сферическом объеме преобразилось все – и зонтики купыря, и крылья голубянок, и кучевые облака. Пространство становилось неевклидовым. Но зритель быстро привыкал к его геометрии, – необычность проекций обновляла восприятие.
Как же художник ухитрился разместить этюдник внутри крохотной росинки? Такова сила творческой интуиции. Преображающая прозрачность! Это ее образ с проникновением запечатлел мастер. Он показал место росинки в космосе – и капля вдруг обрела особую значительность. Ее нельзя было изъять из картины мира – в плане творения она соравна звездам и планетам.
Не случайно лист манжетки приобрел вогнутую форму – это тонкое приспособление для удержания росы. Травка словно припадает к ее оптике, – так мы смотрим в телескоп, наведенный в зенит. Это образная аналогия, но она точна по сути. Сейчас через зенит проходит альфа Кассиопеи. Быть может, и ее незримые вибрации отзываются в чуткой росинке?
Ученики Русова доказали, что свойства росы, возникающей на разных растениях, имеют видовые отличия. Было показано избирательное действие различных рос на человеческий организм. Это открыло новые пути перед медициной – природа подарила ей удивительные лекарства. В древности люди использовали их. И причем весьма успешно. Но это знание было забыто с веками. Привлекала эстетическая сторона столь необычной терапии. Человек лечился среди природы – в окружении птиц и трав. Сама обстановка благоприятствовала одолению недуга. Многие росы надо были принимать в момент их рождения – тогда целительный эффект проявлялся с наибольшей силой. Это углубляло контакт человека с природой.
Как художник, Русов испытывал особое влечение к деревьям. Он сравнительно редко изображал летние деревья, – плотные лиственные массивы не интересовали его. Русов любил ранний весенний лес, – в пору распускания листьев березняки замагничивали его душу. Какая-то особая духоносность появлялась в их кронах! Это чудо происходило благодаря зеленой пестряди проклюнувшихся почек: мириады изумрудных мазков – совсем крохотных, почти точечных – преображали прозрачное пространство. Хотелось долго глядеть на прозористый березняк, – он не отпускал тебя, брал в плен своей лирической силой.
Под сенью берез отцветало волчье лыко. Тихо светились фонарики гусиного лука. На опаль садились нежные бабочки-лимонницы. Художник любил эти дни, – он считал их особыми, единственными в году. Вещество в эту пору как бы развоплощалось, – и всюду мерцало световое первоначало бытия. Оно сквозило в каждой березе, в каждом кучевом облаке. Волшебные сияния бродили в природе. Почти неуловимые для взгляда, они ощущались сердцем художника. И он умел передавать их кистью.
Весенние полотна Русова кажутся удивительно хрупкими. Будто они вот-вот растают! Не холст вставлен в рамку, а легкая зеленая дымка. Дунь на нее – и вмиг развеется. Где Русов так научился высветлять свои краски? Живопись в его полотнах достигла высшей степени прозрачности. Чудится, будто и сам холст стал прозрачным! – и на него легким касанием кисти нанесены тонкие слои красок.
Вслед за чудом берез начиналось чудо осин, – они распускались последними в череде деревьев. Русов особенно любил приладожские осинники, – к ним он приезжал каждый год, испытывая радость от встреч с любимыми рощами.
Если березы в пору распускания усиливают нашу любовь к родной земле, то осинники пробуждают тягу к иным мирам, к иным биосферам. Уж очень необычна окраска их только что распустившихся листьев! Ее спектр широк: от прозрачно-красного до бронзовато-коричневого. Осина придает этим тонам редкостное своеобразие, – у них нет никаких аналогий в земной природе. Воистину инопланетная палитра!
Когда осинники высвечиваются закатным солнцем, то этот эффект неземных красок усиливается. Кажется, что ты перенесся на другую планету. Что-то марсианское есть в осинах на холстах Русова! – и вместе с тем эти полотна передают поэзию земного пейзажа. Такая двойственность характерна для многих работ Русова, – земное и космическое в них гармонически взаимодействуют. Даже простой одуванчик художник мог изобразить так, что от него вдруг веяло дуновением космоса. Будто это шаровое скопление, похожее на млечный ореол: чуть усиль увеличение – и оно разрешится на миллионы искрящихся звезд.
Космизм весенних осинников обращал душу Русова ко Вселенной. В зрелые годы он внес большую лепту в изучение планетной системы звезды Лаланд 21185, – там после долгих исканий наконец-то были обнаружены формы инопланетной жизни. Но духовную подготовку к познанию далеких биосфер Русов получил на родной Земле! Он умел найти такой ракурс в пейзаже, что зритель очарованно замирал перед картиной: в земном и знакомом просвечивало вселенское, небывалое.
Приезжая в Карелию в мае, Русов оставался здесь до дня летнего солнцестояния. Он испытывал глубочайшую духовную потребность в контакте с Белыми Ночами, – они давали ему эмоциональный заряд на много месяцев вперед. Природа становится прозрачной в эту пору. Хотя в небе остаются лишь яркие звезды Летнего треугольника, но присутствие космоса ощутимо на каждом шагу: он стал ближе к Земле – вошел в белую кипень цветущего купыря, обернулся фантастикой дивных закатов.
Русов любил писать берега северных озер, заросшие ивняком. Как раз в разгар белых ночей с ивы летел пух, – мастер вдохновлялся его чарующе легким лётом. В этом зрелище он предощущал красоту внеземного, космического. Что-то звездоподобное было в серебристых пушинках, таких блескуче ярких в пологом луче заката. Будто художник входил в самую гущу звездного потока, – мириады миров текли мимо него, увлекая своим движением.
Когда Русов впервые увидел открытый космос, то он вспомнил карельские ивняковые берега. Куда плывут неисчислимые миры? Какой ветер уносит их вдаль? Глядя в просторы Вселенной, Русов вдруг ощутил наитием, сердцем: это живые миры. Живые – как тот ивовый пух, несущий грузики малых семян. Ведь в потенциале у каждой звезды есть цветущие биосферы. Великолепен посев Вселенной! – от широты его захватывает дух.
Тема деревьев в творчестве Русова особое звучанье получала осенью. Цикл «Поздние раздумья» принадлежит к числу шедевров мастера. Это психологические портреты деревьев, – другое определение будет неточным. Художник ждал такого часа, когда крона березы облетит на две трети: тогда в ней появится грустная полупрозрачность – невыразимо прекрасная, лиричнейшая. Она щемяще похожа на сквози-стость майских берез: другое время, другая тональность, другой цвет – и в то же время какое-то странное сродство, подобье. Симметрия психологических состояний! Это – как припоминание: в пору заката вспоминаешь ранние впечатления бытия. И на забытое ложится всепрощающий золотой свет.
Русов мастерски передавал дали сентября. Ему казалось, что в пейзаж вставлено два огромных незримых зеркала, – взаимоотражаясь, они порождали своего рода оптическое эхо. Окоемы вторили друг другу, уходя в бесконечность; озера многократно множились, образуя сверкучие цепи; над ними в несколько ярусов тянулись пролетные осенние стаи.
Мир словно раздвигался в ширь и в глубину! – и пустоты этих раздвигов мгновенно заполняла хрустальная прозрачность.
Она создавалась деревьями. Как стеклянная лава, истекала она из продутых крон – и тихо насыщала все окружающее пространство. Полушарие неба превращалось в гигантскую линзу. Да, это была самая настоящая линза! Только не из стекла, а из осенней прозрачности. В ее светосиле мир убеждался ночью: небывало приблизясь к Земле, созвездья плыли на бреющем полете, почти касаясь высокого болотного тростника.
Орион, шагающий по заиндевелой отаве! Лебедь, скользящий по первому ледку! Близнецы, замершие у стылого стога! Среди созвездий устанавливал свой этюдник Русов – прямо в их светоносных недрах. Огромным подрамником висел в небесах квадрат Пегаса. Кисть можно было обмакнуть в ковшик Плеяд, полный до краев светоносной лазурью. Как на палитре, раскладывал космос на звездном Щите свои неисчислимые краски.
Русову казалось, что он проходит сквозь созвездья, – вот сейчас пересек стереометрическую конструкцию Волопаса и вошел в мерцающую глубину Северной Короны. Низко над черной ламбой висела комета Когоутека, вновь после долгих странствий приблизившаяся к Земле: ее хвост был похож на прямой световой луч, бьющий со дна лесного озера. Русову почудилось, как вспыхивают мотыльки и поденки, пересекая лучевой конус. Ему захотелось направить этот луч на этюдник, – писать и писать при синеватом кометном свете.
Звезды окружили художника со всех сторон. Парсеки сократились до метров! – и это сошествие небес на Землю длилось всю ночь. В старую берлогу опускалась Большая Медведица, а с дальних выпасов шел по крутой тропе мощный Телец. Диаметр зодиакального круга можно было измерить шагами. Паутинки казались блескучими спицами в этом круге, а кол посреди луга, оставшийся после увезенного стога, стал его осью. Небо вращалось вокруг нее, задевая голые вершины осин, – Стожары совмещались с пустым грачиным гнездом, а Кит ударял плавниками по звонко звеневшим ветвям.
Оптика осенних небес заменяла Русову телескоп. Он отчетливо различал даже планетарную туманность в созвездии Лисички! – маленький млечный диск с яркой точкой в середине висел среди березовых сережек. Русов так и нарисовал его, несколько увеличив угловые размеры, – изящная туманность плывет сквозь сети осенних крон, принадлежа одновременно и дальнему космосу, и нашей биосфере.
Русов чувствовал особый подъем сил в звонкие дни первозимья. Пустые кроны отражаются сквозь первый ледок! Что-то всепримиряющее есть в этом пейзаже. Понимаешь, глядя на зеркала ледостава: мудрое смирение идет от большой внутренней силы.
Зимний лес подарил Русову одно из его самых прекрасных открытий. Отдыхая в Карелии, художник возвращался среди сумерек с прогулки. Он шел в долине небольшого ручья, соединявшего две лесные ламбушки. Впереди виднелись березовые рощицы, – острова деревьев казались стеклянными. За ними блистал красноватый Арктур: он вот-вот должен был коснуться окоема. Небывалая прозрачность стояла над миром. Это был час, когда Земля говорит с космосом, – он обращается к ней тихо и торжественно.
Русов глядел на зарю сквозь просвечивающую группу деревьев. Он любил эту сквозистость прозрачных рощ, – сеть ветвей на свету напоминала жилкование стрекозиных крыльев. Думая про себя об этом сходстве, Русов вдруг удивленно замер: ему почудилось, что между ветвями и впрямь натянуты слюдяные перепонки. Будто каждая ячея в узорном сетеве ветвей мастерски застеклена. Это похоже на витраж, – сквозь него процеживался зеленоватый свет зари.
Но в чем природа этой странной застекленности? Русов убедился, что она ему не пригрезилась: березовая рощица тихо мерцала в затеми как огромная хрустальная друза. Необычное сияние простиралось несколько выше верхушек. Словно опалесцирующий нимб восстал над зябкими деревьями!
Русов глубоко ощутил целостность этой рощицы, она была как один организм: узы сопониманья связали группу деревьев в тесное содружество. Наверно, корни берез сплелись друг с другом. Но деревья и на уровне крон образовывали непрерывность, – Русов это видел сейчас воочию: березняк предстал перед ним как некая единая система.
Ореол над березами долго не гас. Заметив в северной части неба первые сполохи полярного сияния, Русов предположил, что они находятся в какой-то причинной связи со свечением деревьев. Быть может, сильный порыв солнечного ветра возбудил всю атмосферу от верхних до нижних слоев? И поэтому она заиграла необычными электрическими свечениями? Но Русов интуитивно чувствовал, что это далеко не полное объяснение.
Березы лучились живым светом. От него теплело на сердце. Среди зимы деревья светоносно свидетельствовали о своей жизни! Они совсем не впали в забытье, но замерли в беспамятстве анабиоза. Русов с улыбкой подумал, что деревьям снятся сны. И сейчас эти сны как бы оплотнились, – сама душа деревьев вдруг стала зримой.
Русов очарованно стоял перед рощей до тех пор, пока не погас последний закатный луч. И в темноте прекрасное свечение берез было различимо! Русову даже показалось, что они отбрасывают на снег слабую тень, – столь интенсивным было тихое сияние деревьев.
Поднявшись из долины на дорогу, Русов взглянул вниз, – световыми островами лежали на дне мирового пространства березовые колки. Их было шесть. Приглядевшись, Русов явственно заметил, что от колка к колку тянутся слабо светящиеся перемычки. Словно стаи берез обмениваются какой-то тайной энергией, образуя еще более обширное товарищество!
Русов понял: замеченное им явление имеет глубокий экологический смысл. Быть может, он видел свечение биополей, создаваемых целыми экосистемами? Вначале это предположение показалось коллегам Русова неправдоподобным. Во-первых, считалось, что биополя локализованы в организмах, а гипотеза Русова допускала возможность их проявления на уровне популяции, даже экосистемы. Во-вторых, свечение берез можно было объяснить, не прибегая к понятию о биополях. Разве не вызывают похожих эффектов огни святого Эльма?
Оппоненты выдвигали еще одно возражение: почему биополя должны светиться именно в оптическом диапазоне? Наконец, кажется странным, что аналогичных свечений не замечали раньше. Но только ли один Русов был очевидцем необыкновенного свечения? Если обратиться к фольклору, то там подобных свидетельств немало. Но фольклор – не аргумент! Ведь для мышления древних сияние леса было проявлением волшебных сил.
Впрочем, сообщения о странных свечениях изредка появлялись и в современной печати. Среди наблюдателей были лесники, охотники – люди, тесно связанные с природой. Но ученые не принимали всерьез их свидетельств: где гарантия, что это была не иллюзия? Осторожность необходима для науки, – это своеобразная форма самозащиты от заблуждений. Но тут есть одна опасность: превращение осторожности в закостенелость. Тогда наука оказывается совершенно неспособной принять новые факты, – она или отбрасывает их без всякого анализа, или пытается втиснуть в схему устаревших взглядов.
Русов не сразу нашел доказательства в пользу своей гипотезы. Исследования продолжались почти двадцать лет. Полученные результаты вдохновляли. Биополя порождались не только отдельными организмами. Землян потрясло прекрасное изображение, полученное на приборах Русова: стая осенних журавлей летела как бы внутри вытянутой самосветящейся ауры! Это было биополе журавлиного косяка. Благодаря ему осуществлялась саморегуляция в стае, – она была живой неделимой системой.
Великое понятие целостности все шире проникало в биологию. Оказалось, что биополе создают сложные экосистемы – свой вклад в него вносят различные организмы. Встала новая задача: по спектру биополя определять видовой состав экосистемы. Пусть в приближенном виде, но и эта интереснейшая задача была решена.
Исследования вышли на еще более высокий уровень: биосфера Земли изучалась из космоса как целостное образование! Идеи В.И. Вернадского и А. Г. Гурвича торжествовали.
Аурограммы нашей планеты оказались изумительно красивыми. Но иногда в биологическом спектре Земли угадывались какие-то разрывы, диссонансы, – они указывали на экологическое неблагополучие в отдельных регионах.
Разработка новых идей принимала все более прикладной характер, – поэтому Русов отстранился от активного участия в ней. Как и прежде, его интересовали глубокие теоретические проблемы, связанные с неизвестными уровнями реальности. А конкретные задачи блестяще решались учениками.
Поэтому после долгого перерыва Русов решил вернуться к живописи. Он по опыту знал, что эстетические впечатления дают импульс к рождению новых идей, – и Русова снова потянуло к искусству, к природе. Космическая тематика теперь еще четче обозначилась в его творчестве. Участие в работе околоземных станций, снимавших глобальную аурограмму Земли, обогатило впечатления художника. Космическая точка зрения стала для него преобладающей.
Крылья бабочек или пятна лишайников воспринимаются на картинах Русова как образы дальнего космоса. А деревья кажутся антеннами, прослушивающими звездные недра Цефея! Русов с артистизмом изображал биополя берез и сосен: подобно прозрачным сполохам, они уходят в ночное небо. Как будто деревья шлют сигнал своим сородичам на других планетах. Как иначе истолковать смысл этих удивительных картин? Посмотрите: биополе земного леса окутывает звезды Возничего, объемлет их.
Конечно, Русов сознательно не вкладывал в свои картины каких-либо научных концепций. Это картины-предчувствия, картины-наития! Их образы подсказаны сердцем, а не логическими соображениями. Но у Русова так было всегда: эстетическое прозрение шло впереди точной формулы. Единство космоса переживалось им эмоционально. Он чувствовал свою связь с каждой росинкой на лугу, с каждой звездой на небе. Иногда ощущение этой связи достигало небывалой силы. Так к Русову приходило вдохновение! Оно снимало все запреты, наложенные законами физики. Художник сливался со Вселенной – понятие расстояния теряло смысл. В одно мгновение луч интуиции пересекал весь космос! Миллиарды световых лет становились такими же обозримыми, как пространство между двумя берегами на тихой лесной ламбушке.
Дойдя до космологического горизонта событий, интуиция пересекала эту таинственную межу. Теперь мысль двигалась в пространстве других вселенных! Они были клетками в одном гигантском сверхорганизме. Каждая вселенная вела свою ритмическую партию. Эти ритмы – такие разные, такие индивидуальные – сливались в хоре. О, многомерная гармония вселенских вибраций! Расширенное сознание Русова воспринимало их красоту.
Космос прекрасен. Это убеждение художника торжествовало и сейчас, когда его интуиция совершила прорыв к новому уровню.
Каждый такой уровень – это преобразование мира. Сколько перемен, сколько трансформаций! Но среди них одно начало остается универсальным. Это – красота. Она торжествует всюду: и в силах натяжения, придающих росинке сферическую форму; и в пропорциях межпланетных расстояний, воплощающих музыкальную гармонию; и в ритме юных метагалактик, расширяющихся навстречу друг другу. Красота абсолютна!
Русов раздвигал вширь нашу геоцентрическую эстетику. Его картины помогали нам осознать красоту как космическое явление.
Гравитационные и электромагнитные поля образуют незримый каркас космоса. Благодаря им мироздание обретает целостность. Но только ли эти поля даруют Вселенной единство? Фантастические полотна Русова повествуют о космической роли биополей. Вот поэтический холст – своеобразная сказка: приподнявшись на длинных задних лапках, кузнечик вслушивается в ночь. Небо клубится спиралями галактик, играет сполохами небывалых спектров. Это космос в биоволновом диапазоне! Чутко вздрагивают длинные антенки, – кузнечик слушает музыку, пока недоступную нам. И кто знает, где зародилась эта музыка? Быть может, в неведомых галактиках работают биоволновые передатчики. Всему космосу они транслируют вести о разумной жизни. Но многие цивилизации не могут принять ее, – они используют иные каналы связи, считая их единственными. А что, если в биосферах этих миров есть существа, способные принять неведомые сигналы? Таков кузнечик на картине Русова. У него прекрасно развит мудрый Инстинкт – но для понимания сигналов необходимо Сознание. Музыка дальних миров волнует кузнечика, – эта очарованность передана в его позе. Но он не в силах понять смысл дальних сообщений. Они для него – как абстрактный узор: красивый, ритмичный.
Художник давал полную волю воображению. Таково право поэта, – а Русов в своем фантастическом цикле был подлинным поэтом. Войдя в пространство его картин, мы вдруг ощущаем себя собеседниками маленького кузнечика. Мы вступаем в информационный симбиоз с ним! – теперь у нас общая система восприятия. Подключившись к двум его антеннам, мы переносимся на другие миры.
О, эта мельтешащая мозаика новых образов! Мы не сразу адаптируемся к ним, – поначалу мысль теряется в хаосе впечатлений. Вот промелькнуло видение города, – его архитектура пленяет обтекаемостью форм. Не дома, а огромные музыкальные инструменты! – полупрозрачные здания ассоциируются то с виолончелями, то с геликонами. Быть может, это не город, а сводный оркестр цивилизаций? И не его ли звучание доходило до чуткого слуха Пифагора?
Но вот исчезают образы города-оркестра – и мы оказываемся на дне океана. Совершенно ясно: это не земной океан! Нас окружают небывалые формы жизни. Что это за разноцветная лента появилась в поле нашего зрения? Ее орнамент чарует своей красотой. Приглядевшись, мы замечаем: фигуры орнамента постоянно меняются. Завораживает этот ритмический танец символов. Ведь несомненно: перед нами подвижные знаки! Это угадывается сразу – интуиция не обманывает. Мы видим обмен информацией, происходящий в далекой биосфере!
Кому предназначено столь красивое по форме сообщение? Вероятно, представителю того же вида – лентовидному существу, обитателю прозрачного океана. Но эта информация уходит одновременно в космос. Вот и к нашим радиоканалам могут подключаться безвестные братья по разуму, – вдруг до них иногда доходят местные передачи, ведущиеся для нужд Земли? Прорывы неведомой информации должны оставлять странное впечатление – беспокойное, томительное. И в то же время они будут вселять надежду на возможный контакт.
Эти радужные ленты-письмена на картинах Русова! Вглядываясь в их изменчивую орнаментацию, зритель задумывался о разнообразии жизни. Художник изобразил организмы, общавшиеся на необычном языке. Это были живые знаковые системы! Они пользовались уникальным кодом. Символы возникали и исчезали на их теле. Смена знаков была органическим процессом.
Удивительная биосемиотика! В нашей биосфере тоже есть существа, использующие орнамент в информационных целях. Достаточно вспомнить змей или гусениц. Но орнамент на их теле прост: существо информирует о своей видовой принадлежности. Если структура сообщения меняется, то лишь в эволюционных преобразованиях: новый вид создает новую орнаментику.
Но это совсем не похоже на динамичные узоры инопланетных живых лент!
В цикле картин «Биосемиотика» Русов нащупывал новые методы для поисков жизни в космосе. Вот почему его все больше привлекал фантастический мир земных беспозвоночных. Как художник, он находил в этом мире формы, катализирующие работу воображения. Какая-нибудь уховертка могла дать мастеру сильный импульс! – чуткие сяжки насекомого становились для него средством связи с дальним космосом. Это была чистая фантастика. Но сквозь нее просвечивало реальное разнообразие космической жизни.
Художника тянуло к дальним мирам. В его мастерской стояло несколько аквариумов, – фантазия мастера превратила их в средство познания космоса. Да, они стали доселе небывалой астрономической оптикой! – в огромных прозрачных призмах преломлялись ночные миры.
Население аквариумов отнюдь не было экзотическим, – Русов поместил в них представителей пресноводной фауны. На досуге художник писал необычную книгу о жизни озер, – наши скромные ручейники и прудовики были увидены с космической точки зрения. Сколько новизны открылось мастеру в их формах! Эта работа тоже имела эвристический смысл, – в зеркале лесной ламбушки Русов отражал дальний космос.
Художник мог часами стоять у своих аквариумов. Стеклянные параллелепипеды при свете свеч становились неизъяснимо глубокими. Художнику чудилось: геометрия внутри аквариума на мгновенье становится неевклидовой – и это дает ему возможность впромельк увидеть иные измерения бытия.
Глядите: по стеклу аквариума ползет плащеноска. В мерцании свечей спираль моллюска обретает особую таинственность. Все планы и ракурсы вдруг становятся двойными, – земное и вселенское взаимопересекаются, порождая синтетические образы. Они прекрасны, но неуловимы! – возникая на миг, тут же распадаются, тают. Есть только один способ для их фиксации: искусство.
И вот на картине Русова возникает еще одна биосфера. Здесь все существа в своей внешней форме реализуют глубинную структуру жизни: спираль. Она варьируется бесконечно! Спирали логарифмические и спирали архимедовы; спирали плоские и спирали объемные; конхоспирали, турбоспирали, биоспирали, – здесь можно было найти все спиральные кривые, уже известные земным математикам. Но встречались закономерные формы, чьи уравнения еще предстояло вывести. Воистину, это была симфония спиралей! И она покоряла своей философичной гармонией.
Русов любил наблюдать за метаморфозом поденок, – они специально были поселены в одном из аквариумов. Загадочные эфемериды! Разве их лёт не помогает нам осознать мгновенность своего земного срока? После этого печального осознания хочешь сосредоточиться на главном, сущностном. Вот почему Русов с таким вниманием наблюдал за превращением личинок, – они углубляли его философию времени, вносили в нее новые эмоциональные обертоны.
Сейчас личинка по стеклу поднимается вверх, пересекая границу воды, – из одной прозрачности она переходит в другую: маленькая русалочка становится воздушным эльфом. Личинка сбрасывает свою прежнюю оболочку, похожую на точный слюдяной слепок ее тельца. Русов однажды изобразил этот сброшенный чехольчик на картине, – мы видим прозрачные абрисы, прозрачные контуры: будто это мифическое астральное тело таинственного пришельца со звезд! Эфемерная копия, хрустальное подобие, – есть в этом образе какая-то странная притягательная сила.
Столь необычный выбор натуры отчасти был подсказан формальными соображениями: Русов развивал свою знаменитую технику прозрачности, обогатившую возможности живописи. Но экзувии поденок – их скинутые оболочки – интересовали мастера и в другом аспекте: они были для него зримым образом памяти, информационного сохранения. У Русова было поэтическое убеждение: каждое явление оставляет свой незримый слепок. С помощью интуиции мы можем проявить его! Приходя на места детства, где все давно изменилось, мы вдруг явственно ощущаем: вот наш дом – хотя его давно снесли, вот наш ясень – хотя его давно спилили. Это наша память вставляет свои голограммы в новый пейзаж. А вдруг возможны случаи, когда такое проявление станет реальным?
Так поденки навели Русова на мысль об остаточных биологических полях. Вскоре ауроскопы получили новое применение, – с их помощью извлекались из небытия образы прошлого. Палеонтологи торжествовали: по отдельному фрагменту ископаемого растения можно было восстановить его целостный вид. Правда, для этого были необходимы определенные условия: вмороженное биополе далеко не всегда хорошо сохранялось в ископаемых остатках. И все же каждая удачная реставрация бесконечно радовала! – на экране ауроскопа вдруг возникали прозрачные образы древней флоры и фауны.
Конечно, Русова радовали эти достижения. Но все же мысль мастера была обращена не в прошлое, а в будущее, – дальние миры стали магнитами для его души. Русов однако понимал, что взгляд в прошлое может оказаться прорывом в грядущее! Поэтому его привлекала идея ауроскопического анализа памятников древней культуры. Вдруг таким способом удастся получить информацию о возможных контактах между нашими пращурами и пришельцами? На планете еще сохранились египетские пирамиды, – они пережили все разрушительные катаклизмы, едва не уничтожившие ноосферу Земли. Сохранилось и предание о легендарном художнике-ученом Орисе, – якобы ему удалось найти у пирамид какие-то необычные свойства. Поэтому именно эти памятники древней культуры были выбраны для ауроскопических исследований.
Ауроскопы действительно регистрировали внутри пирамид мощное биологическое поле! Однако никак не удавалось точно запеленговать его источник, – создавалось ощущение, что генератор биоволн находится где-то вне пирамид. Это сбивало с толку. Были многократно перепроверены приборные схемы, – но все оказалось в полном порядке: ауроскопы работали безукоризненно.
Русов выходил на этюды еще в затеми, – небо мерцало крупными звездами. Пирамиды казались в сумерках гигантскими визирами. Только как ими пользоваться? На какие светила наводить? Ансамбль пирамид становится астрономическим инструментом лишь при определенном ракурсе. Так говорило преданье. Но Русов и сам чувствовал это сердцем: в пирамидах он видел прибор, чье назначение не мог понять до конца. Это мучило, томило – хотелось расшифровать смыслы, закодированные в гигантских сооружениях.
Русов прекрасно передавал таинственное молчание пирамид. В своих картинах он использовал технику древнеегипетской живописи, – поэтому символическое звучание полотен стало еще более сильным. Русов подумал однажды: не могут ли древние росписи что-то прояснить в загадке пирамид? Он отправился в Долину Царей. Среди многочисленных фресок, сохранившихся в тиши погребальных камер, художник искал астрономические сюжеты. О, эти первые попытки передать образ Вселенной! Звездное небо было для египтян знаковой системой, – они пытались осмыслить ее в своих прекрасных мифах.
Так ли уж тщетны эти усилия? Ведь и мы ищем в звездных небесах напечатления разума. Нацеливая в ночь радиотелескопы, мы хотим принять весть от других ноосфер. Египтяне вели аналогичные поиски, – только их инструментом была непосредственная интуиция. И вдруг им иногда улыбалась удача? Конечно, свою задачу египтяне формулировали иначе чем мы: в обитателях неба они видели высших существ, достойных ритуального поклонения. Однако единство духовных устремлений всех времен несомненно! – люди хотят, чтобы звездное небо заговорило с ними.
Русов заметил, что на астрономических картах египтян есть несколько отмеченных точек, – лишь одну из них ему удалось отождествить с оптически наблюдаемым объектом. Это была звезда Лаланд 21185, – она ютится на окраине Большой Медведицы. Но неужели египтяне могли наблюдать ее визуально? Ведь звездная величина этого скромного светила равняется всего-навсего 7,5. Без бинокля его не увидишь.
Чем же примечательна тусклая звездочка? Своей близостью к Земле! До нее восемь световых лет. Хотя Лаланд 21185 светит в 200 раз менее ярко, чем наше солнце, но свет звезды все равно мог взлелеять биосферу. А может быть и ноосферу.
Наблюдая звезду в окрестностях пирамид, Русов однажды нашел ракурс, когда она располагалась на одной линии с вершинами пирамид Хеопса и Хефрена Русов понимал, что здесь не могло быть умысла со стороны строителей пирамид – в результате прецессии восхождение и склонение всех светил меняется. Так что наверняка пирамиды не были визиром для наблюдения нашей ближайшей в северном полушарии соседки.
Но все же это наблюдение дало толчок новым идеям. Пусть Русов обнаружил чисто случайную связь трех реперных точек, но за ней ему пробрезжила структура нового замечательного опыта!
Русов подумал: а что, если таинственный источник биоволн находится в космосе? И пирамиды лишь резонируют на его импульсы? Ученики Русова с энтузиазмом приняли новую гипотезу. Для ее проверки нужны были внеземные наблюдения. И вскоре на одну из орбитальных станций отправились самые опытные ауроскописты планеты! Начался уникальный эксперимент.
Орбитальная станция обладала отличной маневренностью, – она могла произвольно менять траекторию и свободно зависать над одним местом. Ночью над пирамидами парила новая яркая звезда, – она постоянно меняла положение, преображая классический рисунок Большой Медведицы. Создавалась уникальная наблюдательная система: древняя пирамида и космическая лаборатория были ее равноправными элементами! – история и современность образовали союз во имя познания космоса.
После сложных маневров на одной линии выстроились три объекта: пирамида – орбитальная станция – Лаланд 21185. В околоземном пространстве распустился огромный цветок из алюминия, – он экранировал не только свет маленькой звезды из Большой Медведицы, но и возможные биоволны, испускаемые ее планетами. Алюминий оказался идеальным отражателем биоизлучений, – поэтому он был выбран для космического экрана. И вот наступило мгновение, когда Русов увидел, как звезда Лаланд 21185 исчезла в черном пространстве! – это после окончательного маневра был перекрыт ее луч.
Внутри пирамиды Хеопса ауроскописты внимательно следили за показаниями приборов. Они заметили, как резко упал уровень биоизлучения! Колебания уровня отмечались и раньше, – они отражали какую-то суточную вариацию. Теперь становилось ясно: в момент захода безымянной звездочки перекрывался не только ее луч, но и дыхание неведомой биосферы. Сейчас эта ситуация была воспроизведена экспериментально.
Впервые Земля получила свидетельство о внеземной жизни. Космос обрел новые черты, – он дышал на планету теплом и участием. Наша биосфера не одинока! Вопреки пессимизму вероятностных расчетов, даже одна из ближайших звезд взрастила биосферу. Это не могло быть случайностью. Космос отныне воспринимался как колыбель бесчисленных биосфер.
Глядя на созвездья, широко раскинувшиеся над пирамидами, Русов думал о Биосе.
Космос и Биос! Быть может, эти понятия совпадают? Русов вспомнил полночные рощи, соединенные слабосветящимися перемычками. Это воспоминание сейчас естественно проецировалось на блещущее небо. Русов видел мириады планет, погруженных в единое биологическое поле. Пусть энергетически оно было весьма слабым – и все же его существование качественно меняло картину мира. Русову рисовался космический континуум жизни. Не энергетические, а информационные взаимодействия здесь выходили на первый план, – через непрерывное биополе миры могли вступать в контакт друг с другом. К каким следствиям приводит подобное предположение?
Земная жизнь получает широкий космический контекст! Биосфера планеты – не самодовлеющее целое, а органическая часть более крупной системы. Быть может, в этой причудливой медузе запечатлелся опыт инопланетной эволюции. А странные особенности этой росянки, не объясненные ботаниками, восходят к влияниям ее сородичей из других миров.
Космическая биосфера! Ее образ вдохновил Русова. Хотя пока это была всего лишь гипотеза, но художника захватила красота нового мировоззрения. На его картинах предстает образ космоса-организма, – мир полон жизненных энергий, мир созидает гармонию. В нем нет отчуждения и изоляции! – биополя связуют все бьющиеся сердца Вселенной. На едином Древе Жизни зреют неисчислимые ноосферы. Им предстоит слиться в прекрасном содружестве.
Русов пытался воссоздать облик иных ноосфер. На холстах мастера мы видим фантастическую архитектуру далеких планет. Она имеет мало аналогий с творениями земных зодчих. Но интересная особенность! – среди парадоксальных для нашего восприятия сооружений мы встречаем знакомый образ: это контуры пирамид. Они присутствуют в ландшафте каждой ноосферы, воссозданной могучим воображением Русова. О чем говорит этот лейтмотив? О единстве духовных устремлений культур.
Подняв глаза к небу, люди видят Беспредельность. И первое движение их мысли, первое дерзновение юной культуры – это прекрасный замысел: построить лестницу, уводящую в небо. Так возникают пирамиды. Ноосфера продолжает свою эволюцию, незримо наращивая их ввысь. Пирамиды моделируют Беспредельность! Это символ духовного восхождения.
От расширенной картины космоса мысль Русова возвращалась к постройкам древних египтян. Почему в них резонируют биоволны, рожденные в лоне далекой жизни? Гипотезу о том, что в пирамиды вмурованы особые биологические антенны, пришлось отвергнуть. Пирамиды были просвечены насквозь. И что же? – их монолитность не вызывала сомнений: внутри каменных масс не было никаких инородных тел.
Один из учеников Русова высказал предположение, что феномен связан со свойствами места, на котором установлены пирамиды. Но возникают ли здесь устойчивые флуктуации пространства? Изменения его геометрической структуры могут вызывать различные эффекты. Быть может, в этих условиях образуются своеобразные линзы, усиливающие биоволновые колебания? Древние египтяне могли заметить эти аномалии, что предопределило выбор места для возведения пирамид. Наверное, не зря предания говорят о том, что вблизи пирамид улучшалось самочувствие человека. Такие свидетельства появлялись и в более поздние времена. Даже в прошлом столетии существовала группа энтузиастов, утверждающая, что медитации возле пирамид содействуют пробуждению космического сознания.
Дальний поиск землян теперь обрел четкую цель. Неприметная звездочка в Большой Медведице затмила все светочи неба! Отныне у нее было собственное имя: Ория – так назвали младшую сестру Солнца земляне.
Люди успешно осваивали межзвездное пространство. Правда, радиус их полетов пока не превышал одного светового года, – но все же дыхание дальнего космоса уже коснулось землян. Как ближний маяк, впереди маячила Альфа Центавра! Да не обидится она на землян – но теперь магнитом для них стала Ория. Она находилась в два раза дальше от Земли.
Значит, и энергию хронолетов, проектируемых для полета к Альфе Центавра, надо было удвоить. Задача качественно усложнилась. Но это не смутило астро-инженеров. В перспективе ближайших трех-четырех десятилетий цель могла быть достигнута.
Открытие внеземной жизни стало праздником для планеты. О, как прекрасна эта непосредственная отзывчивость! Ведь в ней – все лучшее, что есть в нас: радость за другого, дар сопереживания. Как дети, люди ликовали оттого, что где-то в космосе есть еще один мир, процветший жизнью. Это вызвало совершенно непредсказуемый отклик, заставивший задуматься и психологов, и социологов. Душа человеческая открылась новыми гранями. Получив ясную цель для своих космических устремлений, люди не только глубже поняли себя, но и духовно выросли в этом самопознании.
Человек не может быть одиноким, – общение является законом его бытия. Теперь этот закон проявился на уровне человечества как целого. Это был качественный рубеж в эволюции Земли. Ноосфера ощутила великую потребность в диалоге. Ноосфера, а не индивидуум! В этом-то и заключалась новизна ситуации. Целостное человечество впервые выступило как субъект познания и действия, – древние мечты о высшем единстве людей, о соборном сознании стали реальностью.
Принцип «благоговения перед жизнью», выдвинутый гуманистом прошлой эпохи А. Швейцером, разделялся всеми людьми. И вот понятие жизни приобрело космический смысл! Отныне свет благоговения падал и на далекую планету. Вот почему открытие Русова вызвало небывалый в истории науки эмоциональный отклик, – оно затронуло самые трепетные струны в человеческом сердце. Музыка сфер отозвалась в них понятными и теплыми нотами.
Русов снова уединился в северных лесах, – странствуя с этюдником от ламбушки к ламбушке, пожилой художник радовался красоте земных растений и птиц. Чем дальше проникала его мысль в космос, тем дороже становились ему образы родной планеты. Впервые простые цветы Земли – короставники, ромашки, марьянники – стали полновластными героями его картин. Верно, мысль мастера отдыхала среди трав. Но все же и здесь ее тянуло к дальним мирам – не случайно в образе скромного цветка вдруг проступало что-то вселенское.
Сколько космизма в дивном полотне «Лютики»! Золотые венчики полыхают на лазурном фоне. Казалось бы, как это просто и непритязательно по теме. Но золото у Русова – особое, но лазурь у него – небывалая. Эти краски он зарядил светоносными энергиями космоса. И мы вдруг ощутили, что маленький лютик сопричастен гармонии мироздания, – в масштабах микрокосма он равновелик полыхающим солнцам.
А как хороши «Одуванчики» Русова! Он написал их ночью – в рассеянном синем свете. Одуванчики невесомо парят среди прозрачной затеми. Сколько доброты в этих серебряных шариках, сколько наивности, детскости! Но в то же время у одуванчиков есть какая-то тайна. Будто они только что тихо приземлились на нашей планете. Там, в космическом отдалении, виднеются их двойники: планетарные туманности, шаровые скопления, – зыбкими дымчатыми пятнами проступают они в ночной бездне. И кажется: одуванчики вот-вот поменяются с ними местами. Такие невесомые, уплывут в мерцающее пространство! А на их место опустятся космические туманности.
И никто не заметит подмены. И возле плетней будут играть дети. И снова они станут подставлять одуванчики ветру. И рассеются их парашютики по всей Вселенной. И прорастут однажды молодыми мирами.
Глядя на одуванчики, Русов вспомнил детство. Вся долгая жизнь вставала перед ним! Он так и не решил для себя – какое призвание в нем сильнее: художника или ученого. Этот вопрос ему часто задавали, и он всегда затруднялся ответить на него. Но сейчас Русов осознал цельность своего опыта. Он понял, почему таким сложным оказался для него вопрос о призвании: чтобы однозначно ответить на него, нужно было раздробить недробимое. И Русов не мог – не хотел! – сделать этого. Оглядываясь сейчас в прошлое, он понял одно: эстетическая интуиция направляла его устремление к скрытым уровням бытия. Наития помогали ему и как художнику, и как ученому. Единое мастер преломлял в двух призмах: и поэтому оно раскрывалось полней, целокупней.
Если согласиться с тем, что интуиция больше связана с художественным даром, то надо признать: Русов прежде всего являлся художником. Красота мира была для него первичным стимулом. Он чувствовал, что эта красота неизъяснима, – ее нельзя исчерпать узко рациональными схемами. Но мастер хотел сказать о несказанном! – для этого он расширял сознание, неизбежно выходя к новым уровням.
Думал ли Русов о звездах или деревьях, но его никогда не покидало ощущение, что за этими звездами и деревьями стоит нечто, еще не охваченное научным мышлением. О, сколь благодатно это ощущение! И сколь редким оно стало у многих ученых. Откуда эта поспешная уверенность, что все уровни бытия уже открыты? И что в мире не осталось никаких тайн? Русов никогда не понимал этой самодовольной ограниченности. Интуитивно прозревая сокровенные уровни бытия, он расширял духовные горизонты человечества. Люди радостно озирались на новых вершинах. Какая ширь, какая прозрачность! И всегда высота оказывалась неожиданной. Тем полнее переживалась новизна прекрасных открытий.
Сейчас Русов отдыхал. Он не строил больших планов на будущее: хотелось осмыслить достигнутое, реализовать старые замыслы. Мастер заканчивал цикл «Гимны камню», начатый еще в юные годы. Северные валуны становились живыми на холстах Русова! Вязь лишайников у него была похожей на письмена, – словно камни несли тексты древних цивилизаций.
Русов мастерски владел эффектом парейдолии – так психологи назвали способность человека вносить смысл в хаотические структуры. Вспомним образы «Небесного боя» Н. К. Рериха, – в облаках ему увиделось целое воинство. Или еще пример: гадалка выливает горячее олово в воду – и получает причудливый слиток; при сильном воображении в нем можно увидеть целые сцены.
Человек хочет организовать беспорядок, насытить бессмысленное информацией. Несомненно, что парейдолия является своеобразным проявлением творческих сил человека, – причем в ней есть игровой момент: всегда увлекательный, инициирующий работу воображения. Вглядываясь в фантастическую биоживопись лишайников, Русов видел в ней географические карты других планет. Это была игра – ив то же время метод познания. Русов отдыхал душой. И вместе с тем вел разведку в космосе.
Мысли о планете, вращающейся вокруг Ории, не оставляли художника. Вот и сейчас, разглядывая узоры лишайников на скальных отвесах, мастер словно искал в них изображение дальнего мира. Это помогало ему лучше сфокусировать луч интуиции. Лишайники давали благодатный материал для работы фантазии. Стоило лишь навести на них лупу – и перед тобой открывалась инопланетная биосфера.
Так необычны эти скромные растеньица, так парадоксальны!
Русов пытался построить модель биосферы, взошедшей под лучами далекого солнца. Он это делал как художник, – этюды сменяли друг друга, играя для художника роль рабочих гипотез. Мастер учитывал своеобразие светового режима на безвестной планете. Даже если она была самой близкой к Ории, то все равно ее освещенность показалась бы нам очень слабой. Ведь Ория по светосиле в 200 раз уступала Солнцу! Это неизбежно должно было сказаться на форме жизни, возникшей в тихих, как бы сумеречных лучах Ории.
Вот художнику и хотелось наглядно – в красках и образах – представить необычную биосферу. Лишайники стали для него своеобразной эвристикой. Как преображалась под кистью мастера наша северная леканора! Ее черные линзовидные диски – так называемые апотеции – вдруг становились огромными. Они втягивали в себя свет – и уже не отпускали его. Таинственные светоуловители! Несколько мрачноватые по виду, они тем не менее служат силам добра, уменьшая энтропию Вселенной.
А вот инопланетные джунгли! У них невероятно сложная топология, – это какой-то неевклидов лабиринт: если и найдешь выход из него, то окажешься в другом измерении. Интересно, что фантастические джунгли не кажутся хаосом — в них угадывается глубокая гармония. Так хочется войти в этот странный коричневый лес! И даже заблудиться в нем, отключившись от всего привычного. Какие необычные стволы, – они похожи на желоба и трубки; какие удивительные ветки, – они украшены зубчатыми выростами. Нет, такого на Земле не увидишь!
И вдруг – возвращение в реальность: инопланетные джунгли оборачиваются наскальным исландским мхом. Только Русов увидел его под своим ракурсом, – и обыденное явление превратилось в космическую сказку.
А как чудодейственно преображалась на холстах Русова серебристая гипогимния! Словно образы неземной зимы предстают перед нами, – они столь же хрупкие, столь же нежные, как и фантазии наших январей. Но только еще более изысканные. Будто за кружевами просвечивает скань: узорное на узорном, сквозистое на сквозистом.
Отталкиваясь от морфологии земных лишайников, Русов создавал лишь одну из вероятных моделей далекой биосферы. На планете могла реализоваться и совсем другая форма жизни. Хотя условия среды ограничивают формообразование, но эволюция неисчерпаема в своих творческих возможностях.
Как-то Русов наклонился с увеличительным стеклом над зеркалом лесной мочажины. Жизнь воды по-прежнему волновала художника, – в разнообразии водных существ ему открывался мир необычных гармоний. Срабатывал любимый метод мастера, – отталкиваясь от земного, прозреть космическое.
В лесу было тенисто. Но все же солнечный луч иногда падал на темное зеркало. В один из таких моментов Русов заметил, что на самой поверхности воды распластана слюдяная сетка: ее ячейки и перегородки были совершенно прозрачны для взгляда, – сквозь кисею-невидимку Русов видел черных плавунцов и домики ручейников.
Это гидродикцион, или водяная сеточка, – одна из самых изящных водорослей на Земле. Перехватывая толику солнечных квантов, водяная сеточка беспрепятственно пропускает луч в глубину мочажины, – вот он вкось высвечивает заросли элодеи и колокол паука-серебрянки.
В прозрачности водяной сеточки есть мудрая экологическая гармония, – затягивая поверхность воды, она не заслоняет свет от других существ. Русов подумал, что здесь соединились два качества: прозрачность и альтруизм. Конечно, это весьма возвышенный подход к водяной сеточке! И все же Русов чувствовал, что наискромнейшее плавучее растеньице этически импонирует ему. Водоросль решила стать незаметной – дабы не мешать соседям по экосистеме. Любуясь тонкими сетевыми узорами, художник переносил их на полотно. Прозрачное сквозь прозрачное! – возвращаясь к своему любимому мотиву, художник находил все новые средства для его воплощения.
Русов не сразу осознал, почему его увлекла прозрачность водных организмов – водорослей, личинок, рачков. Но вдруг он понял, что мочажина стала для него своеобразной оптикой: лучше всех телескопов она приближала дальнюю планету! Пусть это была игра воображения, пусть художник давал волю фантазии. Но ему пробрезжила совершенно прозрачная биосфера другого мира.
Так возникла еще одна модель жизни, освещенной скупыми лучами Ории.
Прозрачный мир! Огромные прозрачные леса возносятся над прозрачными травами. Прозрачные птицы вьют по весне прозрачные гнезда. В прозрачных водах плавают прозрачные рыбы. Прозрачные кузнечики глядят на небо сквозь крылья прозрачных стрекоз. Прозрачные бабочки пьют из цветов прозрачный нектар.
Биосфера-невидимка! Ни одно существо тут не экранирует свет от другого. Какое простое и мудрое приспособление к недостатку света! Всё непрозрачное оказывается нежизнеспособным. Дабы существовать успешно, нужно стать прозрачным. Удивительный императив эволюции! Развитие жизни на этой планете подчинялось весьма своеобразным принципам: естественный отбор здесь поддерживал альтруизм, – тогда как в нашей биосфере он зачастую был пособником эгоизма.
Да, эта прозрачность именно альтруистична! Хотя она может казаться и своеобразной мимикрией, – делаясь неразличимым для врага, существо спасается от гибели. В таком случае прозрачность становится маскировкой, – она содействует выживанию в драматических условиях антагонизма.
Но прозрачный мир рисовался Русову в совершенно ином свете! Он был для него воплощением гармонической красоты. Прозрачность в корне меняла сам характер экологических отношений, – начало взаимопомощи в этих условиях неизбежно брало верх над началами вражды. Исследуя свойства своей модели, Русов убедился в непреложности этого вывода.
Прозрачной планете художник посвятил свои последние картины. Он так глубоко вжился в этот мир, что уже ни на секунду не сомневался в его истинности. Мир без теней, мир без лжи! Образ инопланетной природы помогал мастеру глубже понять родную Землю. Биологическая эволюция неповторима. Но социальное развитие можно направить по новому руслу!
Мастер мечтал о прозрачной ноосфере Земли.
ЭПИЛОГ
Русальский любил земную осень. Возвращение из далекого космоса он всегда приурочивал к этой поре – брал отпуск на сентябрь и октябрь. Путь домой был далек. Русальский работал в планетной системе Денеба, – световая весточка оттуда шла тысяча шестьсот лет. Хотя биограммы преодолевали это расстояние в мгновение ока, но все равно отрыв от Земли казался очень резким. И потому ностальгия, подчиняясь некоему тайному ритму, однажды накатывала с неотвратимой силой. От нее было только одно лекарство: возвращение на Землю. Родная планета дарила и силу, и бодрость.
Как и все труженики космоса, Русальский имел несколько специальностей, – среди них главными были психология и магнитология. В канун своего отъезда на осенние этюды он всегда встречался с коллегами. Вот и сейчас Русальский заехал в Чертаново, где жил его друг Смиренников, директор Института социальной психологии. Наговориться за ночь они не успели. И потому порешили: Смиренников вместе с Русальским поедет на отдых в Карелию.
Друзей соединял всепоглощающий интерес к проблемам этической эволюции разума. Этот интерес не был абстрактным, – на одной из планет Денеба развивались гоминиды, готовые вступить в социальную фазу эволюции. Конечно, прямое вмешательство землян в этот процесс исключалось. Однако Кодекс космической этики не запрещал воздействие на отрицательные тенденции – если таковые могли не только задержать, но и остановить социальную эволюцию.
К сожалению, такие тенденции явно просматривались на планете. В борьбе за существование гоминиды все больше поступались той инстинктивной моралью, которая обычно направляет поведение, подчиняя его определенным правилам и нормам. Тревожили не только факты взаимоуничтожения среди гоминид. Их поведение все больше строилось на своеобразной стратегии скрытничества, маскировки. Это было какое-то совершенно патологическое двоедушничество! – закрепленное генетически, оно приносило существам скорее вред, чем пользу.
Для разумного наблюдателя эта ситуация выглядела совершенно дикой. Гоминиды превратили свои отношения в запутанный лабиринт, – существование в такой обстановке отнимало большие силы. Поэтому эволюция гоминид затормозилась. Смогут ли они самостоятельно прорваться сквозь созданные ими сети? Этот вопрос был мучительным для землян. Если поведение гоминид и впрямь несло черты патологии, то идеалы гуманности требовали немедленного вмешательства. Но тут возникали сомнения: вправе ли мы проецировать на далекий мир свои нравственные нормативы? Кажущееся нам аномальным может оказаться вполне естественным для чужой эволюции. Разве космический опыт уже не убеждал нас в относительности этих понятий?
Смиренников искал способы для того, чтобы помочь гоминидам, – и при этом не обеднить потенциал их эволюционного своеобразия. Задача была невероятно трудной. Поэтому ученый хотел вначале найти какие-то общие предпосылки для ее решения.
Он глубоко задумался над природой откровенности. Когда и почему отпадает необходимость в маскировке? Когда во взаимоотношениях существ становится возможной простота и прозрачность? Да, именно прозрачность! Это слово было особенно дорого Смиренникову.
Что изменилось в ноосфере Земли за последнее тысячелетие? Она стала прозрачной. Благодатная перемена! И не просто перемена, а величайшее духовное преобразование, – отныне мудрая откровенность определяла отношения людей. Многое изменилось и в биосфере. Словно природа потянулась к преобразившемуся человеку! Среди животных начисто исчез страх перед людьми; стали иными их внутренние экологические отношения, – начало взаимопомощи явно брало верх над началом конкуренции.
Биосфера достигла высочайшего расцвета. И это благодаря добрым силам гармонии.
Оглядываясь в прошлое земной природы, Смиренников контрастно видел состояния, ныне одоленные в ней: постоянный страх, подавленность. Нарушение равновесия – и экологического, и психологического – вызывало стресс. Можно было говорить о неврозе в масштабе всей биосферы! Постоянно терроризируемый человеком, животный мир находился на грани вымирания, – классические механизмы приспособления перестали работать в новых условиях. Среди этих приспособлений особую роль играла мимикрия. Растворяясь в красках среды или принимая чужие формы, животные обеспечивали себе безопасность.
Просматривая фильмы, привезенные Русальским с планеты гоминидов, Смиренников все время возвращался к примерам земной мимикрии. Аналогии всегда помогали ему. Вот и сейчас он думал о том, что у гоминидов выработалась своеобразная психологическая мимикрия, – маски подражают маскам, личины вторят личинам. Ввести в заблуждение другое существо – вот что стало целью поведения. Эта игра настолько усложнилась, что гоминиды просто запутались в ней: действия, предпринятые во имя пользы, приносили им ущерб. Отражая себя и других в кривом зеркале, гоминиды оказались на пороге биологического краха. Можно ли им помочь? Друзья искали ответ на этот вопрос в лесном уединении, среди первых сполохов золотой осени. На долгие прогулки Русальский брал с собой этюдник, а Смиренников – фоторужье. В беседах и спорах искали они истину.
Что помогло землянам обрести высшую прозрачность духа? – Искусство! – говорил без колебания Русальский. Последователь Николая Рериха, он верил в преображающую силу красоты. И для этого были все основания! Чувство гармонии высветило землян – сделало их более добрыми и чуткими.
Изучая богатейший материал по гоминидам, Русальский и Смиренников не находили у них даже намеков на эстетическое чувство. А ведь этим существам свойствен бесспорный артистизм! Только дар подражания приобрел у гоминид уродливые формы. Нельзя ли дать ему другое направление?
Осень создавала прекрасный фон для диалога двух друзей. Во многом соглашаясь с Русальским, Смиренников развивал свою собственную концепцию. Ему виделась несколько иная причина тех добрых перемен, которые произошли на Земле.
– Состраданье! – так отвечал Смиренников на вопрос о ведущем факторе духовной эволюции землян.
В состраданье человек становится прозрачным для другого. В состраданье одолевается глухая непроницаемая самость. В состраданье обретаются высшие духовные ценности. Принимая в сердце чужую боль, человек как бы перерастает себя: снимаются все барьеры и преграды, отделяющие его от другой личности. И тогда взаимность торжествует над отчуждением! Два в это мгновенье как одно – души становятся абсолютно проницаемыми друг для друга. Так способность к состраданью приносит в мир высшую прозрачность и чистоту.
Быть может, гоминидам как раз не хватает дара сочувствия? Тогда надо в них пробудить этот дар!
Друзья долго говорили о путях космической эволюции. Люди теперь могли реально воздействовать на развитие миров, – на это давала им право не столько техническая, сколько моральная зрелость. Другая планета в системе Денеба геохимически развивалась так, что не могла самостоятельно создать биосферу. И земляне вызвались ей помочь.
Неодолимым препятствием в осуществлении этой цели казалось отсутствие магнитного поля у планеты. Она была открыта для всех излучений космоса. А ведь многие из них являлись губительными для жизни.
Возникла задача: подарить планете прозрачную раковину – создать искусственную магнитосферу. Удивительное дерзание! Это была инженерная деятельность планетарного масштаба. Во главе проекта стоял Русальский. Сейчас, в тиши золотых лесов, он делился с другом своими задумками. Предстояло выбрать оптимальную форму для магнитосферы. Это задача была скорее эстетическая – соображения красоты и гармонии играли в ней решающую роль.
Прозрачное зодчество! Русальский готовился подарить планете незримую сферу. И он хотел вложить в нее не только знания магнитолога, но и свой дар художника, верного традициям Николая Рериха. В его воображении вставали прекрасные полярные сияния, которые Денеб станет возбуждать в новой магнитной оболочке. На эти сияния можно будет воздействовать – управлять ими! Русальский говорил другу о небывалом концерте светомузыки, – он хочет дать его в торжественный день включения магнитосферы. Русальский уже готовил партитуру для атмосферического светооргана, – он решил повторить в небесах чужой планеты все гаммы земной осени.
А она сейчас набирала полную силу! Выйдя на лесной проселок, Русальский замирал от радости бытия. Кроны становились похожими на прозрачные витражи, – сквозь них текли золотые и рдяные волны.
Прозрачность мира усиливалась с каждым днем. Уже сквозь поредевшие кроны осин стали видны ночные звезды. Русальский ждал этого мига! – на его холсте рождался новый образ: сеть осенних ветвей проецировалась на сеть хрустальных созвездий.
Земное и космическое снова соединились в картине художника.
Ярче всех на Млечном Пути горел Денеб, альфа Лебедя.
Покинул земной план бытия Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий, последний художник «Амаравеллы». Его старшие друзья по группе начали работать еще на исходе девятисотых годов. Поэтому мы вправе сказать: «Амаравелла» существовала более 80 лет – это беспрецедентная длительность в истории художественной группы.
Борис Алексеевич был человеком серебряного века. Он знал А. Белого и М. Волошина; слушал лекции П. Флоренского; переписывался с В. Кандинским. В 1926 г. молодой художник встретился с Н. К. и Е. И. Рерихами, – из их рук он получил первые книги «Живой этики»; беседы с ними многое предопределили в его мировоззрении. И еще: именно Н. К. Рерих заронил в Б. А. Смирнова-Русецкого тягу к Карелии. Напомним, что семья Рерихов два года (1916-1918) провела в Сортавале, – этот чудесный городок на берегу Ладоги стал магнитным и для Бориса Алексеевича. Вскоре после встречи с Рерихами он совершил путешествие по Ладоге. Но тогда и Валаам, и Сортавала принадлежали Финляндии – заветные берега художник мог увидеть только издали. За контакты с Н. К. Рерихом ему пришлось пострадать в тридцатые годы. Обретя свободу через пятнадцать лет неволи, Борис Алексеевич при первой возможности посетил Сортавалу. Потом он наезжал туда ежегодно. Приехал и летом 1993 г. Впервые мастер почувствовал, что ему стало трудно подниматься на крутые скалы, где он так любил располагать свой этюдник. Сердце стало отказывать в день отъезда из Сортавалы. Но Борис Алексеевич успел вернуться в Петербург, где он родился и провел свое детство – там и окончился его жизненный путь. Похоронен художник на Волковом кладбище.
В тридцатые годы Борис Алексеевич много путешествовал по Заонежью. Тогда и начался его цикл «Север», над которым мастер работал всю жизнь. Последние этюды для этого цикла он сделал в Сортавале за 9 дней до своего ухода. Художник создал удивительно цельный и поэтичный образ севера. Он чувствовал в нашем ландшафте особую духоподъемную тягу, возвышающую и очищающую строй человеческих мыслей.
Б. А. Смирнов-Русецкий был художником-философом. Он не только разделял, но и воплощал в своей творческой практике философию символизма: убеждение в том, что мир есть символ, за которым сквозят первосущие планы бытия. Вот это сквожение, просвечивание в природе иных, тонких измерений блестяще передает цикл мастера «Прозрачность». Материя здесь напитана духом – как в чаемый день Преображения. Но ведь это и есть назначение настоящего искусства: преображать мир, утончая материю настолько, что она становится прозрачной для света вечности. Циклы «Север» и «Прозрачность» часто пересекались в творчестве мастера. Север Смирнова-Русецкого прозрачен и духоносен. Подойдешь к полотну – и почувствуешь: за этой суровой природой стоит – и очень близко – ее бесконечно добрый создатель.
Борис Алексеевич любил карельский ледниковый ландшафт за его разнообразие: вода, камень, растительность – в сочетании этих элементов природа проявляет большую фантазию. Она потворствует игре воображения – и это ее качество тоже ценил художник. В ладожских скалах он прозревал храмы таинственной цивилизации. Вот их архитектурная доминанта: экстатический порыв вертикалей – восхождение камня к небу. Гигантские ступени виделись художнику в крутизне гранитных уступов – словно природа выражает здесь идею Иерархии, столь существенную для учения Рерихов.
Б. А. Смирнов-Русецкий был верен этому учению, которое говорит: человек не единожды приходит на Землю – в череде воплощений он совершенствует свою душу. Размышляя о неизбежном уходе, Борис Алексеевич говорил про иной мир: «Там я долго не задержусь». Он верил, что скоро снова родится в России, чью судьбу принимал как свою. Его окрыляли происходящие перемены.
Рериховское учение связано с индуизмом и буддизмом. Однако для носителей расширенного сознания оно вполне совместимо с христианством. Прощание с Борисом Алексеевичем состоялось в петербургском Князь-Владимирском соборе, – здесь завещал отпеть свой прах и Святослав Николаевич Рерих, большой друг Б. А. Смирнова-Русецкого. Веря в циклы перевоплощений, оба они были глубоко православными людьми. Надо подчеркнуть, что в своем творчестве Борис Алексеевич постоянно вдохновлялся поэтикой икон, которые тоже суть символы, указующие на горнее. Вся природа была для Бориса Алексеевича большой чудотворной иконой: он созерцал ее молитвенно и благодарно; через ее красоту с ним говорила София.
Борис Алексеевич был человеком огромной культуры. Он прекрасно знал русскую, европейскую, восточную философию; увлекался наследием древних цивилизаций; очень любил русскую поэзию. Созвучья своему мировоззрению художник находил и в дальневосточной живописи, и в немецком романтизме, и в современной космологии. Он был ценителем и знатоком серьезной музыки: Р. Вагнер вдохновил его на несколько прекрасных картин; А. Н. Скрябин оказался близким в своей космической устремленности.
Как и другие мастера «Амаравеллы», Б. А. Смирнов-Русецкий стал пионером в художническом освоении космоса – первые его картины на эту тему появились еще в двадцатые годы. Б. А. Смирнова-Русецко-го можно назвать мастером звездного неба. Никто до него не умел так точно передавать завораживающую глубину ночного пространства. Средствами конечного художник воплощал идею бесконечного. С ним говорили дальние цивилизации, где утвердились иные каноны красоты: их познанию и освоению мастер посвятил удивительные фантастические полотна.
В творчестве Б. А. Смирнова-Русецкого диалектически сочетались два момента: постоянства в разработке тем (цикл «Прозрачность» создавался с 1922 г.) и неустанный поиск нового, продолжавшийся до последних дней. 88-летний художник работал ярко и увлеченно как юноша. Последний раз я виделся с ним в марте 1993 г., за пять месяцев до его ухода – он показал мне свои последние работы, которые убедительно свидетельствовали: в творчестве мастера начинается новый интереснейший этап. Учившийся одновременно и у Куинджи, и у Кандинского, Борис Алексеевич попытался соединить две, казалось бы, несовместимых традиции: приемы предметной и беспредметной живописи органически сочетаются в его предсмертных работах.
Дар Смирнова-Русецкого универсален: художник писал и абстрактные композиции, и реалистические пейзажи. Но во всех его вещах есть единство стиля, единство личности. Художник не просто чувствовал преемственность между классикой и авангардом – он стал живым воплощением и олицетворением этой преемственности.
Борис Алексеевич очень тянулся к людям, к молодежи. Со своими выставками он объездил чуть ли не всю Россию. Эти выставки выполняли особую миссию: они не только приобщали зрителей к прекрасному, но и через непосредственные контакты с художником восстанавливали связь времен, нарушенную русской трагедией. Носитель лучших традиций отечественной культуры, Борис Алексеевич помог понять многим своим младшим современникам, что такое настоящая духовность и подлинная интеллигентность.
Моя дружба с Борисом Алексеевичем началась в 1975 г., – мы встретились на юбилее М. К. Чюрлениса в Вильнюсе. Как благодарить судьбу за счастье общения с этим человеком? Щедрые дары художника положили начало Музею космического искусства им. Н. К. Рериха в Карелии. Верю: этот музей скоро откроется в Сортавале – и он станет лучшим памятником моему старшему другу и учителю.
Художественная группа «Амаравелла», объединившая первых в нашей стране художников-космистов, начала складываться в 1922 г. Вот ее состав на 1927 г., когда группа окончательно сформировалась: Петр Петрович Фатеев, глава группы; Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий, Вера Николаевна Пшесецкая (Руна), Александр Павлович Сардан, Сергей Иванович Шиголев, Виктор Тихонович Черноволенко. Экзотически звучащее название группы кажется заимствованным из словаря Александра Грина. Игровое по своему происхождению и характеру, это название не имеет однозначного перевода. Перед нами своеобразная криптограмма. Придумал ее А. П. Сардан, человек блистательной выдумки. По-разному расшифровывалось название группы. Вот некоторые варианты: «несущий свет», «творческая энергия», «всходы бессмертия». Санскритские корни отчетливо прослушиваются в названии группы. Но точного эквивалента для них в русском языке не смогли подобрать даже опытные специалисты. Возможно, сам подход здесь неверен, – ведь перед нами название-игра, название-фантазия. Вероятно, магическая музыка, заложенная в нем, несет в себе больше значений, чем прямой смысл.
Название было предложено в 1927. Повод для его возникновения – исключительное событие в жизни группы: по инициативе Николая Константиновича Рериха, посетившего Москву в 1926 г., в США организуется выставка молодых художников-космистов. Именно к этой выставке был приурочен и манифест «Амаравеллы». Приводим его текст полностью:
«Произведение искусства должно само говорить за себя человеку, который в состоянии услышать его речь.
Научить этому нельзя.
Сила впечатления и убедительности произведения зависит от глубины проникновения в первоисточник творческого импульса и внутренней значимости этого первоисточника.
Наше творчество, интуитивное по преимуществу, направлено на раскрытие различных аспектов космоса – в человеческих обликах, в пейзаже и в отображении абстрактных образов внутреннего мира.
В стремлении к этой цели элемент технического оформления является второстепенным, не претендуя на самодовлеющее значение.
Поэтому восприятие наших картин должно идти не путем рассудочно-формального анализа, а путем вчувствования и внутреннего сопереживания – тогда их цель будет достигнута».
Важнейшая особенность манифеста – его внутренняя диалектичность: программные взгляды здесь формулируются с помощью отрицания – утвердившимся «тезам» группа противопоставляет свои нетривиальные «антитезы». Вот пары противоположностей, отчетливо просматривающиеся в манифесте: рассудок – интуиция, анализ – вчувствование, формальность – содержательность. Сама заложенная в манифесте структура говорит о скрытой в нем полемичности. С кем же спорит «Амаравелла»?
Рассудочно-аналитический подход к искусству, увлечение чисто формальным поиском, геометризация живописного языка: все это черты, характерные для целого ряда художественных течений 20-х годов – прежде всего для супрематизма и конструктивизма. «Амаравелла» возникла на фоне преобладающего влияния этих течений. И сразу же выделилась из этого фона! Выделилась четко, контрастно, – хотя в силу исторических причин осталась почти незамеченной.
У П. П. Фатеева есть цикл картин «Мой супрематизм»; и он, и его сподвижники восхищались «Памятником III Интернационалу» Татлина; особый отклик вызывал «лучизм» М. Ларионова и Н. Гончаровой. Молодые мастера жадно впитывали все новое, передовое. Но эта ассимиляция новизны не была стихийной и бездумной. Восхищенно перенимая все лучшее у левых течений, члены «Амаравеллы» рано ощутили их определенную односторонность: яркие и дерзкие эксперименты с формой здесь порой становились самоцелью, – из искусства уходило его содержательное начало. Такой крен в сторону формы не устраивал «Амаравеллу». Замечательная – и самая важная особенность группы: освоив и творчески преломив новый живописный язык, «Амаравелла» заговорила на этом языке о великих мировоззренческих проблемах – о месте человека во Вселенной, о творческой эволюции разума, о смерти и бессмертии. Свежая и самобытная по своей формальной технике, живопись «Амаравеллы» содержательна в философском плане. Совместными усилиями художники-космисты создали уникальную модель мира, взятого в целостном охвате интуиции, – и одновременно увиденного процессно, в развертывании по направлению к будущему. Причем в поле духовного зрения всегда удерживался человек, – прозревалась и утверждалась его неявная сомасштабность миру, высвечивались космические перспективы духа. Философия «Амаравеллы» – это своеобразный антропокосмизм. Причем антропокосмизм с отчетливо выраженным прогностическим устремлением. Каков эволюционный потенциал человека? Возможен ли его выход в космос? Достижимо ли бессмертие? Вот круг вопросов, волнующих «Амаравеллу». Казалось бы, вопросы эти сугубо отвлеченные, философские. Но молодые космисты дают на них свои художнические ответы. И ответы образные, эмоционально окрашенные. Сам факт вхождения подобных вопросов в сферу образно-пластического осмысления – явление едва ли не беспрецедентное в истории мирового искусства. Впервые на холсте означились черты будущего человека; впервые с художественной убедительностью и глубиной – без внешней иллюстративности – перед нами предстали картины космической деятельности разума; впервые искусство дерзнуло промоделировать своими средствами другие миры – с иными условиями и параметрами, с иными канонами прекрасного. Впервые...
Это слово приходится произносить часто, когда говоришь об «Амаравелле», о ее приоритете в развитии космической живописи. Однако «Амаравелла» возникла не на пустом месте. Линия духовной преемственности связывает ее с М. К. Чюрленисом, А. Н. Скрябиным, В. В. Кандинским, – доминировавшая в сознании этих мастеров идея синтеза искусств получила у них космическое осмысление; с удивительной органичностью вписывается «Амаравелла» в контекст исканий «русского космизма», представителями которого были Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский, – созданное «Амаравеллой» может рассматриваться как своеобразная живописная параллель к их исканиям; сильные импульсы «Амаравелла» получила от науки, – члены группы увлекались Фламмарионом; они следили за революционной ломкой астрономической картины мира, начавшейся в самом начале 20-х годов, фактически синхронно с возникновением группы.
Космическая направленность перемен, происходивших на многих фронтах духовной и научной жизни, была чутко уловлена П. П. Фатеевым. В заметке «О супрематизме К. Малевича», датированной ноябрем 1917 г., он писал: «Новая музыка, поэзия, философия, последние по времени течения живописи: кубизм, футуризм, супрематизм, индийские йоги, теософия, последние данные науки, – все проходит под знаком того, что может быть названо Новым Космическим сознанием».
Значительнейшая запись! Пожалуй, впервые под одним углом зрения – как выражение единой тенденции – здесь осмыслены самые разные явления: от музыки до науки, от философии до живописи. Обращает на себя внимание и тот момент, что в общем контексте с этими явлениями здесь рассматриваются индийская йога и теософия. Насколько корректно соположение в одном ряду науки и теософии? Этот вопрос очень важен для понимания «Амаравеллы», ее философско-эстетической платформы. Исчерпывающим ответом на него может быть такая выписка из труда В. И. Вернадского «Живое вещество», – говоря о новых веяньях в науке, великий ученый-космист пишет: «Человеческая мысль стала внимательнее прислушиваться к отголоскам идеи о космичности жизни, незаметно начинающей проникать духовную обстановку личности современного человека... В тесной связи с этим настроением стоит, мне кажется, и успех теософского движения XIX-начала XX в. Здесь идея космичности жизни получила такое реальное значение в миросозерцании современного человека, какого она давно не имела»[7]. В. И. Вернадский признает определенное эвристическое значение теософии, – в самом деле, тексты Е. П. Блаватской, где древние мифологемы смело сопрягаются с научными формулами, при всей своей спорности, все же обладают некоей поэтической притягательностью, побуждают к поиску, расковывают воображение. Это своеобразнейшее по своей поэтике мифотворчество. Основоположница теософии Е. П. Блаватская существенно повлияла на А. Н. Скрябина, В. В. Кандинского, Н. К. Рериха, – не прошла мимо этого влияния и «Амаравелла»: именно Блаватская породила у молодых художников-космистов интерес к Индии. Впоследствии этот интерес был поддержан встречами с Н. К. Рерихом и знакомством с его учением.
«Расширение сознания»: это выражение мы часто встречаем у Н. К. Рериха; программное значение оно имело и для членов «Амаравеллы». Причем установка на расширение сознания понималась художниками как многоплановая задача, – сознание должно расширяться сразу по нескольким радиусам, расширяться в разных направлениях. Вот некоторые из них:
– расширять сознание – значит, преодолевать геоцентризм, вырабатывать у себя космическую точку зрения; именно с этой точки зрения изображена Земля в «Радиосонате» С. И. Шиголева (1928) – перед нами гармонически устроенная ноосфера, сети ее коммуникаций; художник впервые изобразил здесь систему искусственных спутников, – причем точно предугадал форму первого из них, выведенного на орбиту в 1957 г.;
– расширять сознание – значит, смотреть в глубину явлений,
прозревая планы и уровни, скрытые
под непроницаемой оболочкой вещества; такое своеобразное просвечивание
реальности – и тонкое поэтическое осмысление ее многоуровневости – мы находим
в цикле Б. А. Смирнова-Русецкого «Прозрачность», над которым художник начал
работать в 1922г.; цикл утверждает: мир для расширенного сознания прозрачен
насквозь;
– расширять сознание – значит, продолжать причинно-следственные цепи далеко за грань эмпирически доступного, данного непосредственно, – уводить эти цепи в трансцендентную бесконечность, а не обрывать их у предельной черты нашего физического существования; завораживающую глубину открывающихся здесь перспектив прекрасно передает живопись В. Т. Черноволенко, вызывающая в нас светлое и таинственное ощущение непрерывности жизни;
– расширять сознание – значит, преодолевать разрозненность в работе наших чувств, видя звуки и слыша краски, осуществлять синтез двух каналов восприятия; эту сложную задачу успешно решал А.П. Сардан, чьи работы являются источником не только живописных, но и музыкальных впечатлений; гул органа, тембр арфы, вибрации колокола, – все это получает на его полотнах поразительно точный пластический эквивалент;
– расширять сознание, – значит, быть готовым к новизне научных и художественных истин, которые часто приходят в форме настолько ошеломляющих парадоксов, что их содержание оказывается абсолютно несовместимым с привычным опытом, – и тогда остается только одно: взорвать эти рамки, решительно раздвинуть их до бесконечности; холсты П. П. Фатеева адаптируют нас к новизне парадокса, раскрывают неожиданные эстетические ресурсы парадокса, – и в этом их определенная связь с тенденцией парадоксализации современного естествознания.
Когда и как у Петра Петровича Фатеева, вождя «Амаравеллы», произошло обращение к космической теме? Первые картины, где ощутимо проявляет себя новое космическое мировосприятие, датируются 1914 г. Среди побудительных факторов, содействовавших расширению сознания у молодого художника, надо назвать поэзию. П. П. Фатеева поразили строки из «Гитанджали» Рабиндраната Тагора:
На морском берегу бесконечных миров собрались дети.
Под впечатлением этих строк он напишет картину «Дети на берегу миров». Образно выраженное поэтом ощущение Земли как берега бесконечности найдет неожиданное живописное воплощение. План земной – морской берег с играющими детьми; план космический – захватывающая дух перспектива дальних миров. Отныне эти два плана будут прочно сопряжены в творчестве как самого П. П. Фатеева, так и его друзей по «Амаравелле». Взаимодействие этих планов, их переход друг в друга: вот что станет предметом эстетического постижения у молодых художников-космистов, – и на этих путях они сделают немало значительных художественных открытий.
Колоссальное воздействие на П. П. Фатеева оказала поэзия Уолта Уитмена. Прежде всего художнику был созвучен антропокосмизм поэта – та смелость, с какой он ставил знак равенства между бесконечностью Вселенной и бесконечностью духа:
Огромное, яркое солнце, как быстро ты убило бы меня,
Если бы во мне самом не всходило такое же солнце.
Уитменовская «Песня о себе» захватила П. П. Фатеева своей масштабностью, своим полифоническим звучанием. В 21 главе этой поэмы есть такие строки:
Ближе прижмись ко мне, гологрудая ночь, крепче прижмись ко
мне,
магнетическая, сильная ночь, вскорми меня своими сосцами!
Уитмен уловил зиждительные токи Вселенной – прямо и непосредственно подключился к этим токам. Впервые земная жизнь ощущается как космический феномен. Мирозданье для поэта – не черная пустота, а всепорождающее лоно. На языке метафор здесь предвосхищено мировоззрение, которое на языке науки – но однако с неменьшим эмоциональным подъемом – впоследствии разовьют В. И. Вернадский и А. Л. Чижевский. На тему 21 главы «Песни о себе» П. П. Фатеев напишет картину. Она будет дважды экспонирована в США – в 1927 г. в Нью-Йорке и в 1928 г. в Чикаго. Среди восторженных отзывов американской прессы, посвященных П. П. Фатееву и его друзьям, встречаем заметку с таким названием: «Вдохновленный Уитменом».
Сильный импульс молодой П. П. Фатеев получил от книги Ф. Ницше «Так говорил Заратустра». Причем этот импульс действовал очень долго: первая картина на тему Заратустры создана в 1915, а последняя в 1949 г. Всего навеянный чтением Ф. Ницше цикл включает в себя 59 картин. Откуда такая верность теме и образу? Что влекло художника к Заратустре? Думается, что прежде всего Фатеев был захвачен поэтической стихией книги, – ее раскованная ритмика в чем-то сродни верлибрам Уитмена; ее образный строй подчеркнуто парадоксален, – причем в основе многих парадоксов лежит ошеломляющая инверсия привычных ценностей, их своеобразное выворачивание наизнанку. Бесспорно, в творении Ф. Ницше содержится фермент, содействующий расширению сознания.
А как же воинствующий имморализм Заратустры?
Самоупоенность героя Ницше, проповедуемый им культ силы, идея любви к дальнему, а не к ближнему: все это бесспорно лежит за рамками гуманистической традиции. Но именно эти объективно спорные моменты в образе Заратустры имели для П. П. Фатеева третьестепенное значение. Прочел он книгу Ницше под весьма специфическим углом зрения, – прочел избирательно, акцентировав по сути дела лишь одну идею, безусловно несущую в себе заряд эвристичности. Это идея о возможности дальнейшей эволюции человека, о его переходе на качественно новую ступень.
Конкретный образ сверхчеловека, созданный Ницше, может показаться нам малосимпатичным. Но в этом ли дело? Пусть в крайне спорной форме, однако философ поставил существенный вопрос, от которого не может уйти ни фантастика, ни футурология. Это вопрос о биологическом будущем человека. Собственно, можно ли говорить о таком будущем? Быть может, эволюционный потенциал нашего вида исчерпан? И его дальнейший прогресс будет осуществляться уже на путях социального развития?
Верность классическому гуманизму требует от нас признать человека некоей константой. Но в то же время диалектическая интуиция подсказывает: нет, мы не вправе как-то лимитировать дальнейшую эволюцию нашего вида – это ведь финализм, чуждый идее развития. Да и гуманно ли это: отказать человеку в возможности бесконечного совершенствования – причем не за счет техники, а за счет собственных биологических ресурсов.
Перед нами своеобразная антиномия. Тезис ее гласит: эволюция человека завершена. Но антитезис утверждает противоположное: эта эволюция будет продолжаться с установкой на освоение экстремальной среды обитания – космического пространства. Адаптация к межзвездному вакууму? Да, даже такую фантастическую возможность не отвергают те, кто верит в бесконечную эволюционную пластичность человека, в его неисчерпаемый эволюционной потенциал. Такой верой после прочтения Ницше проникся П. П. Фатеев. Художник вспоминает: «В один прекрасный день с утра меня стал беспокоить образ Заратустры – образ человека-змеи, меняющего свои личины, извивающегося от переполняющей его силы, сильного, мудрого канатного плясуна».
Конечно, можно сказать, что П. П. Фатеев отнесся некритически к следующему программному заявлению Заратустры: «Все существа до сих пор создали что-нибудь высшее себя: а вы хотите быть отливом в этом великом приливе и лучше вернуться к животному, чем превозмочь человека»[8]. Но эта явно дискуссионная установка – «превозмочь человека» – содержит в себе и некоторый позитив. Допустим, что эволюция человека как вида возможна. И более того: она осуществляется уже сейчас, — природа как бы загодя готовит нас к новому, небывалому. Как же будет выглядеть человек на разных фазах этой эволюции? Никто не оспорит право фантастики ставить данный вопрос, – и предлагать различные модельные варианты ответа на него. Этим правом в полной мере воспользовался Петр Фатеев.
Книга «Так говорил Заратустра» противоречива. С одной стороны, она подчеркнуто антикосмична: «...мудрость моя, смеющаяся, бодрствующая дневная мудрость, которая насмехается над всеми бесконечными мирами»[9]. С ориентацией Заратустры на все земное, посюстороннее П. Фатеев согласиться не может. Но звучат в Заратустре и другие ноты, – это иная грань его сложного облика: «то, что я враждебен духу тяжести, составляет черту птицы: и поистине, смертные, непримирима, исконна вражда моя»[10]. Тут мы видим как бы два вектора, две разнонаправленных силы: одна тянет Заратустру к земле, а другая поднимает его к звездам. В картинах П. П. Фатеева означен лишь второй вектор. Можно предполагать, что его внимание долго задержалось на следующих словах Заратустры, где по сути дела говорится о состоянии человека, парящего в космическом пространстве: «...говорит птица-мудрость: «Смотри, нет ни верху, ни низу! Бросайся повсюду, вниз, вверх, ты легкий!»[11]
Картина «Выше звезд», входящая в цикл «Так говорил Заратустра», написана в 1915 г. Это первое изображение человека – или пусть его потомка, мета-человека – в космическом пространстве. Могучая духоподъемная тяга, заложенная в полотне, ощутима почти физически, – словно некие восходящие токи неуклонно поднимают нас ввысь: над планетой, над звездами. И ничто не может остановить этого поступательного движения по вертикали.
Но почему Заратустра изображен без скафандра?
Ведь он находится в безвоздушном пространстве, среди потоков жесткого излучения.
Конечно, можно сослаться на условный или символический характер изображения, но дело здесь обстоит глубже. Перед нами своеобразное эволюционное кредо художника-фантаста. Всей образной системой своей картины он утверждает: адаптивные возможности человека настолько велики, что в принципe реально его существование в открытом космическом пространстве. Одиноким ли был П. П. Фатеев в своих безумно смелых прогнозах?
Нет, у художника был замечательный союзник – К. Э. Циолковский. Вот какую мысль содержит его трактат «Жизнь в межзвездной среде»: «Мы допускаем пока, что человек не умирает ни от пустоты и отсутствия кислорода, ни от убийственных ультрафиолетовых лучей солнца. Или мы предполагаем, что человек, эволюционируя, превратится в существо, которому нипочем все эти новые условия существования»[12].
У К. Э. Циолковского мы встречаем своеобразное выражение: «сверхчеловечество»[13]. Чисто лингвистическая аналогия со «сверхчеловеком» Ф. Ницше тут налицо. Но на сущностном уровне различия очевидны: «сверхчеловечество» К. Э. Циолковского остается гуманистическим в своем мышлении и в своих акциях, – тогда как «сверхчеловек» Ницше вступает в конфликте идеалами гуманизма. Космическая этика Циолковского была несравненно ближе и Фатееву, и всей «Амаравелле», нежели бунтарская антимораль Ницше, – однако за этим фундаментальным различием мы не должны упускать из виду и определенный параллелизм во взглядах двух мыслителей: оба они считали, что эволюционное развитие человека еще не закончилось, – но перспективы этого развития видели по-разному.
Комментируя трактат К. Э. Циолковского «Как жить в космосе», И. А. Ефремов спорите ним: «Читатель простит К. Э. Циолковскому ошибочные, мельком сделанные замечания о возможности быстрой трансформации человека в космосе, как, например, развитие хватательной функции ног и тем более «фитозоонизацию», или превращение в животнорастение»[14]. Перед нами неявный диалог двух концепций антропокосмизма: Циолковский видит Человека космического в бесконечной эволюционной перспективе – Ефремов связывает эту перспективу не с биологическими метаморфозами нашего вида, а с прогрессом техники. Поддерживавший дружеские отношения с И. А. Ефремовым П. П. Фатеев все же был бы в этом споре не на его стороне. Приглядимся к многочисленным Заратустрам художника. Сколь пластичны, даже текучи их тела! Тут нет устойчивой структуры, задаваемой скелетом, – тут меняется все: размеры, контуры, пропорции. Такая гибкость была бы действительно очень удобной, оптимальной при отсутствии гравитации. Зачем жесткий скелет существу, обитающему в условиях невесомости? Логика эволюции делает его ненужным. П. П. Фатеев в принципе верно понял эту логику. Победа над силой тяжести – если она будет достигнута биологически, а не технически – изменит морфологию организма. П. П. Фатеев художнически моделирует эти изменения, – и делает это с захватывающей смелостью.
Человек в космосе: художники «Амаравеллы» были пионерами этой темы. Но волновали их не столько технические, сколько духовные и эстетические аспекты освоения космоса: человек, проецирующий себя на бесконечность; человек, открывающий очаги внеземного разума; человек, постигающий иные – возникшие подчас в немыслимых для него условиях – каноны прекрасного, – вот какая проблематика волновала «Амаравеллу». Члены группы никогда не увлекались техницизмами. Они знали: это преходящее. Их влекло к себе сущностное, фундаментальное. Поэтому и в картинах, посвященных космической деятельности человека, они очень глубоки. Что мы ожидаем от картины, носящей название «Машины в космосе»? Конечно же, нагромождения космической технологии. Но вот картина С. И. Шиголева с этим названием, написанная в 1928 г. Как это ни парадоксально, но здесь нет никаких машинных аксессуаров. Если перед нами и машины, то какого-то нового типа, – машины, где механическое уже переходит в органическое. Машины-организмы? Может быть так. Ведь такой симбиоз в принципе возможен. Хотя это дело очень далекого будущего. Но вот что замечательно: именно такая дальняя перспектива волнует Шиголева – он моделирует нечто качественно новое, а не переносит – пусть и с простенькими коррективами – земное, известное в условия космоса. Установка на радикальную новизну характерна для «Амаравеллы». Бесспорно: члены группы высказались бы за «дальнюю», а не за «ближнюю» фантастику. Эстетическое освоение космоса требует расширенного сознания.
С. И. Шиголев был чуток к проблемам формы. Своим художническим наитьем он понял: формообразование в космосе будет осуществляться по специфическим законам, – и раскрытие этих законов окажется существенным для искусства, для обогащения его формального языка. Есть определенная аналогия между океаном и космическим пространством: рождение форм в этих средах, где влияние сил тяготения или ослаблено, или практически сведено к нулю, будет более свободным и разнообразным, чем в наземных условиях. Не потому ли мир морских беспозвоночных поражает нас богатством и фантастичностью своих конструкций? С. И. Шиголев был биологом по образованию, интересовался фауной моря. Пусть неоднозначно и опосредованно, но этот интерес проявился в его произведениях на тему космоса.
Картина «Работа в космосе» написана в 1927 г. Перед нами легкая ажурная структура, для которой нет аналогов в земной техносфере. Главная особенность этой структуры – ее органичность, даже биологичность. Это решетчатый скелет радиолярии? Но сколь грандиозны ее размеры! Формы космоса перекликаются с формами океана. Возможно, когда-нибудь возникнет такая наука: космическая бионика. Задачи космического формообразования помогут преодолеть разрыв между техникой и природой. Заявка на такое преодоление – космические работы С. И. Шиголева.
В 1926 г. Н. К. Рерих передал членам «Амаравеллы» две первые книги из серии «Живая этика» – «Зов» и «Озарение». В книге «Озарение» читаем: «Волны токов спирально нарастают. Принцип спирального вихря во всем»[15]. Образ спирали проходит через все учение «Живой этики». Но С. И. Шиголев еще не читал подаренных Н. К. Рерихом книг, когда на его картинах спонтанно рождались спирали. Они организуют живописное пространство в большинстве работ художника. Спираль у Шиголева является первоэлементом его живописного языка, исходной формообразующей структурой. Сам мазок у Шиголева – само движение его руки – как бы спирализованы. Спирали у художника возникали импульсивно, а не в силу какой-то рациональной установки. Словно сама динамика космоса непосредственно проявлялась в работе мастера! Вряд ли он когда-нибудь видел знак «ян и инь» – круг, разделенный на черную и белую половины не прямой линией, а спиральной кривой. Эмблема древнекитайской философии оказалась удивительно созвучной современным космологическим представлениям. Рассматривая работы Шиголева, мы постоянно фиксируем в них элементы, чем-то похожие на форму и динамику знака «ян и инь». Интуиция художника может прозревать глубинные космологические структуры. И доказательство тому – творчество С. И. Шиголева.
С поразительной экспрессией С. И. Шиголев изображает спиральные вихри. Но живое вещество на его картинах тоже как бы взвихрено, спирализовано! Спираль – диссимметрична: правое и левое здесь не равнозначны.
Диссимметрия является фундаментальным свойством живого вещества.
В 20-30 годы В. И. Вернадский усиленно размышлял над проблемой: не отражается ли в диссимметрии жизни основополагающая диссимметрия космоса? Когда изучаешь картины С. И. Шиголева из цикла «Лаборатория в космосе» (1928-1929), то невольно ловишь себя на мысли: в этой лаборатории ставится эксперимент по проверке гипотезы В. И. Вернадского.
Живое вещество на картинах С. И. Шиголева вынесено в космос. Мы видим нечто подобное клеточным структурам. Или каким-то таинственным эмбрионам... Изображения условные, тяготеющие к абстрактной обобщенности, – и тем не менее они полны жизни. Мы чувствуем пульсацию этой жизни, мы захвачены ее динамической гармонией. Как живое вещество будет функционировать и развиваться в космическом пространстве? Этот вопрос интересен не только для биолога, – он волнует и художника, завороженного великой тайной органического формообразования. Своими картинами художник хочет сказать: космос подарит нам новые небывалые формы.
Но в этих сказочно прекрасных формах мы узнаем и нечто знакомое нам. Это – спираль. Она является инвариантом многих формообразующих процессов, протекающих по законам прекрасного, – она и воплощает суть красоты. Космической красоты.
Пусть чисто условные и игровые, всего лишь на уровне воображения, но очень интересные опыты с формообразованием в космосе ставил П. П. Фатеев. Раскованной и смелой была фантазия К. Фламмариона, – однако и здесь работали своеобразные лимитирующие механизмы. Так, Фламмарион писал: «Всякое существование зависит от атмосферы... Планета, лишенная атмосферы, превратилась бы, стало быть, в жилище глухонемых, в страну вечного безмолвия, в которой никакой обмен мыслей был бы невозможен»[16]. Нет атмосферы – нет жизни. Таков вывод Фламмариона. Но Фатеев полемизирует с этим выводом! Картины художника рассказывают о ноосферах, возникших фактически в условиях вакуума. Жизнь – разнообразна. И жизнь – вездесуща. Для П. П. Фатеева это было его глубоким личным убеждением.
Принципы формообразования у членов «Амаравеллы» отмечены чертами своеобразия. И своеобразие это станет тем более очевидным, если мы еще раз спроецируем «Амаравеллу» на фон художественной жизни 20-х годов. Что доминирует в этом фоне? Увлечение машиной, механической конструкцией; увлечение прямолинейно четким геометрическим языком. Жесткая и сухая эстетика конструктивизма хорошо коррелирует с эпохой индустриализации. Но эстетика «Амаравеллы» строится на полярно противоположных принципах. Члены группы шли в своих формальных исканиях не от механизма, а от организма, – они многое брали у живой природы с ее асимметриями и криволинейными поверхностями.
Все члены «Амаравеллы» занимались моделированием космической архитектуры. Пожалуй, именно в этих моделях они с наибольшей полнотой выразили свое кредо художников-формообразователей, – космос давал им полную свободу для экспериментов, сводя на нет все те лимитирующие факторы, которые ограничивают формообразование в условиях Земли. Фантастические здания на планетах Фатеева, Черноволенко, Сардана качественно отличаются от произведений земной архитектуры. Общая их черта – асимметричность. Здесь есть некоторое стилевое созвучье с зодчеством модерна, которым увлекались члены «Амаравеллы», – но они идут дальше Гауди и Шехтеля в раскрепощении архитектурной формы. Это раскрепощение связано именно с асимметризацией, – благодаря ей архитектоника здания сближается с архитектоникой подвижного организма. Прямые углы, жесткие крепления, фиксированные пропорции: все это отсутствует в инопланетной архитектуре «Амаравеллы». Перед нами здания-организмы. Создатели их имели гораздо больше степеней свободы, нежели зодчие на Земле, примеряющие свою фантазию к условиям планеты и возможностям времени.
Подчеркнем еще раз: органичность, своеобразная биологичность форм – вот что отличает эстетику «Амаравеллы» от эстетики современных ей авангардистских течений. Здесь «Амаравелла» шла впереди своей эпохи. С удивительной прозорливостью молодые художники-космисты ощутили неполноту, односторонность как аналитического мышления, так и машинной эстетики. Альтернативой всеумерщвляющего рассудочного мышления для них стала интуиция. И соответственно эстетике механического они противопоставили эстетику органического. Но вот что замечательно: свою эстетику они спроецировали на космос! Эта проекция была не только игрой фантазии, – она соответствовала глубинным мировоззренческим установкам «Амаравеллы».
Платон учил: космос – организм. Он одушевлен; он дышит и пульсирует. Гиперболическое преувеличение? Рецидив зооморфизма? Пусть так. Но на своем метафорическом языке Платон формулирует ценную и актуальную мысль: космос – не случайный конгломерат частей, а нечто целое, единое. И в силу этой целостности он аналогичен организму. Почему мы называем мир «космосом»? Части и целое в нем гармонически связаны; гармония эта – знак совершенства и красоты. По-гречески слово «космос» как раз означает «красота», «строй», «порядок». Перед нами не просто научное понятие, но еще и эстетическая оценка. И заметим: оценка восторженная.
Пифагорейско-платоновская традиция в космологии существенно повлияла на «Амаравеллу». Члены группы стремились создать целостный образ мира. Творчество их космологично в самой своей основе, – и эта черта «Амаравеллы» тоже уникальна. Решая поставленную задачу, художники-космисты столкнулись с великой антиномией, давно знакомой философам. Но новизна ситуации заключается в том, что перед этой антиномией – конечен или бесконечен мир? – по сути дела впервые встало искусство.
Космос Платона конечен и целостен, ему присуща оформленность и определенность, он имеет сферическую структуру. Художественное моделирование такого космоса не встречает принципиальных затруднений, – ведь он есть нечто вполне конкретное, телесное, пластичное. Платон охотно рассматривал космос по аналогии с произведением искусства. Эта аналогия была значима для непосредственной практики художников «Амаравеллы», – космос они порой воспринимали как некий грандиозный артефакт, как шедевр вселенского дизайна, воплощающий представления об идеально прекрасном. Античное учение о гармонии сфер так или иначе отозвалось в творчестве А. П. Сардана, В. Т. Черноволенко, Б. А. Смирнова-Русецкого. Вспомним: в контексте этого учения космос рассматривается как огромный музыкальный инструмент, – и все на Земле настроено в унисон этому инструменту. Земное и небесное связаны в этой концепции воедино, пронизаны созвучьями, резонируют друг в друге. Человек гармонично вписывается в эту мерцающую космическим хрусталем модель. Но все же его не может оставить мучительный вопрос: а что находится там, дальше, за последней сферой конечного мира? Этот вопрос с неизбежностью встал и перед «Амаравеллой».
Понятия «космос» и «вселенная» мы привыкли употреблять как синонимы. Но это неправильно. Известный историк науки А. Койре пишет о ломке картины мира, которая произошла в XVI-XVII вв.: «Распад космоса означал крушение идеи иерархически упорядоченного, наделенного конечной структурой мира... она была заменена идеей открытой, безграничной и даже бесконечной Вселенной»[17]. В словоупотреблении Койре понятия «космос» и «вселенная» приобретают значение антонимов! И это закономерно: ведь переход от конечных моделей мира-космоса к бесконечным моделям мира-вселенной – это радикальный переворот во взглядах, неминуемо затрагивающий и сферу духовного, эстетического.
Все члены «Амаравеллы» увлекались астрономией. Картина звездного неба воспринималась ими через призму ньютоновской модели мира. Бесконечность является атрибутивным свойством этой модели. Чувство возвышенного, которое вызывает в нас созерцание ньютоновской Вселенной, хорошо передает Уитмен:
Ночью я открываю мой люк и смотрю, как далеко
разбрызганы в небе миры.
И все, что я вижу, умноженное на сколько хотите, есть только
граница новых и новых вселенных.
Дальше и дальше уходят они, расширяясь, всегда расширяясь,
За грани, за грани, вечно за грани миров.
Эти строки созвучны вселенским устремлениям «Амаравеллы». Но можно ли найти для них живописный эквивалент? Можно ли пластически воссоздать бесконечность?
В самой постановке этого вопроса заключено внутреннее противоречие. Ведь изобразительное искусство по определению связано с миром конечного и конкретного. Чувственно бесконечность непредставима и невоплотима. Не потому ли в мировосприятии древних греков она была чем-то негативным, эстетически неприемлемым? Античность пыталась устранить все инфинитное из картины мира, – и эстетические соображения играли здесь первенствующую роль. Однако выход в бесконечность был для человеческой мысли неминуемым. И это потребовало колоссального напряжения от эстетического сознания: человеческие чувства должны были адаптироваться к бесконечности.
Существенный вклад в эстетическое освоение бесконечности внесла «Амаравелла». Картина Б. А. Смирнова-Русецкого «Беспредельность» (1980) уводит наш взгляд в бездонные глубины космоса. Замечательно, что эти бездны вовсе не внушают нам известный «ужас бесконечного», – перед нами светлая, духоносная, даже где-то лирическая в своем звучании бесконечность. И она инициирует в нас не только чувство возвышенного, но и чувство прекрасного: понятия красоты и бесконечности – вопреки античной традиции – оказываются совместимыми.
В книге «Озарение», которая поразила сознание юного Б. А. Смирнова-Русецкого (в 1926 году, когда происходили знаменательные встречи с Н. К. Рерихом, Борису Алексеевичу был всего 21 год), сказано: «В красоте явится Беспредельность»[18]. Говоря об антиномичности понятий прекрасного и бесконечного в мироощущении древних греков, надо признать объективности ради, что они все же наметили интересную возможность примирения с бесконечностью. Только эта возможность, о которой было сказано как бы впромельк, не была раскрыта в полной мере. Тем не менее в античных текстах мы иногда встречаемся с утверждением, что в красоте конечного отражена красота бесконечного. «Все во всем». Этот принцип Анаксагора помогает нам увидеть перспективу космической бесконечности даже в малом зерне, даже в точке. Благодаря этому принципу мы понимаем и другое: почему в рамках конечного полотна живет, не чувствуя никакого стеснения, самая что ни на есть настоящая и доподлинная бесконечность!
Искусство умеет заряжать конечное бесконечным. Об этом хорошо сказал Б. Пастернак:
Целый мир уложить на странице,
Уместиться в границах строфы.
Информационная емкость художественного образа бесконечна. И этот парадоксальный эффект (напомним: область бесконечного – это область парадоксов) может достигаться разными средствами. В картине Б. А. Смирнова-Русецкого ощущение бесконечности создает не столько перспектива, сколько накладка нескольких прозрачных планов друг на друга. Этот прием широко используется и в цикле «Прозрачность». Теоретическое осмысление замечательных эффектов, возникающих при наслоении нескольких прозрачных сред, мы находим в книге П. А. Флоренского «Мнимости в геометрии», – вышла она в 1922 г., синхронное появлением первых картин цикла Б. А. Смирнова-Русецкого. Выявляя оптические свойства весеннего леса, когда легкая зеленца углубляет многослойное кружево крон, П. А. Флоренский пишет: «пространство, овеществляясь, получает характер стекловидной толщи»[19]. И хочется добавить: бесконечной толщи! Пусть это мнимая или иллюзорная бездонность, но свою художественную функцию она выполняет столь блестяще, что для нашего эстетического сознания становится неотличимой от реальной бесконечности. Мысли П. А. Флоренского помогают нам понять поэтику и философию цикла «Прозрачность», где художник открыл новые пути для художественного воплощения бесконечного.
Иные выразительные средства для создания эффекта бесконечности нашел В. Т. Черноволенко. Понятие бесконечности многозначно и в науке, и в философии, – есть разные формы, разные типы бесконечности. Для В. Т. Черноволенко бесконечность представала не как пространственная протяженность, а скорее как неисчерпаемость мира, его скрытая многоуровневость и многомерность. Полотна художника хочется сравнить с окнами, открытыми в другие измерения, в параллельные вселенные. Непроницаемое и конечное вдруг становится проницаемым и бесконечным. На картинах Черноволенко как бы разламывается структура нашего обычного трехмерного пространства, – и мы получаем доступ к смотровым щелям или люкам, в которых сквозит нечто небывалое, доселе таившееся от нас. И это небывалое находится не где-то за тридевять земель или триллион парсеков, а рядом с нами, – надо только раздвинуть как шторы три привычных измерения, заглянуть за кулисы евклидова пространства.
Художник любил сквозящие сетевые структуры. Многократно наслаивая их друг на друга, он создавал ощущение затягивающей в себя глубины. Не только картина в целом, но и ее отдельные фрагменты кажутся неисчерпаемыми. Часть здесь несет полноту целого! Это тоже один из парадоксов бесконечности, открытый благодаря развитию теории множеств. Однако такой парадокс присущ и биологической бесконечности, – клетка способна развиваться в целый организм; но и клетки этого организма тоже насыщены информацией о целом.
Приглядываясь к удивительной текстуре картин В. Т. Черноволенко, постоянно ловишь себя на сходстве ее с живой тканью. Это ячейки стрекозиных крыл? Или сложные нейронные сети? Подобные ассоциации возникают не случайно. Само создание картины у В. Т. Черноволенко было в чем-то подобно развитию организма. Никаких предварительных наметок художник не делал. Многоцветное кружево плелось как бы само по себе, начав свое движение из нижнего левого угла листа картона. И в нем постепенно проступали образы: зачарованные странники, стрельчатые арки, зеркала озер. Этот спонтанный процесс, контролируемый не расчетом, а интуицией, порождал гармонию. Композиции В. Т. Черноволенко пленяют своим изяществом и совершенством. Это живые композиции. И сквозящая в них бесконечность тоже живая! Так идущее от Платона ощущение космоса как организма пришло у мастеров «Амаравеллы» в гармонию с идеей мировой бесконечности. Одухотворенная бесконечность на полотнах В. Т. Черноволенко свидетельствует об этом.
Другая модель искомой гармонии предстает перед нами на картине П. П. Фатеева «Вселенная конечная и бесконечная» (1953). Это первая попытка эстетически освоить релятивистский космос. С одной стороны, модель мира Эйнштейна в чем-то сродни античным моделям, – она представляет из себя гиперсферу, ее пространство конечно, хотя и безгранично. Но есть у нее и другая – непривычная, парадоксальная – грань: внутри себя эта модель чревата бесконечностью. Ведь она может содержать сингулярность! Это та сверхплотная точка, из которой когда-то проросла Вселенная, – и которая заключает в себе выход к другим вселенным. Конечное у Эйнштейна объемлет бесконечное. А бесконечное способно замыкаться на себя, порождая вполне конечную и обозримую структуру. В парадоксальном мире релятивистской космологии извечное напряжение между конечным и бесконечным преодолено, снято. Между ними установилась гармония, дополнительность. Красоту этой нетривиальной гармонии и воплощает картина Фатеева. Она в равной степени может удовлетворить эстетический вкус как сторонников конечной модели мира, так и приверженцев бесконечности, – она по сути дела примиряет эти вкусы.
Художническая интуиция в определенных случаях опережает развитие точного знания. История «Амаравеллы» дает несколько ярких примеров такого опережения. Когда смотришь на картину А. П. Сардана «Рождение материи», то невольно вспоминаешь модель расширяющейся Вселенной. Такие ассоциации закономерно возникают у современного зрителя. Художник с захватывающей убедительностью передает экспансию юной материи, ее радиальное и спиральное распространение вширь. У этого процесса есть как бы свой фокус, своя активная точка, которую так и тянет назвать сингулярностью. Мир Александра Сардана и мир Александра Фридмана: сколько между ними созвучий и соответствий! Очевидны однако и различия. Ведь у этих миров разный статус: у Сардана – художественный образ мира, у Фридмана – его математически рассчитанная модель. Но искусство и наука здесь конвергируют в главном: впервые мир перед нами предстает как процесс – впервые создаются нестационарные модели мира. Кто же первенствует в этом новом виденьи космоса?
Искусство!
«Рождение материи» создано в 1920 г., – за два года до того, как Фридман нашел нестационарное решение космологических уравнений Эйнштейна. Будучи самоценна сама по себе, хотя бы в плане своей поразительной декоративности, картина все же не может быть воспринята иначе, как в контексте новейших космологических представлений. Вот что пишет о ней Б. А. Смирнов-Русецкий, друг и сподвижник Сардана: «Богатство форм и образований материи символизируется сложным и разнообразным ритмом, в который вовлечено все пространство картины – от центра до периферии. Глубокие черные пятна, как бы провалы с извилистыми очертаниями – это своеобразная живописная концепция антивещества, процесса аннигиляции материи».
Действительно ли в картине Сардана заложено «предзнание» о процессах аннигиляции, чье космологическое значение понято лишь в последние годы?
Не будем стремиться к однозначной расшифровке неисчерпаемого в своей многоплановости художественного произведения. Конечно, о самом феномене аннигиляции Сардан не мог знать, – ведь возможность аннигиляции, как и само существование античастиц, были предсказаны П. Дираком лишь в 1930 году (через два года Андерсон обнаружил позитроны в космических лучах, а в 1933 впервые был надежно зарегистрирован случай аннигиляции электрона и позитрона). Не нужно искать излишне прямых соответствий между образами искусства и схемами науки. Тут возможен более общий, но зато и более фундаментальный изоморфизм. Ничего не зная конкретно о веществе и антивеществе, А. П. Сардан знал другое: в динамике развивающегося космоса должны взаимодействовать противоположные начала. Гераклит их назовет Огнем и Мраком; Кант – Порядком и Хаосом; Дирак – Веществом и Антивеществом. Единый принцип действует на разных уровнях, осознается в разные эпохи. А. П. Сардан дал остро современное осмысление этого вечного принципа, – и потому его модель мира так естественно интерпретируется в терминах новейшей космологии.
Возможно сближение мира А. П. Сардана с миром новой науки и по другим линиям. В. И. Вернадский пишет: «Человек, биосфера, земная кора, Земля, Солнечная система, ее галаксия (мировой остров Солнца) являются естественными телами, неразрывно связанными между собою»[20]. Это замечательное положение Вернадского прекрасно иллюстрирует картина Сардана «Земля, океан, космос» (1922). Перед нами непрерывный ряд форм, образующий нечто цельное, интегральное. Границы между малым и великим, земным и космическим здесь сняты. Мы чувствуем свою сопричастность творческим силам Вселенной, – мы тоже можем внести свою лепту в рост ее организованности. Пафос антропокосмического утверждения достигает у Сардана высочайшего напряжения. Сколь мажорен его антропокосмизм! Мысль о бесконечном развертывании человеческих возможностей находит опору в фундаментальных свойствах мира. Это безэнтропийный мир. Ему не угрожает тепловая смерть, энергия в нем застрахована от деградации.
Для двадцатых годов характерны дискуссии о космологических приложениях второго закона термодинамики. По мнению некоторых ученых, из этого закона вытекает возможность неограниченного роста энтропии в космосе, – а это означает его превращение в обезличенный хаос, его гибель. Художническая интуиция А. П. Сардана не принимает такой возможности. Мир на картинах мастера деятелен, активен. Присущая этому миру избыточная щедрость и яркость в чем-то созвучна многоцветному микрокосму русского народного искусства. Достаточно вспомнить храм Василия Блаженного. Это ведь тоже своеобразная космологическая модель! И в ней нет места для энтропии, для серого хаоса.
Как же миру удается одолеть энтропию?
На этот вопрос отвечает картина А. П. Сардана «Дары Вселенной» (1922).
Здесь нет статичных симметрии, – здесь царят прекрасные асимметрии. Симметрия – покой, асимметрия – движение. Именно движение – вечное, неостановимое, поступательное – не дает миру остыть. Три лазурных спирали поднимаются в центре картины одна над другой. Не они ли устремляют энергию мирового движения ввысь? А восходящее движение есть уже развитие: накопление информации, рост упорядоченности. Гармония кристалла переходит в гармонию жизни; гармония жизни порождает гармонию разума. Не эта ли иерархия гармоний воплощена во многих картинах Сардана? Космологи доказали: иерархически организованная Вселенная надежно защищена от энтропии. Другая линия обороны от энтропии – это информация и упорядоченность, это жизнь и разум. Лишь наука XX века осознала космическую функцию жизни. И разве не замечательно, что в искусстве «Амаравеллы» предугадана эта функция?
А. П. Сардан был хорошо знаком с основоположником гелиобиологии А. Л. Чижевским. В 1960 году, будучи режиссером научно-популярного кино, Сардан снял фильм о Чижевском. Но внутренняя связь между ними установилась гораздо раньше, еще на заре двадцатых годов. Вот основополагающая мысль Чижевского: «В каждый данный момент органический мир находится под влиянием космической среды и самым чутким образом отражает в себе, в своих функциях перемены или колебания, имеющие место в космической среде»[21]. Это значит, что биосфера Земли настроена в унисон космосу – вторит космосу. Для сознания А. Л. Чижевского, ученого и поэта одновременно, это был факт не только научный, но и поэтический. Жизнь и космос как бы зарифмованы друг с другом, пронизаны глубокими созвучьями. Именно эти созвучья организуют пространство в картине А. П. Сардана «Гимн ночи» (1920). Наверху – мерцание неба, внизу – мерцание биосферы. Но у этих мерцаний общий ритм! Перед нами феномен изоритмии – соответствия разных ритмов. Земные колебания на картине Сардана кажутся резонансным откликом на колебания космоса. Факт этого резонанса и лежит в основе фундаментального открытия Чижевского. Наука снова перекликается с искусством!
Мировосприятие у художников «Амаравеллы» было не только космично, но и геокосмично: Земля воспринималась ими в космическом контексте – как часть космоса. Поэтому традиционное противопоставление земного и космического потеряло для «Амаравеллы» всякое значение. Рельеф местности; кора дерева; облака, – все это могло оказаться источником космически значимой информации. В цикле П. П. Фатеева «Стволы» некоторые картины могут быть восприняты как карты других планет. А картинам из его же цикла «Облака» присуща космологическая масштабность. В. И. Вернадский писал о лике Земли: «Он есть не только отражение нашей планеты, проявление ее вещества и энергии, он одновременно является и созданием внешних сил космоса»[22]. Эти слова «Амаравелла» могла бы включить в свой манифест. Земные пейзажи у художников группы космически насыщены. Вот почему на холстах Б. А. Смирнова-Русецкого так естествен переход от дымчатых одуванчиков к далеким шаровым скоплениям; вот почему перспективы земные так органично переходят у В. Т. Черноволенко в перспективы космические.
«Амаравелла» поэтически воспела и философски осмыслила связь нашей Земли с космосом. Эта связь осуществляется по разным каналам: через потоки вещества, энергии, информации.
И еще об одной линии этой связи мечтала «Амаравелла».
Это контакт с другим разумом, – диалог с внеземными цивилизациями.
В тезисах своего доклада «Поиск внеземных цивилизаций» – проблема только науки или культуры в целом?» В. Ф. Шварцман писал: «По мнению автора, проблема CETI открывает реальный подход к синтезу научных достижений, художественных ценностей и этических идеалов нашей эпохи»[23]. Какая широкая постановка вопроса! Действительно: проблема контакта – это не только научная, но и общекультурная проблема. По сути дела аналогичный подход мы обнаруживаем и в книгах «Живой этики», оказавших на «Амаравеллу» глубокое влияние. Н. К. и Е. И. Рерихи многократно повторяли, что выход человека на контакт с внеземным разумом требует от него нравственной подготовки, расширенного сознания; подчеркивали они и роль эстетического фактора в структуре контакта: чувство прекрасного, будучи универсальным свойством для всех носителей разума, станет гарантом взаимопонимания.
Во встречах 1926 г. Н. К. и Е. И. Рерихи развили перед молодыми художниками-космистами свою философию контакта. И это дало новый поворот в развитии «Амаравеллой» космической темы.
Книга «Озарение» призывает: «Взор и ожидание человечества должны быть обращены к дальним мирам»[24]. Этот призыв был чутко услышан «Амаравеллой». Уже в 1926 г., вскоре после встреч с Рерихами, А. П. Сардан создает картину, посвященную проблеме контакта. Называется она так: «Маяки Земли и сигналы из космоса». В верхней части картины символически изображен колокол, – на его языке мы видим три золотых кружочка. Это знак рериховского движения. Перед нами колокол космического братства? Созданный А. П. Сарданом образ метафоричен и многозначен. Однако общий смысл картины понятен. Художник хочет сказать: космические вибрации, несущие весть от братьев по разуму, пронизают нашу Землю. Но как воспринять эти вибрации? Художники «Амаравеллы» интересовались парапсихологическими феноменами, обсуждали они и космические аспекты телепатической связи. Поэтому колокол на картине А. П. Сардана может быть понят в свете следующих слов из книги «Озарение»: «В мозгу есть центр, называемый колоколом, как резонатор, он собирает симфонию мира»[25].
Космос «Амаравеллы» насыщен жизнью и разумом.
Картина Б. А. Смирнова-Русецкого «Сакральные острова» (1980) посвящена памяти И. А. Ефремова. Перед нами развертывается прекрасная перспектива галактических островов. И на каждом из них процвел разум! Причем разум светлый, проповедующий добро.
Свой образ населенного космоса создает В. Т. Черноволенко. Была ли ему знакома гипотеза К. Э. Циолковского о «лучистом человечестве»? Скорее всего что нет. Ведь воспоминания А. Л. Чижевского, где впервые излагается эта гипотеза, были опубликованы уже после смерти Черноволенко. Тем не менее его картины настойчиво подводят нас к мысли, что возможны не только вещественные, но и полевые («лучистые» по выражению Циолковского) формы жизни. Фантастический пейзаж на картинах художника иногда безлюден. Но разумное начало неисповедимым образом присутствует в нем. Эти ажурные антенны, эти сквозящие конструкции! Быть может, они генерируют мыслящее излучение? Вся космическая бесконечность на картинах В. Т. Черноволенко словно погружена в мягко светящееся биополе.
Смело и увлеченно моделировал формы инопланетной жизни П. П. Фатеев. «Путь к Плеядам» написан в 1968 г. Это последняя картина художника. Рассматривая ее, невольно вспоминаешь один из самых ранних шедевров мировой фантастики – диалог Лукиана «Правдивая история». Вот пассаж из него: «Мы проплыли всю следующую ночь и день, а под вечер приехали в город, называемый Лампоград. Город этот находится в воздухе между Гиадами и Плеядами»[26]. Изображенные на картине Фатеева Плеяды выглядят примерно так, как они могли бы восприниматься жителями фантастического Лампограда. Хорошо знакомый нам маленький ковшик занимает теперь огромную часть неба! По направлению к Плеядам движется странное существо. На его спине – человек. Или гуманоид, быть может. Эффект приближения к Плеядам, переданный столь достоверно, составляет здесь двойственное впечатление: к мажорности поступательного движения примешивается минор разлуки и прощания. Ведь мы знаем: в этой картине духовный вождь «Амаравеллы» прощается с родной планетой – душа его с последней оглядкой на Землю устремляется в космическую беспредельность.
* * *
Судьба «Амаравеллы» сложилась трагически. В 1929 году состоялась последняя выставка художников-космистов. В 1930 г. была арестована В. Н. Пшесецкая (Руна). Увы, художественное наследие этой замечательной женщины погибло почти полностью – сохранилось лишь пять портретов ее работы, посвященных членам «Амаравеллы». Тогда же был подвергнут допросу и краткосрочному заключению А. П. Сардан. После всего пережитого этот тонкий и ранимый человек практически оставил живопись. В. Т. Черноволенко был вынужден уйти в производственную деятельность. Мультипликатором научно-популярного кино стал С. И. Шиголев, – в 1942 году он был репрессирован, дата и место его гибели неизвестны. Художественная деятельность Б. А. Смирнова-Русецкого тоже была скована и заморожена в тридцатые годы, – на второй день войны он был арестован, одним из мотивов ареста была уже давно прерывавшаяся переписка с рериховским центром в Нью-Йорке; неволя Смирнова-Русецкого длилась 14 лет. Абсолютно замкнутый и скрытный образ жизни вел все эти годы П. П. Фатеев, – он принципиально не искал никаких компромиссов с лживой и жестокой властью.
Потенциал «Амаравеллы» был огромен. С болью и горечью думаешь о том, что в силу трагических обстоятельств эти возможности не были раскрыты до конца, не реализовались полностью.
Однако сделанное «Амаравеллой» навсегда войдет в историю не только русского, но и мирового искусства.
Справедливость требует: «Амаравелла» должна занять подобающее ей место в этой истории.

Ступени к храму. 1981 г.

Реквием. 1988 г.
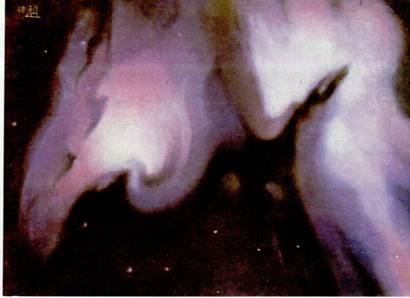
Большая туманность Ориона. 1980 г.

Зимние сумерки. Из цикла «Прозрачность». 1989 г.

Черный знак. 1991г.

Лесные силуэты. Из цикла «Осенние раздумья» 1964 г.

Белуха. Туман над озером. Из цикла «Алтай». 1983 г.

Свет в ночи. 1978 г.
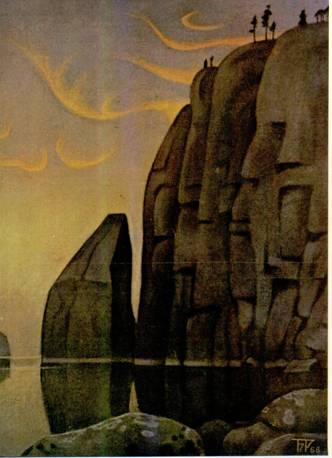
Остров Ворона. Из цикла «Север». 1988 г.

Планеты. 1991 г.

Лесной великан. Из цикла «Север. 1987 г.

Отблески заката. Из цикла «Север». 1988 г.

Золото осени. Из цикла «Осенние раздумья». 1980 г.

Холмы, озаренные солнцем. Из цикла «Прозрачность». 1986 г.

В глубинах Космоса. 1990 г.
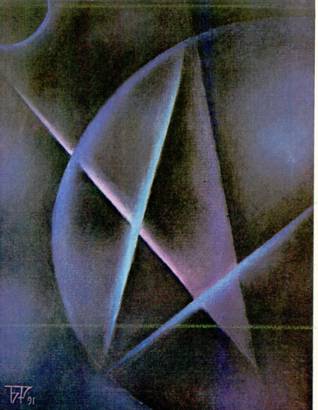
Светящиеся линии. 1991 г.
[1] Участниками этих знаменательных бесед были художники П. П. Фатеев, А. П. Сардан, В. Н. Пшесецкая, Б. А. Смирнов-Русец-кий. Впоследствии в «Амаравеллу» вошли С. И. Шиголев и В. Т. Черноволенко. Философско-эстетическая концепция Н. К. Рериха существенно повлияла на творчество «Амаравеллы».
[2] Так называется автобиография Б. А. Смирнова-Русецкого (рукопись). «Идущий» – название одной из работ С. И. Шиголева, друга художника, члена группы «Амаравелла».
[3] Художник неоднократно выставлялся в научных аудиториях. Упомянем здесь две выставки: в новосибирском Академгородке (1976 г.) и в Киеве – Москве («Ученые рисуют», 1981-1982 гг.).
[4] Но часто у Б. А. Смирнова-Русецкого общая аура окружает целую группу деревьев. Тогда перед нами сверхиндивидуальности! Это виденье хорошо согласуется с современными экологическими представлениями о целостности растительных сообществ.
[5] Одна из книг Живой Этики называется «Иерархия».
[6] Из стихотворения «Храм Григория Неокесарийского, что на Большой Полянке».
[7] Вернадский В. И. Живое вещество. – М.: Наука, 1978. – С.308.
[8] Ницше Ф. Так говорил Заратустра. – СПб.: 1913. – С. 26.
[9] Там же. – С. 219.
[10] Там же. – С. 225.
[11] Там же. – С. 273.
[12] Циолковский К. Э. Грезы о Земле и небе. – Тула: 1986. – С. 226.
[13] Там же. – С. 426.
[14] Там же. – С. 443.
[15] Листы сада Мории. Кн. 2. Озарение. – Нью-Йорк: 1925. – С. 74.
[16] Фламмарион К. Множественность обитаемых миров. – СПб.: 1896. – С. 77.
[17] Койре А. Очерки истории философской мысли. – М.: Прогресс, 1985. – С. 130.
[18] Озарение. – С. 189.
[19] Флоренский П. Мнимости в геометрии. – М.: Поморье, 1922. – С. 59.
[20] Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. – М.: Наука, 1988. – С. 162.
[21] Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь. – М.: Мысль, 1976. – С. 31.
[22] Вернадский В. И. Биосфера. – М.: Мысль, 1967. – С. 227.
[23] Поиски разумной жизни во Вселенной. – Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума. – Таллин: 1981. – С. 26.
[24] Озарение. – С. 193.
[25] Озарение. – С. 64.
[26] Лукиан. Избранное. – М.: ХЛ, 1987. - С. 386.
Внимание! Сайт является помещением библиотеки. Копирование, сохранение (скачать и сохранить) на жестком диске или иной способ сохранения произведений осуществляются пользователями на свой риск. Все книги в электронном варианте, содержащиеся на сайте «Библиотека svitk.ru», принадлежат своим законным владельцам (авторам, переводчикам, издательствам). Все книги и статьи взяты из открытых источников и размещаются здесь только для ознакомительных целей.
Обязательно покупайте бумажные версии книг, этим вы поддерживаете авторов и издательства, тем самым, помогая выходу новых книг.
Публикация данного документа не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Но такие документы способствуют быстрейшему профессиональному и духовному росту читателей и являются рекламой бумажных изданий таких документов.
Все авторские права сохраняются за правообладателем. Если Вы являетесь автором данного документа и хотите дополнить его или изменить, уточнить реквизиты автора, опубликовать другие документы или возможно вы не желаете, чтобы какой-то из ваших материалов находился в библиотеке, пожалуйста, свяжитесь со мной по e-mail: ktivsvitk@yandex.ru