

|
|
|
Дмитрий Лихачев
КНИГА БЕСПОКОЙСТВ
Воспоминания, статьи, беседы
Москва
1991
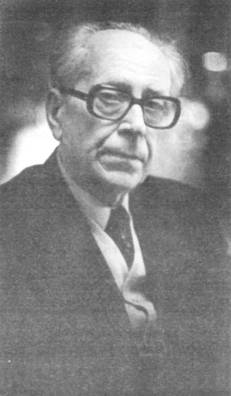
Составитель Г. А. Дубровская
Издательство выражает благодарность Жданову Л.Т. за подготовку фотоиллюстраций.
Лихачев Д. С.
Книга беспокойств /Статьи, беседы, воспоминания/. – М.: Издательство «Новости», 1991.
В книгу входят статьи, беседы, выступления, воспоминания выдающегося советского ученого о себе, о прошлом и настоящем Отечества, ставшие этапными в советской общественной мысли последнего десятилетия.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
«Всю жизнь я не мог оставаться наблюдателем. Мне всегда надо было быть участником. Всегда вмешивался и получал шишки. Но если бы шишек не было, был бы несчастным. А когда добивался – получал радость».
Это эпиграф к книге, написанной человеком, которого сегодня и с официальных трибун, и в частных разговорах называют «совестливым».
Совесть не всегда удобна. С нею хлопотно. Она мучит. Она во вражде с явным и тайным эгоизмом. Но человечество всегда будет в трудные минуты обращаться к Совести, поскольку иначе не придет и очищение, а без очищения путь в одну сторону – к деградации и одичанию.
«Книга беспокойств» – это те раздумья, те статьи, выступления Дмитрия Лихачева, которые стали этапными в общественной мысли последнего десятилетия.
«Книга беспокойств» – это еще и призыв к грядущим поколениям учесть наши беды и ошибки, не повторять их, учиться мыслить, не путаясь в мелочах и сиюминутности.
Так случилось, что само время востребовало Дмитрия Лихачева к ежедневному участию в его делах, призвало его, как призывают защитника, когда дом в опасности. И нужен только тот, кто имеет моральное право произнести все, что произнес и написал в последние годы Дмитрий Лихачев, выстрадавший право говорить с непреодолимой силой убежденности и искренности, перерастающей в беспредельную смелость.
«Книга беспокойств» – тому свидетельство.
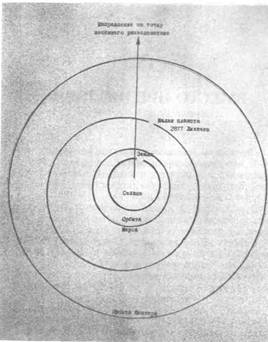
Орбита малой планеты 2877 Лихачев среди орбит Земли, Марса и Юпитера*
ЧАСТЬ I
Я ВСПОМИНАЮ…
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ
С рождением человека родится и его время. В детстве оно молодое и течет по-молодому – кажется быстрым на коротких расстояниях и длинным на больших. В старости время точно останавливается. Оно вялое. Прошлое в старости совсем близко, особенно детство. Вообще же из всех трех периодов человеческой жизни (детство и молодость, зрелые годы, старость) старость самый длинный период и самый нудный.
Воспоминания открывают нам окно в прошлое. Они не только сообщают нам сведения о прошлом, но дают нам и точки зрения современников событий, живое ощущение современников. Конечно, бывает и так, что мемуаристам изменяет память (мемуары без отдельных ошибок – крайняя редкость) или освещается прошлое чересчур субъективно. Но зато в очень большом числе случаев мемуаристы рассказывают то, что не получило и не могло получить отражения ни в каком другом виде исторических источников.
Я не считаю таким уж важным мое собственное развитие – развитие моих взглядов и мироощущения. Важен здесь не я своей собственной персоной, а как бы некоторое характерное явление.
Отношение к миру формируется мелочами и крупными явлениями. Их воздействие на человека известно, не вызывает сомнений, и самое важное – мелочи, из которых складывается работник, его мировосприятие, мироотношение. Об этих мелочах и случайностях жизни и пойдет речь в дальнейшем. Все мелочи должны учитываться, когда мы задумываемся над судьбой наших собственных детей и нашей молодежи в целом. Естественно, что в моей своего рода «автобиографии», представляемой сейчас вниманию читателя, доминируют положительные воздействия, ибо отрицательные чаще забываются. Я лично, да и каждый человек крепче хранит память благодарную, чем память злую.
Интересы человека формируются главным образом в его детстве. Л. Н. Толстой пишет в «Моей жизни»: «Когда же я начался? Когда начал жить? ...Разве я не жил тогда, эти первые года, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить... Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и 1/1000 тoгo?»
Поэтому в этих своих воспоминаниях я уделю главное внимание детским и юношеским годам. Наблюдения над своими детскими и юношескими годами имеют некоторое общее значение. Хотя и последующие годы, связанные с работой в Пушкинском Доме Академии наук СССР, также важны.

С.М.Лихачев,
отец Д.С.Лихачева
В.С.Лихачева, мать Д.С.Лихачева
Мой дед по отцу Михаил Михайлович Лихачев, потомственный почетный гражданин Петербурга и член Ремесленной управы, был старостой Владимирского собора и жил в доме на Владимирской площади с окнами на собор. На тот же собор смотрел из углового кабинета своей последней квартиры Достоевский. Но в год кончины Достоевского Михаил Михайлович не был еще церковным старостой. Старостой был будущий тесть его Иван Степанович Семенов. Дело в том, что первая жена моего деда и мать моего отца Прасковья Алексеевна умерла от чахотки (тогда не говорили «туберкулез»), когда отцу было лет пять, и похоронена на дорогом Новодевичьем кладбище, где не удалось похоронить Достоевского. Отец родился в 1876 году. Михаил Михайлович (или, как его звали у нас в семье, Михал Михалыч) женился на дочери церковного старосты Ивана Степановича Семенова – Александре Ивановне. Иван Степанович принимал участие в похоронах Достоевского. Отпевали его на дому священники из Владимирского собора, и делалось все необходимое для домашнего отпевания. Сохранился один документ, любопытный для нас – потомков Михаила Михайловича Лихачева. Документ этот приводит Игорь Волгин в рукописи книги «Последний год Достоевского».
И. Волгин пишет:
«Анна Григорьевна желала похоронить мужа по первому разряду. И все же похороны обошлись ей сравнительно недорого: большинство церковных треб совершалось безвозмездно. Более того: часть истраченной суммы была возвращена Анне Григорьевне, в чем удостоверяет весьма выразительный документ:
«Честь имею препроводить к Вам деньги 25 рубл. серебром, сегодня предоставленные мне за покров и подсвечники каким-то Неизвестным мне гробовщиком, и при этом объяснить следующее: 29 числа утром лучший покров и подсвечники отправлены были из церкви в квартиру покойного Ф.М.Достоевского по распоряжению моему безвозмездно. Между тем неизвестный гробовщик, не живущий даже в пределах Владимирского прихода, взял с Вас деньги за церковные принадлежности самовольно, не имея на то ни права, ни резона, да и сколько он взял их, неизвестно. А потому как деньги взяты самовольно, я препровождаю Вам обратно и прошу принять уверения в глубоком уважении к памяти покойного.

Церковный староста Владимирской церкви Иван
Степанов Семенов»*.
Владимирский собор в Ленинграде
Дед мой по отцу, Михаил Михайлович Лихачев, не был купцом (звание «потомственного и почетного» давалось обычно купцам), а состоял в Петербургской ремесленной управе. Был он главой артели.
Дочери моей Вере как-то сказали, что в архиве Зимнего дворца видели прошение моего деда о вспомоществовании его артели золотошвейного мастерства, работавшей для двора с 1792 года. Расшивали серебром и золотом, очевидно, мундиры.
Но в моем детстве артель деда была уже не золотошвейной.
Дедушку мы посещали на Рождество, на Пасху и в Михайлин день. Дедушка обычно лежал на диване в своем огромном кабинете, где потолок, помню, был в трещинах, и я всякий раз, входя к нему, боялся, что он обрушится и задавит дедушку. Выходил дедушка из своего кабинета редко: в семье его боялись до ужаса. Дочери не выходили из дому и никого не приглашали к себе. Только одна из моих теток, тетя Катя, вышла замуж. Другая, тетя Настя, умерла от чахотки, окончив с золотой медалью Педагогический институт. Я ее очень любил: она со мною хорошо играла. Третья, тетя Маня, окончила Медицинский институт и уехала под Новгород на Фарфоровый завод: думаю, чтобы избавиться от гнетущей обстановки в семье. Дядя Вася стал служащим Государственно! о банка, а дядя Гаврюша метался: то уходил на Афон, то пропадал где-то на юге России. Тетя Вера жила после смерти дедушки в Удельной, отличалась фанатической набожностью и такой же добротой. Отдала в конце концов свою квартиру какой-то бедной многодетной семье, переселилась в сарай и умерла от голода и мороза во время блокады Ленинграда.
А отца дед хотел сделать своим преемником и обучать в коммерческом училище. Но отец поссорился с дедом, ушел из дому, поступил самостоятельно в реальное училище, жил уроками. Потом стал учиться в только что открывшемся Электротехническом институте (он помещался тогда на Новоисаакиевской улице в центре города), стал инженером, работал в Главном управлении почт и телеграфов. Он был красив, энергичен, одевался щеголем, был прекрасным организатором и известен как удивительный танцор. На танцах в Шуваловском яхт-клубе он и познакомился с моей матерью. Оба они получили приз на каком-то балу, а затем отец стал ежедневно гулять под окнами моей матери и в конце концов сделал предложение.
Мать была из купеческой среды. По отцу она была Коняева (говорили, что первоначально фамилия семьи была Канаевы и неправильно записана в паспорт кому-то в середине XIX в.). По матери она была из Поспеевых, имевших старообрядческую молельню на Расстанной улице у Раскольничьего моста близ Волкова кладбища: там жили старообрядцы федосеевского согласия. Поспеевские традиции и были самыми сильными в нашей семье. У нас никогда не было собак в квартире, но зато мы все любили птиц. По семейным преданиям, мой дед из Поспеевых ездил на парижскую выставку, где поражал великолепными русскими тройками. В конце концов и Поспеевы и Коняевы стали единоверцами, крестились двумя перстами и ходили в единоверческую церковь – где теперь Музей Арктики и Антарктики.
Отец матери Семен Филиппович Коняев был одним из первых бильярдистов Петербурга, весельчак, добряк, певун, говорун, во всем азартный, легкий и обаятельный. Никого он не угнетал, проиграв все – мучился и стеснялся, но неизменно отыгрывался. В квартире постоянно бывали гости, кто-то непременно гостил. Любил Некрасова, Никитина, Кольцова, прекрасно пел русские народные песни и городские романсы. По-старообрядчески сдержанная бабушка любила его беззаветно и все прощала.
Мои первые детские воспоминания восходят ко времени, когда я только учился говорить. Помню, как в кабинете отца на Офицерской сел на подоконник голубь. Я побежал сообщить об этом огромном событии родителям и никак не мог объяснить им – зачем я их зову в кабинет. Другое воспоминание. Мы стоим на огороде в Куоккале, и отец должен ехать в Петербург на службу. Но я не могу этого понять и спрашиваю его: «Ты едешь покупать?» (отец всегда что-то привозил из города), но слово «покупать» у меня никак не выговаривается и получается «покукать». Мне так хочется сказать правильно! Еще более раннее воспоминание. Мы живем еще на Английском проспекте (потом проспект Мак Лина, превратившегося теперь в обыкновенного русского Маклина). Я с братом смотрю волшебный фонарь. Зрелище, от которого замирает душа. Какие яркие цвета! И мне особенно нравится одна картина: дети делают снежного Деда Мороза. Он тоже не может говорить. Эта мысль приходит мне в голову, и я его люблю, Деда Мороза, – он мой, мой. Я только не могу его обнять, как обнимаю любимого плюшевого и тоже молчащего медвежонка – Берчика. Мы читаем «Генерала Топтыгина» Некрасова, и нянька шьет Берчику генеральскую шинель. В этом генеральском чине Берчик воспитывал в блокаду и моих дочерей. Уже после войны генеральскую шинель на красной подкладке мои маленькие дочери перешили в женское пальто для одной из кукол. Уже не в генеральском чине он воспитывал потом мою внучку, неизменно молчащий и ласковый.
Мне было два или три года. Потом я получил в подарок немецкую книжку с очень яркими картинками. Была там сказка о «Счастливом Гансе». Одна из иллюстраций – сад, яблоня с крупными красными яблоками, ярко-синее небо. Так радостно было смотреть на эту картинку зимой, мечтая о лете. И еще воспоминание. Когда ночью выпадал первый снег, комната, где я просыпался, оказывалась ярко освещенной снизу, от снега на мостовой (мы жили на втором этаже). На светлом потолке двигались тени прохожих. По потолку я знал – наступила зима с ее радостями. Так весело от любой перемены, время идет, и хочется, чтобы шло еще быстрее. И еще радостные впечатления от запахов. Один запах я до сих пор люблю: запах разогретого солнцем самшита. Он напоминает мне о крымском лете, о поляне, которую все называли «Батарейка», так как тут во время Крымской войны располагалась русская батарея, чтобы предотвратить высадку англо-французских войск в Алупке. И такой близкой казалась эта война, точно она была вчера, – всего 50 лет назад!
Одно из счастливейших воспоминаний моей жизни. Мама лежит на кушетке. Я забираюсь между ней и подушками, ложусь тоже, и мы вместе поем песни. Я еще не ходил в приготовительный класс.
Дети, в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно.
Попроворней одевайтесь!
Смотрит солнышко в окно.
Человек, и зверь, и пташка –
Все берутся за дела,
С ношей тащится букашка;
За медком летит пчела.
Ясно поле, весел луг;
Лес проснулся и шумит;
Дятел носом: тук да тук!
Звонко иволга кричит.
Рыбаки уж тащат сети;
На лугу коса звенит...
Помолясь, за книгу, дети!
Бог лениться не велит.
Из-за последней фразы, верно, вывелась эта детская песенка из русского быта. А знали ее все благодаря хрестоматии Ушинского «Родное слово».
А вот и другая песенка, которую мы пели:
Травка зеленеет,
Солнышко блестит;
Ласточка с весною
В сени к нам летит.
С нею солнце краше
И весна милей...
Прощебечь с дороги
Нам привет скорей!
Дам тебе я зерен;
А ты песню спой,
Что из стран далеких
Принесла с собой.
Ясно помню, что слово «прощебечь» я пел как «прощебесь» и думал, что это кто-то кому-то говорит «прочь с дороги» – «прощебесь с дороги». Только уже на Соловках, вспоминая детство, я понял истинный смысл строки! Жили мы так. Ежегодно осенью мы снимали квартиру где-нибудь около Мариинского театра. Там родители всегда имели два балетных абонемента. Достать абонементы было трудно, но нам помогали наши друзья – Гуляевы. Глава семьи Гуляевых играл на контрабасе в оркестре театра и поэтому мог доставать ложи на оба балетных абонемента. В балет я стал ходить с четырехлетнего возраста. Первое представление, на котором я был, – «Щелкунчик», и больше всего меня поразил снег, падавший на сцене, понравилась и елка. Потом я уже бывал вечерами и на взрослых спектаклях. Было у меня в театре и свое место: наша ложа, которую мы абонировали вместе с Гуляевыми, помещалась в третьем ярусе рядом с балконом. Тогда балкон имел места с железными, обтянутыми голубым плюшем поручнями. Между нашей ложей и первым местом балкона оставалось маленькое клиновидное местечко, где сидеть мог только ребенок, – это место и было моим. Балеты я помню прекрасно. Ряды дам с веерами, которыми обмахивались больше для того, чтобы заставлять играть бриллианты на глубоких декольте. Во время парадных балетных спектаклей свет только притушивался, и зал и сцена сливались в одно целое. Помню, как «вылетала» на сцену «коротконожка» Кшесинская в бриллиантах, сверкавших в такт танцу. Какое это было великолепное и парадное зрелище! Но больше всего мои родители любили Спесивцеву и были снисходительны к Люком.
 |
С тех пор балетная музыка Пуни и Минкуса, Чайковского и Глазунова неизменно поднимает мое настроение. «Дон Кихот», «Спящая» и «Лебединое» (именно так сокращала названия балетов и Ахматова), «Баядерка» и «Корсар» неразрывны в моем сознании с голубым залом Мариинского, входя в который я и до сих пор ощущаю душевный подъем и бодрость.
В моем кабинете, отделяя кабинет от холла, висит сейчас на стеклянной двери бархатный голубой занавес: он из старого Мариинского театра, куплен в комиссионном магазине еще тогда, когда мы жили в конце 40-х годов на Басковом переулке и шел ремонт зрительного зала театра после войны (бомба попала в фойе, и обивку и занавеси обновляли).
Когда я слушал разговоры о Мариусе Мариусовиче и Марии Мариусовне Петипа, мне казалось, что речь идет об обыкновенных знакомых нашей семьи, которые только почему-то не приходят к нам в гости.
Раз в год поездка в Павловск «пошуршать листьями», раз в год посещение Домика Петра Великого перед началом учебного года (таков был петербургский обычай), прогулки на пароходах Финляндского пароходного общества, бульон в чашках с пирожком в ожидании поезда на элегантном Финляндском вокзале, встречи с Глазуновым в зале Дворянского собрания (теперь Филармония), с Мейерхольдом в поезде Финляндской железной Дороги – этого было достаточно, чтобы стереть границы между городом и искусством...

По вечерам дома мы играли в любимое цифровое лото,
называя бочоночки с цифрой непременно с прибаутками; играли в шашки; отец
обсуждал прочитанное им накануне на ночь – произведения Лескова, исторические романы Всеволода Соловьева, романы
Мамина-Сибиряка. Все это в широко доступных дешевых изданиях – приложениях
к «Ниве».
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
Домик Петра I

Павловск

Семья Лихачевых. Дочь Л. Д. Лихачева, жена З.А.
Лихачева, Д. С. Лихачев
КАТЕРИНУШКА ЗАКАТИЛАСЬ
Мою няню звали Катеринушка.
Единственное, что сохранилось от Катеринушки, – фотография, на которой она снята с моей бабушкой Марией Николаевной Коняевой. Фотография плохая, но характерная. Обе смеются до слез. Бабушка просто смеется, а Катеринушка и глаза закрыла, и видно, что слова вымолвить не может от смеха. Я знаю, отчего обе так смеются, но не скажу... Не надо!
Кто снял их во время приступа такого неудержимого смеха – не знаю. Фотография любительская, и в нашей семье она давно-давно. Катеринушка нянчила мою мать, нянчила моих братьев. Мы хотели, чтобы помогла она нам и с нашими «рунчиками» – Верочкой и Милочкой, но что-то ей помешало. Помех у нее, притом неожиданных, было немало.
Помню в детстве, что жила она на Тарасовом в одной со мной комнате, а было мне тогда лет шесть, и я открыл впервые, к своему удивлению, что у женщин есть ноги. Юбки носили такие длинные, что видна бывала только обувь. А тут по утрам за ширмой, когда Катеринушка вставала, появлялись две ноги в толстых чулках разного цвета (чулок все равно под юбкой не видно). Я смотрел на эти разноцветные чулки до щиколоток, появлявшиеся передо мной, и удивлялся.
Катеринушка была как родная и для нашей семьи и для семьи моей бабушки по матери. Чуть что нужно – и появлялась в семье Катеринушка: заболеет ли кто серьезно и нужно ухаживать, ожидается ли ребенок и нужно готовиться к его появлению на свет – шить свивальнички, подгузнички, волосяной (нежаркий) матрасик, чепчики и тому подобное; заневестилась ли девушка и нужно готовить ей приданое – во всех этих случаях появлялась Катеринушка с деревянным сундучком, устраивалась жить и как своя вела всю подготовку, рассказывала, говорила, шутила, в сумерки пела со всем семейством старинные песни, вспоминала про старое.
В доме с ней никогда не было скучно. И даже когда кто-нибудь умирал, она умела внести в дом тишину, благопристойность, порядок, тихую грусть. А в благополучные дни она играла и в семейные игры – с взрослыми и детьми – в лото цифровое (с бочоночками), причем, выкликая цифры, давала им шуточные названия, говорила приговорками и поговорками (а это не одно и то же – приговорок сейчас никто не знает, фольклористы их не собирали, а они часто бывали «заумными» и озорными в своей бессмысленности – хорошей, впрочем).
Кроме нашей семьи, семьи бабушки и ее детей (моих теток) были и другие семьи, для которых Катеринушка была родная и попав в которые не сидела сложа руки, вечно что-то делала, сама радовалась и радость эту и уют распространяла вокруг.
Легкий она была человек. Легкий во всех смыслах, и на подъем тоже. Соберется Катеринушка в баню и не возвращается. Сундучок ее стоит, а ее нет. И не очень о ней беспокоятся, так как знают ее обычаи – придет Катеринушка. Мать спрашивает свою матушку (а мою бабушку): «Где Катеринушка?», а бабушка отвечает: «Катеринушка закатилась». Такой был термин для ее внезапных уходов. Через несколько месяцев, через год Катеринушка так же внезапно появляется, как перед тем исчезла. «Где ж ты была?» – «Да у Марьи Иванны! Встретила в бане Марью Иванну, а у той дочь заневестилась: пригласили приданое справить!» – «А где же Марья Иванна живет?» – «Да в Шлюшине!» (Так в Питере называли Шлиссельбург – от старого шведского «Слюсенбурх».) «Ну а теперь?» – «Да к вам. Свадьбу третьего дня справили».
Вспоминала она и про мою маму разные смешные истории. Пошли они вместе в цирк. Мама маленькой Девочкой была с Катеринушкой в цирке в первый раз и пришла в такой восторг, что вцепилась Катеринушке в шляпу да вместе с вуалькой содрала с нее...
Катеринушка только при своих ходила в платке, а на улице, да еще в цирке бывала в шляпке. И в Александрийский театр она со всей семьей дедушки и бабушки ходила. Помню, рассказывала, как в антрактах в аванложу приносили кипящий самовар и вся бабушкина семья пила чай. Таков был обычай в «купеческом» Александрийском театре, где и пьесы подбирались на вкус купеческий и мещанский (потому-то «Чайка» там и провалилась – ждали ведь фарса, тем более что и Чехов в этой среде был известен как юморист).
Так вот о шляпке. Шляпка не была случайностью. Катеринушка была вдовой мастера, погибшего во время какой-то заводской аварии. Она гордилась своим мужем, гордилась, что его ценили. У нее был и собственный дом в Усть-Ижоре. Обращен он был окнами на Неву, то есть на север, и так она любила свою Усть-Ижору и дом, что, бывало, рассказывала: «В мой дом солнышко два раза в день заглядывает – утром раненько поздоровается, а вечером к закату попрощается». Если учесть, что летом восход и закат сдвинуты к северу, то это, наверное, так и было. Но не зимой.
Никто не знал ее фамилии. Я у мамы спрашивал – не знала, но в паспорте у Катеринушки стояло отчество – Иоакимовна, и очень она не любила, если кто-нибудь называл ее Акимовной. Даже с обидой об этом рассказывала.
Как определить профессию этой милой вечной труженицы, приносившей людям столько добра (счастье входило вместе с ней в семью)? Я думаю, назвать бы ее следовало «домашней портнихой». Профессия эта совершенно сейчас исчезла, а когда-то она была распространенной. Домашняя портниха поселялась в доме и делала работу на несколько лет: перекраивала, перешивала, ставила заплатки, шила и белье, и пиджак хозяину – на все руки мастер. Появится такая домашняя портниха в доме, и начинают перебирать все тряпье и всей семьей советоваться, как и что перешить, что бросить, что татарину отдать (татары-тряпичники ходили по дворам, громко кричали «халат-халат» и в доме всякую ненадобность покупали за гроши).
Умерла она так же, как и жила: никому не доставив хлопот. Закатилась Катеринушка в 1941 году слабой одноглазой старухой. Услыхала она, что немцы подходят к любимой ее Усть-Ижоре, встала у моей тети Любы с места (жила тетя Люба на улице Гоголя) да и пошла в Усть-Ижору к своему дому. Дойти она не смогла и где-то погибла, верно по дороге, так как немцы уже подошли к Неве. Привыкла она всю жизнь помогать тем, кто нуждался в ее помощи, а тут несчастье с ее Усть-Ижорой... Закатилась Катеринушка последний раз в жизни.
Земля родная. М. 1983.
О ПЕТЕРБУРГЕ МОЕГО ДЕТСТВА
Петербург-Ленинград – город трагической красоты, единственный в мире. Если этого не понимать – нельзя полюбить Ленинград. Петропавловская крепость – символ трагедий, Зимний дворец на другом берегу – символ плененной красоты.
Петербург и Ленинград – это совсем разные города. Не во всем, конечно. Кое в чем они «смотрятся друг в друга». В Петербурге прозревался Ленинград, а в Ленинграде мелькает Петербург его архитектуры. Но сходства только подчеркивают различия.
 |
Канал Грибоедова
Есть что-то зыбкое в пространстве всего города. Зыбка поездка в пролетке или в извозчичьих санках. Зыбки переезды через Неву на яликах (от Университета на противоположную сторону к Адмиралтейству). На булыжной мостовой потряхивает. При въезде на торцовую мостовую (а торцы были по «царскому» пути от Зимнего к Царскосельскому вокзалу, на Невском, обеих Морских, кусками у богатых особняков) потряхивание кончается, ехать гладко, пропадает шум мостовой.
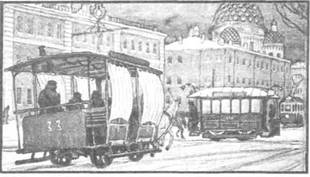
Барки, ялики, шхуны, буксиры снуют по Неве. По
каналам барки проталкивают шестами. Интересно наблюдать, как два здоровых
молодца в лаптях (они упористее и, конечно, дешевле сапог) идут по широким
бортам барки от носа к корме, упираясь плечом в шест с короткой перекладинкой
для упора, и двигают целую махину груженной дровами или кирпичом барки, а потом
идут от кормы к носу, волоча за собой шест по воде.
Петербург. Рисунок М.В. Добужинского
Архитектура заслонена. Не видно реки и каналов. Не видно фасадов за вывесками. Казенные дома в основном темно-красного цвета. Стекла окон поблескивают среди красных дворцовых стен: окна мылись хорошо, и было много зеркальных окон и витрин, полопавшихся впоследствии во время осады Ленинграда. Темно-красный Зимний, темно-красный Генеральный штаб и здание Штаба гвардейских войск. Сенат и Синод красные. Сотни других домов красные – казарм, складов и различных «присутственных мест». Стены Литовского замка красные. Эта страшная пересыльная тюрьма – одного цвета с дворцом. Только Адмиралтейство не подчиняется, сохраняет самостоятельность – оно желтое с белым. Остальные дома также выкрашены добротно, но в темные тона. Трамвайные провода боятся нарушить «право собственности»: они не крепятся к стенам домов, как сейчас, а опираются на трамвайные столбы, заслоняющие улицы. Что улицы! – Невский проспект. Его не видно из-за трамвайных столбов и вывесок. Среди вывесок можно найти и красивые, они карабкаются по этажам, достигают третьего – повсюду в центре: на Литейном, на Владимирском. Только площади не имеют вывесок, и от этого они еще огромнее и пустыннее. А в небольших улицах висят над тротуарами золотые булочные крендели, золотые головы быков, гигантские пенсне и пр. Редко, но висят сапог, ножницы. Все они огромные. Это тоже вывески. Тротуары перегорожены подъездами: козырьками, держащимися на металлических столбиках, опирающихся на противоположный от дома край тротуара. По краю тротуара нестройные ряды тумб. У очень многих старых зданий встречаются вместо тумб вкопанные старинные пушки. Тумбы и пушки оберегают прохожих от наезда телег и пролеток. Но все это мешает видеть улицу, как и керосиновые фонари единого образца с перекладиной, к которой прислоняют фонарщики свои легкие лесенки, чтобы зажечь, потушить, снова зажечь, потушить, заправить, почистить.
В частые праздники – церковные и «царские» – вывешиваются трехцветные флаги. На Большой и Малой Морских трехцветные флаги свешиваются на перетянутых через улицы от дома к противоположному канатах.
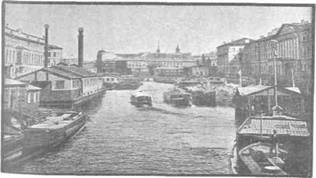
Обводной канал
Но зато какие красивые первые этажи главных улиц. Парадные двери содержатся в чистоте. Их полируют. У них красивые начищенные медные ручки (в Ленинграде их снимут в 20-е годы в порядке сбора меди для Волховстроя). Стекла всегда чистые. Тротуары чисто метут. Они украшены зелеными кадками или ведрами под водосточными трубами, чтобы дождевая вода меньше выплескивалась на тротуары. Дворники в белых передниках выливают из них воду на мостовую. Из парадных изредка появляются швейцары в синих с золотом ливреях – передохнуть воздухом. Они не только в дворцовых подъездах – но и в подъездах многих доходных домов. Витрины магазинов сверкают чистотой и очень интересны – особенно для детей. Дети оттягивают ведущих их за руки мам и требуют посмотреть в игрушечных магазинах оловянных солдатиков, паровозики с прицепленными вагончиками, бегущие по рельсам. Особенно интересен магазин Дойникова в Гостином дворе на Невском, славящийся большим выбором солдатиков. В окнах аптек выставлены декоративные стеклянные вазы, наполненные цветными жидкостями: зелеными, синими, желтыми, красными. По вечерам за ними зажигают лампы. Аптеки видны издалека.
Особенно много дорогих магазинов по солнечной стороне Невского («солнечная сторона» – это почти официальное название четных домов Невского). Запомнились витрины магазина с поддельными бриллиантами – Тэта. Посередине витрины устройство с вечно крутящимися лампочками: "бриллианты" сверкают, переливаются.
Асфальт – это теперь, а раньше – тротуары из известняка, а мостовые булыжные. Известняковые плиты добывались с большим трудом, но зато выглядели красиво. Еще красивее огромные гранитные плиты на Невском. Они остались на Аничковом мосту. Многие гранитные плиты перенесены сейчас к Исаакию. На окраинах бывали тротуары из досок. Вне Петербурга, в провинции, под такими деревянными тротуарами скрывались канавы, и, если доски изнашивались, можно было угодить в канаву, но в Петербурге даже на окраинах тротуары с канавами не делались. Мостовые по большей части были булыжные, их надо было держать в порядке. Летом приезжали крестьяне подрабатывать починкой булыжных мостовых и сооружением новых. Надо было подготовить грунт из песка, утрамбовать его вручную, а потом вколачивать тяжелыми молотками каждый булыжник. Мостовщики работали сидя и обматывали себе ноги и левую руку тряпками, случайно можно было попасть себе молотком по пальцам или по ногам. Смотреть на этих рабочих без жалости было невозможно. А ведь как красиво подбирали они булыжник к булыжнику, плоской стороной кверху. Это была работа на совесть, работа художников в своем деле. В Петербурге булыжные мостовые были особенно красивы: из разноцветных обкатанных гранитных камней. Особенно нравились мне булыжники после дождя или поливки. О торцовых мостовых писалось много – в них также была своя красота и удобство. Но в наводнение 1824 года они погубили многих: всплыли и потащили за собой прохожих.
Цвет конок и трамваев легко забудется. Цветной фотографии еще не было, а на картинах они не так часто изображались: поди ищи! Конки были довольно мрачные по цвету: темно-сине-серые с серыми деталями. А трамваи очень оживляли город: они были покрашены в красный и желтый цвет, и краски были всегда яркие и свежие. Сперва трамваи ходили по одному, прицепных не было. Оба конца не различались, и на обоих было поставлено управление. Доехав до конечной станции, кондуктор сходил с передней площадки, снимал снаружи большой белый круг, означавший перед, и переносил его назад; там ставил. Во время первой мировой войны понадобились прицепные вагоны: население увеличилось. Вагоны конки переделывались: снимались империалы и перекрашивались в желтый и красный цвет, и их прицепляли к моторным вагонам, вскоре исчезли и белые круги для обозначения передней части: перед был виден и так. Но ехать в прицепном вагоне было неприятно: в нем трясло, скорость для них была необычной, и плохо закрепленные стекла отчаянно дребезжали.
Кстати, площадки трамваев были открытыми: летом ехать – удовольствие, зимой – холодно. Но все военные и революционные годы пассажиры набивались в вагоны, висели на ступеньках, держась за поручни, висели на «колбасе» и иногда разбивались о трамвайные столбы.
Звуки Петербурга! Конечно, в первую очередь вспоминаешь цоканье копыт по булыжной мостовой. Ведь и Пушкин писал о громе Медного Всадника «по потрясенной мостовой». Но цоканье извозчичьих лошадей было кокетливо-нежным. Этому цоканью мастерски умели подражать мальчишки, играя в лошадки и щелкая языком. Игра в лошадки была любимой игрой детей. Цоканье копыт и сейчас передают кинематографисты, но вряд ли они знают, что звуки цоканья были различными в дождь или в сухую погоду. Помню, как с дачи, из Куоккалы, мы возвращались осенью в город и площадь перед Финляндским вокзалом была наполнена этим «мокрым цоканьем» – дождевым. А потом – мягкий, еле слышный звук катящихся колес по торцам и глуховатый «вкусный» топот копыт по ним же – там, за Литейным мостом. И еще покрикивание извозчиков на переходящих улицу: «Э-эп!» Редко кричали «берегись» (отсюда – «брысь»): только когда лихач «с форсом» обгонял извозчичью пролетку. Ломовые, размахивая концом вожжей, угрожали лошадям (погоняли их) с каким-то всасывающим звуком. Кричали газетчики, выкликали названия газет, а во время первой мировой войны и что-нибудь из последних новостей. Приглашающие купить выкрики («пирожки», «яблоки», «папиросы») появились только в период нэпа.
На Неве гудели пароходы, но характерных для Волги криков в рупоры в Петербурге не было: очевидно, было запрещено. По Фонтанке ходили маленькие пароходики Финляндского пароходного общества с открытыми машинами. Виден был кочегар. Тут и свист, и шипение пара, и команды капитана.
Одним из самых «типичных» уличных звуков Петербурга перед первой мировой войной было треньканье трамваев. Я различал четыре трамвайных звонка. Первый звонок – перед тем как трамваю тронуться. Кондуктор (до войны – всегда мужчина в форме) на остановках выходил с задней площадки, пропускал всех садящихся вперед, сам садился последним и, когда становился на ступеньку вагона, дергал за веревку, которая шла от входа к звонку у вагоновожатого. Получив такой сигнал, вагоновожатый трогал вагон. Эта веревка шла вдоль всего вагона по металлической палке, к ней были прикреплены кожаные петли, за которые могли держаться стоящие в трамвае. В любом месте трамвая кондуктор мог позвонить вагоновожатому. И это был второй тип звонка. Вагоновожатый предупреждал неосторожных прохожих с помощью еще одного звонка, действовавшего от ножной педали. Здесь вагоновожатый звонил иногда довольно настойчиво, и звук этот часто слышался на улицах с трамвайными линиями. Потом появились и электрические звонки. Довольно долго ножные педальные звонки действовали одновременно с ручными электрическими. Грудь кондуктора была украшена многими рулонами с разноцветными билетами. Билеты разных цветов продавались по «станциям» – на участки пути, и, кроме того, были белые пересадочные билеты, с которыми можно было пересесть в определенных местах на другой маршрут. Все эти маршруты указаны в старых путеводителях по Петербургу. Время от времени, когда кончался тот или иной отрезок пути и надо было брать новый билет, кондуктор громко возглашал на весь вагон: «Желтым билетам станция!», или «Зеленым билетам станция!», или «Красным билетам станция!». Интонации этих «возглашений» запомнились мне на всю жизнь: в школу я ездил на трамваях.
Очень часто были слышны на улицах звуки военных оркестров. То полк шел по праздникам и воскресным дням в церковь, то хоронили генерала; ежедневно шли на развод караула к Зимнему преображенцы или семеновцы. На звуки оркестра сбегались все мальчишки: потребность в музыке была большая. Особенно интересно было, когда выделенные для похорон войсковые подразделения возвращались с кладбища: тогда полагалось играть веселую музыку. С веселыми маршами шли и в церкви, но, разумеется, не в Великий пост. Были и «тихие звуки»: звенели шпоры военных. За звоном своих шпор офицеры следили. Шпоры часто делались серебряными. На Невском и на прилегающих улицах (особенно у Гостиного на углу Невского и Садовой) торговцы продавали детям надутые легким газом взлетавшие шарики: красные, зеленые, синие, желтые и самые большие – белые с нарисованными на них петухами. Около этих продавцов всегда царило оживление. Продавцов было издали видно по клубившимся над их головой связкам веселых шариков.
В моем детстве на улицах уже не продавали сбитень, но отец помнил и любил рассказывать о сбитне. Он хорошо подкреплял прохожих, особенно в мороз. Сбитенщик закутывал самовар в особый ватник, чтобы не остыл, и носил его на спине, а кран открывал из-под левого локтя. Сбитень – это смесь кипятка с медом и разными специями, чаще всего с корицей. По словам отца, сбитенщики в старину кричали: «Сбитню горячего!» Я запомнил со слов отца: не «сбитня», а именно «сбитню».
А по утрам с окраин города, особенно с Выборгской стороны, доносились фабричные гудки. Каждый завод можно было узнать по гудку. Гудели три раза, созывая на работу, – не у всех были часы. Эти гудки были тревожными, призывными...
Зимой – самые элегантные сани с вороными конями под темной сеткой, чтобы при быстрой езде в седоков не летели комья снега из-под копыт. Простые извозчичьи сани были тоже красивыми.
Как ребенка, меня всегда тянуло заглянуть за фасады домов: что там? Но об этом я больше узнавал из рассказов взрослых. Магазины, впрочем, помню – те, в которые заходил с матерью: «колониальные товары» (кофе, чай, корица, еще что-то), «бакалея», «суровский магазин» (ткани, нитки), «булочные», «кондитерские», «писчебумажные». Слова «продукты» в нынешнем значении не было («продукты» – только продукция чего-то; «продукты сельского хозяйства» стали говорить на моей памяти). На рынок ходили за «провизией». Продавцы назывались приказчиками. Помню дисциплину этих приказчиков в магазине «Масло». Стояли они на шаг назад от прилавка, заложив руки за спину. При появлении покупателя приказчик делал шаг ему навстречу и опускал руки. Это невольно заставляло покупателя к нему подойти. Масло и сыр давали пробовать на кончике длинного ножа.
Первые кинематографы. Совсем забыли, что на узкой Офицерской против нашего дома был кинематограф «Мираж». Он был сделан из нескольких магазинов, соединенных вместе. Но по субботам мы всей семьей ездили на Невский в кинематограф «Солейль». Он помещался в том же доме, что и «Пассаж», – около Садовой. Этот кинематограф был сделан из нескольких квартир, соединенных вместе. Кроме основной картины (помню «Сто дней Наполеона», «Гибель «Титаника» – это документальный фильм, оператор снимал всю пароходную жизнь и продолжал снимать кораблекрушение до того момента, когда погас свет, а потом снимал даже в спасательной лодке) обязательно давалась комическая (с участием Макса Линдера, Мациста и др.) и «видовая». Последняя раскрашивалась часто от руки – каждый кадр, и непременно в яркие цвета: красный, зеленый – для зелени, синий – для неба. Однажды были на Невском в «Паризиане» или «Пикадилли» – не помню. Поразили камердинеры в ливреях и чуть ли не в париках.
Родители часто брали меня с собой в Мариинский театр. У родителей было два балетных абонемента в ложу третьего яруса. Спектакли были праздниками. На праздничность они и были рассчитаны. Снобы офицеры приходили, как правило, ко второму акту. В «Дон Кихоте» пропускали пролог. В антрактах красовались у барьера оркестра, а после спектакля офицеры стояли у артистического выхода перед подъездом, рассматривая дам.
На Страстной и к пасхальной заутрене ходили на Почтамтскую улицу в домовую церковь Главного управления почт и телеграфов, где служил отец столоначальником. Пальто снимали в гардеробе, поднимались на второй этаж. Паркетные полы в церкви были хорошо натерты. Электричество спрятано за карнизы, и лампады горели электрические, что некоторые ортодоксально настроенные прихожане осуждали. Но отец гордился этим нововведением – это был его проект. Когда входила семья (наша или другая), служитель сразу нес венские стулья и ставил позади, чтобы в дозволенных для того местах службы можно было присесть отдохнуть. Позже я узнал, что в ту же церковь ходила и семья Набоковых. Значит, мы встречались с Владимиром. Но он был старше меня.
Неравенство жителей Петербурга бросалось в глаза. Когда возводились дома, строители носили кирпичи на спине, быстро поднимаясь по доскам лесов с набитыми на доски планками вместо ступеней. По черным лестницам доходных домов дворники носили дрова тоже на спине, ловко забирая дрова со специальных козел, стоявших во дворе. Во двор приходили старьевщики-татары; кричали «халат-халат!». Заходили шарманщики, и однажды я видел «петрушку», удивляясь ненатуральному голосу самого Петрушки (петрушечник вставлял себе в рот пищик, изменявший его голос). Ширма у петрушечника поднималась от пояса и закрывала его со всех сторон: он как бы отсутствовал.
Ходили мы смотреть столетних гренадер из Золотой роты у памятника Николаю Первому. Это были солдаты, служившие еще Николаю Первому. Их, оставшихся, собирали со всей России и привозили в Петербург. Ходили мы и на разводы караула к Зимнему. Вся церемония происходила во дворе на специальной платформе, мы ее не видели. Но на развод семеновцы и преображенцы шли с музыкой, игравшей бравурные марши – оглушительно под аркой Генерального штаба, отзывавшейся эхом.
Петербург был городом трагической и скрытой (во дворцах и за вывесками) красоты. Зимний – сплошь темный ночами (государь с семьей жил в Александровском дворце в Царском Селе). Веселое рококо дворца теряло свою кокетливость, было тяжелым и мрачным. Напротив дворца утопала во тьме крепость-тюрьма. Взметнувшийся шпиль собора – и меч и флюгер одновременно – кому-то угрожал. Вьющиеся среди регулярно распланированных улиц каналы нарушали государственный порядок города. В Александровском саду против Адмиралтейства существовали разные развлечения для детей (зимой катания на оленях, летом – зверинец и пруды с золотыми рыбками) среди дворцов, словно под присмотром бонн и гувернанток. Марсово поле пылило в глаза при малейшем ветре, а Михайловский замок словно прищуривался одним среди многих единственным замурованным окном комнаты, где был задушен император Павел.
О старом Петербурге вспоминает В. Вейдле в книге «Зимнее солнце». Дом, принадлежавший Вейдле, находился на Большой Морской около арки Генерального штаба. Если идти по левой стороне от арки Генерального штаба, то первый дом №6 – гостиница «Франция» с рестораном «Малый Ярославец», а дальше французская булочная с круассанами и шоссонами – такими же, как в Париже. Французские булки из Испании – там они тоже назывались «французскими», но во Франции не пеклись. Затем ювелир Болин со швейцаром. На углу табачная лавочка. Тут же посыльные в красных фуражках. Напротив дом мебельной фабрики Тонет – фабрика венских стульев, легких и удобных.
Перейдя Невский – закусочная Смурова. В бельэтаже – Английский магазин, где продавалось английское темно-бурое глицериновое мыло. На Невском напротив – «Цветы из Ниццы», даже зимой. Наискось от сигар – «Дациаро: поставщик всего нужного для художеств». Над ним – «Генрих Циммерман» (для музыкантов). Посредине, возле окон второго этажа над улицей на чугунном укрепе «Павел Буре» – часы, показывавшие точное время.
Далее по Большой Морской – ресторан Кюба с тяжелыми кремовыми гардинами. Это, по воспоминаниям Юлии Николаевны Данзас, единственный ресторан такого хорошего тона, что туда можно было зайти приличной даме без сопровождения кавалера. Затем магазин Мюллера – лучших сундуков и саквояжей. В 1916 году драгоценности Эрмитажа решили эвакуировать в чемоданах этой фирмы. Хранитель – барон Фелькерзам.
На гранитной облицовке по Большой Морской было золотыми буквами начертано «Faberge». Напротив — важный портной Калина. Далее Большая Морская встречалась с Мойкой Реформатской киркой (перестроена ныне в Дом связи).
М. Добужинский пишет в своих «Воспоминаниях», что его жена «была одета с «петербургским» вкусом в темно-синее, носила маленькую изящную шляпку с вуалькой в черных мушках и белые перчатки». «Часто на улицах я видел, – продолжает Добужинский, – как она обращает на себя внимание, выделяясь среди старомодных немок, как „иностранка"». О петербургских элегантных дамах пишет и Вадим Андреев в своих воспоминаниях «Отец». Рассказывал мне о них с восхищением и известный библиограф А. Г. Фомин. Он особенно подчеркивал изящество походки. Когда я был в Белграде в 1964 году, профессор Радован Лалич указал мне на одну пожилую даму: «Сразу видна русская из Петербурга». Почему «сразу»? Держалась очень прямо и имела прекрасную легкую походку.
Ночная жизнь была типична для петербургской интеллигенции: петербургский «noctambulisme» («лунатизм»). «Монд» ложился не ранее трех часов ночи. Редко поднимались раньше 11 утра. От этого процветали ночные кабачки, и «Бродячая собака» в особенности. Здесь было «le rendezvous des distingues» («встреча избранных»).
Декоративное искусство СССР. 1987. № 1
ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТОПОГРАФИИ ПЕТЕРБУРГА
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ДВАДЦАТОГО ВЕКА1
Как известно, старые города имели социальную и этническую дифференциацию отдельных районов. В одних районах жила по преимуществу аристократия (в дореволюционном Петербурге аристократическим районом был, например, район Сергиевской и Фурштадтской), в других – мелкое чиновничество (район Коломны), в третьих – рабочие (Выборгская сторона и другие районы заводов, фабрик и окраины). Довольно компактно жили в Петербурге немцы (Васильевский остров: см. роман Н. Лескова «Островитяне»; немцы населяли отдельные пригороды – Гражданку, район Старого Петергофа, район в Царском Селе и пр.). Этими же чертами отличались и Дачные местности (например, на Сиверской жило богатое купечество; квалифицированные мастеровые жили на даче с дешевым пароходным сообщением – по Неве, а также на Лахте, в Келломяках около Сестрорецкой узкоколейной железной дороги и пр.). Были районы книжных магазинов и «холодных букинистов» (район Литейного проспекта, где со времен Н.А. Некрасова располагались и редакции журналов), кинематографов (Большой проспект Петербургской стороны) и др.
Социальной и национальной топографии Петербурга посвящено довольно много очерков, выросших на основе «физиологических очерков» в середине XIX века и продолжавших появляться вплоть до 1917 года.
Обращает на себя внимание попытка Н. В. Гоголя в повести «Невский проспект» обрисовать смену социального лица Невского проспекта в разные часы дня и ночи.
Моя задача состоит в том, чтобы наметить наличие в Петербурге в первой четверти XX века районов различной творческой активности.
Четкая «интеллектуальная граница» пролегала в Петербурге первой четверти XX века по Большой Неве. По правому берегу, на Васильевском острове, располагались учреждения с традиционной академической научной и художественной направленностью – Академия наук с Пушкинским Домом, Азиатским музеем, Кунсткамерой, Библиотекой Академии наук, являвшейся в те годы значительным научным центром, Академия художеств, Университет, Бестужевские курсы и... ни одного театра, хотя именно здесь, на Васильевском острове, на Кадетской линии с 1756 года стал существовать первый профессиональный театр – Театр Шляхетского корпуса, – того корпуса, где учились М. М. Херасков, Я. Б. Княжнин, В. А. Озеров и другие.
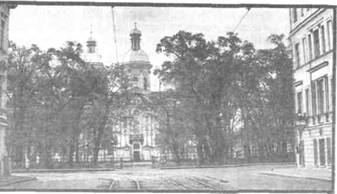
Ленинград. Никольский собор
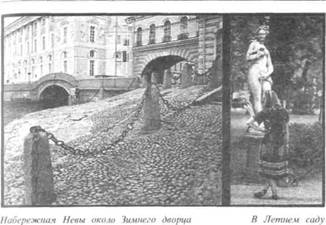
Иным был интеллектуальный характер левого берега Большой Невы. Здесь в соседстве с императорскими дворцами и особняками знати нашли себе место не только императорские театры, кстати сказать, не чуждые экспериментов (достаточно напомнить интенсивную балетную деятельность Мариинского театра, постановки В. Э. Мейерхольда в Мариинском и Александрийском театрах, театральную активность Малого драматического театра на Фонтанке и Михайловского театра в начале 20-х годов). На левом берегу Большой Невы на Большой Морской находился и выставочный зал Общества поощрения художеств. У Таврического сада существовала знаменитая «Башня» Вячеслава Иванова с журфиксами, на которых бывал весь интеллектуальный Петербург и даже осуществлялись небольшие постановки и интересные выступления. На Литейном проспекте ее сменил известный «Дом Мурузи», где собирались поэты. На Надеждинской (теперь Маяковского) располагался Союз поэтов. На Троицкой улице функционировал «Зал Павловой», где выступал Маяковский. На Моховой улице в зале Тенишевского училища происходили дискуссии, в частности формалистов с «академистами». В зале городской думы выступали поэт А. Туфанов и художник К. С. Малевич и были, если не ошибаюсь, постановки Экспериментального театра. В Калашниковской бирже выступал Маринетти по приезде в Петербург. Городская дума и Соляной городок были центрами интеллектуальной активности с конца XIX века. У Нарвских ворот были выступления Молодежного экспериментального театра. На левом же берегу Большой Невы в 1909–1911 годах существовал театрик «Голубой Глаз», где впервые была поставлена «Незнакомка» А. Блока. Некоторое время существовало артистическое кабаре «Летучая мышь» (см.: А. Кугель. «Артистические кабачки». – «Театр и искусство», 1906, № 33). Значительную роль играл на левом берегу Драматический театр В.Ф. Комиссаржевской (1904–1910), в обиходе называвшийся «Театром на Офицерской». В другом «Театре на Офицерской», располагавшемся на пустыре в деревянном строении, была осуществлена постановка оперы «Победа над солнцем» (Крученых, Малевич, Матюшин). На левом же берегу существовало возглавлявшееся А. Р. Кугелем «Кривое Зеркало» (1908–1910–1918; возобновлено в 1922–1928), кроме того, «Старинный театр» (1911–1912). Напомним и о знаменитом артистическом кабаре на Михайловской площади – «Бродячая собака» (1910–1912) и сменившем «Собаку» «Привале комедиантов» на Марсовом поле. Там же, на Марсовом поле, существовало «Художественное бюро» Н. Е. Добычиной, где были художественные выставки и первое выступление супрематизма в 1915–1916 годах. Почти все выставки «Союза молодежи», в которых участвовали и петербургские и московские молодые художники, проходили на левом берегу – главным образом, в районе Невского проспекта. К институтам, находившимся на Исаакиевской площади, мы еще вернемся. Обращаясь к правобережной части Большой Невы, отметим, что на Петербургской стороне, помимо улицы кинематографистов – Большого проспекта и Народного дома со случайной, эпизодической творческой активностью, существовал Каменно-островский проспект (ныне Кировский) с сетью ресторанов дурного вкуса, преимущественно для «фармацевтов» (так называли в «Собаке» богатых буржуазных посетителей): «Аквариум», «Вилла Эрнест», «Вилла Родэ» (последний – ресторан с цыганами на отрезке Каменно-островского уже в Новой Деревне). Из немногих поздних интеллектуальных исключений на Петроградской стороне – это дом художника Михаила Матюшина и Елены Гуро на Песочной (ныне Попова) улице на левом берегу Малой Невы. Здесь бывали Филонов, Крученых, Бурлюки и многие другие. На Большой Пушкарской улице интерес представляло в начале 20-х годов «Общество художников», помещавшееся в деревянном доме с выставочным помещением, где была, кстати, выставка П.Н. Филонова (среди произведений последнего помню знаменитую картину «Формула пролетариата»).
Представляется любопытным следующий факт. А. А. Блок ни разу, по всем данным, в отличие от Л. Д. Блок не бывал в «Бродячей собаке». Зато его любимыми прогулками, даже после переезда на Офицерскую, были на правом берегу, по Большой Зелениной с мостом, ведшим на Крестовский остров (здесь, на Большой Зелениной улице происходит действие его «Незнакомки» и, как утверждает Л. К. Долгополов, действие «Двенадцати»; см. факсимильное переиздание: Александр Блок. «Двенадцать». Рисунки Ю. Анненкова, Алконост. Петербург, 1918, с. 5 и далее). Местом любимых прогулок Блока являлись на правом берегу Большой Невы Новая Деревня, Лесной, Парголово, Озерки, но не дальше устья Сестры-реки (о северном береге Финского залива – ниже). Блок не любил изысканно интеллектуальной публики.
Теперь перейдем к самому важному для литературоведов и искусствоведов факту. На левом берегу Невы на Исаакиевской площади располагались два центра интеллектуальной жизни Петербурга-Ленинграда: Институт истории искусств (в разговорном названии – «Зубовский институт») и через дом от него на углу Почтамтской (ныне Союза Связи) улицы – «Дом Мятлевых». История и значение Института истории искусств достаточно хорошо известны и в данных заметках не нуждаются в освещении. Между тем не менее важен для интеллектуальной жизни города «Дом Мятлевых», история которого за первые годы Советской власти известна литературоведам мало.
Вот некоторые факты. В «Доме Мятлевых» в 1918 году был организован Отдел народного просвещения, вошедший затем в состав Комиссариата народного просвещения до переезда Советского правительства в Москву. Здесь бывал и А. В. Луначарский. Тогда же усилиями Н.И. Альтмана здесь был создан первый в мире Музей художественной культуры (открыт в 1919 году). В экспозиции находились произведения Кандинского, Татлина, Малевича, Филонова, Петрова-Водкина. На базе музея по инициативе П. Н. Филонова здесь в 1922 году были организованы исследовательские отделы музея. В следующем году отделы были преобразованы в Институт художественной культуры (директором был К. С. Малевич, живший в том же доме с входом с Почтамтской улицы; в его квартире собирались художники и поэты – бывал В. Хлебников, приходили М. Матюшин с Эндерами, поэты-обэриуты; заместителем К. С. Малевича был Н. Н. Пунин). В институте были отделы: Живописной культуры (руководил К. С. Малевич), Материальной культуры (руководил М. В. Матюшин), Отдел общей идеологии (первоначально руководил П. Н. Филонов, его сменил Н. Н. Пунин). Экспериментальным отделом руководил П. А. Мансуров. В 1923 году в «Доме Мятлевых» в годовщину смерти В. Хлебникова была поставлена Татлиным «Зангези» с «хлебниковской» выставкой П. В. Митурича. В 1925 году этот институт, утвержденный Советом Народных Комиссаров, стал именоваться Государственным институтом художественной культуры (ГИНХУК; не смешивать с московским ИНХУКом).
В 1926 году в институте была организована последняя художественная выставка, на которую пришел некий критик Серый (Гингер) и, возмущенный недружелюбным приемом Татлина (последний, стоя в дверях, не пропустил Серого, явившегося на следующий день переодетым), выступил с резкой и несправедливой критикой в газете. В конце того же, 1926 года институт был закрыт, Н. Н. Пунин передал материалы музея в Государственный Русский музей, а Н. М. Суетин, А. А. Лепорская, М. В. Матюшин, К. С. Малевич перешли в соседний Институт истории искусств и здесь организовали «Лабораторию изучения формы и цвета».
Из изложенного ясно, что правый и левый берег Большой Невы резко различались между собой в интеллектуальном отношении настолько, что попытки Ф. Сологуба и А. Чеботаревской организовать на Петербургской стороне собственное артистическое кабаре не увенчались успехом с самого начала.
Впрочем, различие между правым и левым берегом Большой Невы не выходило за пределы ее устья. Правый и левый (южный) берега Финского залива резко расходились по своему значению. На южном (левом) берегу располагались дачные места, где в окружении исторических дворцов жили по преимуществу художники с ретроспективными устремлениями (вся семья Бенуа – Николай, Леонтий, Александр; семья Кавос; Е. Е. Лансере, К. А. Сомов, А. Л. Обер, бывал С. Дягилев и другие). На северном (правом) берегу Финского залива располагались дачные места, где жила по преимуществу интеллигенция, склонная к творческому бунтарству. В Дюнах жил В. Б. Шкловский. В Куоккале были репинские «Пенаты», вокруг которых организовывалась молодежь, жил К. И. Чуковский, были дачи семей Пуни и Анненковых, жил Горький, жил Кульбин, один год жил А. Ремизов в пансионате около «Мельницы», на Сестре-реке. Взрослые и подростки устраивали празднества, спектакли, писали озорные стихи и пародии. В Териокском театре работали В. Э. Мейерхольд, Н. Н. Сапунов, Л. Д. Блок (о Блоке в Териокском театре см.: Собр. соч. в 8-и т., т. 7, с. 151 и далее; т. 8, с. 391 и далее). Нельзя и перечислить всего того, чем примечательны в интеллектуальной жизни России северные дачные места Финского залива.
Вернемся в Петроград.
В 1922 году наметился частичный отход В. М. Жирмунского от Института истории искусств и сближение его с академическим направлением в науке о литературе. В. М. Жирмунский переезжает на Васильевский остров (в Горный институт) и начинает больше преподавать в университете на факультете общественных наук по романо-германской секции. Начались острые расхождения, отразившиеся в дискуссиях в зале Училища Тенишевой на Моховой и в Институте истории искусств. На левом берегу Большой Невы В. М. Жирмунского обвиняли в «академизме».
На титульном листе своей «Мелодики русского лирического стиха», вышедшей весной 1922 года, Б. М. Эйхенбаум написал следующее дарственное стихотворение В. М. Жирмунскому:
Ты был свидетель скромной сей работы.
Меж нами не было ни льдов, ни рек;
Ах, Витя, милый друг! Пошто ты
На правый преселился брег?
Б. Эйхенбаум
2 марта 1922 г.
Книга со стихами Б. М. Эйхенбаума хранится у Н. А. Жирмунской. Различие правого и левого берега Большой Невы ясно осознавалось в свое время.
Итак, в городах и пригородах существуют районы наибольшей творческой активности. Это не просто «места жительства» «представителей творческой интеллигенции», а нечто совсем другое. Адреса художников различных направлений, писателей, поэтов, актеров вовсе не группируются в некие «кусты». В определенные «кусты» собираются «места деятельности», куда тянет собираться, обсуждать работы, беседовать, где обстановка располагает к творческой откровенности (прошу извинения за это новое вводимое мной понятие), где можно быть «без галстуха», быть во всех отношениях расторможенным и в своей среде.
Примечательно, что тяга к творческому новаторству возникает там, где появляется группа людей – потенциальных или действительных единомышленников. Как это ни парадоксально на первый взгляд может показаться, но новаторство требует коллективности, сближения и даже признания хотя бы в небольшом кружке людей близкого интеллектуального уровня. Хотя и принято считать, что новаторы по большей части люди, сумевшие подняться над общим мнением и традициями, это не совсем так. К этому стоит приглядеться.
Удивительная «связь времен». Знал ли я, садясь в конке на империал со своей нянькой, чтобы прокатиться в Коломну и обратно, что на остановке против Никольского собора на Екатерингофском я могу заглянуть прямо в окна квартиры Бенуа. Что я буду учиться в старшем приготовительном классе в гимназии Человеколюбивого общества, где первоначально учился и А.Н. Бенуа. Что потом я перейду в гимназию и реальное училище К. И. Мая на Васильевском острове, куда перед тем задолго до меня перешел и он. Что моим любимым местом в Петергофе будет площадка Монплезира со стороны моря, которую и А.Н. Бенуа считал красивейшим местом под Петербургом. Что затем я буду долго и упорно хлопотать об издании в серии «Литературные памятники» его воспоминаний, переписываться с его дочерью Анной Александровной.
И еще. А. Н. Бенуа жил в Лондоне в 1899 году в «Boarding place» на «Montague street», очень вероятно – там же, где я останавливался в 1967 году. Если бы я это знал, я бы совсем иначе отнесся к своей староанглийской гостинице с Библией, детективами на полочке над кроватью и камином, впрочем, переделанным на газ. В этой же гостинице, по-видимому, останавливался и Владимир Соловьев, когда приезжал в Лондон работать в библиотеке Британского музея.
Все так близко и рядом. Даже в пространстве истории. Ведь А. Н. Бенуа видел в детстве маленького столетнего старичка – пажа Екатерины II, жившего в одном из служебных корпусов Петергофского дворца.
Связи небольшие, слабые, но они есть и они удивительны.
До чего же привлекательны для детей обычаи, традиции! На вербную неделю в Петербург приезжали финны катать детей в своих крестьянских санках. И лошади были хуже великолепных петербургских извозчичьих лошадей, и санки были беднее, но дети их очень любили. Ведь только раз в году можно покататься на «вейке»! «Вейка» по-фински значит «брат», «братишка». Сперва это было обращение к финским извозчикам (кстати, им разрешалось приезжать на заработки только в вербную неделю), а потом сделалось названием финского извозчика с его упряжкой вообще.
Дети любили именно победнее, но с лентами и бубенцами – лишь бы «поигрушечнее».
Избранные работы. Т. 3. Л. 1984.
КУОККАЛА
Квартира из пяти комнат стоила половину отцовского жалованья. Весной мы рано уезжали на дачу, отказываясь от квартиры и нанимая в том же районе Мариинского театра осенью. Так семья экономила деньги.
Ездили мы обычно в Куоккалу за финской границей, где дачи были относительно дешевы и где жила петербургская интеллигенция – преимущественно артистическая.
Сейчас мало кто себе представляет, какими были дачные местности и дачная жизнь. Постараюсь рассказать о местности, с которой связано мое детство, – о Куоккале (теперь Репино).
В «Спутнике по Финляндии» К. Б. Грэнхагена о Куоккале сказано мало и сухо: «Куоккала (42 килом, от СПб.). Станция находится в одной версте от берега залива. В летнее время местность густо населена дачниками. Однако скученность построек и отсутствие хороших дорог являются крупным недочетом в ряду прочих более или менее удовлетворительных условий дачной жизни. В особенности плохи дороги к северу от ж.-д. станции. Песчаная местность, покрытая сосновым лесом, в общем вполне пригодна для дачной жизни. Имеются лавки, аптека и даже театр. Лучшие дачи расположены вдоль береговой линии и отдаются внаем за высокую плату. Недорогие дачи находятся к северу от ж.-д. станции. Многие из них также заняты зимою. Имеется прав, церковь». Далее мелким шрифтом напечатано любопытное сообщение: «В последние годы русской революции (имеется в виду революция 1905 года. – Д.Л.) здесь находили приют эмигранты, преследуемые русским правительством. Однако после обнаружения в окрестностях Куоккалы (Хаапала) «фабрики бомб» финляндская администрация в силу закона 1826 года пошла навстречу требованиям русских властей, ввиду чего многие эмигранты были арестованы и доставлены в петербургское охранное отделение».
О Куоккале, как интереснейшей дачной местности Петербурга, я писал и говорил (по телевидению в фильме о К. И. Чуковском «Огневой вы человек»). Здесь жила летом небогатая часть петербургской интеллигенции. Две дачи принадлежали зимогорам Анненковым (из этой дворянской семьи, сыгравшей большую роль в русской культуре, вышел и художник Юрий Анненков); на самом берегу против Куоккальской бухты была дача Пуни. Владелец ее Альберт Пуни, принявший православие с именем Андрей (поэтому часть его детей были Альбертовичи, а другие – Андреевичи), виолончелист Мариинского театра, был сыном автора балетной музыки и владельцем большого доходного дома на углу Гатчинской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. Его сын стал известным живописцем во Франции и до конца жизни любил писать пляжи, напоминавшие ему о его счастливом детстве.
Папу встречаем.
Мама с куоккальскими дамами сидит на скамейке, а я, как обычно, хожу, балансируя, по рельсине. Рельсовый путь уходит в бесконечность – к Петербургу, откуда должен на поезде приехать отец. Он привезет павловскую гигантскую землянику или еще что-нибудь вкусное, а иногда игрушку: серсо, игрушечную парусную яхточку, заводной пароходик (играть в воде мне особенно нравилось, и сохранилась даже фотография – я на море, по щиколотку в воде, в панамке и коротких штанишках, а у ног парусная игрушечная лодочка).
Жду, смотрю вдаль. И вот появляется мой человечек: пузатенький, с большой головой, в юбочке и курит. Это паровоз поезда. Круглое туловище – это котел. Большая голова – труба с раструбом, она дымится. А странная юбочка (паровоз, несомненно, мужчина, господин) – это предохранительная сетка, расширяющаяся книзу, к рельсам.

Железная дорога начала века
Приближается. Тонко, на заграничный лад, свистит (русские паровозы гудят басом, как пароходы). Потом подкатывает, работая колесами (любимая игра детей моего, пятилетнего, возраста – изображать собой паровоз, двигая локтями, как поршнями). Тянутся вагоны – синие, зеленые и красные, но значение цветов другое, чем русских. Сейчас я уже точно не помню. Кажется, синие вагоны – первого класса. Из синих вагонов выходят первыми финские кондукторы в черной форме, становятся у лесенки и помогают пассажирам выходить. Появляется отец и, целуя маму, рассказывает, с кем ехал. Однажды в окне вагона мне показали барона Мейерхольда, он ехал дальше, в Териоки. Чудится, что я его запомнил, и запомнил именно как барона. Как барона его знали и средние дачники – инженеры, чиновники. Другие дачники и зимогоры были художниками: Пуни, Анненковы, Репины и другие. Почему-то они представлялись мне другой породы – итальянцами, брюнетами, заводилами разных забав. Постепенно все разъезжаются на финских двуколках. Несутся двуколки с быстротой ветра, а если пассажиров несколько, финн-хозяин стоит на оси колеса и управляет с ловкостью циркача. Но главное – скорость.
На границе с Оллилой (ныне Солнечное) были репинские Пенаты. Около Пенат построил себе дачу К. И. Чуковский (помог ему в этом – и деньгами, и советами – И. Е. Репин). На мызе Лентулла по Аптекарской дорожке (теперь ее именуют Аптекарской аллеей) жил Горький. В те или иные летние сезоны жил Маяковский, наезжал Мейерхольд, жил художник и врач Кульбин (он, кстати, лечил и меня), приезжали к Репину Леонид Андреев, Шаляпин, Стасов и многие другие. Некоторых я встречал на Большой дороге – главной улице Куоккалы и в чудесном общедоступном парке сестер Ридингер, о котором не удосужился упомянуть автор путеводителя. По вечерам мы гуляли либо по самому берегу залива, по сырому укатанному волнами песку, либо по бетонной Дорожке, которая шла к глубине пляжа около заборов выходивших к морю дач.
Куоккальские дачи имели заборы всегда деревянные и всегда различные, пестро окрашенные. У заборов останавливались разносчики и финские возки: «молоко, сметана, сливки» (финны не произносили двух согласных звуков впереди слова: только второй). Разносчики часто бывали ярославцы, торговавшие зеленью, булками, пирожными. Корзинки с товарами носили на голове, подкладывая мягкий круг. Цыгане били в котел и кричали: «Лудить, паять...» – и еще что-то третье, что – я уже забыл. За пределами дачной местности часто стоял цыганский табор. Работали честно и честно возвращали заказы.
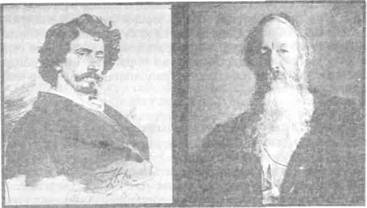
И.Е.Репин.
В.В.Стасов (портрет работы И.Е.Репина)
 |
А.М.Горький и Ф.И.Шаляпин
Если погода безветренная, особенно утром – в предвестии жары, то, прислушавшись, на берегу можно было слышать как бы басовитые гудки: у-у-у, у-у-у, у-у-у! Это в Куоккале слышен на пляже звон большого колокола Исаакиевского собора. Звонят во все колокола, но слышен только большой, самый большой в городе. И в определенный час, пока еще пляж не наполнится людьми, мы бегали к морю послушать Исаакий.
А днем в жару пляж гудел, как улей, роем детских голосов, радостных, испуганных, когда окунались, озорных, при игре, но всегда точно приглушенных водой, расплывающихся, нерезких. Эта музыка пляжа слышна и до сих пор, и до сих пор я ее очень люблю.
Но море становилось торжественным и значительным, когда еле слышно через воду долетал звук тяжкого колокола Исаакия. С тех пор я знаю, что такое «пуститься во все тяжкие». И я запомнил двойное значение этого выражения: мы бежали к морю «во все тяжкие» и слышали «тяжкий» колокол Исаакия.
 |
М.А.Пуни. Рисунок И.Е.Репина
Что за чудо веселья, развлечений, озорства, легкости общения, театральных и праздничных экспромтов была эта Куоккала!
Куоккала была царством детей. На пляже слышался гомон детских голосов. К морю уходили на целый день, брали с собой молоко и завтрак, пропуская обеденное время, принятое зимой, – в час. Игрушки, весла, спасательные пояса, зонты, купальные костюмы – все это хранилось в деревянных будках, стоявших на берегу иногда в два и даже в три ряда. У каждой дачной семьи была своя будка, часто своя лодка. От пляжа в море шли мостки, с которых было весело кувыркаться в воду. Мостки были и частные, и общественные – за деньги. По воскресеньям на пляже где-нибудь играл оркестр: это означало, что было благотворительное представление. Представления были и в куоккальском театре. Небольшой оркестрик из четырех отставных немецких солдат ходил по улицам Куоккалы, останавливался перед какой-нибудь дачей и начинал играть – начинал с «Ойры», любимой финнами песенки. Если им махали рукой, они прекращали игру, но часто мы просили записать – в какой день прийти, играть танцы на дне рождения или на именинах, когда собирались дети со всей округи.
В дни рождения и именин детей иллюминировали сад китайскими фонариками, обязательно жгли фейерверк; впрочем, Горький на своей даче зажигал фейерверки и просто костры без всякого повода. Он любил огонь. Покупали фейерверки в пиротехническом магазине под Городской думой на Невском. На такие веселые вечера сбегались дети со всех дач. Дети бегали веселыми стайками по Куоккале и продавали благотворительные значки (в день Ромашки – в пользу туберкулезных, во время первой мировой войны – в пользу раненых).
Интересы детей, их развлечения господствовали. Взрослые с удовольствием принимали участие в детских играх. Дух озорства проявлялся в местном театре, где выступал иногда и Маяковский, читали Репин, Чуковский, ставились подростками фарсы. Мальчишки пели озорные песни про пупсика, «большую крокодилу», матчиш. И дети, и взрослые (иногда вместе, разновозрастными компаниями, а иногда небольшими группами) ходили на длинные прогулки. Раз в лето непременно ходили на музыку в Сестрорецкий курорт (выходили очень рано утром). Чаще ходили «на мельницу»: на Сестре-реке была мельничная запруда (там жил как-то на даче А. Ремизов). «Мельница» (так мы называли всю местность) казалась Мне красивейшим местом в мире. Молодежь ездила компаниями на велосипедах.
Вот в этой обстановке расцветала озорная живопись, озорное сочинительство (пьес и стихов), по преимуществу для детей. Без этого детского и юношеского озорства нельзя понять многое в Чуковском, в Репине, в Пуни и в Анненкове.
И какие только национальности не жили в Куоккале: русские, финны-крестьяне, сдававшие дешевые дачи (с финскими мальчиками мы играли в прятки и другие шумные игры), петербургские немцы, финляндские шведы, петербургские французы и итальянская семья Пуни – с необыкновенно темпераментным стариком Альбертом Пуни во главе, вечным заводилой различных споров, в которых он всегда и вполне искренне выступал как отчаянный русский патриот.
На благотворительных спектаклях стремились поразить неожиданностями. Ставились фарсы, шутили над всеми известными дачниками. Мой старший брат Миша играл в куоккальском театре в фарсе Е. А. Мировича (Дунаева) «Графиня Эльвира». Но были и «серьезные» спектакли. Репин читал свои воспоминания. Чуковский читал «Крокодила». Жена Репина знакомила с травами.
Почти все (кроме новичков) были знакомы друг с другом, ходили друг к другу в гости. Создавали благотворительные сборы, детские сады на общественных началах. Взрослые и дети вместе играли в крокет, в серсо, в рюхи. На даче у Пуни большими компаниями катались на гигантских шагах, делали на них «звездочку», при которой «закрученный» другими катающийся взлетал очень высоко – почти вровень с макушкой столба. Пожилые играли в саду в винт и преферанс. Неторопливо беседовали. Церковь была общественным местом, где собирались все, в том числе лютеране и католики, но стояли в ней не всегда полностью всю службу, а выходили на лужайку, где были врыты деревянные скамейки и можно было поговорить, посплетничать. Во время войны Репин стал особенно религиозен и пел на клиросе. Религиозен стал и зять Пуни – Штерн. Он был немцем, но в начале первой мировой войны переменил фамилию на Астров, принял православие. С Мишей Штерном я дружил.
Одевались весело. Приятельница моей матери Мария Альбертовна Пуни, красивая черноглазая итальянка, носила на щиколотке ноги золотую браслетку (платья к четырнадцатому году поднялись и стали только чуть-чуть нависать над стопой). Девочки Анненковы смущали всех, нося брюки в своем саду. Сам Корней Иванович, вернувшись в 1915 году из Англии, куда он ездил с какой-то делегацией, стал ходить босиком, хотя и в превосходном костюме. А писатели – те все выдумывали себе разные костюмы: Горький одевался по-своему, красавец Леонид Андреев по-своему, Стасов по-своему, Маяковский по-своему... Всех их можно было встретить на Большой дороге в Куоккале (теперь Приморское шоссе), они либо жили в Куоккале, либо приезжали в Куоккалу.
Люди искусства стали для нас всех если не знакомыми, то легко узнаваемыми, близкими, встречаемыми.
Свой куоккальский озорной характер К. И. Чуковский сохранял до конца жизни. Вот что мне рассказывала старый врач санатория Академии наук «Узкое» Татьяна Александровна Афанасьева. Жил К. И. Чуковский обычно в центральном корпусе, в комнате 26. Возвращаясь с прогулки, ловил ужей, которых в Узком (по-старинному «Ужское») было много. Навешивал ужей себе на шею" и на плечи штук по пять, а затем, пользуясь тем, что двери в комнаты не запирались, подбрасывал их отдыхающим и наслаждался их испугом. Не позволял мешать себе во время работы и поэтому вывешивал на дверях своей комнаты плакат: «Сплю». Такой лист висел часов до трех дня. Приезжавшие к Корнею Ивановичу из Москвы ждали, ждали и в конце концов уезжали. Татьяна Александровна рассказывала и о следующей проделке. Бывало, он бросался на колени перед сестрами, приносившими ему лекарства (обычно травные настойки: сердечные, успокаивающие, снотворные), и умолял их с трагическими жестами забрать лекарства назад.
Давняя подавальщица в столовой Антонина Ивановна тоже хорошо помнит Корнея Ивановича: «Ох, и чудил же», а сама смеется.
Веселая и озорная дачная жизнь Куоккалы приобрела в 1914 году тревожные нотки. В сентябре ждали германского десанта в Финляндии. Финские полицейские заколачивали досками вышки дач (дачи в начале века строились непременно с башенками, откуда было видно море). Из фортов Кронштадта доносилась учебная стрельба, которой море придавало какой-то булькающий звук, – точно хлопали открываемые бутылки шампанского. Было видно, как буксиры везли мимо фортов барки со щитами, по которым и шла учебная стрельба.
Сам я озорником не был, но озорников в искусстве любил с мальчишеских лет, разумеется – талантливых озорников. Я в детстве жил в Куоккале недалеко от Пенат Репина. Он очень покровительствовал Чуковскому, Пуни, Анненкову, Кульбину. С семьями Пуни и Анненкова наша семья дружила. Помню Мейерхольда, красавца Леонида Андреева. Все они оригинальничали и озорничали, играли в рюхи, запускали змеев на пляже, жгли костры, увлекались фейерверками, домашними театрами, шутливыми выставками. Недавно Д. Н. Чуковский подарил мне афишу выступления куоккальских озорников в местном театре. О Куоккале как о родине европейского авангардизма стоило бы мне написать отдельно. Но тут надо потратить много времени на розыски материалов, а времени становится все меньше и меньше. В студенческие годы огромное впечатление произвели на меня «Столбцы» Н.А. Заболоцкого. Я до сих пор их очень люблю. Люблю веселое искусство – в том числе праздничный балет, классический, «мариинский». Люблю веселое искусство природы: цветы, бабочек, тропические растения, водопады, фонтаны и бури (воду во всех ее шумных проявлениях). И еще люблю большие корабли, особенно парусные, «мирные» пушечные выстрелы в 12 часов с Петропавловской крепости.
Летом 1915 года в Куоккале появились новые «зимогоры» – беженцы-поляки. И от них я получил первый урок уважения к другим нациям. Мы, мальчики, дразнили поляков словами «цото бендзе» («что-то будет!»), которые они часто произносили в своих тревожных разговорах. И вот однажды изящная полька обернулась к нам с улыбкой и ласково сказала: «Да, мальчики! «Цото бендзе» – и для вас и для нас в этой войне». Нам стало стыдно. Мы не обсуждали между собой этот случай, но дразнить перестали.
И еще одно сильное впечатление в Куоккале. В пасхальную неделю, как и во всех русских православных церквах, разрешалось звонить всем и в любое время. Отец и мы, два брата, однажды (приезжали на дачи рано весной) ходили на колокольню звонить. До какой же степени было восхитительно слушать звон под самыми колоколами!
Был в Куоккале один случай, который «прославил» нас с братом среди всех дачников. Ветер дул с берега (самый опасный). Мой старший брат снял синюю штору у нас в детской, водрузил ее на нашей лодке и предложил прокатиться под «парусом» вполне домашнему мальчику – внуку сенатора Давыдова. Домашний мальчик Сережа (он впоследствии, после второй мировой войны, работал архитектором-реставратором в Новгороде) пошел к своей бабушке и спросил у нее разрешения прокатиться. Бабушка была франтиха с фиолетовыми глазами, сидела в шелковом платье стального цвета под зонтиком от солнца. Она спросила только – не промочит ли Сережа ноги: в лодке ведь всегда есть на дне вода. Велела Сереже надеть галоши. Сережа надел новые блестящие галоши и сел в лодку. Все это происходило на моих глазах. Поехали. Ветер тихий, как всегда у берега, усилился вдали. Лодку погнало. Я наблюдал с берега и увидел: синий парус медленно наклонился и исчез. Бабушка, как была в корсете и с зонтиком, пошла по воде, простирая руки к любимому Сереже. Дойдя до глубокой воды, бабушка с фиолетовыми глазами упала без чувств. А на берегу за загородкой из простыни загорал проректор Петербургского университета – красавец Прозоровский. Он наблюдал за бабушкой и, когда та упала, бросился ее спасать. И, о ужас! – в одних трусах. Он поднял бабушку с фиолетовыми глазами и понес ее к берегу. А я изо всех сил побежал домой. Подбежав к нашей даче, я замедлил шаг и постарался быть спокойным. Мать спросила, очевидно, догадавшись все же, что что-то случилось: «На море все спокойно?» Я немедленно ответил: «На море все спокойно, но Миша тонет». Эти мои слова запомнились и вспоминались потом в нашей семье сотни раз. Они стали нашей семейной поговоркой, когда внезапно что-либо случалось неприятное.
А в море в это время происходило следующее. Домашний мальчик Сережа, конечно, не умел плавать. Брат стал его спасать и велел сбросить галоши. Но Сережа не хотел – то ли чтобы не ослушаться бабушки, то ли потому, что было жаль блестящих галош с медными буковками «С. Д.» («Сережа Давыдов»). Брат пригрозил: «Сбрасывай, дурак, или я сам тебя брошу». Угроза подействовала, а от берега уже гребли лодки и лодки.
Вечером приехал отец. Брата повели на второй этаж пороть, а затем отец, не изменяя своим привычкам, повел нас гулять вдоль моря. Как полагалось, мы с братом шли впереди родителей. Встречные говорили, указывая на моего брата: «Спаситель, спаситель!», а «спаситель» шел мрачный, с зареванной физиономией.
Хвалили и меня за «мудрую» выдержку. А однажды в особенно сильную бурю кто-то из встречных сказал мне: «На море все спокойно, но четыре будки подмыло и опрокинуло». Я немедленно побежал на море смотреть. Бури я люблю и до сих пор, не люблю обманчивого берегового ветра.
Лето длилось бесконечно долго. И в город я возвращался каждый раз повзрослевшим.
И опять «связь времен». Дачевладелец серб А. Шайкович, у которого мы снимали дачу последние три года перед революцией, оказывается, переводил «Слово о полку Игореве» на сербский язык. После революции он был югославским консулом в Финляндии и издал свой перевод «Слова» на сербский язык в Гельсингфорсе.
Часть Финского залива, отделенная сейчас от остальной его части дамбой, до сих пор называется Маркизовской лужей: в первые годы XIX века здесь обычно устраивал морские учения маркиз де Траверсе.
Заметки и наблюдения. Л. 1989
ЕЩЕ О КУОККАЛЕ
У садовницы-финки, к которой я недавно зашел, чтобы купить цветов для кладбища, я спросил: не помнит ли она пансионат «Юлия» на Церковной улице в Келомяках, где мы жили, кажется, в 1915 году. «Юлии» она не вспомнила, а о пансиона! ах и Куоккале мы разговорились. Вот что она рассказывала:
«Когда здесь русские господа жили, как здесь было весело, сколько было праздников. На Троицу, бывало, все березками украшено – даже поезда с березками ходили. На берегу вечерами оркестр играл. Компании водили. В ветреную погоду змея пускали. А теперь есть ли змеи? А тогда и взрослые и дети пускать змея любили. На Иванов день костры жгли, бочки со смолой. В крокет играли. А теперь и крокет забыли. Наверное, и не продается? На станции встречать поезда ходили. Около всех станций садики были. С поезда разъезд был. Много таратаек ехало. Финские лошадки маленькие, но быстрые и выносливые.
Финны русских господ любили... Русские вежливые были, приветливые».
Когда в первую финскую войну финны отсюда уходили, Александра Яновна спряталась – хотела с русскими остаться. Между двумя финскими войнами ее вывезли куда-то – может быть, в Вологду. Там она замуж вышла. Первую ее дачу отобрали пожарные, но другую дали, и она разводит цветы, ягоды, огурцы. С того и живет. К ней мы постоянно заходим. И с дочерью Верой заходили.
Я был рад поговорить о Куоккале. Мои впечатления совпали с ее. Значит, я не преувеличивал.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
ПО ВОЛГЕ В 1914 ГОДУ
В мае 1914 года мы ездили по Волге – от Рыбинска до Саратова и обратно. Мои родители, старший брат Михаил и я. До Рыбинска от Петербурга – поездом. Как ехали поездом – не помню. Смутные впечатления сохранились только от вокзала в Петербурге. Скорее всего, это был Николаевский (теперь Московский). Там, где прибывали и отходили поезда, в крытой части вокзала и где обрывались рельсы, всегда помещалась икона. Отъезжающие молились перед ней. Жарко горели десятки свечей.
Был май месяц. Утром Рыбинск встретил нас дождем и холодом. Мы направились в суровский магазин купить мне длинные чулки, на которые мне надо было сменить мои носочки. Разумеется (дети всегда одинаковы!), мне этого очень не хотелось. Весной надо было быть одетым как можно более легко: таково было мальчишеское франтовство. А тут еще оскорбление в магазине. Приказчица-Девушка, которая взялась мне примерить чулки, обратилась ко мне со словами: «Барышня, дайте мне вашу ножку!» Меня приняли за девочку! Ужас!
В те времена на Волге лучшими пароходными компаниями считались две: «Самолет» (розовые красавцы теплоходы с двумя красными полосами на трубе и полукруглым зеркальным стеклом спереди в ресторане) и «Кавказ и Меркурий» (белые суда). Суда «Самолета» ходили от Нижнего до Астрахани. До Нижнего надо было добираться на колесных «кашинских». А суда общества «Кавказ и Меркурий» шли от самого Рыбинска. Мы взяли каюту на одном из судов «Кавказ и Меркурий». На Волге погода потеплела, и мы в первый же день обедали на носу парохода на воздухе. До сих пор помню вкус хлеба и свежих весенних огурцов. Замечали ли вы, что еда на воздухе имеет другой вкус? Гораздо лучший.
Волга тогда была другая, чем сейчас. Я уже не говорю о том, что она была без «морей» и разливов, без плотин и шлюзов. На ней было множество мелких судов разных типов. Буксиры тянули канатами караваны барок. Сплавляли лес плотами. На плотах ставили шатры и даже маленькие домики для плотогонов. Вечером ярко горели костры, на которых плотогоны готовили пищу и у которых сушили выстиранную одежду. Раза два-три встретились красавицы «беляны». Беляны назывались так потому, что они были некрашеные. Бель – это некрашеное дерево. Эти огромные высокие барки плыли по течению, управлялись длинными веслами. По прибытии в нижнее безлесное течение Волги их разбирали на строительный материал. И строились беляны в верховьях Волги так, чтобы не портить бревна и доски.
Волга была наполнена звуками: гудели, приветствуя друг друга, пароходы. Капитаны кричали в рупоры, иногда – просто чтобы передать новости. Грузчики пели.
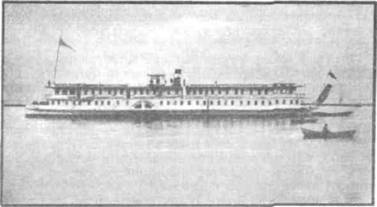 |
Волга. 1914 год
Существовали специально волжские анекдоты, где главную роль играли голоса кричавших друг другу с больших расстояний людей, плохо и по-своему понимавших друг друга. Но были и детские байки, и звукоподражания. Помню такое «звукоподражание» перекликающимся друг с другом петухам. Первый петух кричит: «В Костроме был». Второй спрашивает: «Каково там?» Первый отвечает: «Побывай сам». Этот «диалог» довольно хорошо передавал по интонации петушиную перекличку.
А вот сцена, которую я сам наблюдал. Была она в духе Островского. Сел к нам на пароход богатый купец, не устававший хвастаться своим богатством. Встречающиеся плоты он приветствовал, приложив ко рту ладони рупором: «Чьи плоты-те?» С плотов ему непременно отвечали: «Панфилова». Тогда купчишка с гордостью оборачивался к стоявшей на палубе публике и с важностью говорил: «Плоты-те наши!»
Была и такая сцена. По Волге обычно плавал бывший борец Фосс. Был он огромного роста и необыкновенной толщины. Говорили, что он под рубашку подвязывал себе подушку, чтобы казаться еще толще. Хвастался он дружбой с кем-то из великих князей и поэтому считал себя вправе ни за что не платить. Во время обедов он съедал множество всего. Волжские пароходы славились тогда великолепной кухней, особенно рыбной (стерляди, осетрина, икра паюсная, зернистая, ястычная и пр.).
Фосс сел к нам на пароход вечером в Нижнем. Пассажиры встревожились: будет скандал. А шутники пугали: «Съест все, и ресторан закроют». Капитан знал, однако, как бороться с Фоссом. Отказать Фоссу заказывать блюда было нельзя. Капитан шел на расход. Но когда Фосс отказался платить, ему предложили сойти с парохода. Фосс упрямился. Тогда собрали всех матросов, и они, подпирая Фосса с обоих боков, выдавили его. Мы с верхней палубы следили за тем, как выставляли Фосса. Он долго стоял на пристани и сыпал угрозами.
Много пели. Песни слышались с берега. Пели и на нижней палубе, в третьем классе: пели частушки и плясали. Мать не вынесла, когда плясала беременная женщина, и ушла. Вдогонку беременная плясунья спела нам частушку об инженерах (отец неизменно носил инженерскую фуражку).
На пристанях грузчики («крючники») помогали своему тяжелому труду возгласами и пением. Помню, ночью тащили из трюма (пароход был грузо-пассажирский) какую-то тяжелую вещь; грузчики дружно в такт кричали: «А вот пойдет, а вот пойдет!» Когда вещь сдвинулась, дружно кричали: «А вот пошла, а вот пошла, пошла, пошла!» Этот ночной крик хорошо запомнился мне.
На каждой остановке у пристани собирался маленький базар. Капитан говорил, где и что покупать – где ягоды, где корзины, где икру, где палочки-тросточки. Палочки мы с братом жадно выбирали. Брат купил себе палочку с рукояткой в виде головы турка, а я – с птичкой. Эти палочки долго у нас хранились. Не то эти покупки тросточек были в Кинешме, не то в Плёсе. Помню точно, что берег был очень зеленый, лесистый и круто поднимался вверх.
В Троицу капитан остановил наш пароход (хоть и был он дизельный, но слова «теплоход» еще не было) прямо у зеленого луга. На возвышенности стояла деревенская церковь. Внутри она вся была украшена березками, пол усыпан травой и полевыми цветами. Традиционное церковное пение деревенским хором было необыкновенным. Волга производила впечатление своей песенностью: огромное пространство реки было полно всем, что плавает, гудит, поет, выкрикивает. В городах пахло рыбой, разного рода снедью, лошадьми, даже пыль пахла ванилью. Люди ходили, громко разговаривая или перебраниваясь, торговцы выкликали свои товары, заманивали покупателей. Мальчишки – продавцы газет выкликали их названия, а иногда и заголовки статей, сообщения о происшествиях. На рынках встречались персы, кавказцы, татары, калмыки, чуваши, мордвины – все одетые по-своему, говорившие на своих языках. В Сарепте и Саратове слышалась немецкая речь.
В Саратове мы пересели на обратный пароход той же компании «Кавказ и Меркурий», которую мы, мальчишки, дружно стали считать лучше бледно-розового пароходства «Самолет».
Как возвращались поездом, не помню. Помню только, что обратный пароход назывался «1812 год» и встретился нам «Кутузов». Это было на 101-й год после Бородинской битвы.
От прежнего остаются картины, своеобразные фотографические снимки. От путешествия по Волге я яснее всего помню одну. Мы сидим с дочкой капитана на ковре в капитанской каюте и играем во что-то скучное (дочка младше меня, да она и девочка, а я не умею играть в куклы). От палубы нас отделяет решетка от потолка до пола. Родители кричат мне: «Посмотри – Жигули! Соловьи поют». Я вижу через решетку высокий лесистый берег и слышу щелканье соловьев, но мне неловко не играть с дочкой капитана. Я долго потом жалел, что плохо видел и плохо слушал соловьев. Это ощущение упущенной возможности сохранилось и до сих пор. Но, может быть, в этом случае мое сознание не «сфотографировало» бы этот вид на Жигули через решетку?
И все же я могу сказать про себя с гордостью: «Я видел! Волгу».
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
КРЫМ
Огромную роль в эстетическом воспитании нашей семьи сыграло пребывание на юге. Отец год работал в Одессе (1911–1912), и два лета мы провели в Крыму, в Мисхоре. Мне вспоминается запах разогретого на солнце самшита, вид от Байдарских ворот, где помещался тогда монастырь, Алупкинский парк и дворец, купания в Мисхоре среди камней (впоследствии по фотографиям я установил, что это было как раз то место, где перед тем купался после болезни Лев Толстой, спускаясь сюда из имения графини Паниной в Гаспре). Особенно эмоционально воспринималась мною маленькая полянка над морем с необыкновенно душистыми цветами. Полянку эту все называли «Батарейка», и туда чаще всего мы ходили гулять. Во время Крымской войны там размещалась небольшая батарея, чтобы воспрепятствовать возможному десанту англо-французских войск в Алупке. Здесь для меня все было слито: чувство природы и чувство истории. Последнее появилось у меня в возрасте 5–6 лет – и прежде всего на памятниках Севастопольской обороны, по которым я любил лазать, и на Малаховом кургане, воображая себя артиллеристом у стоявших среди укреплений орудий; поражение русских войск воспринималось мною уже тогда как личное горе.
 |
Алупка
Месяцы, проведенные в Крыму, в Мисхоре, в 1911 ив 1912 годах, запомнились мне как самые счастливые в моей жизни. Крым был другой. Он был каким-то «своим Востоком», Востоком идеальным. Красивые крымские татары в национальных нарядах предлагали верховых лошадей для прогулок в горы. С минаретов раздавались унылые призывы муэдзинов. Особенно красив был белый минарет в Кореизе на фоне горы Ай-Петри. А татарские деревни, виноградники, маленькие ресторанчики! А жилой Бахчисарай и романтический Чуфут-Кале! В любые парки можно было заходить для прогулок, а дав «на чай» лакеям, осматривать в отсутствие хозяев алупкинский дворец Воронцовых, дворец Паниной в Гаспре, дворец Юсуповых в Мисхоре. Никаких особых запретов в отсутствие хозяев не существовало, а так как хозяева почти всегда отсутствовали, то парадные комнаты (кроме сугубо личных) были доступны.
Береговая полоса не могла находиться в частной собственности. От Мисхора по берегу шла бетонированная дорожка до Ливадии, по которой мы всей семьей гуляли по вечерам за маяк Ай-Тодор. Никаких частновладельческих пляжей! По берегу нельзя было пройти только от Мисхора до Алупки, из-за скал. Но по высокой части шла прекрасная дорога. Все эти прогулки хорошо сохранились в моей памяти благодаря отличным фотографиям отца. Теперь многого уже нет, нет и чудесной дорожки по берегу от Алупки. «Царская тропа» к Ореанде тоже укоротилась и изменила свой вид.
В 60-е годы мы ездили в Дом творчества, в Ялту. После уже не захотелось ехать туда во второй раз – разрушать тот «маленький рай», который еще существовал в моей памяти.
Когда эта заметка была уже написана, я прочел статью Т. Братковой «Город Солнца» («Дружба народов», 1987, № 6). Ее надо прочесть и не забывать: она нужна всем, кто любит Крым.
Может быть, с тех пор у меня начала укрепляться любовь к различным «музеям под открытым небом» – будь-то знаменитый памятник-«пушка» в Одессе, усадьбы-музеи, петровские домики в Петербурге, да и просто маленькие лирические памятники вроде памятника Жуковскому в Петербурге в Александровском саду, где я чаще всего гулял до «вечернего колокольчика» сторожа, когда сад запирался на ночь, или небольших памятников Петру, которых было несколько в Петербурге: например, Петр, мастерящий лодку, – на набережной у Адмиралтейства. Уже тогда в Крыму меня поразили старые деревья в Никитском саду, а в Петербурге во время неизменных праздничных прогулок на Острова я благоговейно смотрел на Петровский дуб, огороженный скромной решеткой. Стоя перед этим дубом, я шептал ему свои заветные желания: например, получить в подарок еще одну лучиночную коробочку с оловянными солдатиками или «настоящую» паровую машину, паровозик, который видел у приятеля. Странно – желания мои исполнялись, и я приписывал исполнение их не внимательности родителей, которые, конечно, о них догадывались, но доброму и всесильному дубу. Язычество проснулось у меня вместе с чувством истории очень рано.
Заметки и наблюдения. Л. 1989
ГИМНАЗИЯ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВОГО ОБЩЕСТВА

Осенью 1914 года я поступил в школу – в гимназию
Человеколюбивого общества, ту самую, в которой одно время учился А.Н. Бенуа.
Она находилась на Крюковом канале против колокольни Чевакинского, недалеко от
дома Бенуа – того самого, о г которого отходила конка в Коломну. На этой конке
я любил ездить со своей нянькой, забравшись на империал. Какой волшебный вид на
город открывался с империала!
Петербург. Почтовая карета
Учиться я поступил восьми лет, и сразу в старший приготовительный класс. Родители выбирали не школу, а классного наставника. И он в этом старшем приготовительном классе был действительно замечательным. Капитан Владимирович! Он был строг, представителен, умен и отечески добр, когда это было можно. Это был воспитатель с большой буквы. Ученики его уважали и любили. Ученики! Но они были со мной совсем другими, и у меня с ними сразу пошли конфликты. Я был новичок, а они уже учились второй год, и многие перешли из городского училища. Они были «опытными» школьниками. Однажды они на меня накинулись с кулачками. Я прислонился к стене и, как мог, отбивался от них. Внезапно они отступили. Я почувствовал себя победителем и стал на них наступать. Но я не видел инспектора, которого заметили они. В результате в дневнике у меня появилась запись: «Бил кулаками товарищей. Инспектор Мамай». Как я был поражен этой несправедливостью! В другой раз они бросали в меня на улице снежками и подвели к маленькому оконцу, из которого за поведением учеников наблюдал все тот же инспектор Мамай. В дневнике появилась вторая запись: «Шалил на улице. Инспектор Мамай». И родителей вызвали к директору.
Как я не хотел ходить в школу! По вечерам, становясь на колени, чтобы повторять вслед за матерью слова молитв, я еще прибавлял от себя, утыкаясь в подушку: «Боженька, сделай так, чтобы я заболел». И я заболел: у меня стала подниматься каждый день температура – на две-три десятых градуса выше 37. Меня взяли из школы, а чтобы не пропустить год, наняли репетитора. Это была польская школьница-беженка (шла зима 1915 года). Маленькая, худенькая. И нанималась она заниматься со мной за плату вместе с обедом. За обеденным столом она казалась совсем маленькой, и отец из жалости к ней подпилил ножки обеденного стола. Потом этот обеденный стол всегда приходилось ставить на стеклянные подножки от рояля, чтобы вернуть ему прежнюю высоту. От этой польской девочки я получил еще один урок национального воспитания. Рассказывая мне русскую историю, она увлеклась и стала говорить про польскую историю, а я взял да и выпалил ей в лицо: «Никакой польской истории нет». Я, очевидно, спутал историю с учебником истории. Учебника истории Польши действительно на русском языке не было. Но польская школьница стала мне возражать и вдруг заплакала. Этих слез мне и сейчас стыдно...
Прошлое – будущему. Л. 1985.
ГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ К. И. МАЯ
В 1915 году я поступил в гимназию и реальное училище К. И. Мая на 14-й линии Васильевского острова. К этому времени мой отец получил в заведование электрическую станцию при Главном управлении почт и телеграфов и казенную квартиру при этой станции. День и ночь квартира наша содрогалась от действия паровой машины. Сейчас этой станции и в помине нет. Двор пуст, нет и нашей квартиры. Но тогда посещение станции доставляло мне большое удовольствие. Громадное колесо вращалось поршнем, оно блестело от масла, было необычайно красивым. В училище Мая мне надо было ездить на трамвае, но пробиться в трамвай было чрезвычайно трудно: площадки были забиты солдатами («нижними чинами», как их называли). Им разрешалось ездить бесплатно, но только на площадках вагонов. Жили мы рядом с Конногвардейским бульваром, и я наслаждался тогда вербными базарами, где можно было потолкаться около букинистических ларьков, купить народные игрушки и игрушки специально вербные (вроде «американских жителей», чертей на булавках для прикалывания к пальто, акробатов на трапециях, «тещиных языков» и проч.) и полакомиться вербными кушаньями.
Вербная неделя была лучшей неделей для детей в старом Петрограде, и именно здесь можно было почувствовать народное веселье и красоту народного искусства, привозимого сюда из всего Заонежья.
Ведь Петербург-Петроград не только стоял лицом к Европе, что ощущалось прежде всего в его пестром населении (немцы, французы, англичане, шведы, финны, эстонцы наполняли собой и школу К. И. Мая), но за его спиной находился весь Русский Север с его фольклором, народным искусством, народной архитектурой, с поездками по рекам и озерам, близостью к Новгороду и проч. и проч.
О гимназии и реальном училище К. И. Мая написано много. Есть специальные юбилейные издания, много написано в «Воспоминаниях» А. Н. Бенуа, изданных в серии «Литературные памятники», есть и статья в журнале «Нева» (1983, № 1, с. 142–195). Не буду повторять всего того хорошего, что о ней уже сообщалось; отмечу только, что школа эта сыграла большую роль в моей жизни. Я чувствовал себя там прекрасно и, если бы не трудности дороги, не мог бы и желать лучшего.
Я взрослел и был как раз в таком возрасте, когда особенно тяжело переживаются военные неудачи. Обсуждение военных неудач и всех возмутительных неурядиц в правительстве и в русской армии занимало изрядное место в вечерних семейных разговорах, тем более что все происходившее было как будто тут же, рядом. Распутин появлялся в ресторанах и домах, которые я видел, мимо которых гулял, солдат обучали совсем рядом на любой свободной площади, спектакли начинались с томительного исполнения всех гимнов союзных России держав, и прежде всего с бельгийского гимна «Барбансон». Национальное чувство и ущемлялось, и подогревалось. Я жил известиями с «театра военных действий», слухами, надеждами и опасениями.

Гимназия К.И. Мая

Школа К. И. Мая наложила сильный отпечаток и на мои
интересы, и на мой жизненный, я бы сказал мировоззренческий, опыт. Класс был
разношерстный. Учился и внук Мечникова, и сын банкира Рубинштейна, и сын
швейцара. Преподаватели тоже были разные. Старый майский преподаватель Михаил
Григорьевич Горохов обучал нас два года перспективе почти как точной науке;
преподаватель географии изумительно рассказывал о своих путешествиях и по
России, и за границей, демонстрируя диапозитивы; библиотекарь умела
порекомендовать каждому свое. Я вспоминаю те несколько лет, которые я провел у
Мая, с великой благодарностью. Даже почтенный швейцар, который приветствовал
нас по-немецки, а прощался по-итальянски, учил нас вежливости собственным
примером – как много все это значило для нас, мальчиков!
Учителя не заставляли нас выдавать «зачинщиков» шалостей, разрешали на переменах играть в шумные игры и возиться. На уроках гимнастики мы главным образом играли в активные игры – такие, как лапта, горелки, хэндбол (ручной мяч). На школьные каникулы выезжали всей школой в какое-то имение на станцию Струги-Белые по дороге на Псков. Мы выпускали разные классные журналы и даже писали и размножали собственные сочинения в духе повестей Буссенара и Луи Жаколио без преподавательского надзора.
Я жалею, что не мог ходить на все вечерние занятия и школьные кружки, – уж очень трудная была дорога в переполненных трамваях.
Уроки рисования в училище Мая
Уроки рисования в училище Мая, как я уже сказал, вел наш классный наставник М. Г. Горохов. Он всегда входил в класс серьезный, как бы «выполняющий высокий долг» (а долг его и в самом деле был высоким). Часто читал нам нотации. Учил нас корректности в обращении друг с другом, манере держаться. Помню, что ставил нам в пример учеников старших классов, и в частности ныне здравствующего архитектора, а тогда ученика старших классов – Игоря Ивановича Фомина.
 |
С учителем физкультуры Н.А.Низовцевым
О.Э.Мандельштам (один из посетителей кружка в училище К.И.Мая)
Но самое удивительное были уроки рисования М. Г. Горохова. Два года мы проходили с ним перспективу. По его проекту был создан в новом здании училища Мая кабинет для уроков рисования. Там были удобные пюпитры, на которые мы накалывали бумагу для рисунков. Со всех мест было хорошо видно натуру, а натура состояла для уроков перспективы главным образом из проволочных каркасов. Перспектива была точнейшая наука, учившая нас думать. Уроки перспективы были сродни урокам геометрии. С тех пор я умею замечать ошибки в перспективе.
И вместе с тем уроки рисования были уроками труда, ручного труда, они учили уметь работать руками. Даже стирать резинкой неверно нанесенную карандашную линию надо было уметь. И этому М.Г. Горохов нас тоже учил. А что стоили походы с ним на выставки, хотя принимать участие в этих походах мне приходилось редко.
Умный «ручной труд»
В годы первой мировой войны в училище Мая был введен урок ручного труда. Чем это диктовалось, я не знаю. Но воспитательное значение он имел очень большое.
Сравнительно молодой столяр говорил нам: «Когда работаешь, надо думать». Я это запомнил. Он учил нас, как без гвоздей делать различные деревянные поделки – полки, рамки, табуретки, как делать различные сочленения, чтобы вещь крепко держалась без гвоздей, как выбирать дерево для работы, как обходить сучки, как работать рубанком, полировать. Закончив один какой-то прием, мы переходили к другому. «Ручной труд», так назывался урок, был уроком творчества. От менее сложных приемов мы переходили к более сложным. И хотя в классе было много детей работников отнюдь не ручного труда – уроки эти нам нравились. Единственное, что нам мешало, это то, что нас было много: человек двадцать, а нашему преподавателю надо было показывать каждому в отдельности. Объяснив нам всем приемы работы, преподаватель ручного труда подходил к каждому из нас (верстаков и столярных инструментов было много) и каждому показывал отдельно – как держать инструмент, как им работать. Многие, конечно, понимали не сразу, стояли и ожидали, пока к ним подойдет наш милый интеллигентный рабочий-столяр.
Ручной труд был трудом умственным и давал нам радость овладения новым.
Само собой, что сделанные нами полочки, коробочки и скамейки мы уносили домой, и сделанным нами гордилась вся семья.
Внешние впечатления
Ни моя семья, ни я, одиннадцати-двенадцатилетний мальчик, разумеется, ничего толком не понимали, что происходит, и происходит почти на наших глазах, так как жили мы на Новоисаакиевской улице вблизи Исаакиевской площади. Семья слабо разбиралась в политике.
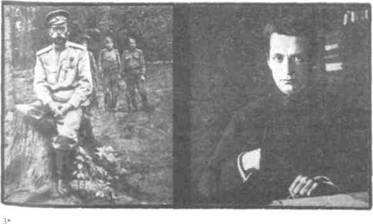
Николай II (1916г.)
А.Ф.Керенский (1917 г.)
Когда в первые дни Февральской революции «гордовики» (так называли в Петрограде городовых) захватили вышку Исаакиевского собора и чердаки гостиницы «Астория» и оттуда обстреливали любую собиравшуюся толпу, мои родители возмущались «гордовиками» и боялись приближаться к этим местам. Но когда «гордовиков» стащили с их позиций и разъяренная толпа убивала их, родители возмущались жестокостью толпы, не особенно входя в дальнейшее обсуждение событий.
Когда мы с отцом ходили на Невский, чтобы посмотреть на непрерывно и, по-видимому, без особой цели маршировавшие под оркестры полки, звуки маршей поднимали нам настроение, но когда эти же полки шли нестройными рядами, мы огорчались, ибо помнили, с каким блеском шел до войны Конногвардейский полк по воскресеньям в свою полковую Благовещенскую церковь, с каким балетным искусством вышагивал впереди командир полка – полковник из русских немцев, как блестели кирасы и каски, как лихо крутил палку тамбурмажор перед оркестром.

Да и до революции... Когда мы с отцом гуляли по Большой Морской и видели, как строят дом и носят тяжести на своих спинах обутые в лапти, чтобы не скользить, крестьяне, приехавшие в город на заработки, я почти задыхался от жалости и вспоминал с отцом «Железную дорогу» Некрасова. То же самое происходило на любой набережной в местах, где разрешалось разгружать барки с кирпичом и дровами. Здоровенные катали вкатывали быстро-быстро свои тачки с тяжеленным грузом, чтобы взобраться, не останавливаясь, по узким доскам, перекинутым с бортов барж на набережную. Мы жалели каталей, старались представить себе, как они живут в отрыве от семей на этих барках, как замерзают по ночам, как тоскуют по своим детям, ради которых они, в сущности, и зарабатывали свой хлеб тяжелым трудом. Но когда эти же бывшие грузчики и носильщики, мастеровые и мелкие служащие пошли по бесплатным билетам на балет в Мариинский театр и заполнили собой партер и ложи, родители жалели о былом бриллиантовом блеске голубого Мариинского зала. Единственное, что на тех представлениях радовало родителей, – это то, что балерины танцевали не хуже прежнего. Спесивцева с Люком были так же великолепны, раскланивались перед новой публикой так же, как и
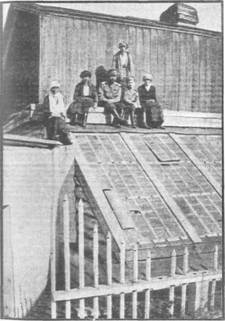 |
Николай II с семьей в Екатеринбурге под арестом
Жизнь в Первой государственной типографии
Отец был искренне рад и горд, когда рабочие электрической станции в Первой государственной типографии (теперь это Печатный Двор) выбрали его своим заведующим. Мы переехали с Новоисаакиевской в центре Петрограда на казенную квартиру при типографии на Петроградской стороне. Это была осень 1917 года. События Октябрьской революции оказались как-то в стороне от меня. Я их плохо помню.
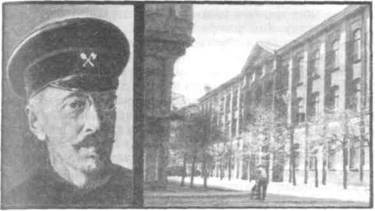
С.М.Лихачев, отец Д.С.Лихачева
Первая государственная типография
Жизнь в типографии меня во многом воспитала. Типографии я обязан своим интересом к типографскому делу. Запах свежеотпечатанной книги для меня и сейчас – лучший из ароматов, способный поднять настроение. Я свободно ходил по типографии, знакомился с наборщиками, считавшими себя среди рабочих интеллигентами, носившими длинные волосы (прическа эта называлась «марксистка»), часто писавшими стихи и гордившимися своей работой. Отец постепенно стал специалистом по типографским машинам. Вскоре после революции для типографии были закуплены за рубежом печатные машины, в которых отец один и смог разобраться.
Типография имела большой театральный зал, где для рабочих и служащих выступали лучшие певцы и актеры города и даже однажды происходил публичный диспут на тему «есть Бог или нет» между А. В. Луначарским и обновленческим митрополитом Александром Введенским... Помню парадоксы того времени: толпа верующих после диспута хотела побить именно митрополита, и отец по просьбе начальства спасал его, выйдя с ним на другую улицу через черный ход нашей квартиры.
Жизнь в типографии многому меня научила, многое раскрыла, объяснила. Но, может быть, не последнюю роль сыграло и то, что на некоторое время отец получил на хранение библиотеку директора ОГИЗа – небезызвестного в тогдашних литературных кругах Ильи Ионовича Ионова. В его библиотеке были эльзевиры, альдины, редчайшие издания XVIII века, собрания альманахов, дворянские альбомы. Библия Пискатора, роскошнейшие юбилейные издания Данте, издания Шекспира и Диккенса на тончайшей индийской бумаге, рукописное «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, книги из библиотеки Феофана Прокоповича, множество книг с автографами современных писателей (запомнились письма-надписи на сборниках стихов Есенина, А. Ремизова, А. Н. Толстого и т.д.). Получил отец в подарок и некоторые вещи – посмертную маску, снятую Манизером с головы А. Блока новым способом – так, чтобы голова была Цельной, не только лицо. В ней трудно было узнать Блока – совершенно лысый, изможденный, старый. Маска-голова эта пропала.
Библиотека была получена нами при следующих обстоятельствах. У нас была на Печатном Дворе огромнейшая казенная квартира, в которой мы с братом катались даже на велосипеде. И. И. Ионов получил назначение торгпредом в США и, зная честность отца, существование у него большой квартиры, свез основную часть своей библиотеки к нам. Возвратился И. И. Ионов уже не в Ленинград, а в Москву. Отец немедленно по возвращении Ионова погрузил все книги в контейнеры и отправил их ему в Москву. Там вскоре Ионов был арестован.
Несколько лет существования великолепной библиотеки в нашей квартире не прошли для меня даром. Я рылся и рылся в ней, читал, смотрел, любовался изданиями и рукописями, гравюрами и фотографиями с памятников искусства. Мне не хватало образования, – иначе я бы еще больше смог получить для себя от этой необыкновенной библиотеки. На многое я просто не обратил внимания.
Сам И. И. Ионов не имел систематического образования. Он в свое время был арестован царским правительством в Одессе еще гимназистом и получил пожизненное заключение, которое и проводил в Шлиссельбургской тюрьме, откуда вышел глубоко больным человеком и с невероятными провалами в образовании, за что над ним насмехались многие, не зная, что при всем этом он был начитан в самых неожиданных областях, так как имел возможность в тюрьме получать книги.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
ШКОЛА ЛЕНТОВСКОЙ
Первое время после переезда в казенную квартиру на Петроградской стороне (Гатчинская, 16, или Лахтинская, 9) я продолжал учиться у Мая. В ней я пережил самые первые реформы школы, переход к трудовому воспитанию (уроки столярного искусства сменились пилкой дров для отопления школы), к совместному обучению мальчиков и девочек (к нам в школу перевели девочек из соседней школы Шаффе) и т.д. Но ездить в школу в переполненных трамваях стало совершенно невозможно, ходить – еще труднее, так как затруднения в тогдашнем Петрограде с едой были ужасными. Мы ели дуранду (спрессованные жмыхи), хлеб из овса с кострицей, иногда удавалось достать немного мороженой картошки, за молоком ходили пешком на Лахту и получали его в обмен на вещи. Меня перевели поблизости в школу Лентовской на Плуталовой улице. И снова я попал в замечательное училище. Сравнительно со школой Мая «Лентовка» была бедна оборудованием и помещениями, но была поразительна по преподавательскому составу. Школа образовалась после революции 1905 года из числа преподавателей, изгнанных из казенных гимназий за революционную деятельность. Их собрала театральный антрепренер Лентовская, дала денег и организовала частную гимназию, куда сразу стали отдавать своих детей левонастроенные интеллигенты. У директора (Владимира Кирилловича Иванова) в директорском его кабинете была библиотечка революционной марксистской литературы, из которой он секретно давал читать книги заслуживающим доверия ученикам старших классов.
Между учениками и преподавателями образовалась тесная связь, дружба, «общее дело». Учителям не надо было наводить дисциплину строгими мерами. Учителя могли постыдить ученика, и этого было достаточно, чтобы общественное мнение класса было против провинившегося и озорство не повторялось. Нам разрешалось курить, но ни один из аборигенов школы этим правом не пользовался.1
Об одном из преподавателей этой школы, Леониде Владимировиче Георге, я написал отдельный очерк. Но мог бы написать и о многих других: Александре Юльевиче Якубовском (нашем преподавателе истории, будущем известном востоковеде), Павле Николаевиче Андрееве (преподавателе рисования, брате Леонида Андреева), Татьяне Александровне Ивановой (нашем преподавателе географии) и о многих других. Школа была близко, и я постоянно посещал различные кружки, главным образом кружки литературы и философии, в занятиях которых принимали участие и многие «взрослые». Об одном из таких участников наших кружков – Евгении Павловиче Иванове, друге Александра Блока, я немного написал в статье «Из комментария к стихотворению А. Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека...» в книге «Литература – реальность – литература» (второе издание – 1984 г.).
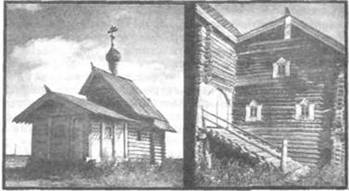
Русский север. Церковь св. Лазаря XIV в.
Дом Елизарова. Взвоз

Один летний месяц имел огромное значение для формирования моей личности, моих интересов и, я бы сказал, моей любви к Русскому северу: школьная экскурсия в 1921 году на север – по Мурманской железной дороге в Мурманск, оттуда на паровой яхте в Архангельск вокруг Кольского полуострова по Белому морю, на пароходе по Северной Двине до Котласа и оттуда по железной дороге в Петроград. Двухнедельная эта школьная экскурсия сыграла огромную роль в формировании моих представлений о России, о фольклоре, о деревянной архитектуре, о красоте русской северной природы. Путешествовать нужно по родной стране как можно раньше и как можно чаще. Школьные экскурсии устанавливают и добрые отношения с учителями, вспоминаются потом всю жизнь. В школе я наловчился рисовать карикатуры на учителей: просто – одной-двумя линиями. И однажды на перемене нарисовал всех на классной доске. И вдруг вошел преподаватель. Я обмер. Но преподаватель подошел, смеялся вместе с нами (а на доске был изображен и он сам) и ушел, ничего не сказав. А через два-три урока пришел в класс наш классный наставник и сказал: «Дима Лихачев, директор просит вас повторить все ваши карикатуры на бумаге для нашей учительской комнаты».
Были у нас умные педагоги.
В школе Лентовской поощрялось собственное мнение учеников. В классе часто шли споры. С тех пор я стремлюсь сохранять в себе самостоятельность во вкусах и взглядах.
Для моего любимого преподавателя литературы Леонида Владимировича Георга существовал прежде всего Пушкин, но существовала и вся другая литература – не скажу даже, что на втором плане. Когда он чем-нибудь интересовался, это выходило на первый план. Кстати, он очень ценил и поощрял А. Введенского, который уже в школе (он был старше меня на 1 или 2 класса) писал свои «обэриутские» стихи.
В разные годы, в разных условиях мне нравятся совершенно различные произведения западных литератур. То тянет перечитать Диккенса, то Джойса, то Пруста, то Шекспира, то Норвида... Мне легче перечислить тех авторов, которых мне не хочется перечитывать. А вообще-то я очень жаден к перечитыванию. А ведь я не перечислил еще философов, которых люблю и мнение которых я могу даже, как бы играя, временно и с удовольствием разделять. Ведь философские теории и мироощущения имеют для меня еще и эстетическую ценность. Философы – художники, и мы не должны закрываться от них ширмами собственных взглядов. Впрочем, вопрос этот очень сложный – как воспринимать философские концепции. Возражая и «отругиваясь», мы многого себя лишаем.
Прошлое – будущему. Л. 1985.
ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ ГЕОРГ
Леонид Владимирович Георг принадлежал к тем старым «учителям словесности» в наших гимназиях и реальных училищах XIX и начала XX века, которые были подлинными «властителями дум» своих учеников и учениц, окружавших их то серьезной любовью, то девчоночьим обожанием.
Именно эти старые «учителя словесности» формировали не только мировоззрение своих учеников, но воспитывали в них вкус, добрые чувства к народу, интеллектуальную терпимость, интерес к спорам по мировоззренческим вопросам, иногда интерес к театру (в Москве – к Малому театру), к музыке.
Леонид Владимирович обладал всеми качествами идеального педагога. Он был разносторонне талантлив, умен, остроумен, находчив, всегда ровен в обращении, красив внешне, обладал задатками актера, умел понимать молодежь и находить педагогические выходы из самых иногда затруднительных для воспитателя положений.
Расскажу об этих его качествах.
Его появление в коридоре, на перемене в зале, в классе, даже на улице было всегда заметно. Он был высок ростом, лицо интеллигентное и чуть насмешливое, но при этом доброе и внимательное. Белокурый, со светлыми глазами, с правильными чертами лица (может быть, чуть коротковат был нос, хотя правильная его форма скрадывала этот недостаток), он сразу привлекал к себе внимание. На нем всегда хорошо сидел костюм, хотя я никогда не помню его в чем-либо новом: времена были тяжелые (я учился у него в 1918–1923 гг.), и где было взять это новое на скромное учительское жалованье!
Мягкость и изящество в нем доминировали. Ничего агрессивного не было и в его мировоззрении. Ближе всего он был к Чехову – его любимому писателю, которого он чаще всего читал нам на своих «заместительских уроках» (т. е. уроках, которые он давал вместо своих часто хворавших тогда товарищей-педагогов).
Эти «заместительские уроки» были его маленькими шедеврами. Он приучал нас на этих уроках к интеллектуальному отношению к жизни, ко всему окружающему. О чем только не говорил он с нами! Он читал нам своих любимых писателей: я помню чтение «Войны и мира», пьес Чехова («Чайки», «Трех сестер», «Вишневого сада»), рассказов Мопассана, былин «Добрыня Никитич» и «Соловей Будимирович» («Добрыню Никитича» Леонид Владимирович читал на родительском собрании для родителей – их он также воспитывал), «Медного всадника»... Всего не перечислишь. Он приходил в класс с французскими текстами и показывал нам, как интересно учить французский язык: он разбирал рассказы Мопассана, рылся при нас в словарях, подыскивал наиболее выразительный перевод, восхищался теми или иными особенностями французского языка. И он уходил из класса, оставляя в нас любовь не только к французскому языку, но и к Франции. Стоит ли говорить, что все мы после этого начинали как могли изучать французский. Урок этот был весной, и помню, что я все лето потом занимался только французским... На иных своих «заместительских уроках» он рассказывал нам о том, как он слушал Кривополенову, показывая, как она пела, как говорила, как делала во время пения свои замечания. И все мы вдруг начинали понимать эту русскую бабушку, любить ее и завидовали Леониду Владимировичу, что он ее видел, слышал и даже разговаривал с ней. Но самыми интересными из этих «заместительских уроков» были рассказы о театре. Еще до выхода в свет знаменитой книги Станиславского «Моя жизнь в искусстве» он нам рассказывал о теории Станиславского, последователем которой он был не только в своей актерской практике, но и в педагогике. Его рассказы о постановках и знаменитых актерах как-то органически переходили в занятия по той или иной пьесе, которую он великолепно ставил с учениками в школе. Постановка «Маленьких трагедий» Пушкина была его огромным успехом не только как педагога, не только как великого режиссера (я не побоюсь назвать его именно «великим»), но и как художника-декоратора. Из цветной бумаги вместе с помогавшими ему учениками он создал необычайно лаконичные декорации к своим постановкам. Помню в «Каменном госте» черные или какие-то очень темные (зеленые? синие?) кипарисы в виде остроконечных конусов, белую колонну в каком-то интерьере – тоже вырезанную из бумаги, которую мой отец добывал ему из отходов на Печатном Дворе, где мы тогда жили.

Петербург. Медный всадник
Л. В. Георг
Помню, как он воспитывал в своих учениках актеров. Это был именно его прием – прием режиссера-воспитателя. Он заставлял своих актеров носить костюм своей роли в обыденной жизни. На уроках сидел Дон Гуан, загримированный, в испанском костюме и со шпагой, сидела Дона Анна в длинном платье. А на переменах они гуляли и даже бегали, но только так, как должен был бы бегать Дон Гуан или Дона Анна в какой-то сложной воображаемой ситуации (актер должен был играть все время, но если он хотел порезвиться или сделать что-либо необычное для своей роли, он обязан был придумать мотивировку, создать себе соответствующую «ситуацию»). Носить платье Леонид Владимирович учил прежде всего – прежде, чем входить в роль. Актер должен был чувствовать себя совершенно свободно в плаще, в длинной юбке, свободно играть шляпой, уметь ее небрежно бросить на кресло, легко выхватить шпагу из ножен. Незаметно Леонид Владимирович следил за таким костюмированным учеником и умел его поправить одним или двумя замечаниями, сделанными всегда тактично и с необидным юмором.
Леонид Владимирович был поклонником психолога Джемса. Помню, как хорошо объяснял он нам положение Джемса: «Мы не оттого плачем, что нам грустно, но потому грустно, что мы плачем». И это положение он сумел применить в своей педагогической практике. Одному крайне застенчивому мальчику он предложил изменить походку. Он сказал ему, чтобы он двигался быстрее, делал шаги шире и непременно размахивал руками, когда ходил. Встречая его на перемене, он часто говорил ему: «Машите руками, машите руками». Кстати, он обращался к ученикам на «вы», как это было принято в старых гимназиях, и редко отступал от этого правила. Он воспитывал в своих учениках самоуважение и требовал от них уважения к другим, к своим товарищам. Разбирая какое-нибудь происшествие в классе, он никогда не требовал, чтобы ему выдали зачинщика или виновника. Он добивался того, чтобы провинившийся сам назвал себя. Выдать товарища было для него недопустимым, как, впрочем, и для всех хороших педагогов старого времени.
Когда я учился в Лентовке, у Леонида Владимировича был тенор. Впоследствии у него «открылся» баритон, и, говорят, довольно хороший. В те времена в каждом классе стоял рояль, из реквизированных у буржуев. Леонид Владимирович подходил к роялю и показывал нам на нем то особенности музыкального построения у Чайковского, которого он очень любил (в те времена было модно не любить Чайковского, и Леонид Владимирович посмеивался над этой модой), то тот или иной мотив былины (помню, как он пел зачин к былине «Соловей Будимирович», рассказывая об использовании этой былины в «Садко» Римского-Корсакова).
С дурными привычками или безвкусицей в одежде учениц Леонид Владимирович боролся мягкой шуткой. Когда наши девочки повзрослели и стали особенно следить за своими прическами и походкой, Леонид Владимирович, не называя никого из них по имени, рассказывал нам, что происходит в этом возрасте, как девочки начинают ходить, вихляя бедрами (и рискуя, по его словам, получить «вывих таза», им, конечно, придуманный), или устраивают себе кудельки, и в чем состоит вкус в одежде. Он даже читал нам в классе о Дж. Бреммеле из книги М. Кузьмина «О дендизме», но не для того, чтобы восславить дендизм, а, скорее, для того, чтобы раскрыть нам сложность того, что может быть названо красивым поведением, хорошей одеждой, умением ее носить, вышутить фатовство и пижонство у мальчишек.
Немало лет прошло с тех пор, но как много запомнилось из его наставлений на всю жизнь! Впрочем, то, что он говорил и показывал нам, нельзя назвать наставлениями. Все говорилось ненарочито, при случае, шутливо, мягко, «по-чеховски».
В каждом из учеников он умел открыть интересные стороны – интересные и для самого ученика, и для окружающих. Он рассказывал об ученике в другом классе, и как было интересно узнать об этом от других! Он помогал каждому найти самого себя: в одном он открывал какую-то национальную черту (всегда хорошую), в другом нравственную (доброту или любовь «к маленьким»), в третьем – вкус, в четвертом – остроумие, но не просто остроумие, а умел охарактеризовать особенность его остроумия («холодный остряк», украинский юмор – и непременно с пояснением, в чем состоит этот украинский юмор), в пятом открывал философа и т.д., и т.п.
Мой друг Сережа Эйнерлинг увлекался в школе Ницше, а другой друг Миша Шапиро – О. Уайльдом. Разумеется, Леонид Владимирович знал об этих увлечениях и как-то рассказывал в классе и о Ницше, и об Уайльде. Он показывал ценные стороны их отношения к действительности, но так, что нам всем становилось ясным: тот и другой интересны, но нельзя ограничиваться ими. Надо быть всегда шире своих учителей. Он помог моим друзьям сойти со своей «мировоззренческой платформы», оставшись при этом благодарными своим мальчишеским кумирам.
Для самого Леонида Владимировича не было кумиров. Он с увлечением относился к самым разнообразным художникам, писателям, поэтам, композиторам, но его увлечения никогда не переходили в идолопоклонство. Он умел ценить искусство по-европейски. Пожалуй, самым любимым его поэтом был Пушкин, а у Пушкина – «Медный всадник», которого он как-то поставил с учениками. Это было нечто вроде хоровой декламации, которая была поставлена как некое театральное представление, главным в котором был сам текст, пушкинское слово. На репетициях он заставлял нас думать – как произнести ту или иную строфу, с какими интонациями, паузами. Он показывал нам красоту пушкинского слова. И одновременно он неожиданно показывал нам и пушкинские «недоделки» в языке. Вот пример, запомнившийся мне с тех времен: «Нева всю ночь // Рвалася к морю против бури. // Не одолев их буйной дури... // И спорить стало ей невмочь...». Такие же недоделки, если не ошибки, умел он найти в самых известных произведениях живописи, скульптуры, музыки. Он говорил как-то, что у Венеры Милосской ноги чуть короче, чем следует. И мы это начинали видеть. Разочаровывало ли это нас? Нет, наш интерес к искусству от этого возрастал.
Леонид Владимирович был очень широк в своих эстетических вкусах. В нашей школе учились некоторые из будущих «обэриутов». Как сейчас помню Александрова. Уже окончив школу, он пришел как-то на заседание школьного литературного кружка и читал там свои заумные стихи. Леонид Владимирович с очень большим интересом отнесся к его стихам и, выбрав в одном из них самую бессмысленную строку, со смехом и одобрением ее повторял, а потом в этой строке повторил одно только самое в них «острое» слово – «воротнички».
В школе Леонид Владимирович организовал самоуправление КОП (я уже забыл, как расшифровывается это сокращение). Я почему-то очень был против этой «лицемерной», как мне казалось, затеи. Я доказывал в своем классе, что настоящего самоуправления быть не может, что КОП не годится и как некая игра, что все эти заседания, выборы, выборные должности – только напрасная потеря времени, а нам надо готовиться поступать в вуз. Я как-то стал вдруг действовать против Леонида Владимировича. Моя любовь к нему почему-то перешла в крайнее раздражение против него. Весь класс наш отказался принимать участие в КОПе. Мы не ограничились этим, но агитировали и в других классах против КОПа. Леонид Владимирович сказал по этому поводу моему отцу: «Дима хочет показать нам, что он совсем не такой, каким он нам представлялся раньше». Он был явно сердит на меня. Но в класс он к нам пришел, как всегда, спокойный и чуть-чуть насмешливый и предложил нам рассказать ему все наши мысли по поводу КОПа, внести свои предложения. Он терпеливо выслушал все, что мы думали о КОПе. И он нам не возражал. Он только спросил нас: что же мы предлагаем? К позитивной программе мы были совершенно не готовы. И он помог нам. Он обратил внимание на те наши высказывания, где мы признавали, что в школе некому выполнять тяжелые работы, некому пилить дрова, некому таскать рояли (почему-то приходилось часто переносить рояли из одного помещения в другое). И он предложил нам: пусть класс не входит в КОП, пусть он будет организован так, как он хочет, или даже не организован вовсе; но пусть класс помогает школе в тяжелой работе, на которую нельзя нанять людей со стороны. Это оказалось для нас приемлемым. Конечно, мы были в школе самые старшие и самые сильные; конечно, мы не могли допустить, чтобы девочки из младших классов выполняли за нас трудные работы. Мы будем все это делать, но мы не хотим никакой организации. Леонид Владимирович сказал на это: «Но назвать вас все же как-то надо?» Мы согласились. Он тут же предложил: «Давайте без претензий: "самостоятельная группа", или короче – "самогруппа"». Мы согласились и на это. Таким образом, незаметно для нас он прекратил весь наш «бунт», и мы вошли в школьное самоуправление как его очень важная и действительно ценная часть.
Жил Леонид Владимирович тяжело. Педагоги получали тогда очень мало. Иногда устраивались в их пользу концерты. Леонид Владимирович долго отказывался, но однажды и в его пользу пришли в школу играть знакомые ему актеры.
Приходилось ему читать лекции и в совсем непривычной аудитории. Однажды в Ольгине, где мы жили на даче, появились объявления о том, что будет дан концерт из произведений Чайковского, а вступительную лекцию прочтет Л. В. Георг. Концерт был в жалком театральном помещении, которое не использовалось еще с 1915 года. Слушатели явно не понимали лекции, и нам было очень жаль Леонида Владимировича.
Вскоре после окончания мной школы он заболел, кажется, сыпным гифом. Болезнь испортила сердце. Я встретил его в трамвае, и он мне показался потолстевшим. Леонид Владимирович сказал мне: «Не располнел, а распух я!» Затем наступила пора, в которой Леонид Владимирович являлся нам, его ученикам, только в воспоминаниях. Более полувека помню я его так ясно, как никого из других своих учителей. Помню его высокий очень красивый лоб...
Аврора. 1981. № 9.
УНИВЕРСИТЕТ
Наиболее важный и в то же время наиболее трудный период в формировании моих научных интересов, конечно, университетский.
Я поступил в Ленинградский университет несколько раньше положенного возраста: мне не было еще 17 лет. Не хватало нескольких месяцев. Принимали тогда в основном рабочих. Это был едва ли не первый год приема в университет по классовому признаку. Я не был ни рабочим, ни сыном рабочего, а – обыкновенного служащего. Уже тогда имели значение записочки и рекомендации от влиятельных лиц. Такую записочку, стыдно признаться, отец мне добыл, и она сыграла известную роль при моем поступлении. Университет переживал самый острый период своей перестройки. Активно способствовал или даже проводил перестройку «красный профессор» Николай Севастьянович Державин – известный болгарист и будущий академик.
Появились профессора «красные» и просто профессора. Впрочем, профессоров вообще не было – звание это, как и ученые степени, было отменено. Защиты докторских диссертаций совершались условно. Оппоненты заключали свои выступления так: «Если бы это была защита, я бы голосовал за присуждение...» Защита называлась Диспутом. Особенно хорошо я помню защиту в такой Условной форме, но в очень торжественной обстановке в актовом зале университета Виктора Максимовича Жирмунского. Ему также условно была присуждена степень доктора, но не условно аплодировали и подносили цветы. Темой «диспута» была его книга «Пушкин и Байрон».

Университет

В.М. Жирмунский
И.И. Соллертинский
Также условно было и деление «условной профессуры» на «красных» и «старых» по признаку – кто как к нам обращался: «товарищи» или «коллеги». «Красные» знали меньше, но обращались к студентам «товарищи»; старые профессора знали больше, но говорили студентам «коллеги». Я не принимал во внимание этого условного признака и ходил ко всем, кто мне казался интересен.
Я поступил на факультет общественных наук. Сокращение ФОН расшифровывалось и так: «Факультет ожидающих невест». Но «невест» там, по нынешним временам, было немного. Просто их много казалось от непривычки: ведь до революции в университете учились только мужчины. Состав студентов был не менее пестрый, чем состав «условных профессоров»: были пришедшие из школы, но в основном это были уже взрослые люди с фронтов гражданской войны, донашивавшие свое военное обмундирование. Были «вечные студенты» – учившиеся и работавшие по 10 лет, были дети высокой петербургской интеллигенции, в свое время воспитывавшиеся с гувернантками и свободно говорившие на двух-трех иностранных языках (к таким принадлежали учившиеся со мной И. И. Соллертинский, И. А. Лихачев (будущий переводчик), П. Лукницкий (будущий писатель), да и многие другие).
На факультете были отделения. Было ОПО – общественно-педагогическое отделение, занимавшееся историческими науками, было этнолого-лингвистическое отделение, названное так по предложению Н. Я. Марра, – здесь занимались филологическими науками. Этнолого-лингвистическое отделение делилось на секции. Я выбрал романо-германскую секцию, но сразу стал заниматься и на славяно-русской.
Обязательного посещения лекций в те годы не было. Не было и общих курсов, так как считалось, что общие курсы мало что могут дать фактически нового после школы. Студенты сдавали курс русской литературы XIX века по книгам, которых было немало. Зато процветали различные курсы на частные темы – «спецкурсы», по современной терминологии. Так, например, В. Л. Комарович вел по вечерам два раза в неделю курс по Достоевскому, и лекции его, начинаясь в шесть часов вечера, затягивались до двенадцатого часа. Он погружал нас в ход своих исследований, излагал материал как научные сообщения, и посещали его лекции многие маститые ученые. Я принимал участие в занятиях у В. М. Жирмунского по английской поэзии начала XIX века и по Диккенсу, у В. К. Мюллера по Шекспиру, слушал введение в германистику у Брима, введение в славяноведение у Н. С. Державина, историографию древней русской литературы у члена-корреспондента АН СССР Д. И. Абрамовича, принимал участие в занятиях по Некрасову и по русской журналистике у В. Е. Евгеньева-Максимова; англосаксонским и среднеанглийским занимался у С. К. Боянуса, старофранцузским у А. А. Смирнова, слушал введение в философию и занимался логикой у А. И. Введенского, психологией у Басова (этот замечательный ученый очень рано умер), древнецерковно-славянским языком у С. П. Обнорского, современным русским языком У Л. П. Якубинского, слушал лекции Б. М. Эйхенбаума, Б. А. Кржевского, В. Ф. Шишмарева и многих, многих Других, посещал диспуты между формалистами и представителями традиционного академического литературоведения, пытался учиться пению по крюкам (ничего не вышло), посещал концерты симфонического оркестра в филармонии, но путешествовал мало: не позволяло здоровье, условия для поездок по стране после гражданской войны были трудные, родители снимали на лето дачу, и надо было ею пользоваться целиком. Мы часто ездили на дачу в Токсово, и я интересовался историей тех мест (здесь еще в 20-е годы жили шведы и финны, знавшие местные исторические предания, которые я записывал). Все кругом было интересно до чрезвычайности, а если вспомнить и о событиях чисто литературных, возможность пользоваться всеми книжными новинками, печатавшимися на Печатном Дворе, библиотекой университета и библиотекой редчайших книг в Доме книги, где по совместительству работал отец, то единственное, в чем я испытывал острый недостаток, – это во времени.
Ленинградский университет в 20-е годы представлял собой необыкновенное явление в литературоведении, а ведь рядом еще, на Исаакиевской площади, был Институт истории искусств (Зубовский институт), и существовала интенсивная театральная и художественная жизнь. Все это пришлось на время формирования моих научных интересов, и нет ничего удивительного в том, что я растерялся и многого просто не успевал посещать.
Я окончил университет в 1928 году, написав две дипломные работы: одну о Шекспире в России в конце XVIII – самом начале XIX века, другую – о повестях о патриархе Никоне. К концу моего учения надо было еще зарабатывать на хлеб, службы было не найти, и я подрядился составлять библиотеку для Фонетического института иностранных языков. Институт был богатый, но деньги мне платили неохотно. Я работал в Книжном фонде на Фонтанке в доме № 20, возглавлявшемся Саранчиным. И снова поразительные подборки книг из различных реквизированных библиотек частных лиц и дворцов, редкости, редкости и редкости. Было жалко подбирать это все для Фонетического института. Я старался брать расхожее, необходимое, остальное, наиболее ценное, оставляя неизвестно кому.
Что дало мне больше всею пребывание в университете? Трудно перечислить все то, чему я научился и что узнал в университете. Дело ведь не ограничивалось слушанием лекций и участием в занятиях. Бесконечные и очень свободные разговоры в длинном университетском коридоре. Хождения на диспуты и лекции (в городе была тьма-тьмущая различных лекториев и мест встреч, начиная от Вольфилы на Фонтанке, зала Тенишевой (будущий ТЮЗ), Дома печати и Дома искусств и кончая небольшим залом в стиле модерн на самом верху Дома книги, где выступали Есенин, Чуковский, различные прозаики, актеры и т. д.). Посещения Большого зала Филармонии, где можно было встретить всех тогдашних знаменитостей – особенно из музыкального мира. Все это развивало, и во все эти места открывал доступ университет, ибо обо всем наиболее интересном можно было узнать от товарищей по университету и Институту истории искусств. Единственное, о чем я жалею, это о том, что не все удалось посетить.
Но из занятий в университете больше всего давали мне не «общие курсы» (они почти и не читались), а семинарии и просеминарии с чтением и толкованием тех или иных текстов.
Во-первых, занятия по логике. С первого курса я посещал практические занятия по логике профессора А. И. Введенского, которые он по иронии судьбы вел в помещении бывших Женских бестужевских курсов. «По иронии судьбы» – ибо женщин он открыто не признавал способными к логике. В те годы, когда логика входила в число обязательных предметов, он ставил студенткам «зачет», подчеркнуто не спрашивая их, изредка отпуская только иронические замечания по поводу женского ума. Но занятия свои он вел артистически, и студентки, хотя и в малом числе, на них присутствовали. Когда лекции и занятия А. И. Введенского прекратились, один из наших «взрослых» студентов, помню – из числа участников гражданской войны – организовал группу по занятию логикой на квартире у профессора С. И. Поварнина, автора известного учебника логики. Мы ходили к нему и читали в русском переводе «Логические исследования» Гуссерля, изредка для лучшего понимания текста обращаясь к немецкому оригиналу. Поварнин неоднократно повторял нам: языки надо знать хотя бы немного, хотя бы постоянно прибегая к словарю, ибо переводчикам научных и технических книг доверять нельзя. И это мы ощущали.
Настоящей школой понимания
поэзии были занятия в семинарии по английской поэзии начала XIX века у В. М.
Жирмунского. Мы читали с ним отдельные стихотворения Шелли, Китса, Вордсворта,
Байрона, анализируя их стиль и содержание. В. М. Жирмунский обрушивал на нас
всю свою огромную эрудицию привлекал словари и сочинения современников, толковал поэзию всесторонне – и с
биографической, и с историко-литературной, и с философской стороны. Он нисколько
не снисходил к
нашим плохим знаниям того, другого и третьего, к слабому знанию языка,
символики, да и просто английской географии. Он считал нас взрослыми и
обращался с нами, как с учеными коллегами. Недаром он называл нас «коллеги»,
церемонно здороваясь с нами в университетском коридоре. Это подтягивало. Нечто
подобное мы ощущали и на семинарских
занятиях по Шекспиру у Владимира Карловича Мюллера, на занятиях старофранцузскими
текстами у Александра Александровича Смирнова, среднеанглийской поэзией у
Семена Карловича Боянуса.
Но истинной вершиной метода медленного чтения был пушкинский семинар у Л.В.Щербы, на котором мы за год успевали прочесть всего несколько строк или строф. Могу сказать, что в университете я в основном учился «медленному чтению», Углубленному филологическому пониманию текста. Иному – занятия в рукописных отделениях и библиотеках – учил нас милый В. Е. Евгеньев-Максимов. Дав нам рекомендацию в архив, он как бы невзначай приходил туда же и проверял – как мы работаем, все ли у нас благополучно. А однажды он возил меня с собой и к коллекционеру Кортавову в Новую Деревню. Он пробуждал в нас инициативу поисков, учил нас не «бояться архивов». Боязнь архивов В. Е. считал своего рода детской болезнью начинающего ученого, от которой он должен избавиться как можно быстрее.
Увлекали меня и лекции Е. Тарле. Но лекции эти учили главным образом ораторскому, лекционному искусству. Часто впоследствии, когда я в сороковых годах начинал преподавать на историческом факультете Ленинградского университета, я вспоминал, как останавливался Тарле, якобы подыскивая подходящее слово, как йотом «стрелял» в нас этим найденыш словом, поражавшим своею точностью и запоминавшимся на всю жизнь. Я вспоминал и о том, как Е. В. Тарле «думал», читая свои лекции, как неуклюже, по-медвежьи, топтался возле кафедры, «подыскивая» факты, «вспоминая» документы, создавая полную иллюзию блестящей импровизации.
К древнерусской литературе в университете я обратился потому, что считал ее малоизученной в литературоведческом отношении как явление художественное. Кроме того, Древняя Русь интересовала меня и с точки зрения познания русского национального характера. Перспективным мне представлялось и изучение литературы и искусства Древней Руси в их единстве. Очень важным казалось мне изучение изменений стилей в древней русской литературе во времени. Мне хотелось создать характеристики тех или иных эпох, вроде тех, что имелись на Западе – особенно в культурологических работах Эмиля Маля.
Мое время – это не только расцвет литературы (не скажу «ленинградской», ибо литературу на русском языке нельзя делить на ленинградскую, московскую, одесскую, вологодскую и т. д.), но и расцвет гуманитарных наук. Такого созвездия ученых – литературоведов, лингвистов, историков, востоковедов, какое представлял собой Ленинградский университет и Институт истории искусств в Зубовском дворце в 20-е годы, не было в мире. К несчастью, я не представлял себе тогда, как важно послушать поэтов и писателей, повидать их. Поэтому для меня учение в Ленинградском университете было временем упущенных возможностей. Я слышал Собинова, но уступил другу свой билет на Шаляпина, не пошел на встречи с Есениным и Маяковским. Только однажды разговаривал по телефону с С. Маршаком (он предлагал мне заняться детской литературой – писать для детей книги по русскому языку). Но зато упорно занимался у В. М. Жирмунского, А. А. Смирнова, логикой – у А. И. Введенского и С. И. Поварнина, слушал Н. О. Лосского. Занимался у Л. В. Щербы и В. В. Виноградова и многих других. Так что кое-какие возможности я все же не упустил. Из писателей в школьные годы я был предан Е. П. Иванову – детскому писателю и другу А. А. Блока.
Прошлое – будущему. Л. 1985.
СОЛОВКИ
В двадцатые годы в Петрограде-Ленинграде существовало множество кружков, особенно среди молодежи. Собирались и по пять человек, и по десять, и больше. Были кружки с «направлением» – например, философским, религиозным, поэтическим и т. д., но были кружки и без «направления». Обычно собирались в назначенный день недели, читался и обсуждался какой-либо доклад. Были кружки в помещениях школ, в какой-либо свободной аудитории университета, у членов кружка – тех, кто имел достаточную для приемов комнату. В 1927 году я ходил в кружок, где каждый из участников (а всего нас было восемь) старался перещеголять других в экстравагантности своих докладов, выступлений и точек зрения. Шутя мы назывались Космической Академией наук, сокращенно КАН. Члены кружка летом отправлялись пешком по какому-либо маршруту, например от Владикавказа до Сухуми. Летом же катались на лодке по Большой Невке. Сочинили свой гимн. У нас были изрядные стихотворцы. Гимн мы перевели на греческий.
Жилось нашей семье трудно. Это был 1927 год. Отец ушел с работы, и нас стеснили в нашей квартире, пришлось жить в двух комнатах со всеми ионовскими и своими книгами. Я не мог найти работу. Жить в 20 лет на счет родителей я считал для себя позорным. Наконец нанялся подбирать библиотеку в Книжном фонде на Фонтанке для Фонетического института иностранных языков. Но, наняв меня, С. К. Боянус денег мне не платил – просто забыл обо мне, а я напомнить не решался. Наконец получил от него за несколько месяцев ежедневной работы 60 рублей и купил себе костюм. Отец беспокоился, что я никуда не хожу, а к нам надо было попадать через проходную, добывать пропуск. Естественно, и ко мне никто не ходил. Единственной отдушиной были «заседания» КАН.
В 1928 году ОГПУ приступило к ликвидации различного рода кружков. Все «академики» были арестованы. Среди них 8 февраля был арестован и я. Не могу забыть, как мой отец, образец мужества, лишился чувств при моем аресте. Девять месяцев я просидел на Шпалерной (теперь улица Воинова). В самом начале ноября я был привезен на Соловки. Условия существования там в целом были ужасные. Но можно было попасть на тяжелые «общие работы» или оказаться в относительно сносных условиях.
Чему я научился на Соловках? Прежде всего я понял, что каждый человек – человек. Мне спасли жизнь «домушник» (квартирный вор) Овчинников, ехавший с нами на Соловки вторично (его возвращали из побега, который он героически совершил, чтобы увидеться вновь со своей «марухой»), и король всех урок на Соловках, бандит и соучастник налетов знаменитого Леньки Пантелеева – Иван Яковлевич Комиссаров, с которым мы жили около года в одной камере.
После тяжелых физических работ и сыпного тифа я работал сотрудником Криминологического кабинета и организовывал трудовую колонию для подростков – разыскивал их по острову, спасал их от смерти, вел записи их рассказов о себе, собирал воровские слова и выражения. Страдал я их страданиями ужасно, ходил, как пьяный, от их рассказов о своей жизни, об их страданиях, жизни в асфальтовых котлах, путешествиях в ящиках под вагонами. Все это были больные люди, «занюханные» (с измененной психикой от нюхания наркотиков), с отмороженными ногами, руками и т. д., и т. д. Я собирал подростков из землянок в лесу на лесозаготовках, из самых отдаленных частей острова. Каких только рассказов о них я не записал!
В остальное время я встречался с самыми разнообразными людьми – разных национальностей (был даже японский самурай), разного социального положения, разного образовательного уровня, разных профессий. Я оценил моральную стойкость людей старого, дворянского воспитания. Несколько лет я работал с людьми, известными в русской культуре начала XX века, и с молодыми людьми, многие из которых были очень талантливы. Общение с ними было для меня в высшей степени полезным. В начале ноября 1931 года меня вывезли на материк, и я стал работать на Беломорско-Балтийском канале в одном из самых ответственных узлов всех работ – диспетчером на железной дороге. И снова люди и люди. Ровно через четыре с половиной года после своего ареста я был освобожден с красной полосой через всю бумагу о моем освобождении, удостоверяющую, что я освобожден как ударник Белбалтлага с правом проживания по всей территории СССР. Я вернулся в Ленинград, но потом все же мне пришлось хлопотать о снятии судимости, что и было сделано решением Президиума ВЦИК. Помогли мне в этом доброжелательный президент Академии наук СССР академик А.П.Карпинский и наркомюст Н. В. Крыленко.
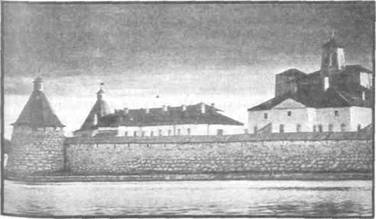
Соловецкий монастырь
Из всей этой передряги я вышел с новым знанием жизни и с новым душевным состоянием. То добро, которое мне удалось сделать сотням подростков, сохранив им жизнь, да и многим другим людям, добро, полученное от самих солагерников, опыт всего виденного создали во мне какое-то очень глубоко залегшее во мне спокойствие и душевное здоровье. Я не приносил зла, не одобрял зла, сумел выработать в себе жизненную наблюдательность и даже смог незаметно вести научную работу. Я изучал обычай воровской игры в карты и напечатал на эту тему в лагерном журнале «Соловецкие острова» (1930, № 1) свою первую научную работу. Собранные мною материалы по воровскому арго легли потом в основу двух научных работ, первая была напечатана в 1935 году, а другая только в 1964 году. Не остался я равнодушен и к истории Соловков. Сейчас я вспоминаю то время без чувства обиды, но с известного рода сознанием того, сколько оно мне дало для моего умственного развития. И это вовсе не по поговорке «что прошло, то будет мило». Испытания, которым я подвергался, «милыми» стать не могли.
Не так давно в «Огоньке» (1988) в рубрике, которую ведет Евгений Евтушенко, напечатаны стихотворения Юрия Казарновского из его книжечки, изданной в середине 30-х годов. В примечании было сказано, что составитель не знает, кто такой Ю. Казарновский и напечатал ли он что-либо еще до или после.
Юрий Казарновский из Ростова-на-Дону. Родился он в начале века. Был в литературном кружке в своем родном городе. Арестован. Сидел на Соловках. И печатался в журнале «Соловецкие острова». Там несколько стихотворений его можно найти. Не лучшие стихотворения, но те, которые могли пройти цензуру. Потом он был все время в лагерях и был последним, кто видел О. Э. Мандельштама.
Мы звали его на Соловках Юрка Казарновский. Он был великий озорник. Насколько это было возможно в лагерных условиях. Начальство в лагере было глупое и необразованное. Казарновский работал в культурно-воспитательной части. Во главе ее стоял совершенно неграмотный северянин.
Тогда была такая теория о «социально близких» и «социально дальних». «Близкие» – это воры, а «дальние» – контрреволюционеры. Теория гласила, что надо все делать для «социально близких».
Журнал «Соловецкие острова» издавался с 1926 по 1932 год и свободно продавался по стране. Его можно найти в библиотеках. Там иногда проходили довольно озорные вещи, много любопытного материала.
Я попал в лагерь в конце ноября 1928 года, а Казарновский немного раньше, по-моему, весной. Меня осенью 1931 года увезли с Соловков, и 4 августа 1932 года я был освобожден с «красной чертою». Из пяти я пробыл там четыре с половиной года. «Красная черта» – это значит, что я был освобожден как ударник Беломорско-Балтийского канала: к этому времени он был закончен, и Сталин, в восторге, всех строителей освободил. Так мне повезло.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
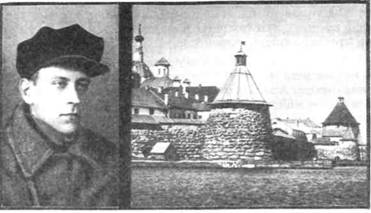
Д.С. Лихачев (фото, сделанное в Соловках)
Башня Соловецкого монастыря
НА СОЛОВКАХ
Вспоминая сейчас то, что было более 60 лет тому назад, я прихожу к выводу, что самое трудное – восстановить время, когда произошло то или иное событие. Я ясно помню, зрительно помню, почти вижу людей, их лица, природу вокруг Соловецкого Кремля, роты, поверки, слышу расстрелы, вспоминаю содержание разговоров, но расположить все это в хронологически правильном порядке очень трудно. Как будто бы в моей памяти лежат фотографические пленки событий, записи разговоров, но они лежат не по порядку. Вот почему я избрал «топографический» принцип в расположении своих воспоминаний: по местам и о местах заключения. Как ни странно, вспоминая именно так, мне постепенно удается восстанавливать и последовательность всего происходившего.
Из разговоров на Соловках в 1929 году я помню: плотность «населения» на островах больше, чем в Бельгии. И при этом огромные площади лесов и болот не только не населены, но неизвестны. Не знаю: входили ли в этот расчет плотности населения озера.
Что же это было на Соловках – гигантский муравейник? Да, муравейник был – между зданиями трудно было даже протолкнуться. Давка была при входе и выходе из 13-й роты – рядом с Преображенским храмом. Охранники из заключенных с палками («дрынами») «наводили порядок». И при этом вход и выход был доступен не каждому – только с «нарядами» – листами на работу.
Ночью проходы между зданиями затихали, высились богатырские стены, башни и храмы, устойчиво стоявшие с помощью своих расширявшихся книзу стен...
Попробую описать устройство лагеря. В Кремле (так называлась часть монастырских строений, огражденная стенами из гигантских валунов, поросших оранжевым лишайником) было 14 рот. 15-я рота была вне монастыря для заключенных, живших в различных «шалманах» – при Мехзаводе, алебастровом заводе, при Бане № 2 и т.д. Про лагерное кладбище говорили – 16-я рота. Шутили, но трупы зимой лежали незасыпанные и раздетые, как в некоторых ротах.
Почему заключенные распределялись по «ротам»? Я думаю – тут известную роль сыграли заключенные из военных, устанавливавшие порядок среди первых прибывших на острова заключенных. Военные были на первых порах единственной организующей силой, способной разместить, накормить, установить элементарный порядок среди прибывавших и прибывавших на острова Соловецкого архипелага заключенных. Они и делали многое по армейскому образцу.
1-я рота была ротой «привилегированных» – командиров, начальников. Она помещалась за алтарем Преображенского собора на первом этаже и глядела на площадь общелагерных поверок. Над первой ротой помещалась 3-я «канцелярская» рота с окнами в обе стороны. Где была 2-я рота – не помню. 6-я рота, «сторожевая», состояла в основном из священников, монахов, епископов. Им поручалась работа, на которой нужна была честность: сторожить склады, каптерки, выдавать посылки заключенным и т.д. Она помещалась в основном в здании, тоже обращенном на площадь поверок. 7-я рота – «артистическая». Здесь жили работники культурно-воспитательной части: актеры, музыканты, административные деятели учреждений, изображавших «перевоспитательную» работу на Соловках. 8, 9 и 10-я роты тоже были «канцелярскими». 11-я рота – это карцер. Он помещался у Архангельских ворот. Там заключенные сидели на «жердочках», а спали прямо на полу. 12-ю роту – не помню.
Из всех этих рот – 13-я была самой большой и самой страшной. Были там многоэтажные нары. Туда принимали прибывавшие этапы. Там их муштровали, чтобы сломить всякое желание сопротивляться или протестовать. Оттуда направляли на тяжелые физические работы. Все прибывающие на Соловки обязаны были пробыть в 13-й роте не менее трех месяцев. Называлась рота «карантинной».
Нас выстраивали строем по десять человек на длительную проверку по коридорам, окружавшим Троицкий и Преображенский храмы. Мы пересчитывались, и последний в строю орал: «Сто восемьдесят второй. Полный строй по десяти». В роте на нарах вплотную друг к другу могло поместиться три-четыре, а то и пять тысяч человек. По особым ходатайствам удавалось вызволить кого-либо (особенно из известных) из карантинной роты.
Помню, как начальник здоровался с нами: «Здравствуй, карантинная рота!» И мы, сосчитав про себя до трех, после последних слов этого «приветствия» хором гаркали «Здра!». Затем по очереди подходили к маленьким столикам, за которыми сидели нарядчики (среди них чубаровцы: участники ужасающего группового изнасилования в Чубаровом переулке в Ленинграде в 1927 г.), и получали наряды на тяжелую работу. Но об этом потом.
В 14-й роте, помещавшейся в единостолпной трапезной палате и прилегающих помещениях, жили те, кто не был еще распределен после трехмесячного пребывания в 13-й роте по «командировкам» и дожидался отправки на лесозаготовки, торфоразработки и всякие производства.
15-я рота, иначе «сводная», была для тех, кто жил по разным углам за пределами Кремля. Эта рота считалась самой «блатной», т. е. самой привилегированной. 16-я рота – как я уже сказал, «кладбище». Кроме рот в Кремле существовал отдельно обширный лазарет, где обычно все было до предела переполнено, и «команда выздоравливающих» в подвале недалеко от прачечной.
Вот, кажется, и все из «жилого» в центральном, «кремлевском» участке.
Но кроме «жилых» помещений в пределах Кремля были еще и «работающие» помещения: баня – там, где Сушило, Адмчасть, распоряжавшаяся всем порядком и снабжением лагеря (тут работали главным образом лучшие организаторы – военные). ИСЧ (информационно-следственная часть), сочинявшая для собственного существования различные «заговоры», выслушивавшая информаторов (сексотов) из заключенных (для их удобного приема был уже ныне не существующий деревянный домик под Сторожевой башней вне Кремля), «Помоф» (пошивочная мастерская, где работали по преимуществу женщины). «Помоф» и часть лазарета помещались в первом «отсеке» Кремля, недалеко от Никольских ворот. Был театр с фойе, служившим также лекционным залом. Но самое главное – в Кремле существовал Музей. О нем я расскажу подробно ниже. В Музее было даже уютно, а в театре ставились замечательные постановки, играли прекрасные актеры, но попасть в него было труднее, чем сейчас в Большой театр в Москве. О театре опять-таки подробнее потом.
Наконец, в Кремле, в первом его отсеке с отдельным выходом через Сельдяные ворота (сейчас ими не пользуются, они заросли, въелись в землю), существовал «монастырь» для монахов с игуменом, схимником (не путать с отшельником, якобы жившим где-то в лесах) и отведенной для монахов на кладбище деревянной Онуфриевской церковью, где совершались монастырские богослужения. Эти монахи были специалистами по рыбной ловле. Они умели управляться с сетями, знали течения в море, ход рыбы и т.д. Ловили они навагу, но главным образом знаменитую соловецкую сельдь, шедшую на столы Московского Кремля. Сельдь эту еще называли «кремлевской». Когда Онуфриевскую церковь закрыли, сельдь исчезла (может быть, в знак невыполнения УСЛОНом своих обязательств перед монахами). Монастырь был закрыт, монахов изгнали или уничтожили – не знаю. Был монах и на Муксалме, умевший обращаться с коровами (коровы были в Сельхозе у Кремля и на Муксалме, где находились чудные выпасы для скота).
Были еще в Кремле «заведения» помельче. Клетушка под большой колокольней, где расстреливали поодиночке (выстрелом в затылок, после чего приезжала телега с ящиком1, куда бросали труп, и приходили поломойки мыть пол от крови). Была хлебопекарня, выпекавшая отличный хлеб по технологии еще XVI века – митрополита Филиппа. Был дровяной двор (он сейчас пустой – там висят два сохранившихся колокола – норвежский и царский). Была кипятильня (около хлебопекарни), где из выходившего наружу крана можно было для рот получать кипяток (его забирали в больших медных монастырских кувшинах для кваса).
Назначение помещений иногда (очень редко) менялось. Так, помещение 14-й роты (единостолпная палата) одно время использовалось как столовая.
В каждое помещение посторонним вход был запрещен. Дежурили люди с палками, которые, не стесняясь, били слишком настойчивых посетителей. Я лично общался с людьми из других рот главным образом на работе.
Вход и выход из Кремля был только через Никольские ворота. Там стояли караулы, проверяли пропуска в обе стороны. Святые ворота использовались для размещения там пожарной команды. Пожарные телеги могли быстро выезжать из Святых ворот наружу и внутрь. Через них выводили на расстрелы – это был кратчайший путь из 11-ой (карцерной) роты до монастырского кладбища, где производились расстрелы. Но об этом потом.
За пределами Кремля помещалось в здании бывшей монастырской гостиницы Управление СЛОН, женбарак, Мехзавод (бывшая «Кузня»), Сельхоз, Баня № 2, где производилась санобработка и где просиживали по нескольку часов голые заключенные, пока выпаривалась в вошебойке их одежда, Алебастровый завод, Канатный завод, спортплощадка (для вольнонаемных), обслуживавшаяся двумя-тремя заключенными, дом и столовая для вольнонаемных (для немногих начальников). Вдалеке находился Кирпзавод (Кирпичный завод).
Что же помещалось на остальной части Соловецкого архипелага? Должен сказать, что я знал остальную часть лагеря очень плохо: только по моим пешим командировкам для собирания сведений о подростках, которых необходимо было определить в Детколонию, вскоре переименованную в Трудколонию и печально известную в связи с посещением Соловков Максимом Горьким в 1929 году.
Прежде всего следует упомянуть мужской карцер на Секирной горе («Секирка»), женский карцер на Большом Заяцком острове («Зайчики»), Голгофу – для безнадежно больных и глубоко старых людей (главным образом священников и нищих, собранных с папертей московских церквей).
Существовали лесоразработки, торфоразработки, обширные лагеря в Савватиеве, Исакове, Филимонове, Муксалме.
Существовали безымянные лагеря в лесу. В одном из них я был и заболел от ужаса виденного. Людей пригоняли в лес (обычно в лесу были болота и валуны), заставляли рыть траншею (хорошо, если были лопаты). Две стороны этих траншей были повыше и служили для сна, вроде нар, центральный проход был глубже и обычно весной заполнялся талой водой. Чтобы залечь в такой траншее спать, надо было переступать через уже лежавших. Крышей служили поваленные елки и еловые ветви. Когда я был в такой траншее, чтобы спасти из нее детей, в этой траншее «шел дождь»: снег сверху уже таял (это был март или апрель 1930 г.), сливался и на земляные лежбища, и в центральную канаву, которой надлежало быть проходом.
Я уже не говорю о «комариках» (наказание, применявшееся летом), о том, как не пускали на ночь в эти траншеи, когда не выполнялся «урок»; как работали, какой выполняли «ударный» план... После одного такого посещения в 1931 году у меня открылись сильнейшие язвенные боли, которые вскоре прошли, так как появилось язвенное кровотечение, перенесенное мною «на ногах». Но обо всем в свое время.
В этих-то лесах главным образом и погибали заключенные.
В тридцатом году осенью умерли тысячи «басмачей» – изнеженные мужчины в халатах и шелковых башмаках. Умерли интеллигенты, которых мы, жившие в Кремле, не успели перехватить из 13-й и 14-й рот.
* * *
Итак, описав кое-как богатство соловецкой лагерной топографии, перехожу к рассказу о своих «путешествиях» по этому миру, в которых встречи с людьми – главное.
В сарае на Поповом острове, где от стояния всю ночь в тесноте у меня отекли ноги, мне под утро уступили место на нарах – немного полежать, ибо сапоги мне стали малы и ноги не держали. Уступили удивительные люди – молодые красавцы кабардинцы в национальной одежде. Одного из них звали Дивлет Гирей Албаксидович. Я запомнил – ибо вечно ему благодарен. Кабардинцы очистили два места на нарах для стариков: для муллы и для православного священника. Охраняли их сон от натиска шпаны. Видя мое состояние, дали полежать и мне. Священник, который лежал рядом – украинец по национальности, – сказал мне: надо найти на Соловках отца Николая Пискановского – он поможет. Почему именно он поможет и как – я не понял. Решил про себя, что отец Николай, вероятно, занимает какое-то важное положение. Предположение нелепейшее: священник и «ответственное положение»! Но все оказалось верным и оправдалось: «положение» отца Николая состояло в уважении к нему всех насельников острова, а помог он мне на годы.
На следующий день нас грузили на пароход «Глеб Бокий», что отправлялся на Соловки. Домушник (вор по квартирам со взломами) Овсянников стоял рядом и предупреждал: «Только не торопитесь! Будьте последними». Он был второй раз на Соловках. Первый раз бежал, явился к своей «марухе» на Сенной в Ленинграде, где и был схвачен. Прошел всю дорогу к ней пешком по шпалам с «копями» за спиной. Когда замечал патруль, то одевал «копи» и залезал на ближайший телеграфный столб. Разумеется, со столба патруль его не снимал: человек работает!
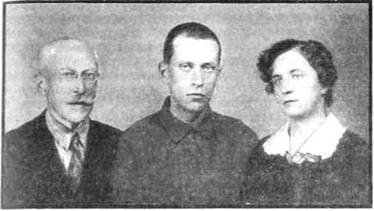 |
Избит Овсянников был в Кемперпункте страшно. Избивали его за то, что подвел часовых, начальников, «испортил статистику» (считалось, что с Соловков бежать нельзя) и т.д. Но и избитый домушник оставался человеком. Мы его подкармливали, а он помогал нам своим лагерным опытом. Когда людей стали запихивать в трюм, он затащил нас на площадку посредине трапа и посоветовал не спускаться ниже. И действительно, там, внизу люди начали задыхаться, нас же команда выпустила раз или два на палубу подышать. После девяти месяцев тюрьмы я дышал свежим морским воздухом, смотрел на волну, на проходившие мимо безлесые острова.
Около Соловков нас снова запихнули в чрево «Глеба Бокого» (это живой человек, в честь которого был назван пароход, – людоед – главный в той тройке ОГПУ, которая приговаривала людей к срокам и расстрелам). По шуршанию льда о борта парохода мы поняли, что подходим к пристани. Был конец октября, и у берегов стал появляться «припай» – береговой лед. Вывели нас на пристань с вещами, построили, пересчитали. Потом стали выносить трупы задохшихся в трюме или тяжело заболевших: стиснутых до перелома костей, до кровавого поноса.
Нас, живых, повели в Баню № 2. В холодной бане заставили раздеться и одежду увезли в дезинфекцию. Попробовали воду – только холодная. Через час примерно появилась горячая. Чтобы согреться, я стал беспрерывно поливать себя горячей водой. Наконец вернули одежду, пропахшую серой. Оделись, повели к Никольским воротам. В воротах я снял студенческую фуражку, с которой не расставался, перекрестился. До того я никогда не видел настоящего русского монастыря.
Я воспринял Соловки, Кремль, не как новую тюрьму, а как святое место. Прошли одни ворота, вторые и повели в 13-ю роту. Там при свете «летучих мышей» (были такие не гаснувшие на ветру фонари, так называвшиеся) нас пересчитали, обыскали. Помню, я никак не мог завязать свою корзину, которую купили мне родители: легчайшую и прочнейшую, имевшую форму чемодана, и никак не мог проглотить печенье, что оказалось в корзине. Горло мое так отекло, распухло, что глотнуть я не мог. С сильной болью, размешав кусочек печенья в обильной слюне, я проглотил...
Затем произошло неожиданное. Отделенный (мелкий начальник над каким-то участком нар) подошел именно ко мне (верно, потому, что я был в студенческой фуражке – и поверил ей), попросил у меня рубль, и за этот рубль, растолкав всех на нарах, дал место мне и моим товарищам. Я буквально свалился на нары и очнулся только утром. То, что я увидел, было совершенно неожиданно.
Нары были пустые. Кроме меня оставался на нарах у большого окна с широким подоконником тихий священник и штопал свою рясу. Рубль сыграл свою роль вдвойне: отделенный не поднял меня и не погнал на поверку, а затем на работу. Разговорившись со священником, я задал ему, казалось, нелепейший вопрос, не знает ли он (в этой многотысячной толпе, обитавшей на Соловках) отца Николая Пискановского. Перетряхнув свою рясу, священник ответил: «Пискановский? Это я!» Сам неустроенный, тихий, скромный, он устроил мою судьбу наилучшим образом. Но об этом потом. А пока, оглядевшись, я понял, что мы с отцом Николаем вовсе не одни. На верхних нарах лежали больные, а из-под нар к нам потянулись ручки, прося хлеба. И в этих ручках был тоже указующий перст судьбы. Под нарами жили «вшивки», подростки, проигравшие с себя всю одежду. Они переходили на «нелегальное положение» – не выходили на поверки, не получали еду, жили под нарами, чтобы их голых не выгоняли на мороз, на физическую работу. Об их существовании знали. Просто вымаривали, не давая ни хлеба, ни супа, ни каши. Жили они на подачки. Жили, пока жили! А потом мертвыми их выносили, складывали в ящик и ящик везли на кладбище. Это были известные беспризорные, которые часто наказывались за бродяжничество, за мелкое воровство. Сколько их было в России! Дети, лишавшиеся родителей, – убитых, умерших с голоду, угнанных за границу с белой армией, эмигрировавших (помню мальчика, утверждавшего, что он сын философа Церетели). На воле спали они в асфальтовых котлах, путешествовали по России в поисках тепла и фруктов в ящиках под пассажирскими вагонами или в пустых товарных. Нюхали они кокаин, завезенный из Германии, нюхали анашу. У многих перегорели носовые перегородки. Мне было так жалко этих «вшивок», что я ходил, как пьяный, – пьяный от сострадания. Это было уже во мне не чувство, а что-то вроде болезни. И я так благодарен судьбе, что через полгода смог некоторым из них помочь. Как? Об этом в последующем. А пока возвращаюсь к жизни в 13-й карантинной роте.
Одной из моих первых забот было сохранить вещи, чтобы не украли. В один из первых дней (может быть, даже в первый) я передал корзину с вещами кому-то из людей, живших в канцелярских ротах. Потом я научился спать так, чтобы не украли мой романовский полушубок. Ложась на нары, переворачивал его полами к лицу, продевал разутые ноги в рукава, а сапоги клал под голову как подушку. Даже при моем крепчайшем юношеском сне меня нельзя было обокрасть, не разбудив.
Утром я получал свою «пайку» хлеба и кипяток в большую эмалированную кружку, которой снабдили меня заботливые родители. По возвращении с работы в ту же кружку мне наливали поварешкой похлебку. Наряды на работу давали утром во тьме, у столов, освещавшихся «летучей мышью». Отправляли на работу группами. У меня была вторая группа трудоспособности, которую определила медицинская комиссия еще в Кемперпункте, поэтому отправляли меня на работы сравнительно легкие. Несколько раз я был электромонтером в Сельхозе. Однажды ходил в Лисий питомник на островке в Глубокой губе. Там заключенные жили в относительно сносных условиях, и нас даже подкармливали. Но перебираться на остров было опасно: у берегов был уже лед, вода накатывалась на плот и обмывала сапоги, а сходить на берег было особенно трудно. Как мы все не утонули, не знаю. Возили мы и свиной навоз. Мало того, что навоз был сильно пахучим, – было легко запачкаться. Командовал нами заведующий Сельхоздвором. Мы, все «вридлы» (временно исполняющие должность лошадей), в упряжке разговаривали на разные темы. Лингвист Игорь Евгеньевич Аничков, воспитывавшийся в свое время в лицее в Париже, в Швейцарии и в Англии, в Итоне, рассуждал о том, как склонять это новое слово «завдвором» и как быть, если «завдворомом» окажется женщина: будет ли она «завдворома» или как-то иначе? Толя Тереховко, Федя Розенберг, Володя Раков – читали стихи. Удивительной была роль поэзии в лагерных условиях! Кто-то это уже отмечал в своих лагерных воспоминаниях, и мне приходится только подтвердить это. Стихи отвлекали, увлекали, утешали. Уже тогда мы радовались стихам Мандельштама, Пастернака, как и Блока, Пушкина, Тютчева. Сколько раз мы повторяли: «В Петербурге мы сойдемся снова», «Отечество нам Царское Село» (с него-то и началось наше «дело»1).
Навоз мы вскоре весь перевозили, снег, который надо было расчистить, – тоже, и вот мне дали новый наряд – помощником ветеринара в Сельхоз. Ветеринар оказался не ветеринаром, а авантюристом-доносчиком. Он пропадал на много часов: как выяснилось, писал огромный донос – в Москву, рассчитывая, что его вывезут туда с Соловков на гидроплане для дачи показаний. И в самом деле – через несколько дней после отправки доноса его вызвали на материк, к счастью для меня и моих коров. Дело в том, что коров «ветеринар» не кормил, они мычали от голода, он стал доказывать, что у коров эпизоотия (массовое заболевание), а меня заставлял измерять у них температуру, ставя градусники под хвосты в задний проход. Температура у всех коров оказывалась выше 37 градусов (как и должно было быть у коров), а с моими отметками о температуре он бегал по начальству и требовал муки для подкормки. Муку неграмотное начальство ему давало, но большую часть он уносил в свою Первую роту. Оставшуюся часть муки я закладывал в огромный котел для кипячения белья в портомойке у озера. Я разводил огонь, заливал воду и... болтушка моя пригорала так, что балованные монахами коровы отказывались ее есть.
Должен сказать, что отец Николай успел к этому времени познакомить меня с некоторыми заключенными, постоянно работавшими в Кремле. Среди них – и с владыкой Виктором Островидовым, счетоводом Сельхоза. Владыка посоветовал мне как можно скорее, любыми средствами выйти из-под опеки Комчебек-Возняцкого (такой была фамилия «ветеринара»). Впрочем, ко времени, когда мой второй рубль лег на стол нарядчика, Комчебек-Возняцкого уже вывезли в Кемь, а на его должность вступил настоящий пожилой крестьянин, который, кстати, объяснил мне и нормальность «ненормальной» температуры у коровы под хвостом.
Самое ужасное было носить на пристани бараньи туши на спине. Я был не только физически не приспособлен вообще, но изрядно ослабел за девять месяцев сидения в тюрьме. Ноги не держали меня, руки замерзали, мой романовский полушубок засалился.
Через месяц нас повели в баню – уже другую – у Сушила. Окатившись горячей водой, я ужаснулся, увидев, что все мое тело кровоточило. К этому времени я был весь во вшах, и расчесы не заживали, а может быть, было столько новых, что с меня катилась розовая вода, все тело саднило. Не помогали от вшей и мешочки с нафталином и чесноком, которыми я был обвязан в излюбленных вшами местах – там, где белье особенно тесно прикасается к телу: вокруг шеи, вокруг пояса и около щиколоток, где нижнее белье имело завязочки.
Вши были большим препятствием для вызова на канцелярскую работу из 13-й роты. В канцелярских ротах вши появлялись лишь эпизодически. Приглашать к себе овшивевших канцеляристы боялись. И все же по просьбе отца Николая меня принял в своей переполненной жильцами келье Николай Николаевич Бахрушин. Меня посадили посредине комнаты на табурет, чтобы я не соприкасался с постелями обитателей, и Бахрушин обещал поговорить с заведующим Криминологическим кабинетом Культурно-воспитательной части Александром Николаевичем Колосовым, формировавшим в то время штат своего волшебного заведения.
Через несколько дней Александр Николаевич встретился со мной на улице у Царской часовни. Мы сели с ним на скамейку на почтительном расстоянии друг от друга, хотя вши на морозе не переползают, и стали разговаривать на разные темы. Александру Николаевичу было между пятьюдесятью и шестьюдесятью годами. Старомодный человек, очень почтенной наружности, говоривший медленно и внятно, как полагается воспитанному человеку, он в конце концов перешел от общих тем к «специальной». Ему нужны были молодые энергичные люди, которые могли бы способствовать осуществлению его замысла: спасению подростков от влияния взрослых воров. Опираясь на тоненькую и изящную березовую палочку, с которой он не расставался, и мечтательно смотря поверх кровель – куда-то туда, за море, – он говорил о несчастной судьбе «нашей молодежи». В общем, я понял, что он меня берет... Но должно было пройти время. Вскоре меня перевели в 14-ю роту, где уже были мои содельцы Володя Раков и Федя Розенберг, и мне дали неплохое место на нарах. Я даже смог взять часть своих вещей, переодеть белье. На какую-то все еще физическую работу меня вызывали из 14-й роты, я не помню. Помню, что вечерами я был свободен и мог слушать разговоры и рассказы моих соседей. Там был, например, архитектор Клейн, которого я даже принимал (ошибочно) за строителя Музея изящных искусств в Москве. Он был необычно худ и, как сейчас помню, варил себе кашу в маленькой кастрюльке на времянке, стоявшей между нар. Советовал то же самое делать и мне (у меня к этому времени разболелась моя язва – я не подозревал, что она у меня есть). Был некто очень образованный, Кошкорёв, были интеллигент с шведской фамилией, поэт из Москвы, кажется Туфанов, актер какого-то известного театра и другие. Вскоре я почувствовал резкую слабость и, кажется, головную боль. Мои товарищи вызвали лекпома (лекарского помощника). Он смерил мне температуру. 40 градусов! Федя и Володя стащили меня с нар и поволокли в лазарет – благо он был недалеко. В лазарете уже работал тогда врачом мой учитель по средней школе Иван Михайлович Андреевский (помимо университетского филологического образования, полученного за рубежом, у него был еще диплом врача-психиатра). Меня выкупали в ледяной воде (что, кажется, было даже полезно), положили на втором этаже на топчан, и я впервые сладостно почувствовал, что меня не кусают вши. Врачи стали думать – что со мной? Через день определили – я был первым заболевшим сыпным тифом, открывшимся в 1929 году. У меня был бред, и содержание этого бреда я помню до сих пор. Дело в том, что когда мне поставили диагноз «сыпняк», то стали сразу же думать об особом отделении для больных этой болезнью. Меня отнесли куда-то вниз и положили на солому. И вот мне стало казаться, что я лежу на улице, окружен толпой подростков и тут привозят гору лаптей. Подростки в одном белье, босые, и мне нужно распределить среди них лапти. Помню даже санки с этими лаптями. Я хочу подняться и не могу, ползу, но меня водворяют на место. Мне жалко дрожащих от холода, меня самого трясет, но нет сил сделать то, что я должен. Сон был пророческим: в будущем мне удалось добыть для молодых воров обувь, портянки, теплую одежду. Но об этом дальше.
Потом помню, что меня перевели в другое, светлое помещение, и в короткий зимний день из этого помещения был виден куполок надвратной Благовещенской церкви. Такой тоски, как в те дни, я не испытывал никогда в жизни. Это было отчаяние.
Еще через какой-то промежуток времени я очутился в «команде выздоравливающих» под низко нависавшим каменным сводом, с проходившей через него над моей головой широкой трещиной, из которой на меня нещадно дуло холодом.
В этой «команде» мне запомнились две встречи, придавшие мне душевные силы.
Рядом со мной лежал пожилой крестьянин, которому я почему-то понравился. И вот однажды он наклонился ко мне и сказал: «Я научу тебя одной штуке, и ты будешь всегда сыт». «Штука» заключалась в следующем. Повсюду носят валенки, но на валенки нужны резиновые галоши. Выкроить из резины (для этого служили камеры автомобильных колес) галоши трудно: трудно ее резать – все идет вкось. Так вот: резать нужно ножницами в лохани с водой: под водой. Он передал мне этот свой «секрет» с таким хорошим чувством, что я до сих пор помню его так, точно я всю последующую жизнь только и делал, что резал резину от автомобильных камер. Его «секрет» согрел меня на всю жизнь.
А другая встреча была с человеком совсем иного мира. Дело в том, что общая «параша» нашей команды стояла в небольшом соседнем помещении. Она была железная, высокая, и чтобы оправляться, надо было подниматься по лесенке, а это было для меня очень трудно. Я был слаб и чувствовал, что свалюсь: меня шатало. Но около «параши» дежурил представительный старик с большим посохом в руках. На нем была черная шапка. Видом он был явно с Кавказа. Про него говорили, что он католикос. Я потом, на свободе, тщетно стремился узнать – армянский ли он был католикос или глава грузинской церкви. Может быть, потом еще узнаю. Он, ласково улыбаясь, подавал мне руку и держал меня все время, пока я оправлялся. Я просил у него извинения, – прямо не знаю как. Но он, улыбаясь, успокаивал меня всячески. Боже мой, кто бы еще мог себя вести подобным образом, кроме этого католикоса? С тех пор я не забываю ни его удивительного отношения ко мне, ни его ласкового лица.
Подвал «команды выздоравливающих» памятен мне еще одним лицом. Ко времени этих новых встреч он был уже не подвалом для команды выздоравливающих, а продуктовым складом, и дежурил около него сторож – Марачников. Забыл его имя. Сын астраханского торговца хлебом, он работал в Советском торгпредстве в Париже и женился там на среднего достатка женщине, имевшей свой дом. Во второй половине двадцатых годов началось обновление состава торгпредств. Делалось это так: вызывали работника в командировку в Москву, а затем уже не выпускали из Москвы. Вызвали и Марачникова. Он поехал. Роман Якобсон из Праги, также женившийся за рубежом, не поехал в Москву и остался там «невозвращенцем», а Марачников был наивнее. Жена любила его и не верила, что он не нарочно покинул ее. Слала ему телеграммы и умоляла вернуться. Марачников решил бежать через турецкую границу около Батума (теперь говорят Батуми). Но телеграммы из Парижа настигали его и там. Понятно, что вскоре он был арестован и получил свои десять лет. Однако вернуться к жене ему хотелось, и он попытался бежать с Кондоострова, куда отправляли не только обнаруживавших себя сексотов по какой-то статье Уголовного кодекса как за служебное преступление, но и людей, «нуждавшихся» в особо суровом исправлении. С компанией заключенных он захватил лодку и переправился на материк. Марачников шел ночами вдвоем с кем-то еще, а днем спал в лесу. ОГПУ в случае побегов «предупреждало» население деревень, что бежали чрезвычайно опасные преступники, способные убивать, грабить и насиловать: их надо непременно задержать. Марачников с товарищем об этих предупреждениях ничего не знали и зашли в какую-то избу попросить хлеба. Мужики захватили обоих и заперли в сарае. И вот тут произошло нечто, что его очень тронуло. Ночью кто-то поскребся в дверь сарая, и он услышал голос местного парня, дурачка: «Кони, а кони! Я вам хлебца принес».
В общем, Марачников получил еще десять лет. Его били, сделали инвалидом, и он был отправлен на «легкую» работу – сторожить «мой» склад – подвал, где раньше я жил. Мы, когда удавалось, приходили к нему на его пост, и он пел нам удивительные русские романсы, ямщицкие песни, которые пели русские хоры в ресторанах Парижа. Потребность в пении, как и в поэзии, была удивительной.
Итак, возвращаюсь к своему «топографическому» обозрению Соловков. У меня оказался чрезвычайный «блат» в Адмчасти Управления, помещавшейся недалеко от Пожарных ворот на втором этаже. Моя мать дружила с Ольгой Александровной Мельниковой. Ее муж, Александр Иванович Мельников, был «флаг-офицером» А. Керенского, как я понимаю – его морским адъютантом (Мельников служил раньше в царском флоте). Как только я получил в Кремле возможность выходить, я к нему отправился в Адмчасть. Его фамилия была записана у меня на кошелечке, в котором лежали заветные три рубля. Записана она была так: нарисована ветряная мельница и к ней приписано «ов». Записана была и другая фамилия «Асоциани», но его к моему «приезду» уже не оказалось на Соловках.
Мельников был сурового вида, истощенный, худой, невысокого роста человек. На лице у него была странная складка над носом, придававшая ему очень сердитый вид. Он оказал и оказывал потом чрезвычайные услуги. Во-первых, он осведомился у Колосова – берег ли он меня к себе в Криминологический кабинет и, узнав, что берет, направил меня прямо в камеру, где жил Колосов, чрезвычайно испугавшийся – не занесу ли я к ним тифозных вшей. А во-вторых, спустя некоторое время Мельников выписал мне пропуск, позволявший выходить и входить в любое время в Кремль. Это позволяло мне совершать небольшие прогулки в редкие свободные дни по дорогам, шедшим в Савватиево, в Филимоново (эту дорогу я особенно любил) и на Муксалму, куда я еще в 13-й роте ходил с санями «вридлом».
Третья рота размещалась на втором и третьем этажах здания, в котором на первом этаже помещалась привилегированная первая рота. Здание фасадом выходило на площадь генеральных поверок (там, где у стены Преображенского собора находилась под металлическим балдахином могила Авраамия Палицына). Наша камера выходила окном в противоположную сторону. Из окна была видна дощатая кровля стены, за которой ходили сотрясавшие монастырские стены небольшие составы Солжеде. Солжеде – это бывшая узкоколейная дорога из Новгорода в Старую Руссу. Ее в начале двадцатых годов заменили обычной ширококолейной, а два-три паровичка, товарные вагоны и еще один классный (пассажирский) перевезли на Соловки. Дорога соединяла Кирпзавод, Мехзавод (бывшая монастырская кузня), канатную фабрику, пристань у здания УСЛОНа и продолжалась до Филимонова, объединяя несколько мест лесозаготовок и торфоразработок.

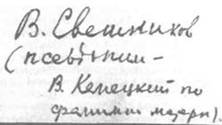
В.Свешников (псевдоним – В. Кемецкий по фамилии матери) Рисунок Д.С. Лихачева (Соловки)
В нашей камере, за окном которой часто посвистывали и пыхтели паровозики Солжеде, жили пять человек. Один топчан стоял под окном, примыкая к подоконнику, а вдоль длинных стен стояло по два топчана (впрочем, вместо одного из топчанов помещался жесткий деревянный монастырский диван). Меня, как новичка, да к тому же и самого молодого, положили под окно, из которого нещадно дуло. Другие четверо были любопытными людьми. Прежде всего А.Н.Колосов – «папашка», как его звали в Кримкабе молодые, обожавшие его люди. Он носил великолепную седую бороду, которую, впрочем, хвалился сбрить, как только получит свободу. Каждое утро он вставал раньше других, массировал лицо, расчесывал бороду перед маленьким зеркальцем.
Был ли он самовлюбленным человеком? Нет, – думаю, он хотел вернуться к семье «таким же» – красивым, моложавым, учтивым, интеллигентным. Когда приехала на свидание его элегантная жена и хорошенькая дочка, с которыми он нас всех «кримкабовцев» познакомил в «шалмане», нанятом для свидания у какого-то блатного заключенного, я это понял. Но о «паиашке» – в дальнейшем.
Другим моим сожителем по камере в Третьей роте был Афинский (ах, забыл, забыл его имя и отчество – не могу себе простить1). Это был кассир УСЛОНа. Кем он был на воле – не знаю. Был он всегда в хорошем настроении и «разыгрывал» из себя влюбленного (а может, и в самом деле?) в молодую женщину, работавшую в Музее. Звал он ее в своих рассказах Душенька. Как была ее фамилия, я не знаю. Он обязательно рассказывал по вечерам: встретил ли ее на улице, когда вели партию женщин, или в УСЛОНе, или в том же Музее, куда ему удавалось иногда прорваться, но не поговорить с ней. Она была красива лицом, носила длинные юбки до пят, имела синие глаза. Вся камера радовалась, когда ему удавалось видеть ее хоть секунду. Он смеялся, все смеялись, но всегда прилично. Когда все в камере собирались пить на ночь кипяток из своих железных кружек, первый вопрос задавался Афинскому: «Ну, как Душенька? Удалось ли взглянуть?» Я помню его худое лицо с тонкой иссохшей кожей. Мы с ним иногда поздно вечером ходили зимой двадцать девятого года на Святое озеро покататься на коньках, сделанных нам на Мехзаводе из сломанных двуручных пил. Прекрасные были коньки! Однажды мы пошли кататься в какой-то черный туман. Мороз был сырой и суровый. Взявшись за руки, мы разучивали «голландский шаг». Афинский был в арестантском бушлате. Заболел. Пришлось положить в лазарет. Я навещал его. Он был чрезвычайно слаб, но улыбался мне и говорил, что выздоравливает. Воспаление легких наложилось на его извечный туберкулез. Он умер, и выбросили тело в какую-то заготовленную с осени яму. Наверное – голым: бушлат и старая его одежда были нужны другим...
Другим нашим сокамерником был генерал Осовский из старой дворянской фамилии, восходившей, по его словам, к византийским Палеологам. Мы в шутку называли его претендентом на Греческий престол и пытались, смеясь, спрашивать его о «греческих делах». Шутки как-то не выходили. Он работал сторожем, а сторожам ничего не давали на квитанцию (нам, работавшим, давали рублей по девять в месяц, и мы покупали себе компот и селедку в часовне Германа Соловецкого, превращенной в ларек). У меня была банка сгущенного какао. И когда вечером Осовский садился против меня со своей кружкой пустого кипятка, я давал ему ложку сгущенного какао. Это не нравилось «папашке», который неизменно говорил ему, что надо пойти работать на оплачиваемую должность. Я помню, как получил он письмо от своей матери из Парижа, в котором она жаловалась на скуку, несмотря на свое увлечение карточной игрой в покер. Письмо разозлило его страшно. Как может она ему, «мученику», жаловаться на скуку, да еще играя в азартную игру по вечерам?! Впрочем, о своем здоровье он заботился – выходил по утрам до поверки на улицу, раздетый до пояса (вернее – до своих генеральских брюк с красными лампасами), и обтирался снегом. В 1929 году его освободили по болезни и отправили в ссылку.
Еще один заключенный был – барон Дистерло. Вот уж в ком не было ничего «баронского». Я бы его назвал веселым простым парнем. Часто хохотал. Был вечно деятельным, подвижным, неунывающим. Казалось иногда, что он доволен своей жизнью. Отличный товарищ, всегда готовый помочь другим хотя бы своей физической силой. Был он тоже, как и Афинский, каким-то счетным работником в УСЛОНе.
Когда освободили Осовского, на его место мы устроили в свою камеру Федю – Эдуарда Карловича Розенберга. Рассказ о нем должен быть особый. Это был мой ближайший друг, соделец, «академик» Космической Академии наук, за которую мы все восемь человек и получили по «пятерке». Хотя я и не могу утверждать, что именно за это. Следователь Стромин (это его псевдоним) стремился создать большое дело и все пытался нас объединить с аналогичными кружками – то с Российской философской академией, куда входил известный впоследствии литературовед Дмитрий Евгеньевич Максимов (он был освобожден еще из ДПЗ без приговора тройки), то с Братством Серафима Саровского, которого, по существу, не существовало (под таким названием на квартире у Ивана Михайловича Андреевского было два или три «заседания», а до того у него собирался «Хельфернак» – Художественно-философско-религиозно-научная академия), то еще с чем-то и с кем-то. Приговоров он добился, но объединить нас всех в большое и звучное дело ему не удалось.
Федя был сыном директора императорской Петергофской аптеки. Моего возраста. Окончил Петергофскую гимназию. Но рано должен был зарабатывать на хлеб. Работал в Петергофе на телеграфе. Знаю только, что у отца его было два сына: мой Эдуард и Вольдемар – Владимир, которого мы в шутку называли Володя Розовая Горка (переводя на русский не только его немецкое имя, но и фамилию). Эдуард переменил свое имя Эдуард на Федор – «законно». Под влиянием Ивана Михайловича Андреевского, на заседания «Хельфернака» которого он ходил вместе со своими друзьями – Владимиром Тихоновичем Раковым и Аркадием Васильевичем Селивановым, он перешел из лютеранства в православие. Обряд миропомазания (креститься христианину было не надо – надо было совершить только миропомазание, часть крещения) совершил впоследствии расстрелянный отец Викторин, человек высочайшей духовности и исключительной красоты, служивший на Петровском острове в церкви Убежища для престарелых артистов имени Савиной. Помню, как он волновался, расшнуровывая ботинки (миром надо было помазать и ноги), как искренне он молился. В той же церкви у отца Викторина был иподиаконом и Володя Раков. О его горестной судьбе я расскажу потом, чтобы не прерывать рассказа о камере третьей роты.
Благодаря все тому же владыке Виктору, который познакомил меня с Александром Николаевичем Колосовым («папашкой»), заведующим Криминологическим кабинетом, Федор (именем этим назвал его по своей воле отец Викторин) устроился счетоводом в Соловецком сельхозе – там же, где работал и владыка Виктор, которого мы все, молодежь, звали между собой за необыкновенную простоту и симпатичность просто «владычкой».
Все-таки прерву свой рассказ о третьей роте, чтобы рассказать о владыке Викторе Островидове. Я уже рассказал о его необыкновенной простоте и ласковости, но он к тому же был и ученый: автор богословских трудов.
Был он не то из Вятки, не то из Вологды. Сергианскую церковь не признавал и поэтому в монашескую Онуфриевскую церковь не ходил (группа монахов, остававшихся на Соловках, признавала главу тогдашней церкви – митрополита Сергия, сотрудничавшего с властью). А был владыка «иосифлянин», т.е. принадлежал к той гонимой группе духовенства во главе с митрополитом Иосифом, которая осуждала Советскую власть за гонения на церковь.
Когда летом двадцать девятого года начальство лагеря издало приказ не носить длинной одежды и сбрить бороды, владыка Виктор отказался это выполнить. Он сослался, между прочим, и на то, что сами «вольные» носили длинные до пят «чекистские» кавалерийские шинели (вспомним памятник Ф. Дзержинскому на Лубянской площади в Москве именно в такой шинели). «Владычку» насильно остригли, обрили и при этом изранили лицо, кое-как отрезали длинную одежду, отчего снизу у него болтались лохмотья. Я встретил его на площади сразу же после экзекуции (он выходил из 11-й карцерной роты) – веселого, как всегда улыбающегося, радостного. Он не стал долго распространяться рассказом о том, как производилась экзекуция. Лицо его было подвязано белой тряпкой, и она выглядела, как борода. Так он и ходил до тех пор, пока у него не отросла небольшая борода (вообще-то она у него была не густа и не длинна). Я думал: почему у него такой счастливый вид? И понял... Но чтобы понять, надо самому быть православным. Именно православным, ибо когда католики-ксёндзы на Анзере возили для себя воду в бочке на саночках – у них у всех был вид мучеников, но жили они на Анзере, не принуждаемые к работе. Аввакум же радовался мукам и мучителей называл «дурачками».
Впоследствии, когда в массовом порядке освобождали больных и старых, владыку Виктора вывезли на материк в ссылку, и там мучился он ужасно: голодал, спал на улице (в дома запрещено было пускать). К тому же – болел. В мучениях и умер.
Возвращаюсь к рассказу о третьей роте. Виделся я с Федей в камере редко. Он очень рано уходил на работу и поздно приходил, а я пытался сберечь себя, ложась как только это было возможно раньше: к тому же у меня болела моя язва. В десять часов после нескольких предупредительных миганий лампочка под потолком гасла. Федя добирался до постели ощупью. Был он, как немец, очень аккуратен. Над топчаном его появилась полочка, на которой стояла кружка для кипятка и все другое. Общались мы записочками, которые оставляли друг другу. При этом он все превращал в шутку. Писал он хорошие стихи. Помню начало одного такого обращенного ко мне стихотворения:
Отощавши вовсе животишком,
Одолжить прошу одним рублишком...
Дальше шли строки, в которых обещалось мне этот рубль вернуть к определенному сроку.
Однажды он принес из Сельхоза себе и мне сметаны и зеленого луку. Как это было вкусно! До сих пор люблю сметану с зеленым луком. А я в свою очередь раза два приносил в камеру грибы – красные грибы осенью 1929 года. Пользуясь тем, что у меня был постоянный пропуск и разрешение «папашки», я ходил в лес и собирал невероятное количество грибов. Брал только красные и подосиновики. И то только молодые. Однажды у меня не хватило мешка. Я снял рубашку, завязал рукава узлом и превратил рубашку в мешок. Вечером у нас было пиршество, хотя никаких приправ, кроме соли, у нас не было. Я ел столько, что у меня заболел живот (все та же проклятая, но «родная» язва). После Федя постоянно подсмеивался над моим «обжорством».
Питались мы так. Был в роте дежурный сторож: контрабандист эстонец Язон. Мы ему платили, а он приносил нам утром и вечером медный жбан кипятка. Он же, Язон, ходил в вольнонаемную столовую и приносил обеды, которые давал нам с заднего крыльца заведующий из заключенных Бояр. Хлеб мы получали в общем порядке. На зиму я накупил еще в ларьке преподобного Германа копченых астраханских селедок и постное масло. Очистил селедки, нарезал, положил в стеклянную банку и залил постным маслом. Кроме того, у меня был запас сухих компотных фруктов, которые я заливал с вечера кипятком. Утром компот был готов. Выручала все та же большая эмалированная кружка. Хотя я ее и споласкивал, но покрыта она была изнутри коричневатым налетом от чая. Однажды я увидел на ней процарапанную по налету надпись: «Моется только в чае». Только тогда я догадался, что кружку нужно не только сполоснуть, но и основательно протереть. Впрочем, мне не ясно – причем тут чай, если пили мы только кипяток? Может быть, мы называли кипяток чаем? Но тогда откуда налет, который действительно бывает от чая?
Загадок передо мной память оставила много. То я ясно вижу пред собою мельчайшие подробности, прямо-таки картины, то не помню основного.
В третьей роте по утрам бывали поверки. Освобожден от них был только «папашка». Мы выстраивались в коридоре в две или три шеренги и при приходе дежурного по лагерю кричали «здра», пересчитывались, выслушивали постоянные нотации командира роты Егорова (перед Егоровым был бывший комендант Петропавловской крепости барон Притвиц, но он нас не обучал порядку). Егоров был строевой офицер, требовал, чтобы топчаны были аккуратно заправлены, в камерах – чисто. Заслоненный тюфяком с соломой, подушкой с сеном, которые мне добыл Федя из Сельхоза, висел у меня серебряный складень, который дали мне при прощальном свидании мои родители. Складень у меня быстро пропал: взял его Егоров («не положено»). Вернуть себе его я не смог («не положено, не положено!»).
По-своему Егоров заботился о роте. Устроил однажды лекцию А. А. Мейера, устроил «красный уголок», но нравоучения на поверках читал долгие и нудные.
По воскресеньям на площади перед Преображенским собором с северной стороны устраивались генеральные поверки. Происходили они мучительно долго. Над головой у нас летали летом огромные соловецкие чайки, иногда «мстившие пометом» за разоренные гнезда, т. е. метко испражнявшиеся на людей, стараясь при этом попасть в лицо.
Теперь мне бы хотелось рассказать о Криминологическом кабинете («Кримкабе»), куда я попал с нар 13-й роты благодаря отцу Николаю Пискановскому, рекомендовавшему меня Бахрушину и Александру Николаевичу Колосову. Мы помещались в здании бывшей монастырской гостиницы, стоявшей на пристани в бухте Благополучия. К этой пристани подходил и от нее отходил пароход «Глеб Бокий», на борту которого еще оставались остатки надписи «Соловецкий». Теперь вместо паломников он привозил в своем трюме обреченных на горе и смерть, а в палубных каютах – таких действительно благополучных людей, как Максим Горький со снохой или высокопоставленных членов всевозможных комиссий – будущих жертв самими ими взращенных палачей. На третьем этаже этой гостиницы, где располагались учреждения Управления Соловецких лагерей особого назначения (УСЛОН), нашел себе комнату и Криминологический кабинет – вместе с гостиной Соловецкого музея – одного из притягательных центров всей соловецкой интеллигенции.
 |
Гаврила Осипович Гордон в бытийность московским гренадером
Сперва он размещался в угловой комнате (если идти по гостиничному коридору, поднявшись по лестнице по направлению к морю, то это была последняя комната направо, выходившая в сторону, противоположную пристани). В ней уже работал молодой человек из Ростова-на-Дону Владимир Сергеевич Раздольский и другой молодой человек Александр Артурович Пешковский (родственник известного лингвиста, специалиста по русскому синтаксису). Оба были интеллигентные люди, любители поэзии, знавшие на память множество стихов. Благодаря им у нас в Кримкабе постоянно слышались не только стихи, но велись и литературные разговоры. С уст не сходили имена Пастернака, Блока, Мандельштама, Всеволода Рождественского (он в те годы был «в уровень» с Пастернаком и Мандельштамом), приходили Юрка Казарновский, Лада (Лидия Михайловна Могилянская), Шипчинский, Борис Брик, Володя Свешников (печатался он под фамилией своей матери, польки, Кемецкий, так как, живя в эмиграции, возненавидел своего отца – полковника Белой Армии, запрещавшего ему возвращаться в Россию). Из всех этих молодых поэтов самым талантливым, изумительно талантливым, был несомненно Володя Свешников. В иных условиях ему принадлежало бы великое будущее. Работал он в соловецкой Библиотеке в Кремле (от входа во вторые ворота направо – там же, где и Солтеатр) вместе с тройкой лихих библиотекарей: Кохом, Б. Бриком и Гречем и еще одним заключенным – Новаком. Первый был член немецкой компартии (все зубы у него вышибли на допросах), второй – поэт из Ленинграда, третий (потомок знаменитого Греча пушкинской поры) – член краеведческого общества «Старая усадьба», а Новак – член венгерской компартии. Все эти люди помогали Володе Свешникову, отличавшемуся не только полной неприспособленностью к жизни, но и опасными взрывами ярости – иногда по пустякам.
Это была молодая компания. Компания постарше возглавлялась «папашкой» Колосовым, сидевшим обычно в самом крайнем углу комнаты, но постоянно выходившим по делам к лагерному начальству, а в перерывах этой тяжелой (в самом деле) работы читавший Тургенева, иногда французские книги, держа в поставленной на локоть правой руке карандаш, на тот случай, чтобы внезапно открывшее дверь лагерное начальство увидело бы его как бы пишущим, а не «бездельно» читающим. Половину своего времени отдавал Кримкабу работавший в лазарете Иван Михайлович Андреевский. Когда Андреевского увезли с Соловков по вызову следователя Стромина, мечтавшего создать большое, «красивое» академическое Дело, которое позволило бы властям иметь предлог распустить старую Академию наук и создать новую, Андреевского сменил юрист и массажист Александр Александрович Бедряга (занятие массажем Бедряга совмещал на воле с адвокатурой для заработка).
В какой-то момент 1929 года в стенах Кримкаба появился старый революционер и философ Александр Александрович Мейер – глава известного петроградского кружка «Воскресенье» (об этом кружке см. в воспоминаниях Н. П. Анциферова и многих других). Это был не только человек необыкновенной образованности, но оригинально мысливший, постоянно проповедовавший свои воззрения философ. С его появлением стала к нам в Кримкаб заходить его первая жена Ксения Анатольевна Половцева. приносившая ему еду в каких-то маленьких кастрюлечках. Об А. А. Мейере и К. А. Половцевой должен быть особый раздел в моих воспоминаниях. Жизнь Мейера состояла не во внешних событиях (их, конечно, было у него, как у старого революционера, много), а в борьбе с самим собой, в сменах своих взглядов, в росте этих взглядов, в постоянных философских спорах с окружающими, а их было в нашем кабинете и с приходившими к нам предостаточно: Александр Петрович Сухов – профессор педагогического института им. Герцена, Гавриил Осипович Гордон, Павел Смотрицкий (художник), скульптор Аносов, а главное – Юлия Николаевна Данзас, доктор Сорбонны, статс-фрейлина государыни Александры Федоровны, уральский казак во время первой мировой войны, ученый секретарь Дома Ученых у Горького, автор многих книг – и до Соловков, и после ее освобождения Горьким и отъезда в католический монастырь на юге Франции. Но о ней должен быть особый очерк, хотя кое-что есть и в эмигрантской литературе. С Юлией Николаевной Данзас мы работали в одной комнате не менее двух лет, но работала она сама по себе, составляя вырезки из газет на разные темы для лагерного начальства. Благодаря этому мы могли читать, хоть и с запозданием, различные газеты (какие именно, не помню).
Заходили в Кримкаб Ширинская-Шихматова (светская беседа с ней очень занимала А. Н. Колосова), редактор Дома Книги в Ленинграде Щурова, уже упомянутая Лада Могилянская (Лидия Михайловна, поэтесса из окружения Коцюбинского в Чернигове), так и сгинувшая в лагерях; ведший до революции светскую хронику в парижских и петербургских газетах Дмитрий Янчевецкий. Он был нашим единственным сотрудником на Анзере. Он был стар, и работа в Кримкабе просто продлевала ему жизнь.
Прочтя это все о Криминологическом кабинете, кое-кто скажет: «Устроились лентяи!» Нет, Кримкаб делал много хорошего. Конечно, он был создан начальством для ширмы: чтобы показать, что у нас на Соловках не наказывают, а перевоспитывают. По-лагерному идея Кримкаба была «туфтой». Однако, если бы не было Кримкаба, не удалось бы спасти очень и очень многих: и «вшивок», и интеллигентных людей для будущей жизни за пределами Соловков. И работа в Кримкабе порой была очень тяжелая.
Поведу свой неторопливый рассказ о том, что же делал Кримкаб под руководством А. Н. Колосова. Когда Мельников устроил меня в третью роту в камеру к А. Н. Колосову, я еще едва волочил ноги, и у меня было двухнедельное освобождение от работы. Но в конце первой недели А. Н. Колосов попросил меня начать помогать бурно развивавшейся деятельности Кримкаба.
Первый мой большой выход за стены Кремля был в сильный ветер и мороз. Свежий воздух после затхлой камеры опьянял. Я чувствовал большую слабость. Едва я вышел из-под Никольской башни, направляясь в УСЛОН, меня чуть не сдуло в ров. Дорожки было две. Опасная дорожка шла снаружи рва, она сильно обледенела, и устоять в моих бурках на кожаных подошвах было очень трудно. Бурки мне были сшиты еще в голодные годы в Петрограде из бобрика (не знаю – почему такое название было у нас в семье для большого зеленого ковра без всяких рисунков, лежавшего у нас в гостиной) с кожаной «обсоюзкой» и кожаной, всегда скользкой подошвой. Другая дорожка, еще монашеская, шла между стеной и рвом и заканчивалась пешеходным мостиком с перилами, которого сейчас уже нет. Потом уже я пользовался только этой внутренней дорожкой. Мостик исчез, и восстановить его не догадываются. На этой дорожке у стены с красно-оранжевым, очень красивым лишайником я снят в фильме «Лихачев. Я вспоминаю». Там я стою в задумчивости. И в самом деле, мог ли я подумать в те времена, что вернусь туда через 60 лет с лишним. Одним словом, я все-таки дошел до Кримкаба, где работа и в самом деле кипела. Надо было к весне организовать кабинет так, чтобы он выглядел как серьезное научное учреждение, и Детскую трудовую колонию на 200–300 подростков обоего пола, где бы они «перевоспитывались». Почему была нужда в этом – объяснилось потом. А пока строились приличные бараки, возводилась школа, и мы изобретали форму для трудколонистов. Все эти постройки, за исключением одной-двух, и до сих пор стоят к югу от Кремля. Были еще хорошие плотники из заключенных...
На Квасоваренной и Поваренной башнях Кремля воздвигались шатровые кровли. На них и до сих пор крутятся железные флюгера с датой «1929».
В строительных работах и устройстве обмундирования энергичное участие принимал поволжский немец Линденер. К услугам Кримкаба были привезены из кладовых царской каторги сшитые из солдатского сукна арестантские бушлаты и штаны. Но совсем не годились круглые арестантские шапки. Уж очень эти шапки придавали обладателям их «каторжанский» вид. Линденер предложил их перешить – сделать козырьки, наушники. С работой справился Помоф. С тех пор шапки эти стали называть «линденеровками».
В линденеровках подростки, одетые в добротные бушлаты каторжан царского времени, имели вполне приличный вид.
В кабинете меня сразу засадили за работу. Я писал какие-то докладные записки (помню одну – начальнику Культурно-воспитательной части Д. В. Успенскому), но проекты моих записок не нравились А. Н. Колосову: они были написаны просто и, как мне казалось, понятно, а надо их было писать канцелярским языком, которым я вовсе не владел («как явствует из нижеследующего», даже «поелику» и «поколику»). Тогда меня посадили помогать фальшивомонетчику Дуботолкову (он на воле подделывал червонцы, рисуя их простым карандашом – подлинные были как раз «карандашного» цвета). Дуботолков (он вполне оправдывал свою фамилию) срисовывал из атласа профессора психиатрии Россолимо (кажется, так писалась его фамилия) большие таблицы тестов для развешивания их на стенах Кримкаба. Эта работа шла у меня лучше. Атлас Россолимо и кое-какие другие книги, а также аппаратура для измерения емкости легких, силы кисти, роста и т.д. были выписаны по советам И. М. Андреевского и быстро доставлены в Кримкаб.
Работа кипела. Почему должна была кипеть – никто из заключенных не знал. Когда я окреп, мне было дано поручение (и оно оставалось затем за мной долго – не менее года): собирать подростков для Детколонии, которую в конце концов было приказано именовать Трудколонией. Мотивировалось такое выделение подростков тем, что их необходимо было изолировать от влияния профессиональных воров, взрослых и воспитывать – давать им образование и профессию.
Этой своей работой по спасению из лап смерти сотен подростков я горжусь. Я обходил закоулки общих рот, записывал анкетные данные на подростков и даже краткие их автобиографические рассказы. Впрочем, некоторые рассказы были и длинными: целые романы. Меня спросил кто-то из подростков: «Зачем вы записываете, ведь мы вам все врем». Я ответил ему: «Знаю, но мне интересно». Мне и в самом деле было интересно: как воришки оправдывают свое воровство. Нет преступника, который бы не имел в душе самооправдания. В основном психология преступников пессимистична. С тех пор я остерегаюсь пессимистов даже в быту. Пессимист может быть потенциальным преступником, может быть стукачом-сексотом, может пойти на все: «Ах, что там: все такие!»
Вновь волна жалости захлестнула меня, как в 13-й роте. Я ведь и ходил туда, в эту проклятую роту, постоянно. Потом я ездил в «командировки» на торфо- и лесозаготовки. Был в Савватиеве, на Секирной, в Филимонове, объездил Анзер. Не был только на Зайчиках.
У меня набрались сотни анкет, по которым Адмчасть вызывала в Трудколонию. Условия, в которых жили подростки в лесу ив 13-й роте, были ужасны. Они бы не прожили там и нескольких месяцев. А жизнь человека – абсолютная ценность, как бы ничтожен и плох он ни был.
Снова повторю: я горжусь тем, что спас многих. Некоторых подростков, особенно в 1930 году, из семей раскулаченных (родители стремились отправить своих детей к знакомым, и этих детей приговаривали к заключению в концлагерь), мне удавалось спасти прямо из Пересыльного пункта, который был построен около Бани № 2 (о ней я писал выше).
В этот короткий период «перевоспитательной лихорадки» возродился и журнал «Соловецкие острова». Вышли не все номера, но кое-что все-таки удалось напечатать под рубрикой «Из работ Криминологического кабинета».
До отъезда Управления лагеря в Кемь огромную (не побоюсь этого слова) роль в жизни Соловков играл Борис Глубоковский. По слухам, он был сыном известного богослова, эмигрировавшего после революции и читавшего лекции на Теологическом факультете Софийского университета имени Климента Охридского. В прошлом он был актером Камерного (Таировского) театра в Москве. Высокого роста, сравнительно молодой, деятельный, легко вступавший в общение с разными людьми – от воров и лагерного начальства до высокой интеллигенции, он фактически стоял во главе Соловецкого театра и теплившейся в недрах всяческой «туфты» культурной жизни лагеря.
Театр на Соловках был создан для того, чтобы создавать иллюзию воспитательной работы. Создан для «туфты», но служил очень важным психологическим отвлечением для массы заключенных. Попасть на его представления было очень трудно, но зато ходили рассказы о его спектаклях, представлениях – часто веселых. Шутка, смех, анекдоты помогали переносить тяжесть и грубость режима. Грубость сверху нейтрализовалась смехом снизу, если только, конечно, грубость не была простой физической расправой – тогда помогал только лазарет или ...«16-я рота»!
Глубоковский внес в деятельность Солтеатра непосредственность Камерного театра. Ему принадлежала замечательная постановка «Соловецкое обозрение», где лагерная жизнь со всеми ее фантастическими контрастами освещалась и с шуткой, и с лирической грустью, и нотами трагичности. «Обозрение», сочиненное и поставленное Глубоковским, безумно нравилось заключенным и даже начальству. Странно, что в обозрении было такое, за что посадили бы на воле. Когда весной приезжала на Соловки «разгрузочная комиссия» (Бокий, Катанян, Буль и др.), «Обозрение» показывали и ей вместе с местным начальством. Рассказывали, что Глубоковский вышел однажды на сцену в середине представления и, грозя кулаком в зал, сказал актерам: «Пойте так, чтобы и этим сволочам тошно было». И ничего ему за это не было: Глубоковский был явно пьян, а пьяницы на Соловках пользовались «пониманием» и симпатией начальства.
Приведу и такой пример отношения к пьяницам. Сменивший А. Н. Колосова на посту заведующего Кримкабом Александр Александрович Бедряга уже после моего отъезда на Медвежью Гору напился пьяным у дружков в Пожарной команде, надел пожарную каску и прочую амуницию, пришел в Театр во время антракта и крикнул:
«Пожар!» Поднялась паника, вовремя потушенная. Когда начальство узнало, что Бедряга был пьян, дела никакого не возбудили: «Пошутил, молодец, рубаха-парень». Другой раз Бедряга забрался (через забор) в царскую колокольню и позвонил в колокол. Опять дела никакого не возникло. Правда, при мне еще он сел в карцер за пьянство, и посадка эта принесла Кримкабу некоторые выгоды, но Бедрягу быстро выпустили. А выгоду принесло такую. От Бедряги стали при всех уголовниках требовать ответа: «Откуда брал водку?» Бедряга упорно отказывался ответить, и после, когда Бедрягу выпустили, воры стали охотно рассказывать о себе и ему, и мне.
Возвращаюсь к «Соловецкому обозрению». Состояло оно из нескольких номеров, называлось еще и по-другому – «Соловецкие огоньки», – по песне, которой заканчивалось. Сюжетом песни служило будущее прощание с Соловками. Песня распространилась и за пределами лагеря. Декорация, изображавшая монастырь, погружалась во тьму, и во тьме вспыхивали огоньки – свечки, горящие в бумажных фонариках.
От морозных метелей и вьюг
Мы, как чайки, умчимся на юг,
И вдали промелькнут огоньки:
Соловки, Соловки, Соловки!
После отъезда Глубоковского с УСЛОНом на материк – в Кемь, прервался и журнал «Соловецкие острова». Год или два он не выходил. Потом Глубоковский приезжал на Соловки из Кеми. Я свиделся с ним на улице недалеко от Сторожевой башни. Он попросил меня дать еще одну статью для журнала (одна – «Картежные игры уголовников» – уже была в редакции и была затем напечатана в № 1 за 1930 год), но я не смог. Что-то с темой о «самооправдании воров» у меня не получилось.
Весной в белую ночь мне удалось посмотреть «Соловецкое обозрение». Впечатление было огромное. Почему я говорю в «белую» ночь? Мне запомнилось, как мы все вышли из погрузившегося во тьму театра (свет долго не зажигали после последней сцены мелькающих вдали огоньков) и нас встретило удивительное небо – светлое и вместе с тем какое-то «папочное», бумажно-голубое. В сочетании с белыми зданиями, недвижным воздухом, затихшими криками чаек (в белую ночь чайки все же спали) – все это было необыкновенно, казалось нереальным, каким-то сном.
Атмосфера нереальности, невозможности того, что происходит, была разлита во всем, в белых ночах летом и черных днях зимой, в невозможности всего того, что происходило, в массе людей психически ненормальных, в ненормальности начальства, в фантастичности приезда Горького и последовавших затем событиях.
В Солтеатре были и другие постановки. Я помню «Маскарад» Лермонтова. Арбенина играл Калугин – артист Александрийского театра в Петрограде, уровня Юрьева. Дублировал Калугина Иван Яковлевич Комиссаров – король всех урок на островах. В прошлом – бандит, ходивший «на дело» во главе банды с собственным пулеметом, грабивший подпольные валютные биржи, ученик и сподвижник Леньки Пантелеева. Его Арбенин был настоящим барином.
Что еще шло в Солтеатре, не помню. Были и киносеансы. Помню фильм по сценарию Виктора Шкловского, где двигались броневики через Троицкий мост в Петрограде. Ветер нес какие-то бумаги. Были и концерты, на которых актеры из урок ловко отбивали чечетку, показывали акробатические номера (особенным успехом пользовалась пара – Савченко и Энгельфельд). Оркестром дирижировал Вальгардт – близорукий дирижер из немцев, впоследствии дирижировавший оркестром в Одессе и еще где-то, получивший даже какую-то государственную премию. Была актриса, истерическим голосом читавшая «Двенадцать» Блока. Была хорошенькая певица Переведенцева, певшая романсы на слова Есенина (помню – «Никогда я не был на Босфоре») и нещадно изменявшая мужу, работавшему в Кремле и пытавшемуся покончить с собой в одной из рот. В фойе театра читались лекции по истории музыки профессором армянином Анановым. До ареста он работал в театре Руставели, сотрудничал в «Заре Востока». Лекции по психологии читал А. П. Сухов. И еще кто-то и о чем-то.
Но театр так жил только зимы 1930–1931 годов. Затем началась эпидемия азиатского тифа, театр был обращен в лазарет, где вповалку лежали люди почти без помощи. Азиатский тиф сопровождался появлением на теле каких-то черных пятен, и некоторые шепотом говорили, что это самая настоящая чума, занесенная из Средней Азии так называемыми «басмачами». Эпидемию не знали, как лечить. Когда в камере появлялся больной, то камеру просто запирали и ждали, пока она вся вымрет. Так умер мой знакомый молодой писатель. Он написал роман «Юг и Север» (а может быть, «Север и Юг»). Я потом, по освобождении, искал этот роман, но не нашел. Он просунул мне под дверь чайную ложечку и просил передать ее его жене. К моему удивлению, весной жена приехала (разрешили!) на могилу, но, конечно, могилы не нашла, не нашла и ямы, в которую его бросили, ибо ям таких было много, но серебряную ложечку я ей передал.
Я сильно забежал вперед, отчасти нарочно, чтобы показать, что «соловецкое счастье» было намеренным обманом. Ибо весной к нам на Соловки приехал Горький. Пробыл он у нас дня три (точнее я не помню все это легко установить по его собранию сочинений, но я этим заниматься не хочу).
Дело в том, что от соловецких беглецов (бежали и по льду в Финляндию, и на кораблях, возивших лес) на Западе распространились слухи о чрезвычайной жестокости на наших лесозаготовках, и ряд правительств отказались у нас покупать лес. Лагеря стали убыточными, и надо было уверить Запад, что жестокостей у нас нет, что мы исправляем, а не наказываем заключенных. Для этого и понадобились все те показушные предприятия, в которые мы все в Кремле оказались так или иначе вовлечены.
Кто-то с Запада приезжал в Кемь, но до Соловков не доехал. Нам были поставлены условия: иностранные журналисты должны свободно ездить и смотреть. На материке «чистились» как могли. Приехали журналисты и парламентарии, ездили по лесозаготовкам и многое сфотографировали, особенно когда на тракте Кемь – Ухта у них сломался автомобиль. Надо было лишить их «доказательств». Вызвались карманники, устроили давку у «представителей Запада», в результате которой обчистили их карманы, украли записные книжки и срезали фотоаппараты.
Вот тогда-то и согласился успокоить общественное мнение Запада почтенный наш писатель Алексей Максимович Горький. Кто говорит, что своим враньем он хотел вымолить облегчение участи заключенных, а кто, чтобы вымолить приезд к себе Будберг-Закревской, отказавшейся вернуться вместе с ним в Россию. Не знаю – какая из версий правильна. Может быть, обе. Ждали с нетерпением.
Наконец с радиостанции поползли слухи: едет на Соловки Горький. Тут уж стали готовиться не только начальники, но и те заключенные, у которых были какие-то связи с Горьким, да и просто те, кто надеялся разжалобить Горького и получить освобождение.
В один прекрасный день подошел к пристани «Глеб Бокий» с Горьким на борту. Из окон Кримкаба виден был только пригорок, на котором долго стоял Горький с какой-то очень странной особой. За Горьким приехала монастырская коляска с Бог знает откуда добытой лошадью. А особа была в кожаной куртке, кожаных галифе, заправленных в высокие сапоги, и в кожаной кепке. Ею оказалась сноха Горького (жена его сына Максима). Одета она была, очевидно, по его мнению, как заправская чекистка. Наряд был обдуман. На Горьком была кепка, задранная назад по пролетарской моде того времени.
Мы все обрадовались, все заключенные. Горький-то все увидит, все узнает. Он опытный, и про лесозаготовки, и про пытки на пеньках, и про Секирку, и про голод, болезни, трехъярусные нары, про голых и про «несудимые сроки»... Про все-все! Мы стали ждать. Уже задень или два до приезда Горького но обе стороны прохода в Трудколонии воткнули елки. Для декорации. Из Кремля каждую ночь во тьму соловецких лесов уходили этапы, чтобы разгрузить Кремль и нары. Выдали чистые халаты в лазарете.
Ездил Горький по острову со своей «кожаной» спутницей немного. В первый, кажется, день пришел в лазарет. По обе стороны входа и лестницы, ведшей на второй этаж, был выстроен «персонал» в чистых халатах. Горький не поднялся наверх. Сказал «не люблю парадов» и повернулся к выходу. Был он и в Трудколонии. Зашел в последний барак направо перед зданием школы. Теперь это крыльцо снесено и дверь забита. Я стоял в толпе перед бараком, поскольку у меня был пропуск и к Трудколонии я имел прямое отношение. После того как Горький зашел, – через десять или пятнадцать минут из барака вышел начальник Трудколонии командарм Иннокентий Серафимович Кожевников со своим помощником Шипчинским (сын белого генерала). Затем вышла часть колонистов. Горький остался по его требованию один на один с мальчиком лет четырнадцати, вызвавшимся рассказать Горькому «всю правду» – про все пытки, которым подвергались заключенные на физических работах. С мальчиком Горький оставался не менее сорока минут (у меня были уже тогда карманные серебряные часы, подаренные мне отцом перед самой первой мировой войной и тайно привезенные на остров при первом свидании). Наконец Горький вышел из барака, стал ждать коляску и плакал на виду у всех, ничуть не скрываясь. Это я видел сам. Толпа заключенных ликовала: «Горький про все узнал. Мальчик ему все рассказал!»
Затем Горький был на Секирке. Там карцер преобразовали: жердочки вынесли, посередине поставили стол и положили газеты. Оставшихся в карцере заключенных (тех, что имели более или менее здоровый вид) посадили читать. Горький поднялся в карцер и, подойдя к одному из читавших, перевернул газету (тот демонстративно держал ее вверх ногами). После этого Горький быстро вышел. Ездил он еще в Биосад – очевидно, пообедать или попить чаю. Биосад был как бы вне сферы лагеря (как и Лисий питомник). Там очень немногие специалисты жили сравнительно удобно.
Больше Горький на Соловках, как я помню, нигде не был. Он со снохой взошел на «Глеба Бокого» и там его уже развлекал специально подпоенный монашек из тех, про которых было известно, что выпить они «могут».
А мальчика не стало сразу. Возможно – пока даже Горький еще не отъехал. О мальчике было много разговоров. Ох, как много. «А был ли мальчик?» Ведь если он был, то почему Горький не догадался взять его с собой? Ведь дали бы его...
Но другие последствия приезда Горького на Соловки были еще ужаснее. И Горький должен был их предвидеть.
Горький должен был предвидеть, что будет сделана попытка свалить все «непорядки» в лагере на самих заключенных. Это классический способ уйти от ответственности. Сразу после отъезда Горького начались аресты и стало вестись следствие.
Но прежде чем перейти к трагическим обстоятельствам нового (но не последнего) «дела», расскажу о том, что случилось на пристани Попова острова (Острова трудящихся), к которому раньше ожидаемого срока пребывания Горького на Соловках неожиданно подошел «Глеб Бокий». Там работала на ветру группа заключенных грузчиков в одном белье. Спрятать на этой голой пристани голых людей было совершенно некуда. Командовавший заключенными нарядчик приказал им сомкнуться как можно теснее и присесть на корточки. Затем накрыл всех брезентом – будто это груз, укрытый от дождя. Так они там и сидели. Впрочем, некоторые говорят, что случай это был не по пути «оттуда», а по пути «туда» и пароход довольно долго не отходил.
Лето 1929 года было теплым и прекрасным. Шли этапы, к которым надо было быть готовым. Я научился уже давно держать вещи готовыми к вызову: «Вылетай пулей с вещичками!» К осени аресты стали расти. Арестовали Сиверса, Готерон де Ла Фосса, арестовали моего знакомого с Сортоиспытательной станции (теперь на ее месте аэродром), но главные аресты пришлись на октябрь месяц. Арестовали Георгия Михайловича Осоргина – делопроизводителя Санчасти, освобождавшего от тяжелых работ многих интеллигентов. Помню его отлично. Бравый блондин среднего роста с круглой шапкой чуть-чуть набочок («два пальца над правым ухом – три над левым»). Часто он ходил в мороз с открытой головой. Всех, кого арестовывали, уже не выпускали, они были обречены. Неожиданно к Георгию Михайловичу приехала жена на свидание, Голицына. Под честное слово (были ж такие времена!) его выпустили из карцера. Затем приказали ему уговорить жену уехать на два или три дня раньше. Он это сделал. Жене он не сказал, что будет расстрелян. В день расстрела арестовали (добавили к списку) Багратуни, Гацука и Грабовского – всех троих на Спортстанции. Я перечислил немногих из своих знакомых – тех, кого помню.
28 октября по лагерю объявили: все должны быть по своим ротам с такого-то часа вечера. На работе никто не должен оставаться. Мы поняли. В молчании мы сидели в своей камере в третьей роте. Раскрыли форточку. Вдруг завыла собака Блек на Спортстанции. Это выводили первую партию на расстрел через Пожарные ворота. Блек выл, провожая каждую партию. Говорят, в конвое были случаи истерик. Расстреливали два франтоватых (франтоватых по-лагерному) с материка: начальник войск Соловецкого архипелага Дегтярев и наш начальник Культурно-воспитательной части Д. В. Успенский. Про Успенского говорили, что его загнали работать на Соловки, чтобы скрыть от глаз людей: он убил своего отца (по одним сведениям, дьякона, по другим – священника). Срока он не получил никакого. Он отговорился тем, что «убил классового врага». Ему и предложили «помочь» при расстреле. Ведь расстрелять надо было 300 или 400 человек. Часть расстреливали на Секирке.
С одной из партий получилась «заминка» в Пожарных воротах. Высокий и сильный одноногий профессор баллистики Покровский (как говорят, читавший лекции в Оксфорде) стал бить деревянной ногой конвоиров. Его повалили и пристрелили в Пожарных воротах. Остальные шли безмолвно, как завороженные. Расстреливали прямо против женбарака. Там слышали, понимали – начались истерики. Могилы были вырыты за день до расстрела. Расстреливали палачи пьяные. Одна пуля – один человек. Многих закопали живыми, слабо присыпав землей. Утром земля над ямой шевелилась.
Мы в камере считали число партий, отправляемых на расстрел, – по вою Блека и по вспыхивавшей стрельбе из наганов.
Утром мы пошли на работу. К этому времени наш Кримкаб был уже переведен в другое помещение – комнату налево от входа рядом с уборной. Кто-то видел в уборной перед умывальником Успенского, смывавшего кровь с голенищ сапог. Говорят, у него была приличная жена...
Осоргина, как я уже писал, тоже была жена. Я ее помню, мы встретились у Сторожевой башни, Георгий Михайлович меня представил, – брюнетка, выше его ростом. Какую надо было иметь выдержку, чтобы не сказать жене о своей обреченности, о готовящемся!
А Блек убежал в лес. Он не пожелал жить с людьми. Его искали. Особенно искали Успенский и начальник войск Соловецкого архипелага латыш Дегтярев по прозвищу «главный хирург» (он обычно расстреливал одиночек под колокольней). Однажды я видел его бегающим в длинной шинели в толпе заключенных с «монтекристом» и стреляющим в собак. Раненые собаки с визгом разбегались. Полы длинной чекистской шинели хлопали по голенищам. После той ночи с воем Блека Дегтярев возненавидел собак. А за камень, пущенный в чайку, заключенного чуть ли не расстреливали.
В следующем, 1930 году, над Соловками грянуло новое несчастье. Впрочем, могло ли произойти что-то «новое» в том фантастическом кошмаре, в который были погружены Соловки?
Однажды утром летом 1930 года в кабинет явился подросток-колонист и вручил A.M. Колосову большой сверток. Развернув его, Колосов побледнел и долго сидел в задумчивости. Наконец он попросил сходить вниз, где размещалась с монастырских времен типография, и пригласить к себе заведующего – Молчанова. Молчанов пришел. Помню, что первое время они тихо говорили между собой, читая и разглядывая большой лист ватманской бумаги. Затем к совещанию пригласили всех сотрудников. Лист ватманской бумаги оказался манифестом о вступлении на всероссийский престол Иннокентия I Серафимовича Кожевникова. Обещалась амнистия всем заключенным, предлагалось захватить соловецкие суда, захватить Кемь и двигаться на Петроград.
Что делать? Шутка угрожала жизнью всем, кто прочел этот «манифест», – включая мальчишку. Решили, впрочем, сбегать к Кожевникову и узнать – в чем дело. Пошедший вернулся: Кожевников поверку в Трудколонии не принимал. Его нет, нет Шипчинского, окно в их комнате открыто. Тогда с выражением страдания на лице (он действительно страдал морально) Колосов поднялся и вместе с Молчановым пошел в ИСЧ, одна из комнат которой помещалась на втором этаже здания УСЛОНа. А весь лагерь уже кипел. Слухи не ползли – летели. Говорили – к берегам острова подошла миноноска и взяла Кожевникова на борт. Начались поиски. Никто не сомневался, что это хорошо организованный побег. Кожевников решил даже посмеяться над начальством, «издав» манифест. Весь лагерь ликовал. Но вот дошел слух: Кожевников и Шипчинский пытались убить часового у порохового склада, стоявшего в поле справа от Филимоновской дороги. Значит они не бежали, скрываются на острове!
Каждый день поступали сведения: видели! не видели! Следы их пребывания обнаружены там-то. Напряжение в лагере было страшное. Примерно через две недели обоих захватили. Они сопротивлялись у какой-то елки, под которой жили. Был у них топор. Отбивались топором. Приказ был – захватить живыми.
Помню отлично чей-то крик: ведут, ведут! Мы бросились к окнам Кримкаба. Я ясно вижу. Первым волокут в бессознательном состоянии Кожевникова. Волокут под руки. Ступни ног выворочены, тащатся по мосткам, ведущим прямо на второй этаж УСЛОНа. Голова висит. Лысина в крови. За ним ведут с выкрученными назад руками Шипчинского. Он идет гордо, но странно дергаясь. Как шел допрос – не знаю.
Оказалось: Кожевников сошел с ума, Шипчинский же решил его не покидать. Жили они в лесу (уже была осень). Хлеб им давал «ковбой» Владимир Николаевич Дегтярев, живший в Дендрологическом питомнике. Этот мужественный человек был невысок, ловок. У него были ковбойские перчатки и ковбойская шляпа. Когда-то он учился в гимназии Мая в Ленинграде (в «моей» гимназии). Решил бежать в Америку еще до первой мировой войны. После революции вернулся. Поплатился десятью годами. Он был великолепный чудак. Отказывался ходить в Кремль пешком. Ему дали козла. Всю дорогу до Кремля (когда ему нужно было туда явиться) он вел козла, но перед Никольскими воротами садился на него верхом и, въезжая, выхватывал из-за раструбов своих перчаток пропуск для предъявления часовому. Почему разрешалась ему вся эта игра – не знаю, но он был совершенно честен. Вероятно, «начальству» нравились не только пьяницы, но и чудаки. Когда обнаружилось, что он помогал беглецам, я предположил, что его неминуемо расстреляют. Но нет... Уже после моего освобождения, идя с работы как-то пешком по Большому проспекту Петроградской стороны, по которому в те времена ходил трамвай, я изумился: на полном ходу из трамвая выскочил Дегтярев, подбежал ко мне (с площадки заметил) и сказал, что работает лесничим в каком-то заповеднике в Средней Азии. С приветственным возгласом: «Привет вам с (какого-то) Алатау!» – он бросился за следующим трамваем и исчез. Значит, жив! И я был ему рад как только мог.
Впрочем, и Кожевников оказался жив. Его видели в Москве, не то входящим, не то выходящим из Кремля. Сказались, очевидно, прежние революционные заслуги, заслуги в Гражданской войне. Шипчинского расстреляли и многих с ним. Испуганное начальство решило прибегнуть к острастке. Начались аресты. Заваривалось какое-то дело о попытке восстания, но потом и дела не стали стряпать.
Осенью ко мне приехали на свидание родители. Мы жили в комнате какого-то вольнонаемного охранника (были охранники и из заключенных), с которым родители познакомились на пароходе «Глеб Бокий» и договорились с ним о его комнате за какую-то плату. Комната его была в гостинице, что на горушке сзади УСЛОНа. Там помещалась и фотография для вольнонаемных, где меня дважды в разное время снимали с родителями по разрешению Мельникова, и лечпункт с главным легпомом Тайбалиным. Тайбалин, кстати, писал стихи и взял к себе работать не говорившего по-русски старика – «лучшего певца Старой Бухары». Из окон нашей комнаты, обращенной в сторону Сельхоза, мы видели, как восточные люди в шелковых халатах и шелковых сапогах на высоких каблуках беспомощно что-то делали. Вскоре все эти «басмачи», как их именовало начальство, вымерли, не выдержав ни холода, ни условий работы...

Семья Лихачевых. Соловки (1931 г.)
Так вот. Я жил у родителей, аресты шли. Однажды ко мне пришли вечером из роты и сказали: «За тобой приходили!» Все было ясно: меня приходили арестовывать. Я сказал родителям, что меня вызывают на срочную работу и ушел: первая мысль была – не при родителях! Я пошел к Александру Ивановичу Мельникову в комнату, где он жил над шестой ротой и Филипповской церковью. Стучусь, он не открывает. Но уйти он не мог. Я стучусь все громче. Наконец Мельников мне отворяет. Он одет. За столом сидит молодая женщина – я ее знал, она была схвачена по делу о фальшивых деньгах. Увидев меня, Мельников успокоился. Успокоился и сделал мне строгое внушение. Смысл этого внушения состоял в следующем: «Если за вами пришли, – нечего подводить других. За вами могут следить». Дверь захлопнулась. Я понял, что поступил плохо. Ведь и он мог быть подведен под расстрел: схватили же делопроизводителя Санчасти! Адмчасть была еще более ненавистна ИСЧ (Информационно-следственной части), готовившей расстрелы, чем Санчасть. Мельников в прошлом тоже офицер, как и Осоргин.
Сквозь события этой ночи, вспомнилась мне и еще одна деталь. Летом приезжала к Мельникову его жена Ольга Дмитриевна, знакомая моей матери. Они пригласили меня на чай. Я видел: оба расстроены. Наконец жена спросила меня, и Мельников подтвердил вопрос: изменяет ли он (Мельников) семье? Вопрос был для меня неожиданным. Я совершенно ничего не знал. Решил, что вопрос этот – шутка и решил ответить шуткой: «Да, надо бы пожаловаться...» и пр. После Мельников сделал мне краткий выговор: «Не знаете – и говорите, что не знаете». И все-таки глупость моего ответа, мне кажется, успокоила жену Мельникова: если бы что-то было, я бы врал серьезно. Все это мелькало в моем мозгу: ведь какого страха натерпелись оба, Мельников и его любовница, когда я к ним безумно стучался.
Выйдя на улицу, я решил не возвращаться к родителям, пошел на дровяной двор и запихнулся между поленницами. Дрова были длинные – для монастырских печей. Я сидел там, пока повалила толпа на работу, и тогда вылез, никого не удивив. Что я натерпелся там, слыша выстрелы расстрелов и глядя на звезды неба (больше ничего я не видел всю ночь)!
С той страшной ночи во мне произошел переворот. Не скажу, что все наступило сразу. Переворот совершился в течение ближайших суток и укреплялся все больше. Ночь была только толчком.
Я понял следующее: каждый день – подарок Бога. Мне нужно жить насущным днем, быть довольным тем, что я живу еще лишний день. И был благодарным за каждый день. Поэтому не надо бояться ничего на свете. И еще – так как расстрел и в этот раз производился для острастки, то, как я узнал, было расстреляно какое-то ровное число: не то триста, не то четыреста человек. Ясно, что вместо меня был «взят» кто-то другой. И жить надо мне за двоих.
Что-то во мне оставалось и в дальнейшем, что упорно не нравилось «начальству». Сперва я валил все на свою студенческую фуражку, но я продолжал ее упорно носить до Белбалтлага. Не «свой», «классово чуждый» – это ясно.
К родителям я уже в тот день вернулся спокойный. Не знаю: снялся ли я с родителями до той ночи или позже. На одной – я сфотографирован с родителями и моим младшим братом, но брата в тот приезд не было. Значит, я там, где нас трое, а не четверо.
И все-таки тяжесть человеческих утрат меня давила. Особенно жалко мне было тщедушного Шипчинского – всегда веселого и несгибаемого. Это именно он придумал вывесить над Никольскими воротами потрясающий всех лозунг. Начальник КВЧ (Культурно-воспитательной части), в которой работал Шипчинский (Трудколония подчинялась КВЧ), попросил Шипчинского: «Придумай мне лозунг, из которого ясно было бы, что у нас на Соловках делается все для социально близких – рабочих и крестьян». Шипчинский выпалил: «Соловки – рабочим и крестьянам». Начальник (все тот же Д. В. Успенский) ответил: «Во здорово!» – и приказал писать плакат. Я передаю, конечно, только смысл разговора, о котором рассказывал Шипчинский. Возможно, стрелял в затылок Шипчинского именно Успенский.
А у Шипчинского появился перед расстрелом какой-то роман с молоденькой хромой балериной (ногу ей перебили на следствии). Им удавалось как-то видеться. После трагической гибели Шипчинского мне особенно было их обоих жалко.
В 1929–1930 годах в Кримкабе проводились беседы, центром которых был Александр Александрович Мейер. Темы бесед я уже забыл. Да и не было темы: разговоры переливались, возникали, возобновлялись. Я был в обстановке кружка «Воскресенье», который в Питере возглавлял Мейер, я был в обстановке ВОЛЬФИЛы, религиозно-философских собраний начала XX века. И все-таки заботы Детколонии возвращали нас постоянно к лагерной действительности. Можно ли перевоспитать подростков. Как перевоспитать? А. А. Мейер склонялся к мысли, что перевоспитать трудом можно. Он написал статью на эту тему в «Соловецкие острова». Когда статья вышла, против Мейера восстали многие из его кружка «Воскресенье», считая, что он изменил принципу свободы. Для него это было очень тяжело. Он в своей статье ставил акцент на труде, а его друзья и ученики подчеркивали, что он говорил в статье о принудительном труде. Другая тема наших бесед, которую начал Владимир Сергеевич Раздольский – молодой человек, чуть старше меня, непрерывно дымивший трубкой, которую он почему-то называл «собачкой». В шуме камеры и суете Кримкаба Раздольский ухитрялся изучать «Фауста». Из этого чтения постепенно возникла тема культуры. Он написал и какую-то работу. Мейер на нее отвечал1. Не только отвечал, но думал и писал сам. Что-то сохранилось в его рукописях на эту тему. Может быть следовало бы разыскать и напечатать – работа тесно соприкасалась с вопросами культуры. Ксения Анатолиевна Половцева мало участвовала в этих разговорах. Она успевала приносить еду Александру Александровичу и спешила назад – на работу. Я был прежде всего слушателем. Юлия Николаевна Данзас вставляла только замечания – всегда к месту, всегда умные. Приходил, но редко, Павел Фомич Смотрицкий.
Я плохо помню зиму 1930/31 года. Колосова сменил на посту заведующего Кримкабом Александр Александрович Бедряга, не обладавший даром личности, как многие другие кримкабовцы. Выделялся Александр Петрович Сухов, сочинявший роман и читавший нам отрывки. Они не производили сильного впечатления. Прототипом главного героя служил Володя Раков, действие разворачивалось на Петровском острове у отца Викторина (впоследствии расстрелянного в Ленинграде). Гораздо интереснее были разговоры в Кримкабе вокруг Александра Александровича Мейера. Юлия Николаевна Данзас умела молчать, но мы узнали – ей все же удалось подать письмо Горькому. Она ждала. Приходил веселый и деятельный Михаил Иванович Хачатуров, все наши поэты. Приходила Лада Могилянская, спевшая нам песню, подхваченную ею в женбараке:
Стоит фраер на фасоне
И вся ряжка в муке.
Йон у сером балахоне
И у сером колпаке.
Мы к нему эта подходим,
Говорим: «Как вас звать?»
И у комнату заводим,
Чтоб девчонок показать.
Увидал это Марфушку,
Побелел, точно мел,
... (забыл строку)...
И конечно запел:
«Ах вы, милая Марфуша,
Накажи меня Бог,
Положу свою душу
Я у ваших милых ног.
Без любовной отрады
Невозможно прожить»
... (забыл) ...
А она на него скесит.
Говорит: «Ги, ги, ги!»
И то голову повесит,
То глазами на вкруги.
«Не могу я быть вашей,
Вашей верной женой.
Меня любит черный Саша
И Володя, боже ж мой!
Они храбрые парнишки
И нас с вами найдут:
Вам повыпустят кишки,
Мене морду набьют.
На мою на могилку
Да никто не придет,
Только ранней весною
Соловей пропоет!»
Пелась эта песнь на мотив «Позабыт, позаброшен». Я часто ее напевал, и один из молодых шутников поместил в «Соловецком листке» (эта маленькая газетка, в которой печатались приказы, рецепты от вшей и пр.) заметку: „Сотрудник Криминологического кабинета Д. С. Лихачев пишет повесть под названием: «Стоит фраер на фасоне»".
A.M. Сухов увлекся в это время одним альбомом воришки, в котором он изобразил в картинках и стихах свою жизнь. Отрывки из этого альбома он опубликовал в каком-то издании в Кеми. Я жалел: надо было воспроизвести его целиком. Это был какой-то воровской Пиросмани, но еще и со стихами, чрезвычайно выразительными в своей примитивности и неграмотности. Какой-то XVII век!
Отходил последний пароход (кроме «Глеба Бокого» между Кемью и Соловками курсировал еще морской буксир «Нева» с баржей «Клара» на прицепе; впоследствии «Нева» вместе с ее капитаном Пуаре опрокинулась на крутой волне). К пароходу собирали и тех, кто должен был освобождаться зимой до весенней навигации. Вызвали и А.Н.Колосова. Мы устроили ему в камере третьей роты прощание. Все собрались со своей провизией за кружкой кипятка. Говорились речи. Александр Артурович Пешковский произнес «политическую речь», объявил: «Нам такие люди будут нужны» и пр. Значит, был уверен, что среди собравшихся нет стукачей или, как их тогда называли, «сексотов». Помню, что я на этом прощальном вечере расплакался. Я долго этого потом стыдился, по, вспоминая сейчас, я вижу, что даже сравнительно со своими сверстниками на Соловках, я был еще совсем мальчиком. Может быть, благодаря моей доверчивости и неопытности привыкшего к семейной обстановке мальчика, ко мне и было такое хорошее отношение – людей совсем разных. Уезжая, А. Н. Колосов просил меня отнести икону Симона Ушакова (подписную) «Спас Нерукотворный» в фотографию для вольнонаемных и сделать для него снимки. Мне это не удалось, и до меня доходили слухи, что Александр Николаевич на меня сердится. Возможно, что А. А. Пешковский такой снимок и сделал бы. Тут надо было обходить препятствия.
Весной мне предложили переехать в «артистическую», седьмую роту. Бедряга остался в третьей.
Сперва я попал в камеру – бывшую монашескую кладовку. Камера была очень холодной, квадратной, на четверых. В ней жил армянский художник Миганаджан, ученик Репина. Камера славилась тем, что лампочка в ней была обрамлена расписанным акварелью уютным абажуром. Миганаджан был мастером портрета. Помню, что ему принадлежал портрет старого генерала Эрдели и генерала Генерального штаба Баева. Красная склерозированная кожа лица, светло-желтый фон. Был Миганаджан невысокого роста и очень милый. Жили там еще два украинца, певшие украинские песни. Высокого роста, они явно не помещались на своих топчанах.
Пели «Заповіт» (не знаю по-украински), про Морозенку. Эти вещи я помню.
В этой же камере находился одно время Володя Свешников (Кемецкий). В камере этой Свешников написал одно из своих лучших стихотворений, в котором были такие строки, которые я запомнил:
Отныне жребий мой из кельи сонной
Следить полет прямой и неуклонный
Широких туч, катящихся на юг.
Были и еще строки, запомнившиеся мне:
И ветер ходит скорыми шагами
Вдоль ржавых стен угрюмого Кремля.
Стихотворения Свешникова печатались в «Соловецких островах», но, разумеется, далеко не все. Собрание его сохранившихся стихов и воспоминания о его жизни после освобождения есть в редакции «Нашего наследия» у В. П. Енишерлова. Чудом сохранились...
Потом я переехал в камеру, выходившую на двор поверок (чуть левее), третью справа. Под камерой на втором этаже находилась музыкантская команда, беспрерывно репетировавшая старые марши под новыми названиями. Иногда эти марши веселили, но чаще надоедали. Если бы не работа, на которую я уходил ежедневно, кроме воскресений, пребывание в ней под звуки бравурных маршей было бы тяжелым. В камере оказались интересные люди: мой сослуживец из Ростова-на-Дону Владимир Сергеевич Раздольский-Ратошский, потом тот же Свешников, переехавший на освободившееся место, а главное, Гаврила Осипович Гордон, член ГУСа (Государственного ученого совета, профессор всеобщей истории, автор учебника) – человек необыкновенной учености, ухитрившийся даже в лагерных условиях в дополнение ко всем своим иностранным языкам изучить арабский, но вечно попадавший в разные неприятные истории из-за своей несдержанности на язык (впоследствии он получил второй срок за то, что в период паспортизации сослался на статью о паспорте в первом издании Большой советской энциклопедии и сгинул где-то у Рыбинского моря). У него, как и у А. А. Мейера, у А. П. Сухова, у Ю.Н. Данзас, у И. М. Андреевского, у А.Н.Колосова, я многому научился.
Во главе роты был эстонский офицер Кунст (назначались начальниками не без юмора – по фамилиям: Кунст во главе артистической роты, Берри-Ягода в Ягодно-сборочной организации, – я уже забыл много таких назначений). По Кунсту седьмая рота называлась еще Кунсткамерой, что очень ей шло.
Появился в нашей камере и А. И. Анисимов, занимавшийся под покровительством Николая Николаевича Виноградова в Музее расчисткой икон (помню большую икону XV века, которую он расчищал на хорах Благовещенской церкви – там было хорошее освещение и висели по стенам великолепные акварели Браза – виды Соловков; сам Браз был освобожден за год до моего появления на Соловках и уехал в Париж по купленному на валюту паспорту).
Кунст был ошеломляюще находчив. Он делал все, чтобы спасать заключенных от неприятностей. Вот один из примеров его чисто военной находчивости. Я уже писал, что новый заведующий нашим Кримкабом Александр Александрович Бедряга был не дурак выпить. Зимой водку привозили с риском для жизни поморы из заключенных на больших лодках «почтарках» (на лодках этих возили почту). Прибытие на остров почтарок означало – будут письма, будет водка, хоть и по дорогой цене. В дни прибытия пьяные были и среди заключенных, и среди вольнонаемных. Первым пил начальник острова Петя Головкин – пьяница жуткий. Петей его звали заключенные из симпатии к его страстишке. Впрочем, он был страшен. Страшен, когда, напившись, начинал с азартом искать пьяных по ротам. Он знал, что почтари привезли водку не только для него. Пьяным он обходил роты с компанией охранников. Зашел в третью роту, открыли камеру, в которой когда-то жил я, и застали мертвецки пьяного Бедрягу, лежавшего на топчане, несмотря на команду: «Смирно!» Петя спрашивает: «Кто такой?» Дневальный отвечает: «Больной!» – «Я покажу, какой больной», – и пошел по другим камерам. А в это время явились мы и на руках вынесли Бедрягу в седьмую роту. Вернувшись в камеру, Петя обнаружил отсутствие «мертвого тела». Ринулся искать его по другим ротам и зашел в нашу, седьмую. Видимо, кто-то донес. Накинулся на Кунста: «У тебя, такой-то сякой, в роте бардак!» Кунст взял под козырек и веселым голосом бодро отвечает: «Так точно, гражданин начальник, бардак! Все в порядке!» Петя, которого самого изрядно развезло и который потерял способность соображать, нелепо уставился на Кунста: «Так все в порядке, говоришь?» Повернулся и ушел. А хотел было и Кунста заставить пройтись по одной половице (любимая Петина проверка на трезвость). Впоследствии, переведенный на материк, Петя написал статью в местную лагерную газету о вреде пьянства. Видно, заставили. Вот была потеха читать эту статью!
Между тем головами начальства овладевала новая погоня за успехом у Сталина. С Соловков начался массовый вывоз заключенных на материк. Задолго до официального открытия строительства, соединяющего Белое и Балтийское моря, в Медвежьей горе уже строилось здание нового управления Беломорканалом, воздвигались бараки для заключенных в Медвежьей горе и в Повенце, а может быть, и в других местах.
Уехал и Володя Раков, и Федя Розенберг, и многие другие. Жить стало еще тоскливей. Я подружился с племянником Короленко, сыном его брата Владимиром Юльяновичем Короленко. Он часто приходил в Кримкаб, благо работал в том же здании УСЛОНа, кажется, юристом. Он был замечательным рассказчиком. При этом энергично жестикулировал, и это подчеркивало отсутствие безымянного пальца на левой руке: явный саморуб. Только впоследствии я узнал, что это было сделано не для отказа от работы. Он хотел заглушить в себе боль раскаяния: на следствии не устоял и кого-то выдал. Он тоже получил пропуск, и мы вместе гуляли по окружающим Кремль лесам, восхищались красотой острова, небес, игрой красок на море, закатами. Ясно помню такую картину. Уже вечерело. Была осень, и мы попали к озеру по Савватиевской дороге. Снега еще не было, но поверхность озера уже была покрыта тонким слоем льда. Мы бросали с ним камни так, чтобы они скользили по льду. Они уносились во тьму на очень далекое расстояние. Потом мы подбрасывали камень кверху, он падал вертикально вниз и пробивал лед. На черной поверхности льда появлялся белый пузырь воздуха и начинал двигаться от нас к чистой воде. Становилось совсем темно, и только белые пятна воздуха под тонким черным льдом были видны пропадающими вдали. Почему я это запомнил? Верно, потому, что в детстве в Куоккале я любил бросать камни в море, «печь блины» и бросать круглые камни вертикально вверх, чтобы, падая с высоты в воду, они издавали красивый звук, напоминающий звук открываемой пробки в бутылке.
Я считал своим долгом ходить на Пересыльный пункт и выручать оттуда интеллигентных людей. Помню, что я выручил Михаила Дмитриевича Приселкова – замечательного историка, историка русского летописания. Предложил ему работать в Музее (договорившись с Н.Н.Виноградовым), но Михаил Дмитриевич отказался. В конце концов нам удалось устроить его счетоводом в Сельхозе. К М. Д. Приселкову я чувствовал особые симпатии. Его отец был настоятелем Владимирского собора в Петербурге, где мой дед Михаил Михайлович Лихачев был старостой. Отец мой хорошо знал многодетную семью Приселковых.
В другой раз я выручил из Пересыльного пункта историка Василенко. Как-то решил ему показать остров, вывел его из Кремля, и мы пошли в лес – в сторону Переговорного камня. Ходить туда заключенным не разрешалось ни под каким видом. Объезжал побережье на лошади и с собачкой сам «главный хирург» Дегтярев. Он нас и накрыл. Меня узнал и пригрозил Секиркой, но ничего не сделал. «В следующий раз...» Далее шли ругательства.
Но меня тянуло к морю. Как-то я сидел на Кислой губе. И вдруг, о ужас, на противоположной стороне губы залаяла собачонка Дегтярева. Я бросился в лес, рассчитывая уйти, пока на лошади он объедет губу. Бог спас. Через болотистую речушку, где конь пройти не мог, лежала огромная ель, старая, подгнившая, почти без ветвей. Меня точно поддерживало что-то с обеих сторон и я, как на крыльях, перешел на другую сторону, скрывшись в кустах. В 1986 году я побывал в тех местах. Мало что изменилось. На севере лес растет медленно. Но ели уже не было – сгнила.
Федя из Медгоры слал мне вызов за вызовом. Не хватало счетного персонала. На воле стали срочно арестовывать бухгалтеров, даже самых молчаливых, на которых нечего было доносить. Меня Федя характеризовал как выдающегося счетного работника, которому можно поручить главную картотеку Беломорканала. Меня вызывали («Вылетай пулей с вещишками!») и отправляли с вещами. Из той же седьмой роты, из музыкантской команды, брали полковника Семеновского полка Владимира Владимировича Олохова, раздевали догола в Бане №2, дезинфицируя вещи, и спустя два-три часа... отправляли назад. Это продолжалось не раз и не два. У меня уже был заказан чемодан – очень прочный: из фанеры, оклеенной старой лазаретной простыней, и покрашенный в коричневый цвет. Кто мог, заказывал себе такие чемоданы.
Мы с Короленко, которого не вызывали (у него было десять лет), решили увековечить свое пребывание на Соловках. Он достал молоток и зубило, мы отправились по Муксаломской дороге и направо (а может быть, налево?) между двух продолговатых озер на вершине небольшой продолговатой же горы нашли камень. Он был нам по грудь. С южной стороны этого камня мы стали выбивать наши фамилии. Я успел – «Лихач», он – «Корол». Потом кто-то от него передал мне, что Короленко добил обе наши фамилии. Не знаю... Но когда я вернулся в роту, мне сообщили, что меня снова вызывали.
Мальчик лет двадцати однажды вечером зашел в Кримкаб и предложил мне показать мое дело. Я зашел в комнату на втором этаже без окон, сплошь заставленную стеллажами с делами заключенных. Он забрался на лесенку и протянул мне мое дело. Это, помнится, была тоненькая тетрадочка в синей или коричневой обложке с моими анкетными данными (возраст, срок, статья и пр.). Сверху была только надпись: «Имел связь с повстанцами на Соловках». Эту надпись я запомнил твердо. Последний расстрел по делу сошедшего с ума Кожевникова аукнулся мне такой надписью. Из-за нее-то меня и не выпускали с острова. Я был «невыездной». «Невыездным» я бывал впоследствии не один раз, но уже не на материк, а за границу.
В следующий приход «Глеба Бокого» я выехал в Кемь. Я уже свободно стоял на палубе, смотрел на удаляющийся остров.
И вдали промелькнули огоньки:
Соловки, Соловки, Соловки...
Ночевал я в Кеми на Вегеракше в бараке, а утром в вагонзаке с другими меня отправили в Медвежью гору.
Приезд в Медвежью гору был для меня праздником. Я чувствовал освобождение, хотя предстояло мне перенести еще немало жестокого. Но я видел через цепи конвоя «вольных» людей, свободный город. Это так было важно. К тому же после тьмы соловецких зимних дней здесь сверкало солнце.
Когда нас привели за проволоку и построили, я вдруг услышал женский голос, выкрикнувший: «Дима Лихачев!» Я изумился. Это Федя Розенберг послал свою сотрудницу меня встретить и устроить.
Но здесь начинается другая история – история моего пребывания на Беломорско-Балтийском канале. История далеко не легкая.
Публикуется впервые.
ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
Тридцатые годы были для меня тяжелыми годами. Осенью 1932 года я поступил работать литературным редактором в Соцэкгиз, помещавшийся на Невском в Доме книги. Не успел я немного освоиться с работой, как у меня начались жесточайшие язвенные боли. Я не обращал на них внимания, не соблюдал диету, продолжал ходить на работу. В трамвае мне стало однажды дурно, приняли за пьяного, стали упрекать: такой молодой и уже с утра пьян. Кое-как я доехал до Дома книги, поднялся, сел за свой письменный стол и потерял сознание. У меня хлынула горлом черная кровь. В полубессознательном состоянии меня доставили в Куйбышевскую больницу. В приемный покой вызвали родителей и сказали им прямо: потеря крови чрезвычайно большая и надежды почти нет. Но меня спас хирург Абрамзон (в блокаду его разорвало на мелкие части снарядом), который тогда стал делать первые опыты переливания крови. Донор стояла со мной рядом, и кровь непосредственно от нее текла мне в вену, которую раскрыли на сгибе правой руки. Помню это как во сне. Помню полублаженное состояние: ничего не хотелось, не было страха смерти, прошли боли. Я пролежал в больнице несколько месяцев, затем лежал в Институте питания (был такой в Ленинграде) и занимался беспорядочным чтением. Чтение, чтение и чтение. Потом снова пошли поиски работы. Я устроился работать в типографию «Коминтерн» корректором по иностранным языкам. Боли возобновились; приходя домой, я валился в постель и заглушал боль чтением. Недостатка в книгах не было. Труд корректоров, считавшийся тогда тяжелым, ограничивался шестью часами. В пять часов я был уже дома и в постели. Благодаря связям отца в типографиях и возможности получать книги из превосходной библиотеки Дома книги, чтение мое приобрело более систематический характер. Я читал книги по искусству, по истории культуры. Иногда посещал библиотеку сам.

Пушкинский Дом
Д.С. Лихачев (1932)
Когда в 1934 году я был переведен на работу в Издательство Академии наук СССР, я получил возможность получать книги из Библиотеки Академии наук. Утомление от корректорского чтения и от вычитки рукописей не мешало мне в моем чтении дома в кровати. Я был вполне доволен своей судьбой. Делал выписки, размышлял и ни с кем почти не общался. Единственным моим другом был мой однокашник по университету М. И. Стеблин-Каменский. В отличие от меня ему не удалось кончить университет, и он сдавал все предметы экстерном, работая в том же издательстве техническим редактором. Среди ученых корректоров издательства было много пожилых людей «из бывших». Два бывших барона, лицеист, правовед, странный старичок старообрядец, оказавшийся моим дальним родственником по матери, и два замечательных по своей общей культуре человека – А. В. Суслов, родственник жены Достоевского, и Л. А. Федоров. Общение с ними было великой школой. Как важно выбирать своих знакомых, и главным образом среди людей выше тебя по культурному уровню!
Четырехлетняя работа «ученым корректором» в Ленинградском отделении Издательства Академии наук не осталась без пользы. Работа эта создала у меня интерес к проблемам текстологии и, в частности, текстологии печатных изданий. Я участвовал вместе с техническим редактором Львом Александровичем Федоровым (умер от истощения во время блокады) и будущим известным скандинавистом М. И. Стеб л ин-Каменским в создании справочника-инструкции для корректоров Академии наук. Справочник этот вышел ограниченным тиражом в конце 30-х годов. Вообще моя работа в издательстве по многим пунктам соприкасалась с моим «типографским прошлым». Создание книг меня интересовало чрезвычайно. Я собирал уже случайно попадавшиеся книги по издательскому и типографскому делу, по художественному оформлению книг – особенно обложек (я их предпочитал жестким и грубым переплетам). Продолжалось и общение с типографскими работниками, в частности с замечательным коллекционером книг советского периода И. Г. Галактионовым (куда-то делась его библиотека? неужели после его смерти она была распродана по частям?).
Ю. Г. Оксман как-то напомнил мне, что он предлагал мне перейти в Пушкинский Дом, где он был заместителем директора, но я категорически отказался. И в самом деле, в издательстве мне было хорошо, и если бы не маленькие заработки, то и совсем хорошо. Здесь царила атмосфера общего труда, а во главе стоял М.В. Валерианов – бывший метранпаж Печатного Двора (метранпажи – это были наборщики высшей квалификации, одновременно выполнявшие обязанности технических редакторов и умевшие прекрасно делать титульные листы только средствами набора, – искусство, ныне утраченное). М. В. Валерианов заботился о деле, а потому и о людях. Он был умен и интеллигентен от природы. Вечная ему память.
В 1937 году я редактировал и корректировал «Обозрение русских летописных сводов» А. А. Шахматова, которое издавала В. П. Адрианова-Перетц. Я увлекся работой по летописанию, проверкой всех данных шахматовской рукописи и в конце концов попросил Варвару Павловну дать мне работу в Отделе древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Перевод быстро осуществился, и я с этого момента стал специалистом по древнерусской литературе.
В тридцатые годы я был погружен в свое корректорское дело (сперва в типографиях, а потом в Издательстве Академии наук СССР), и литературные события проходили мимо меня.
Прошлое – будущему. Л. 1985.
ПОПЫТКИ ПИСАТЬ
В моем школьном образовании был один очень существенный недостаток: мы не писали классных работ и не делали домашних заданий (впрочем, домашние письменные работы все же иногда выполняли, но задавали их редко). Классные работы писать было нельзя. В годы моих последних классов зимой школа не отапливалась, мы сидели в пальто, в варежках сверх перчаток, и учителя время от времени заставляли нас согреваться. Мы вставали, по-кучерски взмахивали руками и били в ладоши. Наступало оживление. А домашние задания тоже было делать трудно, да и проверять их учителям было тяжело. Вечерами преподаватели не сидели дома – прирабатывали лекциями, за которые платилось иногда провизией (слова «продукты» в значении «провизия» тогда еще не было в употреблении).
В общем, когда я появился в университете, я с трудом мог в письменной форме изложить свои мысли. Хотя я и написал две дипломные работы – одну о Шекспире в России в конце XVIII века, а другую о повестях о Никоне, но изложены они были детским языком, беспомощны по композиции. Особенно не удавались мне переходы от предложения к предложению. Было такое впечатление, что каждое предложение жило самостоятельно. Логическое повествование не складывалось. Фразу трудно было прочесть вслух: она была «непроизносима».
И вот сразу же по окончании университета я решил учиться писать, и систему придумал я сам. Учил ей и своего друга – Дмитрия Павловича Каллистова.
Во-первых, чтобы язык мой был богатым, я читал книги, с моей точки зрения, хорошо написанные, написанные хорошей прозой – научной, искусствоведческой. Я читал М. Алпатова, Дживилегова, Муратова, И. Грабаря, Н.Н.Врангеля (путеводитель по Русскому музею), Курбатова и делал из их книг выписки – главным образом фразеологические обороты, отдельные слова, выражения, образы и т.д.
Во-вторых, я решил писать каждый день, как классные сочинения, и писать особым образом. Этот особый образ я назвал «без отрыва пера от бумаги», то есть не останавливаясь. Я решил (и решил правильно), что главный источник богатой письменной речи – речь устная. Поэтому я старался записывать свою собственную, внутреннюю устную речь, старался догнать пером внутренний монолог, обращенный к конкретному читателю – адресату письма или просто читателю. И как-то быстро стало получаться. Я делал это еще и тогда, когда в 1931 году служил на железной дороге в Званке и Тихвине диспетчером (в перерыве между прибытием товарных составов), и вечерами, приходя со службы, когда работал корректором. Работая корректором, тоже вел записные книжки, куда записывал особенно точно выраженную мысль, точно и кратко.
Впоследствии, когда я поступил в Институт русской литературы (Пушкинский Дом), это было в 1938 году, и Варвара Павловна Адрианова-Перетц поручила мне для «Истории культуры Древней Руси» (т. 2; он вышел только в 1951 году) написать главу о литературе XI–XIII веков, она мною была написана как стихотворение в прозе. Далось мне это очень нелегко. На даче в Елизаветине я переписывал текст не менее десяти раз от руки. Правил и переписывал, правил и переписывал, а когда уже все казалось хорошо, я все же снова садился переписывать, и в процессе переписки рождались те или иные улучшения. Я читал текст вслух и про себя, отрывками и целиком, проверял кусками и логичность изложения в целом. Когда в ИИМКе (ныне Институт археологии АН СССР) я читал свой текст, то чтение его имело большой успех, и с этого момента меня охотно стали приглашать участвовать в разных изданиях. К великому моему сожалению, текст моей главы был сильно испорчен в печатном издании правкой редакторов. И все же первую свою Государственную премию я получил за участие в «Истории культуры Древней Руси», в числе очень немногих.
Прошлое – будущему. Л. 1985.
РАБОТЫ В ПУШКИНСКОМ ДОМЕ
В. П. Адрианова-Перетц была замечательным организатором работ Отдела. Формально заведовал им академик А. С. Орлов, но он, по крайней мере, не мешал Варваре Павловне, а организационный талант, административный ум и знания у Варвары Павловны были исключительными. Отличалась она и огромной работоспособностью, несмотря на плохое здоровье (болезнь Паркинсона).
Мы в Отделе приступали к написанию первых двух томов десятитомной истории русской литературы. Здесь мне пригодились мои старые мечты о создании настоящей истории русской литературы XI– XVI веков, интерес к летописанию и искусству Древней Руси. Я стал редактировать и писать. В первом томе параллельно готовившегося учебника для вузов «Истории русской литературы» я писал разделы по истории русского искусства (моя идея) и написал их от XI до XVIII века включительно. Получилась миниатюрная история русского искусства, связанная с историей русской литературы. Но привлечь меня к настоящей работе по десятитомной «Истории русской литературы» Варвара Павловна еще не решалась, тем более что один из сотрудников Отдела внезапно оказался моим большим недоброжелателем и это свое недоброжелательство «осуществлял» в течение ряда лет и впоследствии.
11 июня 1941 года я защитил кандидатскую диссертацию по новгородскому летописанию XII века. Для меня это была не только диссертация, но и выражение своей увлеченности Новгородом, где мы с женой в 1937 году провели свой отпуск, а спустя год я приезжал туда со своими друзьями – М. И. Стеблин-Каменским и Э. К. Розенбергом – русским немцем удивительно веселого нрава. Мы исходили Новгород и окрестности вдоль и поперек, побывали в каждом достопримечательном месте. Летописи Новгорода представлялись мне живыми, события становились почти зримыми. С тех пор я оценил научные темы, даже отвлеченно-филологические, в которых была бы хоть доля личного чувства. Своим ученикам я стараюсь постоянно рекомендовать темы, так или иначе связанные с ними биографически, темы, не только обещающие интересные результаты, но и близкие им по материалу.
Защиты диссертаций были в те времена не очень частым явлением. На моей диссертации оппонентами выступали академики А. С. Орлов и А. Н. Насонов. Пришли лингвисты (среди них академики Б.М.Ляпунов, Б.А.Ларин, Е. С. Истрина) и литературоведы (В. Л. Комарович), историки и историки искусства (Н. Н. Воронин). Народу было довольно много. А. Н. Насонов как оппонент произносил свой довольно длинный отзыв без единого листка бумаги – все по памяти.
Через две недели разразилась война. На призывном пункте меня с моими постоянными язвенными кровотечениями начисто забраковали, и я довольствовался участием в самообороне, жил на казарменном положении в институте, работая «связистом» и дежуря на башне Пушкинского Дома. В моем ведении была ручная сирена, которую я приводил в действие при каждом налете вражеской авиации. Спал я то на крыловском диванчике, то на большом диване из Спасского-Лутовинова и думал, думал. Жена старалась дома выкупить весь паек на всех, вставала ночью, чтобы занять очередь первой в магазин. Детей тогда было приказано вывозить из Ленинграда, взрослым же оставаться. Но мы своих детей скрывали на Вырице, откуда их вывез перед самым занятием ее немцами заведующий корректорской Издательства Академии наук М. П. Барманский. Если бы не он, остался бы я без семьи. Мы в Пушкинском Доме и не подозревали, что враг так близок к Ленинграду, хотя и ездили на окопные работы – сперва у Луги, потом у Пулкова.

Новгород. Рисунок Д.С. Лихачева
Удивительно, что, несмотря на голод и на физические работы по спасению наших ценностей в Пушкинском Доме, несмотря на все нервное напряжение тех дней (а может быть, именно благодаря этому нервному напряжению), язвенные боли у меня совсем прекратились, и я находил время читать и работать.
Не касаюсь сейчас истории нашей жизни в блокированном Ленинграде: это тема целой книги. Писать о блокаде мельком невозможно. Скажу лишь следующее: потери в нашем институте, в нашей семье, среди наших знакомых и родных были ужасающие: больше половины моих родных и знакомых погибли от истощения. Мы очень плохо представляем себе, сколько людей унес голод и все остальные лишения.
Однако мозг в голод работал напряженно. Я даже думаю, что эта усиленная работа голодающего мозга «запрограммирована» в человеке. Особенно остро мыслить в период лишений и опасности необходимо для сохранения жизни. Но думалось в этот период не о том, как бы избегнуть этих лишений, а об общих судьбах нашей страны, России.
Миллионы ленинградцев уже не знают – что такое была блокада. Представить себе это невозможно. А что говорить о приезжих, об иностранцах.
Чтобы чуточку представить себе, что такое была блокада, надо зайти в школу, когда кончаются уроки. Посмотрите на этих шумных детей и представьте себе именно их, но в десятках тысяч, молча лежащих в своих постельках в промерзлых квартирах, без движения, даже не просящих пищи, а только выжидательно на вас смотрящих.
А еще представьте себе или вспомните (это было совсем недавно) те отсутствующие классы в ленинградских школах, которые приходились на годы рождения их учащихся – особенно 1941–1942-й.
Об окончании войны я узнал утром на улице – по лицам и поведению прохожих: одни смеялись и обнимали друг друга, другие одиноко плакали. Какое другое событие могло вызвать столько радости и такую волну горя? Плакали о тех, кто погиб, умер от истощения в Ленинграде, не дождался встречи с родными, кто оказался изуродованным и нетрудоспособным. Я и сам, прежде чем взять в руки газету, думал о многих самых мне близких людях, умерших от голода в Ленинграде и убитых на фронте. Была и тревога за тех, о ком долго не было известий: живы ли они, сохранились ли? Хотелось встречаться, говорить; множество чувств, и самых разнообразных, овладевало мной и другими. Не помню только одного: чувства мстительного торжества.

Д. С. Лихачев и З.А. Лихачева
Понять значение Победы можно было только масштабно. Все же исторические последствия Победы будут изучать еще не одно десятилетие. Грандиозность же масштабов происшедших событий была ясна сразу, и в те дни, может быть, даже яснее, чем в последующее время. Только люди, пережившие всю горечь поражений первого года, весь ужас блокады Ленинграда, ясно осознавали – от чего они освободились и что, думалось тогда, никогда не сможет повториться. Если бы люди во всем мире обладали и сохраняли живое чувство ужаса от пережитого во время войны, современная политика строилась бы иначе.
Прошлое – будущему. Л. 1985.
КАК МЫ ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ
«...Существует только то, чего уже нет. Будущего может не быть; настоящее может и должно перемениться; одно прошедшее не подвержено изменяемости: воспоминание бережет его...» (Жуковский).
Я верю, что ничто не исчезает, все остается, хотя и вне поля нашего сознания. Времени в наших формах его восприятия нет.
Эта тетрадь – для наших детей – моих.
В среду 26 июня 1957 года мы с мамой решили поехать из Зеленогорска в город не обычным путем (поездом или автобусом), а теплоходом с Золотого пляжа. Теплоходы из Зеленогорска в Ленинград только что начали ходить, и хотелось посмотреть на Финский залив с самого залива. Я живу на берегу Финского залива с детства, но в море бывал только на лодке (и то очень редко) или на пароходе – из Ленинграда в Петергоф (раза два-три). Вот мы и отправились на Золотой пляж к пристани и прошли как раз мимо тех дач, в одной из которых ранней весной (или, вернее, поздней зимой, так как лежал еще снег) 1941 года на втором этаже мы собирались снять на лето комнату. Собирались, но не сняли... Сняла П.Ширяева. Мы с мамой и спросили друг друга: «А что, если бы мы эту дачу сняли, – остались бы мы живы?» Так возникла у нас мысль записать для наших детей по возможности все то, что сохранила нам память о событиях 1941–1942 годов.
Будем записывать, не претендуя ни на систематичность, ни на особую литературность. Если я что-нибудь забуду, поправит мама. У нашей мамы память лучше и точнее моей, особенно на числа.
Суббота. 29 июня 1957 года
* * *
Итак, в 1941 году мы не сняли дачи в Териоках. Мы сняли дачу в Вырице. Идти к нашей даче надо было по прямой и широкой улице прямо от вокзала. Эту улицу пересекали под прямым углом другие улицы с названиями в память русских писателей. Одним из этих писателей был И.А.Крылов, приютивший нас на своей улице с молодыми соснами, в новом доме, не очень далеко от речки Оредеж. Говорят, дача сохранилась.
Дача была дешевая. В этом-то все и дело, так как я служил младшим научным сотрудником в Пушкинском Доме и получал мало. Правда, мы брали еще в издательстве рукописи на монтировку и даже внесли в это дело кое-какие усовершенствования (вместо того чтобы заклеивать маленькими кусочками бумажки вычеркнутые буквы и отрывки, мы стали их замазывать гуашью, что убыстрило работу), но заработок все же оставался очень маленьким. Помню, что в нашей дешевой даче была комната и балкон. В том же доме, только что выстроенном, жили и еще какие-то дачники. 11 июня я защитил диссертацию, но в старшие научные сотрудники меня перевели только в августе – тогда резко увеличилась моя зарплата. Няней у нас была Тамара Михайлова. Я ездил на дачу часто и иногда даже оставался там на день-два, беря туда часть работы.
Лето было хорошее. Мы ходили на реку и там, выбрав место с небольшим «пляжем», на котором могла поместиться только наша семья, загорали и купались. Берег был крутой, и над нашим крохотным «пляжем» проходила тропинка. Вот однажды мы услышали на нашем пляже отрывки страшного разговора. По тропинке торопливо шли какие-то дачники и говорили о бомбардировке Кронштадта, о каких-то самолетах. Мы сперва подумали: не вспоминают ли они финскую кампанию 1939 года, но их взволнованные голоса встревожили и нас. Когда мы вернулись на свою дачу, нам рассказали: началась война. К вечеру в саду дома отдыха мы слушали радио. Громкоговоритель висел где-то высоко на столбе, и на площадке перед ним стояло много народу. Люди были очень мрачны и молчаливы. Наутро я уехал в город. Дома мама и Юра услышали о войне по радио. Юра, рассказывала мама, побелел. В городе меня поразила тоже мрачность и молчание. После молниеносных успехов Гитлера в Европе никто не ожидал ничего хорошего. Всех удивляло то, что буквально за несколько дней до войны в Финляндию было отправлено очень много хлеба, о чем сообщалось в газетах. Более разговорчивы были люди в Пушкинском Доме, но с оглядкой. Говорил больше А. И. Грушкин: строил всякие фантастические предположения, но все «патриотические».
Что было в течение первых дней войны, я не помню. Потом пошли «установки»: научные учреждения АН должны быть законсервированы, начались сокращения, продолжавшиеся до весны 1942 года, сотрудников записывали в добровольцы, ходили слухи об эвакуации. Слухи о том, куда будут эвакуировать Пушкинский Дом, менялись несколько раз в неделю.
Газеты неясно сообщали о положении на фронтах, и люди жили слухами. Слухи передавались повсюду: в буфете, на улицах, но им плохо верили – слишком они были мрачны. Потом слухи оправдывались.
Пугали слухи об эвакуации детей. Были действительно отданы приказы об эвакуации детей. Набирали женщин, которые должны были сопровождать детей. Так как выезд из города по личной инициативе был запрещен, то к детским эшелонам пристраивались все, кто хотел бежать. Пристраивались по преимуществу евреи. Им было особенно страшно. Что такое фашизм для евреев – это к тому времени было уже хорошо известно. Евреи выезжали всяческими путями, кто как мог. Мы решили детей не отправлять и не разлучаться с ними. Было ясно, что отправка детей совершается в полнейшем беспорядке. И, действительно, позднее мы узнали, что множество детей было отправлено под Новгород – навстречу немцам. Рассказывали, как в Любани сопровождавшие «дамы», похватав своих собственных детей, бежали, покинув детей чужих. Дети бродили голодные, плакали. Маленькие дети не могли назвать своих фамилий, когда их кое-как собрали, и навеки потеряли родителей. Впоследствии, в 1945 году, многие несчастные родители открыто требовали судить эвакуаторов – в их числе и «отцов города». «Эвакуация» была насильственная, и мы скрывались в Вырице, решив жить там до последней возможности. Рядом с нами на Вырице жил и М. П. Барманский с семьями своих сыновей. Мы советовались с ним и вместе скрывали своих детей от эвакуации: мы дочерей, а он внуков.
Но немцы наступали быстро. Над городом поднялись десятки аэростатов воздушного заграждения. На башне Пушкинского Дома мы несли круглосуточное дежурство, и ездить на дачу становилось труднее. Последний раз я уезжал с Вырицы в поезде из одних мягких вагонов (состав откуда-то был «пригнан»). Стекла в поезде были выбиты: немецкие самолеты бомбардировали его около самой Вырицы. В Вырице слышны были оглушительные бомбардировки Сиверского аэродрома. Раза два совсем низко пролетели над дачей немецкие «мессершмитты». Они внезапно появлялись над самыми деревьями, страшно ревели моторами и так же внезапно исчезали.
Однажды после ночного дежурства в Пушкинском Доме я вернулся домой на Лахтинскую улицу и застал дома Зину и детей. Оказывается, их перевез с дачи М. П. Барманский. Он решил, что жить на Вырице «хватит», перевез сначала своих, а потом специально поехал за моими и перевез их со всеми вещами: на даче остались только ходики, корыто, детские кроватки, шезлонг и еще что-то. А В. Л. Комарович с семьей остались на Сиверской и переехали оттуда недели через полторы. Немцы уже были совсем близко от Сиверской. Эти полторы недели стали роковыми для Комаровичей: они не успели ничем запастись...
Ко времени нашего возвращения с Вырицы в Ленинграде существовала уже карточная система. Магазины постепенно пустели. Продуктов, продававшихся по карточкам, становилось все меньше: исчезали консервы, дорогая еда. Но хлеба первое время по карточкам выдавали много. Мы его не съедали весь, так как дети ели хлеба совсем мало. Зина хотела даже не выкупать весь хлеб, но я настаивал: становилось ясно, что будет голод. Неразбериха все усиливалась. Поэтому мы сушили хлеб на подоконниках на солнце. К осени у нас оказалась большая наволочка черных сухарей. Мы ее подвесили на стенку от мышей. Впоследствии, зимой, мыши вымерли с голоду. В мороз, утром в тишине, когда мы уже по большей части лежали в своих постелях, мы слышали, как умиравшая мышь конвульсивно скакала где-то у окна и потом подыхала: ни одной крошки не могла она найти в нашей комнате. Пока же, в июле и августе, я твердил: будет голод, будет голод! И мы делали все, чтобы собрать небольшие запасы на зиму. Зина стояла в очередях у темных магазинов, перед окнами которых вырастали заслоны из досок, сколоченных высокими ящиками, в которые насыпалась земля.
Что мы успели купить в эти первые недели? Помню, что у нас был кофе, было очень немного печенья. Как я вспоминал потом эти недели, когда мы делали свои запасы! Зимой, лежа в постели и мучимый страшным внутренним раздражением, я до головной боли думал все одно и то же: ведь вот, на полках магазинов еще были рыбные консервы – почему я не купил их! Почему я купил в апреле только 11 бутылок рыбьего жира и постеснялся зайти в аптеку в пятый раз, чтобы взять еще три! Почему я не купил еще несколько плиток глюкозы с витамином С! Эти «почему» были страшно мучительны. Я думал о каждой недоеденной тарелке супа, о каждой выброшенной корке хлеба или о картофельной шелухе с таким раскаянием, с таким отчаянием, точно я был убийцей своих детей. Но все-таки мы сделали максимум того, что могли сделать, не веря ни в какие успокаивающие заявления по радио.
Передаю перо Зине.
К тому, что написал папа, я дополню. В тот год мы поздно выехали на дачу, так как папа 11 июня 1941 года защищал кандидатскую диссертацию. На дачу мы поехали 19 июня. Наняли грузотакси и на нем перевезли все вещи. У нас была хорошая комната и веранда: все маленьких размеров, но квадратные. Тамара спала наверху, около чердака. Погода была прекрасная, и дети быстро стали поправляться. Мы благополучно прожили всего девять дней: ходили купаться на речку, гуляли в лесу и лежали на траве в нашем дворе около веранды. Когда мы купались, то девочки ложились мне на спину и я плавала. После объявления войны я осталась без Тамары, так как она поступила на завод, но оставалась в нашей квартире на Лахтинской улице (дом 9, квартира 12).
Мы жили на Вырице до 18 июля. К нам приехала на несколько дней бабушка. Нас перевез М.П. Барманский. Это было в воскресенье, под вечер. Он помог мне собрать вещи, и мы приехали с детьми в город. Вот не помню, как мы все перевезли. Помню, что как-то раньше я привезла в город два тяжелых чемодана, возможно, помогала Тамара. На даче остались детские кровати, посуда, шезлонг. Всю блокаду девочки спали уже на кроватях взрослых. Одну кровать дала Нина Урвачева. В городе было трудно достать молоко. Я вставала очень рано и стояла в толпе перед воротами рынка. Наконец ворота открывались, и все бросались к молочным ларькам. Сначала я доставала два литра, а потом все меньше и меньше. Часть этого молока я отдавала бабушке, которая оставалась с детьми. Мне приходилось стоять в очередях и с детьми, так как до введения карточек на них давали продукты: лишний килограмм крупы. Карточки ввели, и мы стали сушить хлеб и булки в чудо-печке, на керосинке. Только потому, что Митя советовал выкупать весь хлеб и булки, сушить их, так как впереди нас ждет голод, мы имели запас сухарей. Этот запас нас спас тогда, когда стали давать норму хлеба на человека в 250 и 125 граммов. Когда ввели карточки, то норма была 600 граммов для служащих и 400 граммов для иждивенцев и детей. Я помню, у нас был запас картошки и сливочного масла. Мы хранили картошку в кухне, а масло за дверью. Я стала замечать, что эти запасы понемногу уменьшаются, хотя мы их не трогали. Мы решили, что в этом виноваты наши соседи Кесаревы, и стали все продукты хранить у себя в комнате. У нас был запас в несколько бутылок рыбьего жира. Это было важно для детей.
Продолжаю писать. 11 стограммовых бутылочек рыбьего жира я купил в аптеке на углу Большого проспекта и Введенской улицы – тогда она помещалась в старом двухэтажном здании.
Жизнь постепенно приобретала фантастические формы.
Эвакуация постепенно сошла на нет. Нам не приходилось скрывать своих детей. Начались бомбардировки. Только о них и были разговоры. Каждый день они начинались в один и тот же час, но так как враг был настолько близок, что предупредить о приближении самолетов было нельзя, то сигналы воздушной тревоги слышались только тогда, когда бомбы уже падали на город.
Я помню один из первых ночных налетов. Бомбы со свистом пролетали над нашим пятым этажом. Мы лежали в постелях. Вслед за воем бомб наш дом содрогнулся, что-то заскрипело на чердаке, и мы услышали разрыв. На следующий день оказалось, что бомбы упали на перекрестке Гейслеровской и Рыбацкой – не так уж близко от нас. Был убит постовой милиционер. Бомба снесла целый угол здания, где когда-то помещался ресторанчик, в котором бывал Блок. Бомба засыпала подвальное бомбоубежище, порвала водопровод, и людей, спасавшихся в нем, затопило. После этого мы окончательно решили не спускаться в наши подвалы. Во-первых, это было бесполезно, во-вторых, хождение на пятый этаж и с пятого этажа отнимало много сил. Первый перестал ходить дедушка (мой папа). Он продолжал лежать в постели. Упорно ходили в бомбоубежище Кесаревы, каждый раз таская с собой какие-то чемоданы (Кесаревы – это наши соседи по квартире – муж и жена). Но все же мы присмотрели комнату на первом этаже с окнами во двор и ходили туда некоторое время ночевать. Хозяйка ее – одинокая женщина – служила в Кронштадте и любезно дала нам ключ от своей комнаты. Так нам казалось безопаснее. Как только могли, мы старались вести обычный образ жизни. Даже гуляли в Ботаническом саду. Сохранились снимки – мы с детьми в Ботаническом саду. Снимал мой брат Юра. Через несколько минут после того, как мы сфотографировались, началась воздушная тревога. Но в саду мы чувствовали себя вполне спокойно даже во время бомбежки. Я снят в сером пальто. Из-за этого серого пальто меня чуть было не приняли за шпиона, так как светлые тона одежды не были у нас в стране еще приняты и служили признаком иностранца. Это было на Витебском вокзале, когда я собирался ехать на дачу в Вырицу. Следили за мной мальчишки и пошли кому-то сказать обо мне. К счастью, поезд быстро отошел, а то бы мне пришлось изрядно опоздать к своим. Кстати, о шпионах. Шпиономания в городе достигла невероятных размеров. Шпионов искали всюду. Стоило человеку пойти с чемоданчиком в баню, как его задерживали и начинали «проверять». Так было, например, с М. А. Панченко (нашим ученым секретарем). Ходило много рассказов о шпионах. Рассказывали о сигналах, которые передавались с крыш немецким самолетам. Были какие-то якобы автоматические маяки, которые начинали сигнализировать как раз в часы налетов. Такие маяки, по слухам, находились в трубах домов (их было видно только сверху), на Марсовом поле и т.д. Какая-то доля истины в этих слухах, может быть, и была: немцы действительно знали все, что происходит в городе.
Однажды в августе мы шли из нашей поликлиники на Каменноостровском. Был вечер, и над городом поднялось замечательной красоты облако. Оно было белое-белое, поднималось густыми, какими-то особенно «крепкими» клубами, как хорошо взбитые сливки. Оно росло, постепенно розовело в лучах заката и наконец приобрело гигантские, зловещие размеры. Впоследствии мы узнали: в один из первых же налетов немцы разбомбили Бадаевские продовольственные склады. Облако это было дымом горевшего масла. Немцы усиленно бомбили все продовольственные склады. Уже тогда они готовились к блокаде. А между тем из Ленинграда ускоренно вывозилось продовольствие и не делалось никаких попыток его рассредоточить, как это сделали англичане в Лондоне. Немцы готовились к блокаде города, а мы – к его сдаче немцам. Эвакуация продовольствия из Ленинграда прекратилась только тогда, когда немцы перерезали все железные дороги; это было в конце августа.
Ленинград готовили к сдаче и по-другому: жгли архивы. По улицам летал пепел. Бумажный пепел как-то особенно легок. Однажды, когда в ясный осенний день я шел из Пушкинского Дома, на Большом проспекте меня застал целый дождь бумажного пепла. На этот раз горели книги: немцы разбомбили книжный склад Печатного Двора. Пепел заслонял солнце, стало пасмурно. И этот пепел, как и белый дым, поднявшийся зловещим облаком над городом, казались знамениями грядущих бедствий. Город между тем наполнялся людьми: в него бежали жители пригородов, бежали крестьяне. Ленинград был окружен кольцом из крестьянских телег. Их не пускали в Ленинград. Крестьяне стояли табором со скотом, плачущими детьми, начинавшими мерзнуть в холодные ночи. Первое время к ним ездили из Ленинграда за молоком и мясом: скот резали. К концу 1941 года все эти крестьянские обозы вымерзли. Вымерзли и те беженцы, которых рассовали по школам и другим общественным зданиям. Помню одно такое переполненное людьми здание на Лиговке. Наверное, сейчас никто из работающих в нем не знает, сколько людей погибло здесь. Вымирали и те, которые подвергались «внутренней эвакуации» из южных районов города: они тоже были без вещей, без запасов. Глядя на них, становились ясными все ужасы эвакуации. Вот как это было.
В нашем доме в оставленных квартирах расселили семьи путиловских рабочих. Однажды, возвращаясь из Пушкинского Дома, я заметил на Лахтинской улице несколько автобусов. Из них выходили женщины, редко мужчины. Было очень много детей. Оказалось, что немцы внезапно подошли к Путиловскому заводу. Обстреливали район из минометов. Жителей срочно перевезли. Впоследствии эти семьи, эвакуированные из южных районов Ленинграда, все вымерли. Они рано начали голодать. Об одной такой вымершей семье, жившей рядом с нами на площадке в квартире Колосовских, я расскажу после. Когда «фронт» стабилизировался у Путиловского, в ту сторону стали ездить ленинградцы – собирать овощи с огородов под пулями немцев. Ездили и Комаровичи за капустными кочерыжками. Это дало им возможность немного запастись продовольствием.
В. Л. Комарович был единственным из знакомых, кто заходил к нам в Ленинграде. Тогда приходили только родные. Заходил дядя Вася, рано начавший голодать. Мы давали и Комаровичу и дяде Васе черные сухари. Дядя Вася принес девочкам куклы, купленные им по дорогой цене. Куклы купить было можно, но еды – ни за какие деньги. Дядя Вася рассказывал нам, что он так голодал, что пошел к своему племяннику Шуре Кудрявцеву и стал перед ним на колени, прося у него хоть немножко еды. Шура не дал, хотя у него были запасы. Впоследствии погибли и дядя Вася и Шура Кудрявцев – последний не от голода, но смертью не менее страшной. Я об этом еще расскажу.
Комарович все строил прогнозы. Он любил думать о грядущих судьбах мира. Рассуждал он очень интересно, но не во всем был прав. Помню его еще до войны на Кронверкском проспекте (теперь проспекте Горького): он читал вывешенную газету с сообщениями о потоплении какого-то английского линкора. Все были тогда уверены, что Германия победит, но В. Л. перед газетой сказал: «Британский лев старый и опытный. Его не так-то легко взять. Думаю, что в конце концов победит Англия». Мне эти слова запомнились, потому что я и сам начал с тех пор думать так же. Заходил к нам и панически настроенный некий X. он все время рассуждал о том, как достать еды. Их дом разбомбило. Во время бомбежки его семья спустилась в бомбоубежище, а он сам встал под лестницей. Бомба попала как раз в лестничную клетку. Ступеньки стали на него валиться, но он чудом спасся: ступеньки, падая, образовали над ним свод. Ему только сильно придавило грудную клетку. Его откопали. Откопали и семью в бомбоубежище. Те были целы, а X. отвезли в больницу и через несколько дней выпустили. Но благодаря этому случаю все они остались живы, и вот как. X. «догадался»: он заявил властям, что у него при бомбежке погибли паспорта. В новом доме, где их прописали, им выдали новые паспорта. Он стал получать карточки и по старым паспортам, и по новым. Таких случаев было в городе очень много. Люди получали карточки на эвакуированных, на мобилизованных, на убитых и умерших от голода. Последних становилось все больше.
Помню – я был зачем-то в платной поликлинике на Большом проспекте Петроградской стороны. В регистратуре лежали на полу несколько человек, подобранных на улице. Им ставили на руки и на ноги грелки. А между тем их попросту надо было накормить, но накормить было нечем. Я спросил: что же с ними будет дальше? Мне ответили: «Они умрут». – «Но разве нельзя отвезти их в больницу?» – «Не на чем, да и кормить их там все равно нечем. Кормить же их нужно много, так как у них сильная степень истощения». Санитарки стаскивали трупы умерших в подвал. Помню – один был еще совсем молодой. Лицо у него было черное: лица голодающих сильно темнели. Санитарка мне объяснила, что стаскивать трупы вниз надо пока они еще теплые. Когда труп похолодеет, выползают вши. Город был заражен вшами: голодающим было не до «гигиены».
То, что я увидел в поликлинике на Большом проспекте, – это были первые пароксизмы голода. Голодали те, кто не мог получить карточек: бежавшие из пригородов и других городов. Они-то и умирали первыми, они жили вповалку на полу вокзалов и школ. Итак, одни с двумя карточками, другие без карточек. Этих беженцев без карточек было неисчислимое количество, но и людей с несколькими карточками было немало.
Особенно много карточек оказывалось у дворников. Дворники забирали карточки у умирающих, получали их за эвакуированных, подбирали вещи в опустевших квартирах и меняли их, пока еще можно было, на еду. Мама меняла свои платья на дуранду. Дуранда (жмыхи) выручала Ленинград во второй раз. Первый раз ее ели петроградцы в 1918–1920 годах, когда Петроград голодал. Но разве можно было сравнить тот голод с тем, который готовился наступить!
Трамваи еще ходили в городе. Однажды в августе или начале сентября я видел, как перевозили войска в трамваях – с юга Ленинграда на север: финны прорвали фронт и полным ходом наступали к Ленинграду, никем не задерживаемые. Но они остановились на своей старой границе и дальше не пошли. Впоследствии с финской стороны не было сделано по Ленинграду ни одного выстрела. С той стороны не летало и самолетов. Но Поле Ширяевой со своими детьми пришлось бежать из Териок в первый же день войны. Детей ей пришлось отправить одних, и они выехали с академическим эшелоном в Тетюши – под Казань. Так же пришлось бы нам расстаться с детьми, если бы мы сняли дачу в Териоках.
Теперь расскажу о том, что происходило в Пушкинском Доме. Там в августе и сентябре работали буфет и академическая столовая. Эти два места были центрами притяжения, центрами встреч, разговоров. Отсюда распространялись новости, здесь люди встречали друг друга и... переставали встречать.
Уже в июле началась запись в добровольцы. Записались все мужчины. Их поочередно приглашали в директорский кабинет, и здесь Л. А. Плоткин с секретарем парторганизации А. И. Перепеч «наседали». Помню, М. А. Панченко вышел бледный с дрожащими губами из кабинета: он отказался. Он сказал, что в добровольцы не пойдет, что будет призван и хочет сражаться в регулярной армии. Он сидел потом в канцелярии и сказал: «Я чувствую, что буду убит». Я это слышал. Его объявили трусом, клеймили позором. Но через несколько недель его призвали, как он и говорил. Он сражался партизаном и был убит где-то в лесах Калининской области. А Л. А. Плоткин, записывавший всех, добился своего освобождения по состоянию здоровья и зимой бежал из Ленинграда на самолете, зачислив за несколько часов до своего выезда в штат института свою «хорошую знакомую» – преподавательницу английского языка и устроив ее также в свой самолет по брони института.
Нас, «белобилетчиков», зачислили в институтские отряды самообороны, раздали нам охотничьи двустволки и заставили обучаться строю перед Историческим факультетом. Помню среди маршировавших Б.П.Городецкого и В. В. Гиппиуса. Последний как-то смешно ходил на носках, подаваясь всем корпусом вперед. И обучавший нас, и все мы потихоньку смеялись, глядя на старательную фигуру В. В. Гиппиуса, шагавшего на цыпочках. А Гиппиус, над которым мы смеялись, был уже обречен...
Во дворе Физиологического института отчаянно лаяли голодные собаки (впоследствии их съели, и они спасли жизнь многим физиологам). В Библиотечном институте срочно строили нары для всех нас, чтобы перевести на казарменное положение. Нам с В. В. Гиппиусом показали даже наши места на нарах. Мы пошли, посмотрели и ... ушли. Была полнейшая неразбериха, и было ясно, что оставаться ночевать на нарах бессмысленно. Вскоре и обучение прекратилось: люди уставали, не приходили на занятия и начинали умирать «необученными». Часть сотрудников ездили под Ленинград строить оборонительные рубежи. Здесь были более осмысленные занятия. Обнаруживались таланты: В. Ф. Покровская лечила травами и спасла от смерти С. Д. Балухатого. М.О. Скрипиль был коком на всю артель. От проходящих со своим скотом крестьян добыли телку. Кто-то смог ее зарезать. Но за город ездили и для других целей. Т. П. Ден ездила с группой женщин срезать кочерыжки на полях, где перед тем росла капуста. Перекапывали по второму разу картофельные поля и добывали разную съедобную мелочь в лесах.
Самое страшное было постепенное увольнение сотрудников. По приказу президиума, по подсказке нашего директора П. И. Лебедева-Полянского, жившего в Москве и совсем не представлявшего, что делается в Ленинграде, происходило «сокращение штатов». Каждую неделю вывешивались приказы об увольнении. В нашем секторе уволили В. Ф. Покровскую, затем М. О. Скрипиля. Уволили всех канцеляристок, и меня перевели в канцелярию. Увольнение было страшно, оно было равносильно смертному приговору: увольняемый лишался карточек, поступить на работу было нельзя. В. Ф. Покровская спаслась тем, что пошла в медицинские сестры. Скрипиль уехал из города в середине зимы.
Впоследствии в Казани мы слышали об этих увольнениях и записях в добровольцы следующий рассказ. Одного из вице-президентов Академии наук вызвал к себе В. М. Молотов и спросил: «Сколько научных сотрудников вы записали в добровольцы?» Тот назвал. «А сколько докторов наук?» Вице-президент назвал. «А сколько членов-корреспондентов?» Вице-президент и тут назвал какую-то цифру. «Академиков?» Тот смутился и сказал, что запись еще не успели произвести. «А вы сами намерены записаться?» Вице-президент побледнел и ответил утвердительно. Тут уж Молотов рассердился, обвинил его во вредительстве и снял его с поста. Перестарался, но результаты были налицо: многие научные сотрудники бессмысленно погибли в Кировской добровольной дивизии, необученной и безоружной. Еще больше погибло от бессмысленных увольнений. На уволенных карточек не давали. Вымерли все этнографы. Сильно пострадали библиотекари, умерло много математиков – молодых и талантливых. Однако зоологи сохранились: многие умели охотиться.
Но «на предлежащее возвратимся». В буфете собирались «пожарники», «связисты», вооруженные охотничьими двустволками, пили кипяток, получали порцию супа с зелеными капустными листьями (не кочанными, а верхними – жесткими) и без конца разговаривали. Особенно много говорил Г. А. Гуковский. Тут выяснилось, что он по матери русский (из Новосадских), что он православный, что он из Одессы, бывал в Венеции. Гуковский был в панике. В панике был и Александр Израилевич Грушкин. В день, когда немцы подошли вплотную к Ленинграду, он явился в буфет в фуражке, надетой набекрень, в рубахе, подпоясанной кавказским ремешком, и, здороваясь, отдавал честь. По секрету он сообщил, что, когда придут немцы, будет выдавать себя за армянина.
Директор Пушкинского Дома не спускался вниз. Его семья эвакуировалась, он переехал жить в институт и то и дело требовал к себе в кабинет то тарелку супа, то порцию каши. В конце концов он захворал желудком, расспрашивал у меня о признаках язвы и попросил вызвать доктора. Доктор пришел из университетской поликлиники, вошел в комнату, где он лежал с раздутым животом, потянул носом отвратительный воздух в комнате и поморщился. Уходя, доктор возмущался и бранился: голодающий врач был вызван к пережравшему директору!
Университетскую поликлинику я помню хорошо: я получал там справки на белый хлеб. Это нас поддерживало. В сентябре у меня начались язвенные боли, но они быстро прошли. Окна в поликлинике были уже заложены, и врачи принимали в ней при электрическом свете. Потом приемы прекратились, электричество перестало гореть. Заложены были окна и в академической столовой около Музея антропологии и этнографии АН. В этой столовой кормили по специальным карточкам. Многие сотрудники карточек не получали и приходили... лизать тарелки. Лизал тарелки и милый старик, переводчик с французского и на французский Яков Максимович Каплан. Он официально нигде не работал, брал переводы в издательстве, и карточки ему не давали. Первое время добился карточки в академическую столовую В. Л. Комарович, но потом ему отказали (в октябре). Он уже опух от голода к тому времени. Помню, как он, получив отказ, подошел ко мне (я ел за столиком, где горела коптилка) и почти закричал на меня со страшным раздражением: «Дмитрий Сергеевич, дайте мне хлеба – я не дойду до дому!» Я дал свою порцию. Потом я к нему пришел на квартиру (на Кировском) и принес плитку глюкозы с порошком шиповника (удалось купить перед тем в аптеке). Дома он вел раздражительный разговор с женой. Жена (Евгения Константиновна) пришла из Литфонда, где им также отказали в столовой, как не членам Союза писателей. Жена упрекала Василия Леонидовича, что он не смог раньше вступить в члены Союза писателей. Василий Леонидович одевал пальто, чтобы идти в столовую самому, но ослабевшие пальцы не слушались, и он не мог застегнуть пуговицы. Первыми отмирали те мускулы, которые не работали или работали меньше. Поэтому ноги переставали служить последними. Если же человек начинал лежать, то уже не мог встать. Я приходил к В. Л. Комаровичу и раньше, помогал ему пилить дрова. Надо ведь было думать и о топливе. Дрова же не были подвезены к городу.
Хотя бомбежки и прекратились, люди к ним готовились. Готовили фанеру для окон, заклеивали окна бумагой крест-накрест. Несколько листов фанеры, вырезанной по размерам наших стекол, принес и я домой. Они нам пригодились в 1945 году. Стекла же я заклеил не бумагой, а бинтами: говорили, так лучше. Фотографический клей был такой прочный, что потом, в 1945 году, мы с трудом смогли его отмыть.
Мне часто приходилось ночевать в институте. Мы дежурили, спали одетыми на «мемориальных» диванах (помню, что я чаще всего спал на удобных больших зеленых плюшевых диванах И. С. Тургенева из Спасского-Лутовинова). Вместе с нами дежурили и «словарники» (картотека древнерусского словаря помещалась над нами в Пушкинском Доме и была перенесена для сохранности к нам вниз). Помню Гейерманса, Лаврова, Филиппова и др. Однажды утром, войдя в комнату, где спал обычно Филиппов, я увидел, что он молится. Он страшно смутился и сделал вид, что упражняется в гимнастике.

Ленинград. На дежурстве (фото
А.Гаранина).
Дежурить в институте было особенно неприятно в те минуты, когда немцы бомбили Петроградскую сторону. Телефоны были выключены чуть ли не в июле 1941 года, и справиться – живы ли мои – было нельзя. Надо было ждать конца дежурства. Каждая же падавшая бомба, казалось, падала именно на наш дом. Только завернув на Лахтинскую улицу и увидев, что наш дом цел, я успокаивался, но надо было дойти до дому, подняться на пятый этаж и только тогда узнать, как прошли сутки, казавшиеся бесконечно длинными.
А ходить становилось все труднее. Я состоял «связистом» и иногда надо было идти на квартиру к служащим, чтобы вызвать их для какой-нибудь экстренной оборонной работы. У меня был ночной пропуск, который достал мне браг Юра, переехавший от нас с женой в комнату, которую он добыл на Кировском проспекте в квартире начальника «Скорой помощи» Месселя. Я видел город и днём и ночью, и рано утром, и вечером, во время воздушной тревоги, в темноте, почти без людей, стремившихся беречь силы и не выходить из своих квартир.
Отец еще продолжал ходить на службу. Он работал в типографии «Коминтерн» на Красной улице, дом 1. Он тушил пожары в соседнем архиве, дежурил, плохо ел. Дома все колол дрова на плите для наших «буржуек» (пригодился опыт первого петроградского голода 1918–1920 годов).
Однажды я встретил отца около Адмиралтейства. Мы с ним вместе пошли домой (трамваев не было). Когда переходили Дворцовый мост, начался обстрел. Снаряды рвались совсем близко с оглушительным треском. Отец шел, не оглядываясь и не ускоряя шага. Мы только крепче взяли друг друга под руку. Следы разрывов «тех» снарядов еще и сейчас есть на гранитной набережной около Дворцового моста. Я всегда знал, что отец не трус, но тут я убедился, каким выдержанным мог быть он – самый невыдержанный и самый раздражительный человек из всех, кого я только знал.
Передаю перо Зине.
Все домашние хозяйки дежурили на улице, сидя у парадной двери. Вечером нужно было следить, хорошо ли затемнены окна. Все в доме перезнакомились во время дежурств и всё разговаривали о том, где достать продуктов. На дежурстве я познакомилась с женщиной, которая предложила мне спать с детьми в комнате первого этажа окнами во двор. Это было в конце сентября. Я помню этот страшный взрыв на Гейслеровской, о котором пишет папа. Я спала на складной кровати посредине комнаты. Когда пронеслась эта бомба, было такое чувство, что лежишь в воздухе и вокруг пустота. Мы не спускались в бомбоубежище, и за всю войну я там ни разу не была. Недели три ходили на первый этаж, а потом перестали и это делать. Помню, как я старалась «отоварить» карточки. Карточки выдавали, но продуктов было мало, вот и приходилось стоять часами, днями под бомбежкой, чтобы получить продукты. Я получала их для всей своей семьи и для бабушки с дедушкой. В конце октября я, получив все продукты, счастливая вернулась домой. Вместо масла получила голландский сыр. Сергей Михайлович поцеловал мне руку, поблагодарил и сказал, что если бы не я, то он не получил бы продуктов. Так я отоваривала все карточки, кроме декабрьских. По ним мы не получили масла. Я вставала в два часа ночи, когда все спали. Ходила в папиных валенках и в большом платке (белом, он и сейчас цел, я его купил в Пятигорске. – Д. Л.), в рукавицах, которые кроил папа. Сверху сукно, а внизу детское шерстяное платье. Михаил Иванович и Ольга Сергеевна обещали нам достать дуранду по большой цене, а у нас не было денег. Деньги я взяла у своего папы, но дуранду нам так и не достали. Мы меняли вещи. О том, что нужно непременно менять и ничего не жалеть, нам сказал Василий Леонидович Комарович. Он пришел к нам, мы его угощали чаем с хлебом. Он сказал: «Теперь хлеб как пряник». Мы с папой были в тяжелом настроении. Василий Леонидович старался нас подбодрить и говорил: «Не унывайте, Дмитрий Сергеевич, мы еще с вами большие дела сделаем». А потом сам вскоре заболел и в феврале умер. В. Л. Комарович советовал менять прежде всего женские вещи. Я пошла на Сытный рынок, где была барахолка. Взяла свои платья. Голубое крепдешиновое я променяла на один килограмм хлеба. Это было плохо, а вот серое платье поменяла на килограмм 200 граммов дуранды. Это было лучше.
Как мы варили суп? Получали 300 граммов мяса. Папа мелко нарезал это мясо, кости толкли в ступке и варили большую кастрюлю супа.
Зима началась очень рано и была очень холодная. Дрова у нас были благодаря стараниям Сергея Михайловича. Дворник отказался носить и посоветовал нам перенести все дрова домой.
Продолжаю писать вместо Зины.
Я тоже помню, как Василий Леонидович посоветовал нам менять женские вещи. Он сказал: «Жура наконец поняла, какое положение: она разрешила поменять свои модельные туфли». Жура – это его дочь, она училась уже в Театральном институте. Василий Леонидович иногда жаловался на ее эгоизм (помню его фразу: «Вы не знаете, что значит иметь в доме кончающую гимназистку!»). Модные женские вещи – единственное, что можно было обменять: продукты были только у подавальщиц, продавщиц, поварих.
А что такое дуранда – узнайте, зайдите как-нибудь в фуражный магазин, где продают корм для скота. Дуранда спасала ленинградцев в оба голода.
Впрочем, мы ели не только дуранду. Ели столярный клей. Варили его, добавляли пахучих специй и делали студень. Дедушке (моему отцу) этот студень очень нравился. Столярный клей я достал в Институте – 8 плиток. Пока варили клей, запах был ужасающий.
Передаю перо Зине.
В клей клали сухие коренья и ели с уксусом и горчицей. Тогда можно было как-то проглотить. Удивительно, я варила клей, как студень, и разливала в блюда, где он застывал. Еще мы ели кашу из манной крупы. Этой манной мы чистили детские шубки белого цвета. Манная крупа была с шерстинками от шубы, имела густо-серый цвет от грязи, но все были счастливы, что у нас оказалась такая крупа. В начале войны мы купили несколько бутылок уксуса и несколько пачек горчицы. Интересно, что когда мы эвакуировались и продавали вещи, то бутылки с уксусом продали по 150 рублей. Они ценились так же, как письменный прибор.
Как мы отапливались? Сергей Михайлович еще весной купил дрова, но распилить и расколоть не успели, а когда началась война, дворник отказался это делать. Дрова стали растаскивать, поэтому мы решили их поднять на пятый этаж. Я помню, таскали их Сергей Михайлович, я, Юра и Тамара. Сложили их в кухне под окном. Потом мы в кухне их пилили, а Сергей Михайлович мелко колол для буржуйки, на которой готовили пищу. Вначале мы топили в комнате изразцовую печку. На наше несчастье, она испортилась, и нам пришлось звать печника и платить ему вином, которое выдавали по карточкам и которое мы могли бы обменять на хлеб. Когда Юра с Ниночкой эвакуировались, они отдали нам свою замечательную буржуйку. Мы ее поставили в комнату и уже готовили в комнате и обогревались. У Ниночкиного знакомого Роньки мы обменяли мои золотые часы на 750 граммов риса. Часы были золотые, заграничные, плоские, но не шли. Бабушка выменяла 3 килограмма сливочного масла на золотой браслет и один килограмм дала нам украдкой от дедушки (у дедушки начиналась патологическая жадность – следствие дистрофии).
Итак, я начинаю писать.
Наш рассказ похож на детскую игру: каждый следующий пишет продолжение, не зная, что написал предшествующий; получается ерунда, которую потом весело читать. Но в том, что мы пишем, веселого нет. Это был такой ужас, который сейчас трудно вспомнить, так как память, обороняясь, выбрасывает самое страшное.
Помню, как к нам пришли два спекулянта. Я лежал, дети тоже. В комнате было темно. Она освещалась электрическими батарейками с лампочками от карманного фонаря. Два молодых человека вошли и стали спрашивать: «Баккара, готовальни, фотоаппараты есть?» Спрашивали и еще что-то. В конце концов что-то у нас купили. Это было уже в феврале или марте. Они были страшны, как могильные черви. Мы еще шевелились в нашем темном склепе, а они уже приготовились нас жрать.
А перед тем – осенью – приходил Дмитрий Павлович Калистов. Шутя спрашивал, не продадим ли мы собачки, нет ли у нас знакомых, которые хотели бы передать собачек «в надежные руки». Калистовы уже ели собак, солили их мясо впрок. Резал Дмитрий Павлович не сам – это ему делали в Физиологическом институте. Впрочем, к тому времени, когда Д. П. приходил к нам, в городе не оставалось ни собак, ни кошек, ни голубей, ни воробьев. На Лахтинской улице было раньше много голубей. Мы видели, как их ловили. Павловские собаки в Физиологическом институте были тоже все съедены. Доставал их мясо и Дмитрий Павлович. Помню, как я его встретил около Большой Пушкарской, он шел с рюкзаком за плечами, нес собачку из Физиологического института. Собачье мясо, говорили, очень богато белками.
Одно время мне удалось добыть карточки в диетстоловую. Диетстоловая помещалась за Введенской, кажется, на Павловской улице, недалеко от Большого. В столовой была темнота: окна были «зафанерены». На некоторых столах горели коптилки. К столу с коптилкой собирались «обедающие» и вырезали необходимые талоны. Развилась кража: коптилку внезапно тушили, и воры хватали со стола отрезанные талончики и карточки. Раз украли и у меня талончики. Сцены бывали ужасные. Некоторые голодающие буквально приползали к столовой, других втаскивали по лестнице на второй этаж, где помещалась столовая, так как они сами подняться уже не могли. Третьи не могли закрыть рта, и из открытого рта у них сбегала слюна на одежду. Лица были у одних опухшие, налитые какой-то синеватой водой, бледные, у других – страшно худые и темные. А одежды! Голодающих не столько мучил голод, как холод – холод, шедший откуда-то изнутри, непреодолимый, вероятно мучительный. Поэтому кутались как только могли. Женщины ходили в брюках своих умерших мужей, сыновей, братьев (мужчины умирали первыми), обвязывались платками поверх пальто. Еду женщины брали с собой – в столовой не ели. Несли ее детям или тем, кто уже не мог ходить. Через плечо на веревке вешали бидон и в этот бидон клали все: и первое, и второе. Ложки две каши, суп – одна вода. Считалось все же выгодным брать еду по продуктовым карточкам в столовой, так как «отоварить» их иным способом было почти невозможно.
Уходя из этой столовой, я видел однажды страшную картину. На углу Большого и Введенской помещалась спецшкола, военная, для молодежи. Учащиеся там голодали, как и всюду. И умирали. Наконец школу решили распустить. И вот кто мог – уходил. Некоторых вели под руки матери и сестры, они шатались, путались в шинелях, висевших на них, как на вешалках, падали, их волокли матери и сестры. Лежал уже снег, который, конечно, никто не убирал, стоял страшный холод. А внизу, под спецшколой, был гастроном. Выдавали хлеб. Получавшие всегда просили «довесочки». Эти «довесочки» тут же съедали. Ревниво следили при свете коптилок за весами (в магазинах было особенно темно: перед витринами были воздвигнуты из досок и земли заслоны). Развилось и своеобразное блокадное воровство. Мальчишки, особенно страдавшие от голода (подросткам нужно больше пищи), бросались на хлеб и сразу начинали его есть. Они не пытались убежать: только бы съесть побольше, пока не отняли. Они заранее поднимали воротники, ожидая побоев, ложились на хлеб и ели, ели, ели. А на лестницах домов ожидали другие воры и у ослабевших отнимали продукты, карточки, паспорта. Особенно трудно было пожилым. Те, у которых были отняты карточки, не могли их восстановить. Достаточно было таким ослабевшим не поесть день или два, как они не могли ходить, а когда переставали действовать ноги – наступал конец. Обычно семьи умирали не сразу. Пока в семье был хоть один, кто мог ходить и выкупать хлеб, остальные, лежавшие, были еще живы. Но достаточно было этому последнему перестать ходить или свалиться где-нибудь на улице, на лестнице (особенно тяжело было тем, кто жил на высоких этажах), как наступал конец всей семье.
По улицам лежали трупы. Их никто не подбирал. Кто были умершие? Может быть, у той женщины еще жив ребенок, который ее ждет в пустой холодной и темной квартире? Было очень много женщин, которые кормили своих детей, отнимая у себя необходимый им кусок. Матери эти умирали первыми, а ребенок оставался один. Так умерла наша сослуживица по издательству – О. Г. Давидович. Она все отдавала ребенку. Ее нашли мертвой в своей комнате. Она лежала на постели. Ребенок был с ней под одеялом, теребил мать за нос, пытаясь ее «разбудить». А через несколько дней в комнату Давидович пришли ее «богатые» родственники, чтобы взять... не ребенка, а несколько оставшихся от нее колец и брошек. Ребенок умер позже в детском саду.
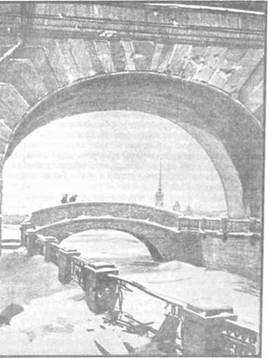
Ленинград. Блокада. Рисунок В.Богаткина.
У валявшихся на улицах трупов обрезали мягкие части. Началось людоедство! Сперва трупы раздевали, потом обрезали до костей. Мяса на них почти не было, обрезанные и голые трупы были страшны.
Людоедство это нельзя осуждать огульно. По большей части оно не было сознательным. Тот, кто обрезал труп, редко ел это мясо сам. Он либо продавал это мясо, обманывая покупателя, либо кормил им своих близких, чтобы сохранить им жизнь. Ведь самое важное в еде белки. Добыть эти белки было неоткуда. Когда умирает ребенок и знаешь, что его может спасти только мясо, – отрежешь у трупа...
Но были и такие мерзавцы, которые убивали людей, чтобы добыть их мясо для продажи. В огромном красном доме бывшего Человеколюбивого общества (угол Зелениной и Гейслеровского) обнаружили следующее. Кто-то якобы торговал картошкой. Покупателю предлагали заглянуть под диван, где лежала картошка, и, когда он наклонялся, следовал удар топором в затылок. Преступление было обнаружено каким-то покупателем, который заметил на полу несмытую кровь. Были найдены кости многих людей.
Так съели одну из служащих Издательства АН СССР – Вавилову. Она пошла за мясом (ей сказали адрес, где можно было выменять вещи на мясо) и не вернулась. Погибла где-то около Сытного рынка. Она сравнительно хорошо выглядела. Мы боялись выводить детей на улицу даже днем.
Не было ни света, ни воды, ни газет (первая газета стала расклеиваться на заборах только весной – небольшой листок, кажется, раз в две недели), ни телефонов, ни радио! Но все-таки общение между людьми сохранялось. Люди ждали какого-то генерала Кулика, который якобы идет на выручку Ленинграда. С тайной надеждой все повторяли: «Кулик идет».
Улицы были завалены снегом, только посередине оставались тропки. Все были раздражительны до невероятности. Помню, раз я шел по середине Лахтинской улицы. Впереди меня – характерная блокадная фигура: поверх пальто платок или одеяло, из-под пальто торчат брюки. Идет эта фигура (мужчина или женщина – не разберешь) медленно, волоча ноги (поднять их кверху трудно, а волочить еще можно). Я иду сзади в зеленых бурках, в овчинном «романовском» полушубке, оставшемся у меня еще от Соловков. Иду медленно, с палкой, которую мне добыл С. Д. Балухатый из коллекции А. С. Орлова (Орлов любил делать палки из можжевельника, а Балухатый по отъезде Орлова жил в его квартире и раздавал «нуждающимся» его палки). Вдруг фигура впереди меня останавливается, оборачивается и истошно кричит (крик больше похож на сиплое шипение): «Да проходите же, наконец!» Фигуру раздражало, что я ее не обгоняю, а как ее обгонишь, когда тропка узка и кругом сугробы.
Несмотря на отсутствие света, воды, радио, газет, государственная власть «наблюдала». Был арестован Г. А. Гуковский. Он что-то много под арестом наболтал, струсив, и посадил Б. И.Коплана, А.И.Никифорова. Арестовали и В. М. Жирмунского. Жирмунского и Гуковского вскоре выпустили, и они вылетели на самолете. А Коплан умер в тюрьме от голода. Дома умерла его жена – дочь А. А. Шахматова. А. И. Никифорова выпустили, но он был так истощен, что умер вскоре дома (а был он богатырь, русский молодец кровь с молоком, купался всегда зимой в проруби против Биржи на Стрелке). Умер В. В. Гиппиус. Умер Н. П. Андреев, 3. В. Эвальд, Я. И. Ясинский (сын писателя), М. Г.Успенская (дочь писателя) – все это были сотрудники Пушкинского Дома. Всех и не перечислишь.
Помню смерть Я.И.Ясинского. Это был высокий, худой и очень красивый старик, похожий на Дон Кихота. Он жил в библиотеке Пушкинского Дома. За стеллажами книг у него стояла походная кровать-раскладушка. Дома у него никого не было, и домой идти он не мог. Он лежал за своими книгами и изредка выходил в вестибюль. Рот у него не закрывался, изо рта текла слюна, лицо было черное, волосы совсем поседели, отросли и создавали жуткий контраст черному цвету лица. Кожа обтянула кости. Особенно страшна была эта кожа у рта. Она становилась тонкой-тонкой и не прикрывала зубов, которые торчали и придавали голове сходство с черепом. Раз он вышел из-за своих стеллажей с одеялом на плечах, волоча ноги, и спросил: «Который час?» Ему ответили. Он переспросил (голос у дистрофиков становился глухим, так как и мускулы голосовых связок атрофировались): «День или ночь?» Он спрашивал в вестибюле, но ведь стекол не было, окна были «зафанерены», ему не было видно: светло или темно на улице. Через день или два наш заместитель директора по хозяйственной части Канайлов выгнал его из Пушкинского Дома. Канайлов (фамилия-то какая!) выгонял всех, кто пытался пристроиться и умереть в Пушкинском Доме: чтобы не надо было выносить трупы. У нас умирали некоторые рабочие, дворники и уборщицы, которых перевели на казарменное положение, оторвали от семьи, а теперь, когда многие не могли дойти до дому, их вышвыривали умирать на тридцатиградусный мороз. Канайлов бдительно следил за всеми, кто ослабевал. Ни один человек не умер в Пушкинском Доме.
Раз я присутствовал при такой сцене. Одна из уборщиц была еще довольно сильна, и она отнимала карточки у умирающих для себя и Канайлова. Я был в кабинете у Канайлова. Входит умирающий рабочий (Канайлов и уборщица думали, что он не сможет уже подняться с постели), вид у него был страшный (изо рта бежала слюна, глаза вылезли, вылезли и зубы). Он появился в дверях кабинета Канайлова, как привидение, как полуразложившийся труп, и глухо говорил только одно слово: «Карточки, карточки!» Канайлов не сразу разобрал, что тот говорит, но когда понял, что он просит отдать ему карточки, страшно рассвирепел, ругал его и толкнул. Тот упал. Что произошло дальше – не помню. Должно быть, и его вытолкнули на улицу.
Фольклорист Н. П. Андреев умирал так. Сперва он дежурил в институте и за себя, и за М. К. Азадовского. Азадовский очень плохо себя чувствовал и просил его за себя дежурить. Н. П. Андреев пришел на помощь товарищу (тем более что у М.К. Азадовского только что родился сын — прямо в бомбоубежище) и стал дежурить. Двойные дежурства очень истощили Н. П. Андреева, а дочь его ушла в госпиталь работать сестрой (это тоже был один из способов выжить) и отцу не помогала. Однажды Н. П. Андреев пришел в Пушкинский Дом по дороге домой из Герценовского института и попросил кого-нибудь проводить его: он не мог дойти до дому. Жил он на Введенской улице в доме, где когда-то жил Б.М.Кустодиев. Проводить его пошла А.М.Астахова. Они шли бесконечно долго. По пути они два раза заходили в чужие квартиры отдохнуть. В одной квартире Н.П.Андреева накормили сахаром. Это дало ему силы дойти до дому. Были еще люди, способные отрывать от себя и от своей семьи куски сахару – куски жизни. Удивительное действие оказывала еда: стоило съесть маленький кусочек сахару, как ясно чувствовал в себе прилив сил. Еда пьянила и бодрила. Это было почти чудо! Через несколько дней я пошел к Н. П. Андрееву отнести ему билет на самолет. В институте кто-то не полетел (из лиц, удостоенных благоволением начальства), и надо было доставить билет Андрееву за несколько часов до отлета самолета. Я пошел к нему ночью. Помню, шел по совершенно пустым улицам, по середине мостовой, по тропке в своем романовском полушубке и с орловской палкой. На Большой Пушкарской я упал и очень расшиб колени, но поднялся (сильно истощенные подняться не могли – они могли только идти). Я дошел до него и даже достучался (это было трудно), но отлететь он уже не смог. Через некоторое время он умер. А после смерти пришла к нему жена со Старо-Невского (его молодая жена жила отдельно от него) и искала сберкнижку, на которой у него было довольно много денег...
Как-то мистически страшно умер литературовед Б. М.Энгельгардт. Помню, что я много раз рассказывал в Казани историю его смерти, но сейчас я уже ее забыл (память, как я уже сказал, выбрасывает, очищает сама себя от слишком ужасных воспоминаний).
Трупы на улице лежали против Института литературы – ближе к Биржевому мосту (месяца два лежал там труп женщины), в сгоревшем здании Мытнинского общежития Университета (помню, на первом этаже лежали трупы двух детей), на Кронверкском – против Народного дома, где весной был устроен морг и куда в начале марта мы свезли на детских саночках труп моего отца.
В Институте в это время я ел дрожжевой суп. Этого дрожжевого супа мы ждали более месяца. Слухи о нем подбадривали ленинградцев всю осень. Это было изобретение, и в самом деле поддержавшее многих и многих. Делался он так: заставляли бродить массу воды с опилками. Получалась вонючая жидкость, но в ней были белки, спасительные для людей. Можно было съесть даже две тарелки этой вонючей жидкости. Две тарелки! Этой еды совсем не жалели. У нас еще оставались черные сухари. Помню, что я подарил коробку черных сухарей библиотекарше – Софье Емельяновне. У нее умер от истощения муж и умирали дети (двое). Софья Емельяновна и сейчас работает в Институте в библиотеке, а один из ее сыновей стал уже инженером.
Вскоре я перестал ходить. Приходил только за жалованьем и за карточками. Однажды зашел за моими карточками отец. Он ходил пешком в свою типографию за карточками для себя и зашел за моими по пути. Как я раскаивался потом, что пустил его идти! Каждое такое «путешествие» отнимало очень много сил, приближало смерть.
Всю нашу семью спасала Зина. Она стояла с двух часов ночи в подъезде нашего дома, чтобы «отоварить» наши продуктовые карточки (только очень немногие могли получить в магазинах то, что им полагалось по карточкам), она ездила с санками за водой на Неву. Мы пробовали добывать воду из снега с крыши, но надо было истратить слишком много топлива, чтобы получить совсем мало воды. Походы за водой были такие. На детские саночки ставили детскую ванну. В ванну клали палки. Эти палки нужны были для того, чтобы вода не очень плескалась. Палки плавали в ванне и не давали воде ходить волнами. Ездили за водой Зина и Тамара Михайлова (она жила у нас на кухне). Воду брали у Крестовского моста. «Трасса», по которой ленинградцы ездили за водой, вся обледенела: расплескивавшаяся вода тотчас замерзала на тридцатиградусном морозе. Санки скатывались с середины дороги набок, и многие теряли всю воду. У всех были те же ванны и палки или ведра с палками: палки было изобретение тех лет! Но труднее всего было зачерпнуть воду и потом подняться от Невы на набережную. Люди карабкались на четвереньках, цеплялись за скользкий лед. Сил прорубить ступеньки ни у кого не было. В феврале, впрочем, появилось несколько пунктов, где можно было получить воду: на Большом проспекте у пожарной команды, например. Там открыли люк с водой. Вокруг люка тоже нарос лед. Люди плашмя ползли в ледяную гору и опускали ведра, как в колодец. Потом скатывались вниз, держа ведро в обнимку.
В декабре (если не ошибаюсь) появились какие-то возможности эвакуации на машинах через Ладожское озеро. Эту ледовую дорогу называли дорогой смерти (а вовсе не «дорогой жизни», как сусально назвали ее наши писатели впоследствии). Немцы ее обстреливали, дорогу заносило снегом, машины часто проваливались в полыньи (ведь ехали ночью). Рассказывали, что одна мать сошла с ума: она ехала во второй машине, а в первой ехали ее дети, и эта первая машина на ее глазах провалилась под лед. Ее машина быстро объехала полынью, где дети корчились под водой, и помчалась дальше не останавливаясь. Сколько детей умерло от истощения, было убито, провалилось под лед, замерзло или пропало без вести на этой дороге! Один Бог ведает! У А. Н. Лозановой (фольклористки) погиб на этой дороге муж. Она везла его на детских саночках, так как он уже не мог ходить. По ту сторону Ладоги она оставила его на санках вместе с чемоданами и пошла получать хлеб. Когда она вернулась с хлебом, ни саней, ни мужа, ни чемоданов не было. Людей грабили, отнимали чемоданы у истощенных, а самих их спускали под лед. Грабежей было очень много. На каждом шагу – подлость и благородство, самопожертвование и крайний эгоизм, воровство и честность.
По этой дороге уехал и наш мерзавец Канайлов. Он принял в штат Института несколько еще здоровых мужчин и предложил им эвакуироваться вместе с ним, но поставил условие, чтобы они никаких вещей не брали, а везли его чемоданы. Чемоданы были, впрочем, не его, а Онегинские – из Онегинского имущества, которое поступило к нам по завещанию Онегина (незаконного сына Александра III – ценителя Пушкина и коллекционера). Онегинские чемоданы были кожаные, желтые. В эти чемоданы были погружены антикварные вещи Пушкинского Дома, в тюки увязаны замечательные ковры (например, был у нас французский ковер конца XVIII века, голубой). Поехал Канайлов вместе со своим помощником Ехаловым. Это тоже первостепенный мерзавец. Был он сперва профсоюзным работником (профсоюзным вождем), выступал на собраниях, призывал, произносил «зажигательные» речи. Потом был у нас завхозом и крал. Вся компания благополучно перевалила через Ладожское озеро. А там на каком-то железнодорожном перекрестке Ехалов, подговорив рабочих, сел вместе с ними и всеми коврами на другой поезд (не на тот, на котором собирался ехать Канайлов) и, помахав ручкой Канайлову, уехал. Тот ничего не мог сделать. Теперь Канайлов работает в Саратове, кажется, член горсовета, вообще – «занимает должность». Но в Ленинград не решается вернуться. А Ехалов решился. Он даже решился сразу после войны предложить свои услуги в Пушкинском Доме, но его вызвали в ЛАХУ и сказали, что его разыскивает уголовный розыск. Он исчез из Академии, но все-таки устроился раздавать квартиры где-то на Васильевском острове. В качестве начальника по квартирам он получил себе несколько квартир, брал взятки и в конце концов был арестован. Явился он перед тем и в Казань: ходил в военной форме (в армии он никогда не служил), с палкой и изображал из себя инвалида войны.
После отъезда Канайлова Институтом стал ведать М. М. Калаушин. Увольнения прекратились. Напротив, было принято несколько человек, в том числе и наша Тамара Михайлова. М.М. Калаушин сам был уволен перед тем из Института одним из первых. Он работал санитаром, и когда он пришел перед отъездом Канайлова наниматься к нам на работу в Институт, я едва его узнал. Лицо его отекло, покрылось пятнами и было совершенно деформировано. В Институте он что-то организовал с карточками, принял В. М. Глинку, приблизил В. А. Мануйлова, а впоследствии взял и М. И. Стеблина-Каменского. Эти четыре человека спасали Институт до 1945 года. Впрочем, Калаушин уехал, оставив главным В. А. Мануйлова.
Когда бы я ни заходил в кабинет Калаушина, он ел. Ел хлеб, обмакивая его в растительное масло. Очевидно, оставались карточки от тех, кто улетал или уезжал по дороге смерти.
Еще до отъезда Канайлова с Ехаловым в Институт были впущены моряки с подводных лодок, которые стояли на Малой Неве прямо против нашего Института. Дело в том, что остатки нашего флота, ледоколы, турбоэлектроход «Вячеслав Молотов», – все были введены в Неву и стояли у берега с левой стороны под защитой окружающих зданий. «Вячеслав Молотов» стоял под защитой Адмиралтейства, ледокол «Ермак» – под защитой Эрмитажа и т. д. Для ценнейших зданий города это соседство не было безопасным. Наши подводные лодки тоже были не из приятных соседей, но не только тем, что они могли приманивать к нам немецких бомбардировщиков...
Команды кораблей были пущены к нам в музей и дали обещание давать нашему начальству по тарелке супа. Ради этого их комнаты были обставлены лучшей мебелью. Диван Тургенева, кресло Батюшкова, часы Чаадаева и прочее – все отдавалось морякам ради чечевичной похлебки. Чечевица была действительно тогда в ходу и казалась необыкновенно вкусной. Кроме того, морякам было разрешено пользоваться библиотекой. Моряки не остались в долгу. Они провели кабель с подводных лодок и дали себе и нашему начальству настоящий электрический свет! И вот началось... Ночами какие-то тени бродили по музею, взламывали шкафы, искали сокровища. Собрание дворянских альбомов очень пострадало. Пострадали и многие шкафы в библиотеке. А весной, когда вскрылась Нева, моряки без предупреждения в один прекрасный день ушли из Института, унеся с собою что только было можно. После их ухода я нашел на полу позолоченную дощечку: «Часы Чаадаева». Самих часов не было. На каком дне они лежат сейчас?
Дистрофия развивала клептоманию и у сотрудников Института. Канцелярская служащая (Валентина ... отчество и фамилию я забыл) сняла в Институте даже стенные часы, суконную скатерть со стола заседаний и еще что-то. Она ушла потом работать в госпиталь, и больше я ее в Институте не видел. Это была канайловская знакомая.
Зимой одолевали пожары. Дома горели неделями. Их нечем было тушить. Обессиленные люди не могли уследить за своими «буржуйками». В каждом доме были истощенные, которые не могли двигаться, и они сгорали живыми. Ужасный случай был в большом новом доме на Суворовском (дом этот и сейчас стоит – против окон Ахматовой). В него попала бомба, а дом этот был превращен в госпиталь. Бомба была комбинированная – фугасно-зажигательная. Она пробила все этажи, уничтожив лестницу. Пожар начался снизу, и выйти из здания было нельзя. Раненые выбрасывались из окон: лучше разбиться насмерть, чем сгореть.
В Ботаническом саду вымерзли тысячелетние папоротники, вымерзли знаменитые пальмы (помните рассказ Гаршина о пальме, выдавившей стекла оранжереи, вырвавшейся на свободу и замерзшей?).
В нашем доме вымерли семьи путиловских рабочих.
Наш дворник Трофим Кондратьевич получал на них карточки и ходил вначале здоровым. На одной с нами площадке, в квартире Колосовских, как мы впоследствии узнали, произошел следующий случай. Женщина (Зина ее знала) забирала к себе в комнату детей умерших путиловских рабочих (я писал уже, что дети часто умирали позднее родителей, так как родители отдавали им свой хлеб), получала на них карточки, но... не кормила. Детей она запирала. Обессиленные дети не могли встать с постелей: они лежали тихо и тихо умирали. Трупы их оставались тут же до начала следующего месяца, пока можно было на них получать еще карточки. Весной эта женщина уехала в Архангельск. Это была тоже форма людоедства, но людоедства самого страшного.
Трупы умерших от истощения почти не портились: они были такие сухие, что могли лежать долго. Семьи умерших не хоронили своих: они получали на них карточки. Страха перед трупами не было, родных не оплакивали – слез тоже не было. В квартирах не запирались двери: на порогах накапливался лед, как и по всей лестнице (ведь воду носили в ведрах, вода расплескивалась, ее часто проливали обессиленные люди, и вода тотчас замерзала). Холод гулял по квартирам. Так умер фольклорист Калецкий. Он жил где-то около Кировского проспекта. Когда к нему пришли, дверь его квартиры была полуоткрыта. Видно было, что последние жильцы пытались сколоть лед, чтобы ее закрыть, но не смогли. В холодных комнатах под одеялами, шубами, коврами лежали трупы: сухие, не разложившиеся. Когда умерли эти люди?
На Большом проспекте около Гатчинской улицы разгромили хлебный магазин. Как это могли сделать? Ведь любая продавщица (среди них не было сильно истощенных) могла справиться с целой толпой истощенных людей. Но власть в городе приободрилась: вместо старых истощенных милиционеров по дороге смерти прислали новых – здоровых. Говорили – из Вологодской области.
В очередях люди все надеялись: после Кулика ждали и еще кого-то, кто-то уже идет к Ленинграду. Что делалось вне Ленинграда, мы не знали. Знали только, что немцы не всюду. Есть Россия. Туда, в Россию, уходила дорога смерти, туда летели самолеты, но оттуда почти не поступало еды, во всяком случае для нас. Юра с Ниночкой (своей второй женой) уехали по дороге смерти в машине, которая специально была оборудована и как жилье. Перед отъездом Юра обещал прислать еды. Отец ждал этой еды со страшным нетерпением; все время думал о том, что Юра пришлет копченой колбасы. Он все время говорил о еде, вспоминал об обедах на волжских теплоходах, и когда ел суп (вернее то, что мы называли супом), то очень сопел. Меня, захваченного уже раздражительностью дистрофии, сердило и это сопение (я не понимал, что виновато сердце и эта копченая колбаса, которую он так ждал).
Расскажу теперь о том, как мы жили в своей квартире на Лахтинской улице (дом 9, кв. 12).
Мы старались как можно больше лежать в постелях. Накидывали на себя побольше всего теплого. К счастью, у нас были целы стекла. Стекла были прикрыты фанерами (некоторые), заклеены крест-накрест бинтами. Но днем все же было светло. Ложились в постель часов в шесть вечера. Немного читали при свете электрических батареек и коптилок (я вспомнил, как делал коптилки в 1919 и 1920 годах – тот опыт пригодился). Но спать было очень трудно. Холод был какой-то внутренний. Он пронизывал всего насквозь. Тело вырабатывало слишком мало тепла. Холод был ужаснее голода. Он вызывал внутреннее раздражение. Как будто бы тебя щекотали изнутри. Щекотка охватывала все тело, заставляла ворочаться с боку на бок. Думалось только о еде. Мысли были при этом самые глупые: вот если бы раньше я мог знать, что наступит голод! Вот если бы запасся консервами, мукой, сахаром, копченой колбасой!
Мы подсчитали с Зиной, сколько дней еще сможем прожить на наших запасах. Если расходовать через день по плитке столярного клея, то хватил на столько-то дней, а если расходовать по плитке через два дня – то на столько-то. И тут же сетовали: почему я не доел своей порции тогда-то? Вот она бы пригодилась сейчас! Почему я не купил в июле в магазине печенья? Я ведь уже знал, что наступит голод. Почему купил всего 11 бутылок рыбьего жира? Надо было зайти в аптеку еще раз, послать Зину. И все в таком же роде, без конца, со страшным раздражением на самого себя. И опять внутренняя щекотка, и опять ворочаешься с боку на бок.
Утром растапливали «буржуйку». Топили книгами. В ход шли объемистые тома протоколов заседаний Государственной думы. Я сжег их все, кроме корректур последних заседаний: это было чрезвычайной редкостью. Книгу нельзя было запихнуть в печку: она бы не горела. Приходилось вырывать по листику и по листику подбрасывать в печурку. При этом надо было листок смять и время от времени выгребать золу: в бумаге было слишком много мела. Утром мы молились, дети тоже. С детьми мы разучивали стихи. Учили наизусть сон Татьяны, бал у Лариных, учили стихи Плещеева: «Из школы дети воротились, как разрумянил их мороз...» Учили стихи Ахматовой: «Мне от бабушки татарки...» и др. Детям было четыре года, они уже много знали. Еды они не просили. Только когда садились за стол, ревниво следили, чтобы всем всего было поровну. Садились дети за стол за час, за полтора – как только мама начинала готовить. Я толок в ступке кости. Кости мы варили помногу раз. Кашу делали совсем жидкой, жиже нормального супа, и в нее для густоты подбалтывали картофельную муку, крахмал, найденный нами вместе с «отработанной» манной крупой, которой чистили беленькие кроличьи шубки детей. Дети сами накрывали на стол и молча усаживались. Сидели смирно и следили за тем, как готовилась «еда». Ни разу они не заплакали, ни разу не попросили еще: ведь все делилось поровну.
От разгоревшейся печурки в комнате сразу становилось тепло. Иногда печурка накалялась докрасна. Как было хорошо!
Все люди ходили грязные, но мы умывались, тратили на это стакана два воды и воду не выливали – мыли в ней руки до тех пор, пока вода не становилась черной. Уборная не действовала. Первое время можно было сливать, но потом где-то внизу замерзло. Мы ходили через кухню на чердак. Другие заворачивали сделанное в бумагу и выбрасывали на улицу. Поэтому около домов было опасно ходить. Но тропки все равно были протоптаны по середине мостовой. К счастью, по серьезным делам мы ходили раз в неделю, даже раз в десять дней. И это было понятно: тело переваривало все, да и перевариваемого было слишком мало. Хорошо все-таки, что у нас был пятый этаж и ход на чердак такой удобный... Весной, когда потеплело, на потолке в коридоре (мы ходили в определенные места) появились коричневые пятна.
От топки бумагой засорилась печка. Об этом Зина уже писала. К счастью, мы нашли печника, который пробил кладку в печи, соединил каналы дымохода, и снова можно было топить.
* * *
В моем писании получился перерыв недели на три. Сейчас у нас на даче в Зеленогорске (Лиственная, 16, дача 132) наступила жара, отвлекшая от мыслей о блокаде. Солнце, купанье, счастливый воздух сытой жизни! И вдруг блокада сама напомнила о себе. Рядом с нами за тонкой перегородкой живет семья: ребенок месяцев трех-четырех, отец, мать и две бабушки. Одна из бабушек оказалась женой Кулика – того самого, о котором я писал уже, которого ждали миллионы умиравших ленинградцев в холоде, в темноте, слухи о котором передавались в очередях: «Кулик идет! Кулик разворачивается!» Сам Кулик сейчас на кумысе (у него туберкулез). Он скоро приедет сюда, я его увижу. Его развеселая жена уверяет всех, что он дамский угодник, высок и красив собой. Господи! Понимает ли он сам – кто он такой, кем он был для ленинградцев?
Нет, голод несовместим ни с какой действительностью, ни с какой сытой жизнью. Они не могут существовать рядом. Одно из двух должно быть миражом: либо голод, либо сытая жизнь. Я думаю, что подлинная жизнь – это голод, все остальное мираж. В голод люди показали себя, обнажились, освободились от всяческой мишуры: одни оказались замечательными, беспримерными героями, другие – злодеями, мерзавцами, убийцами, людоедами. Середины не было. Все было настоящее. Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог. Его ясно видели хорошие. Совершались чудеса. Бог произнес: «Поелику ты не холоден и не горяч, изблюю тебя из уст моих» (кажется, так в Апокалипсисе).
Человеческий мозг умирал последним. Когда переставали действовать руки и ноги, пальцы не застегивали пуговицы, не было сил закрыть рот, кожа темнела и обтягивала зубы и на лице ясно проступал череп с обнажающимися, смеющимися зубами, – мозг продолжал работать. Люди писали дневники, философские сочинения, научные работы, искренно, «от души» мыслили и проявляли необыкновенную твердость, не уступая давлению ветра, не поддаваясь суете и тщеславию.
Художник Чупятов и его жена умерли от голода. Умирая, он рисовал, писал картины. Когда не хватило холста, он писал на фанере и на картоне. Он был «левый» художник, из старинной аристократической семьи, его знали Аничковы. Аничковы передали нам два его наброска, написанные перед смертью: красноликий апокалипсический ангел, полный спокойного гнева на мерзость злых, и Спаситель – в его облике что-то от ленинградских большелобых дистрофиков. Лучшая его картина осталась у Аничковых: темный ленинградский двор колодцем, вниз уходят темные окна, ни единого огня в них нет: смерть там победила жизнь, хотя жизнь, возможно, и жива еще, но у нее нет сил зажечь коптилку. Над двором на фоне темного ночного неба – Покров Богоматери. Богоматерь наклонила голову, с ужасом смотрит вниз, как бы видя все, что происходит в темных ленинградских квартирах, и распростерла ризы, на ризах — изображение древнерусского храма (может быть, это храм Покрова на Нерли – первого Покровского храма).
Надо, чтобы эта картина не пропала. Душа блокады в ней отражена больше, чем где бы то ни было. Разверзлись небеса, и умирающие увидели Бога.
Умер В. Л. Комарович. В его смерть трудно было поверить. В сентябре он приходил к нам такой бодрый и деятельный, учил нас менять вещи на провизию, делал утешительные прогнозы.
О смерти В. Л. Комаровича рассказывали мне Т.Н. Крюкова (его ученица по Нижегородскому университету) и И. Н. Томашевская. Вот как это было. В. Л. уже лежал, а Театральный институт решили эвакуировать. Решили ехать Жура (дочка Василия Леонидовича, которая училась в этом Театральном институте) и Евгения Константиновна (жена Василия Леонидовича). Отца они решили бросить: он бы не смог доехать. Его хотели оставить в открывающемся стационаре для дистрофиков Союза писателей. В Ленинграде положение немного начинало улучшаться, и для писателей и ученых, умирающих от голода, начинали открываться «стационары», где их «в отрыве от семьи» (всех не накормишь!) немножко подкармливали. В Доме писателя готовили уже помещение для умиравших писателей. Диетической сестрой там должна была быть И. Н. Томашевская. Открытие стационара откладывалось, а эшелон должен был уже отправляться дорогой смерти. И вот Жура (дочь) и Евгения Константиновна (жена) вынесли Василия Леонидовича из квартиры, привязали к сиденью финских санок и повезли через Неву на улицу Воинова. В стационаре они встретили И. Н.Томашевскую и умоляли ее взять Василия Леонидовича. Она решительно отказалась: стационар должен был открыться через несколько дней, а чем кормить его эти несколько дней? И вот тогда жена и дочь подбросили Василия Леонидовича. Они оставили его внизу – в полуподвале, где сейчас гардероб, а сами ушли. Потом вернулись, украдкой смотрели на него, подглядывали за ним – брошенным на смерть. Что пережили они и что пережил он! Когда в открывшемся стационаре Василия Леонидовича навестила Таня Крюкова, он говорил ей: «Понимаешь, Таня, эти мерзавки подглядывали за мной, они прятались от меня!» Василия Леонидовича нашла Ирина Николаевна Томашевская. Она отрывала хлеб от своего мужа и сына, чтобы подкормить Василия Леонидовича, а когда в стационаре организовалось питание, делала все, чтобы спасти его жизнь, но у него уже была необратимая стадия дистрофии. Необратимая стадия – это та стадия голодания, когда человеку уже не хочется есть, он и не может есть: его организм ест самого себя, съедает себя. Человек умирает от истощения, сколько бы его ни кормили. Василий Леонидович умер, когда ему было что есть. Таня к нему заходила: он походил на глубокого старика, голос его был глух, он был совершенно сед. Но мозг умирает последним: он работал. Он работал над своей докторской диссертацией! С собой у него был портфель с черновиками. Одну из его глав (главу о Николе Заразском) я напечатал потом в Трудах Отдела древнерусской литературы (кажется, т. V или VI). Эта глава вполне «нормальная», никто не поверил бы, что она написана умирающим, у которого едва хватало сил держать в пальцах карандаш, умирающим от голода! Но он чувствовал смерть: каждая его заметка имеет дату! Он считал дни. И он видел Бога: его заметки отмечены не только числами, но и христианскими праздниками. Сейчас его бумаги в архиве Пушкинского Дома. Я передал их туда после того, как их передала мне Т. Н. Крюкова, и я извлек из них главу о Николе Заразском. Т. Н. Крюкова приносила ему два раза мясо – мясо, которого так не хватало и ей самой, и ее мужу. Муж ее тоже умер впоследствии. Но февраль, в который умер Василий Леонидович и ее муж, был еще месяцем, в котором умирали мужчины. Женщины стали больше всего умирать в марте. И в феврале она осталась жива, а в марте уехала.
Что стало затем с Журой и с Евгенией Константиновной? Могли ли они жить после всего этого? Сперва они приехали не то в Самару, не то в Саратов. Они были обе в театре и в театре встретили Б. М. Эйхенбаума, который успел выехать из Ленинграда позднее их на несколько недель. Они бросились к нему (в театре!) и спрашивали: «Что с Василием Леонидовичем?» Больше он их не видел, он не мог им ничего сказать. Говорят, они были на Северном Кавказе (не то в Пятигорске, не то в Кисловодске). Их захватили немцы, и с немцами они уехали. Я уверен, что их нет в живых1.
Таких случаев, как с Василием Леонидовичем, было много. Модзалевские уехали из Ленинграда, бросив умиравшую дочурку в больнице. Этим они спасли жизнь других своих детей. Эйхенбаумы кормили одну из дочек, а другую заморили голодом, так как иначе умерли бы обе. Салтыковы весной, уезжая из Ленинграда, оставили на перроне Финляндского вокзала свою мать привязанной к саночкам, так как ее не пропустил саннадзор. Оставляли умирающих: матерей, отцов, жен, детей; переставали кормить тех, кого «бесполезно» было кормить; выбирали, кого из детей спасти; покидали в стационарах, в больницах, на перроне, в промерзших квартирах, чтобы спастись самим; обирали умерших – искали у них золотые вещи; выдирали золотые зубы; отрезали пальцы, чтобы снять обручальные кольца у умерших – мужа или жены; раздевали трупы на улице, чтобы забрать у них теплые вещи для живых; отрезали остатки иссохшей кожи на трупах, чтобы сварить из нее суп для детей; готовы были отрезать мясо у себя для детей; покидаемые – оставались безмолвно, писали дневники и записки, чтобы после хоть кто-нибудь узнал о том, как умирали миллионы. Разве страшны были вновь начавшиеся обстрелы и налеты немецкой авиации? Кого они могли испугать? Сытых ведь не было. Только умирающий от голода живет настоящей жизнью, может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование, не боясь смерти. И мозг умирает последним: тогда, когда умерла совесть, страх, способность двигаться, чувствовать – у одних и когда умер эгоизм, чувство самосохранения, трусость, боль – у других.
Правда о ленинградской блокаде никогда не будет напечатана. Из ленинградской блокады делают «сюсюк». «Пулковский меридиан» Веры Инбер – одесский сюсюк. Что-то похожее на правду есть в записках заведующего прозекторской больницы Эрисмана, напечатанных в «Звезде» (в 1944 или 1945 году). Что-то похожее на правду есть и в немногих «закрытых» медицинских статьях о дистрофии. Совсем немного и совсем все «прилично»...

Пискаревское кладбище (фрагмент)
Мать Д.С. Лихачева В.С. Лихачева у могилы отца
В феврале и марте смертность достигла апогея, хотя выдачи хлеба чуть-чуть увеличились. Я на работу не ходил, изредка выходил за хлебом. Продукты и хлеб приносила Зина, выстаивая страшные очереди. Хлеб был двух сортов: более черный и более белый. Я считал, что надо брать более белый. Мы так и делали, а он был с бумажной массой! Очень хотелось горбушек. Жадно смотрели на довесочки. Многие просили у продавцов сделать довески: их съедали по дороге. Отец, когда Зина приносила ему его порцию хлеба, ревниво следил, есть ли довески. Он боялся, не съела ли их Зина по дороге. Но, как всегда, Зина стремилась взять себе меньше всех. Стеблины-Каменские по дороге до дому съедали половину того, что получали. Люди сжевывали крупу, ели сырое мясо, так как не могли дотерпеть до дому. Каждую крошку ловили на столе пальцами. Появилось специфическое движение пальцев, по которому ленинградцы узнавали друг друга в эвакуации: хлебные крошки на столе придавливали пальцами, чтобы они прилипли к ним, и отправляли эти частицы пищи в рот. Просто немыслимо было оставлять хлебные крошки. Тарелки вылизывались, хотя «суп», который из них ели, был совершенно жидкий и без жира: боялись, что останется жиринка («жиринка» – это ленинградское слово тех лет, как и «довесочек»). Тогда-то у нас на подоконнике и умирала от истощения мышь...
Папа в феврале уже лежал, опух и вставал только к еде. Его печурку топила Зина или я. В комнате его стало холодно – внизу не топили. От промерзших окон во время топки текли длинные лужи. Он думал о ресторанах на волжских пароходах (несколько раз он проводил свой отпуск один на Волге) и о колбасе, которую пришлет Юра. Сердце начало сдавать. В конце февраля в левом плече и в сердце у него появились страшные боли. Нам удалось уговорить прийти к нам старика врача, жившего в доме напротив. Уговорили за продукты. Старик едва поднялся к нам на пятый этаж. Но отец отказался допустить себя осматривать (отец не любил лечиться, не любил врачей). Старик врач ушел, не взяв хлеба, который мы ему совали в руки. Вскоре умер и этот врач, и его жена. Он посоветовал все же греть воду и опускать руки отца в горячую воду. Несколько раз мы так и делали. Лекарств не было: их некому было готовить, но аптеки (некоторые) все же были открыты, и в них была душистая туалетная вода (одеколон весь выпили). Мы ходили в аптеку на Гейслеровского против Лахтинской и купили несколько флаконов туалетной воды. А отец лежал и стонал от боли. Впрочем, стонал он мало, он был очень терпелив. Умер он первого марта утром, около восьми часов. Он лежал на диване в маминой комнате (в последние дни он боялся оставаться один, боялся марта месяца), и ему было совсем плохо, когда я к нему пришел рано утром. Рядом с ним в темноте горел маленький электрический фонарик – горел от звонковых батарей. Отец время от времени поднимался, опускал руку на батареи, и огонь крохотной лампочки то тух, то вновь загорался. Потом я ушел допить свой кофе. Он постучал в стенку. Когда я вернулся, ему было совсем плохо. Тем не менее он поднялся, чтобы пойти в уборную, и я не мог уговорить его лежать. Он едва дошел и едва вернулся. Сходить в банку он не хотел. Он только повторял: «Царица небесная!» Дети в соседней комнате не понимали, что дедушка их умирает. Он вздохнул в последний раз. Я закрыл ему глаза старыми большими рублями XVIII века – единственной памятью от его матери (Прасковий Алексеевны – она умерла, когда отцу было пять лет). Из груди трупа вырвался вздох: это выходил воздух из легких.
Страшное продолжалось и потом. Как хоронить? Надо было отдать несколько буханок хлеба за могилу. Гробы не делали вообще, а могилами торговали. В промерзшей земле трудно было копать могилы для новых и новых трупов тысяч умиравших. И могильщики торговали могилами уже «использованными»: хоронили в могиле, потом вырывали из нее покойника и хоронили второго, потом третьего, четвертого и т. д., а первых выбрасывали в общую могилу. Так похоронили дядю Васю (брата моего отца), а весною не нашли и той ямы, в которой он на день или на два нашел себе «вечное успокоение». Отдать хлеб казалось нам страшным. Мы сделали так же, как и все. Омыли отца туалетной водой, зашили в простыни, обвязали белыми веревками (не пеньковые, а какие-то другие) и стали хлопотать о свидетельстве о смерти. В нашей поликлинике на углу Каменноостровского и реки Карповки внизу стояли столики, за ними сидели женщины, отбирали паспорта умерших и выдавали свидетельства о смерти. К столикам были длинные очереди. Диагноз «от голода» они не записывали, а придумывали что-нибудь другое. Таков был им приказ! Отцу тоже записали какую-то болезнь и, не видев его, выдали свидетельство. Очередь подвигалась быстро, тем не менее она не уменьшалась...
Я, Зина, Тамара вынесли труп отца с пятого этажа, положили на двое детских саночек, соединенных куском фанеры, привязали отца к санкам белыми веревками и повезли к Народному дому. Здесь, в саду Народного дома, на месте летней эстрады, где любил бывать летом отец, его положили среди тысяч других трупов, тоже зашитых в простыни или вовсе не зашитых, одетых и голых. Это был морг. Отпевали мы отца перед тем во Владимирском соборе. Горсть земли всыпали в простыню – одну за него, другую по просьбе какой-то женщины, отпевавшей своего умершего неизвестно где сына. Так мы его предали земле. В морг время от времени приезжали машины, грузили трупы штабелями и везли на Новодеревенское кладбище. Там в общей могиле он и лежит, в какой – не знаем.
Свидетельство о смерти отца от 2 марта. «Хоронили» мы его числа третьего-четвертого марта.
Помню, как подъехала к моргу машина в то время, когда мы привезли отца. Мы просили, чтобы отца погрузили на машину сразу же, но рабочие просили денег, которых у нас в этот момент не было. Мы боялись, что, пока отец лежит, его разденут, простыни срежут, золотые зубы выломают. Машина не взяла отца...
Впоследствии я несколько раз видел, как проезжали по улицам машины с умершими. Эти машины, но уже с хлебом и пайковыми продуктами, были единственными машинами, которые ходили по нашему притихшему городу. Трупы грузили на машины «с верхом». Чтобы больше могло уместиться трупов, часть из них у бортов ставили стоймя: так грузили когда-то непиленые дрова. Машина, которую я запомнил, была нагружена трупами, оледеневшими в самых фантастических положениях. Они, казалось, застыли, когда ораторствовали, кричали, гримасничали, скакали. Поднятые руки, открытые стеклянные глаза. Некоторые из трупов голые. Мне запомнился труп женщины. Она была голая, коричневая, худая, стояла стояком в машине, поддерживая другие трупы, не давая им скатиться с машины. Машина неслась полным ходом, и волосы женщины развевались по ветру, а трупы за ее спиной скакали, подпрыгивали на ухабах. Женщина ораторствовала, призывала, размахивала руками: ужасный, оскверненный труп с остекленевшими открытыми глазами!
Я не плакал об отце. Люди тогда вообще не плакали. Но пока был жив отец, как бы он слаб ни был, я всегда чувствовал в нем какую-то защиту. Он мне всегда был отец, даже тогда, когда ссорился с ним, был на него сердит, я всегда чувствовал в нем человека более сильного. Со смертью отца я почувствовал страх перед жизнью. Что будет с нами? Хотя отец ничего уже давно не мог сделать, не мог даже придумать выхода из положения, я чувствовал себя всегда вторым после него. Теперь я почувствовал себя первым, ответственным за жизнь семьи в еще большей мере, чем раньше: Зины, детей, мамы. Комната отца стояла пустая, пуст был его маленький красный диван, на котором он спал. Осиротела мебель, которую он заботливо покупал когда-то для семьи.
Еще за два, за три года до смерти он отложил деньги на поминки для своих сослуживцев. Он говорил мне, чтобы непременно повеселились после его смерти его приятели, и вспоминал веселые похороны кого-то из своих типографских друзей. Отца любили за его темпераментное веселье, за горячий нрав. О нем ходило много рассказов, многие из которых я услышал уже после войны. А здесь он умер — и никто не знал о его смерти, кроме нас да нескольких равнодушных, измученных людей, отобравших его паспорт, выдавших свидетельство о смерти, и рабочих, отказавшихся поднять его труп в машину.
Потом уже, когда мы переехали в Казань, мне часто казалось, что я вижу спину отца или его фуражку на ком-либо из прохожих. Он и до сих пор часто снится мне, особенно перед неприятностями. Он меня жалеет, и мне до слез жаль его. Во сне я о нем плачу, обнимаю его и прижимаю к себе. В марте я еще имел обледенелое сердце, оно оттаяло в Казани, где я особенно часто думал об отце и понял его...
* * *
Снова перерыв в моих писаниях. Как-то тяжело приниматься за описание новых и новых смертей.
Умер Александр Алексеевич Макаров, Зинин отец. Раза два Зина добиралась до него пешком, когда он еще был жив. В последний раз она была у него, когда его уже не было в живых. Соседи сказали, что в последние дни он не хотел и перестал есть. В буфете у него нашлась плитка шоколада и еще что-то из еды. Видно, берег для последнего...
Умер мой дядя Вася. В его семье все перессорились и ели по своим карточкам. Ему не хватало, ходить получать хлеб он уже не мог. Он умер в одной комнате с дочерью и женой. Те остались живы, он был с ними в ссоре. Говорят, перед смертью он плохо понимал, что происходит, бранился. Могилы его нет, как нет и других могил.
В марте стал действовать стационар для дистрофиков в Доме ученых. Преимущество этого стационара было то, что туда брали без продуктовых карточек. Карточки оставались для семьи. Мне дали туда отношение из Института литературы Калаушин и Мануйлов. Зина провожала меня с санками. На санках была постель: подушки, одеяло. Уходить было страшно: начались обстрелы, бомбежки, очень усилились пожары, не было еще телефонов. Хотя уйти надо было только на две недели, но всякое могло случиться. Вдруг эта разлука навсегда? В Доме ученых комнаты для дистрофиков немного отапливались, но все равно холодно было очень. Комнаты помещались наверху, а ходить есть надо было вниз, в столовую, и это движение вверх и вниз по темной лестнице очень утомляло. Ели в темной столовой при коптилках. Что было налито в тарелках, мы не видели. Смутно видели только тарелки и что-то в них налитое или положенное. Еда была питательная. Только в Доме ученых я понял, что значит, когда хочется есть. Есть хотелось так, как никогда: это оживало тело! И особенно хотелось есть после еды. В перерыве между едой лежал в кровати под одеялами и мучительно ждал новой еды, шел, ел и снова начинал ждать еды.
Несколько раз были обстрелы. Снаряды рвались на Неве, на льду. Из окон стационара хорошо была видна Нева, так как зеркальные окна были целы. Удивительно, что большие цельные зеркальные стекла разбивались при обстреле не так легко, как простые.
Однажды мне пришлось переходить Неву, чтобы попасть зачем-то в Пушкинский Дом. Я видел убитую при обстреле женщину. Она лежала тут же, у тропинки, полузанесенная снегом, с рассыпавшимися волосами. Лежала она уже несколько дней, и кровь ее была черная. Несколько человек в стационаре умирали: у них была необратимая стадия дистрофии. Они не хотели есть, лежали черные, губы тонкие, как бумага, обтягивали и обнажали зубы. Некоторые ученые крали или подделывали талончики, по которым нам отпускали завтрак, обед и ужин. Подделать эти талончики было не так уж трудно. На этом «деле» поймали доктора наук, кажется, астронома или химика.
Наконец короткий срок пребывания в стационаре кончился. Зина пришла за мной с санками. Мы везли их по лужам: наступала весна.
Дома я начал не только собирать материал по средневековой поэтике (тетради у меня сохранились), но и писать. Дело в том, что М. А. Тиханову вызывали в Смольный и предложили ей организовать бригаду для скорейшего написания книги об обороне русских городов. М.А. Тиханова предложила меня в компаньоны. С ней вместе мы отправились в Смольный (это путешествие было для меня нелегким). От площади Смольного до главного здания все было закрыто маскировочной сеткой. В Смольном густо пахло столовой. Люди имели сытый вид. Нас приняла женщина (я забыл ее фамилию). Она была полной, здоровой. А у меня дрожали ноги от подъема по лестнице. Книгу она заказала нам с каким-то феноменально быстрым сроком. Сказала, что писатели пишут на ту же тему, но у них работа идет медленно, а ей (!) хочется, чтобы она была сделана быстро. Мы согласились, и в мае наша книжка «Оборона древнерусских городов» была готова. Она вышла осенью 1942 года. Я писал в ней главы «Азов – город крепкий», «Псков» и еще что-то. Больше половины глав – мои. У М.А. Тихановой там написана глава о Троице-Сергиевой лавре, введение и заключение. Сдавали мы рукопись в Госполитиздат – Петерсону (впоследствии умер под арестом – по «ленинградскому делу»). Писалось, помню, хорошо – дистрофия на работе мозга еще не сказывалась.
Весной стала выходить газета (не каждый день) «Ленинградская правда» – в уменьшенном формате. Газеты добывались только случайно. Из газет я узнал о гибели Павловского дворца и Волотовской церкви. Гибель обоих памятников была описана, хотя сами они не были названы. Павловск был разбит нашей авиабомбой (там был немецкий штаб), а в Болотове находился наш артиллерийский наблюдательный пункт, и церковь снесла немецкая артиллерия. Впоследствии, когда я в 1944 году был в Новгороде, я заметил, что причина гибели Николы Липного была такой же – там находились наши войска. В книге «Памятники русской культуры, разрушенные фашистами» (эта книга есть у нас дома – она потом была почему-то запрещена) у Николы Липного ясно видны окопы: это наши. Гибель ленинградских дворцов (в частности Елагина, который сгорел на наших глазах от времянок квартировавших там частей), Новгорода, Пскова подействовала на меня угнетающе.
Дома стало заметно лучше. Мама (бабушка) и Зина ходили к спекулянту Роньке, у которого за золото получали масло, рис и еще что-то. Масло нас очень поддержало. Бабушка давала нам часть вымененных продуктов, подкармливала детей. Мы с детьми разучивали стихи – «Что пирует царь великий в Петербурге городке» (Пушкина). Дети тараторили их с удовольствием, а мне в них очень нравилось прощение врагов Петром. И войны были другие, и государственные деятели были другие.
Дошли слухи, что немцы заняли Тихвин. Толпа на Большом проспекте разгромила хлебный магазин. Появились новые милиционеры: сытые, откуда-то из Вологды и других мест.
Я встретил Колю Гурьева, он помогал доставлять хлеб в хлебный магазин, и за это ему давали хлеб сверх карточек. Вскоре он выехал из Ленинграда дорогой смерти и погиб с тысячами других. Говорят, он вышел из поезда и пропал. Когда умерла его мать, братья, жена – не знаю.
Тамара Михайлова отправилась на рытье окопов около местечка Пери. Она была там долго. По учреждениям стали выдавать семена для огородов. Помню, нам выдали капельку семян редиски. Мы устроили огород в квартире: перевернули обеденный стол вверх ножками, ножки отвинтили, насыпали земли из сквера на Лахтинской, поставили у окна и посадили редиску. Потом ели траву этой редиски как салат: для витаминов. В мае мы уже ели лебеду и удивлялись, какая это вкусная трава. Лебеду испокон веку ела русская голодающая деревня, а наше положение было значительно хуже. Потому, видно, и лебеда нам нравилась. Люди выкапывали в скверах корни одуванчиков, сдирали дубовую кору, чтобы остановить кровь из десен (сколько погибло дубов в Ленинграде!), ели почки листьев, варили месиво из травы. Чего только не делали! Но удивительно – эпидемий весной не было. Были только дистрофические поносы, потрепавшие почти всех (мы убереглись).
Мне выдали талоны на усиленное питание. Это усиленное питание давалось в академической столовой (она была там же, где и сейчас, – рядом с Институтом этнографии). Два раза в день надо было ходить есть. Многие так и не уходили, сидели тут же, на набережной, в столовой, чтобы не тратить сил. Помню, что давали глюкозу в кусках. После того как её съешь, сил сразу прибывало. Это было удивительно, почти чудо. К тому времени стали ходить некоторые трамваи. Топливо для электростанций бралось из разбираемых деревянных домов (так была разобрана Новая Деревня). Трамвай ходил по Большому проспекту Петроградской стороны, по 1-й линии, по Университетской набережной, через Дворцовый мост и по Невскому. Другие линии еще не действовали. Однажды, садясь в трамвай, я страшно разбился. Я уже заносил ногу, чтобы стать на подножку, когда трамвай тронулся. Сесть мне было трудно, но так как трамваи ходили очень редко, то хотелось. Я не выпускал из рук поручня, а трамвай набирал скорость. Наконец я сделал попытку вскочить на ходу, но сил у меня не было, я упал, и трамвай меня поволок. Сразу наступила страшная слабость, и я долго (несколько недель) с трудом мог передвигать ноги: колени дрожали.
В столовой я, встречая знакомые лица, каждый раз думал: «Этот жив». Люди в столовой встречались со словами: «Вы живы! Как я рад!» С тревогой узнавали друг у друга: такой-то умер, такой-то уехал. Люди пересчитывали друг друга, считали оставшихся, как на поверке в лагере.
Но тут случилось непредвиденное: меня вызвали в милицию, в военный стол, но не по военным делам. Начались допросы, требования; блокадный Ленинград перекликался с северными Соловками. Меня вызывали несколько раз на Староневский, туда, где когда-то помещался Сиротский дом. Когда угрозы не помогли (а они были серьезные), меня вызвали в милицию на Петрозаводской улице, перечеркнули тушью ленинградскую прописку и предложили со всей семьей выехать в несколько дней. Следователь провожал меня на площадке милиции, смотрел, как я ухожу, и угрожающе кричал: «Так не согласны?» Не буду описывать всех этих допросов, угроз, «заманчивых» предложений и обещаний и пр.
Вряд ли кто-нибудь из читателей «Обороны древнерусских городов» предполагал, в каком положении находится их автор. И вряд ли думал о различии в положении осажденных. Мы были осажденными вдвойне: двойным кольцом – внутри и снаружи. А читали нашу книгу в окопах под Ленинградом. Об этом мне рассказывал Аркаша, находившийся на Ораниенбаумском пятачке.
Помню особенно неприятное «посещение». Я выходил из квартиры со связкой книжек (книги можно было уже продавать в Доме книги: мы тогда стали продавать все, что могли) и встретил следователя; он вызвал меня на Староневский, так как по повесткам я не являлся. Добирался я до Староневского, долго. Провел там целый день, и дома очень тревожились. Это был сильный, решительный нажим на меня. Следователь разыграл сцену, будто я арестован: вызвал красноармейца, и тот повел меня в подвал. К счастью, я не верил угрозам и решения своего не менял. Тому, кто пережил ужасы блокады, ничего уже не было страшно. Запугать нас было трудно.
Мы начали спешно продавать все, что могли. Я решил: мы должны жить, а все остальное наживем. Мы прикрепляли объявления о продаже вещей к заборам. К нам беспрерывно ходили покупатели. Покупали по дешевке люстры, ковры, бронзовый письменный прибор, малахитовые шкатулки, кожаные кресла, диван, отцовское зимнее пальто и шапку, плохонькие картины, половую лампу со столешницей из оникса, книги, открытки с видами городов – все-все, что было накоплено еще до революции отцом и матерью. Только часть книг (полное собрание русских летописей – отдельные тома и еще некоторые) я отвез в Пушкинский Дом на хранение. Наняли для этого дворника из дома напротив – дядю Ваню. Он за буханку хлеба отвез книги на тележке.
Из-за кожаных кресел произошел даже скандал на парадной лестнице. Купила их за 600 рублей какая-то незнакомая партийная дама и оставила нам задаток, а потом пришел покупатель, который дал подороже. Мы продали второму покупателю, а партийной даме решили вернуть задаток. Но партийная дама пришла как раз тогда, когда кресла выносили. Она подняла такой крик и визг, что и новый покупатель, и мы отступились. Мы встречали эту партийную даму потом, когда вернулись в Ленинград. Мы могли бы отобрать у нее кресла, вернув деньги, так как тогда (в 1944–1945 годах) вышел декрет, по которому купленное в блокаду по грабительским ценам должно было возвращаться. Но ... зная ее визгливый характер, мы не стали требовать назад наших памятных кресел (в них очень любил сидеть мой отец).
Картину «Зима» я видел затем в 1944 году в комиссионном магазине на Садовой, около Публичной библиотеки. Рама была подновлена, сама картина подлакирована, и на ней выведена огромная размашистая подпись: «Кржицкий». Говорят, в блокаду существовала целая артель, которая подновляла старые картины, ставила на них подписи знаменитых художников и снова пускала в продажу. На пустых желудках ленинградцев составлялись целые состояния. Наш юрист и заместитель директора в институте Шаргородский советовал мне тогда забрать картину назад через суд, но и в этом я не стал этого делать. Хотя картина была мне памятна с детства, я устал, мне не хотелось судиться. На картине был изображен закат зимой. Санный путь уходит до синего горизонта, полузакрытого снежными тучами. На переднем плане изба с бочкой над дверью – это кабак. У кабака несколько саней с впряженными лошадями: ожидают мужиков, ушедших в кабак. В картине есть настроение, довольно пессимистическое...
Передаю перо маме.
Когда мы решили ехать – а без денег ехать нельзя, – стали продавать вещи. Было такое чувство, что мы в Ленинград уже никогда не вернемся и все пропадет, а поэтому нужно продать все, хоть бы за бесценок. Мы давали объявления (развешивали на заборах) о продаже вещей, и к нам ходили люди и покупали вещи, как в магазине. Если в городе был обстрел, то к нам никто не приходил. Как-то пришел молодой человек и купил у меня письменный бронзовый прибор за 150 рублей, и тут же стояли 2 бутылки уксуса, и он их купил тоже за 150 рублей. Так ценились продукты, даже уксус! Я купила несколько бутылок уксуса в начале блокады. Магазины были пустые, можно было купить только горчицу, уксус, – вот я и купила. Уксус и горчица нам помогли есть студень из столярного клея. Для вкуса при варке я в него клала траву сельдерей, которая у меня сушилась для зимы, так как коренья раньше зимой не продавали. Я помню некоторые цены, по которым продали наши вещи, или, вернее, отца и матери Мити. Шифоньер ореховый зеркальный – 1000 рублей. Туалет – тоже за столько же. Это очень хорошо, а остальные вещи продали гораздо хуже. У дедушки в комнате была хорошенькая ковровая кушетка. Ее продали за продукты: 300 граммов конфет соевых, килограмм риса, полкило сахара. Два кабинетных кресла, что у папы в кабинете (только лучше – мягче), мы продали по 300 рублей. Кушетку плюшевую – за 450 руб., а потом купили хуже за 1700 рублей. В общем как будто мы выручили от продажи имущества тысяч девять-десять. Когда приехали в Казань, этих денег хватило месяца на три. На часть денег мы купили картошку у знакомого Митиного брата Басевича. Он нам продал шесть мешков мелкой картошки, и мы заплатили 2000 рублей. Когда мы уезжали, то взяли только мягкие вещи, сняли со столов. Удивительно, как не пропали наши тюки. Мы с Тамарой разыскивали их среди других подобных тюков, сваленных в поле на противоположном берегу Ладожского озера. Как мы их таскали и грузили в товарные вагоны, в которых отправлялись в Казань!
Оставил место Зине и продолжаю писать.
Связь с «Большой землей» постепенно возобновилась, возобновилась и связь друг с другом. Пришел запрос от Миши – живы ли мы. Он действовал через какое-то свое учреждение. Пришел оттуда человек и обещал дать машину, для того чтобы перевезти вещи на вокзал. Это было большое дело! Мише сообщили о смерти дедушки. В главном зале Академии наук шла запись на эвакуацию. Там встретился я с Дмитрием Павловичем Калистовым: он тоже собирался ехать. Мы записались все, записали и Тамару Сергеевну Михайлову (няню). Она тогда уже работала в Институте литературы (ее взял М. М. Калаушин препаратором). Вещей можно было брать ограниченное количество (забыл, сколько килограммов) и только в мягкой таре, то есть в мешках. Людей отправляли с Финляндского вокзала до станции Борисова Грива, а оттуда Ладожским озером на пароходах и барках. Город постепенно пустел больше и больше. Милиция нас торопила, а эшелон откладывался. Подгоняемый милицией, я ходил к прокурору и доказывал незаконность высылки. Прокурор помещался на Пантелеймоновской. Все это взвинчивало нервы страшно. К тому же мы встретили на Большом проспекте Любочку, жену моего двоюродного брата Шуры (Александра Петровича) Кудрявцева. Шура был уже доктором технических наук – специалистом по какой-то редкой морской специальности (по образованию он был инженер-электрик). Блокаду они кое-как прожили (Шура был жаден, предусмотрителен и запаслив), а весной он стал ходить обедать в Дом ученых и там в столовой «разговорился»: говорил о том, что ученые деквалифицируются. Его вызвали, как и меня, запугивали этим разговором о деквалификации и предложили «служить». Кажется, он смалодушествовал, согласился, а затем явился в свою старую квартиру, поврежденную бомбой, в которой они уже не жили, и там повесился. Следователь, запугавший его, очень испугался сам, так как. Шура был специалист военный и, следовательно, человек нужный, приходил к Любочке на дом, уговаривал ее не говорить и прочее. Вот как ценилась жизнь защитников города.
Перед отъездом, в мае и в июне, очень усилились обстрелы. Однажды вся наша квартира сотряслась, а затем раздался грохот, и мы слышали, как на улице посыпались стекла. Звук падающих стекол – очень характерный звук ленинградских обстрелов. Улицы сплошь были засыпаны мелким стеклом, и в галошах ходить было совершенно невозможно: резались. В этот раз разрыв был очень сильный. Бабушка с криком собрала детей и бросилась с ними в коридор. Но было ясно, что раз разрыв был слышен, значит, в нас уже не попало. Потом бабушка побежала вниз по лестнице. Второго разрыва не было, но этот единственный тяжелый снаряд наделал-таки бед. Он попал на Большом проспекте в двухэтажный домик на углу улицы Ленина. Этого дома сейчас нет. Внизу была булочная. Снаряд прошиб весь дом сверху донизу и разорвался в булочной. Погибли несколько десятков людей. Все было залито кровью.
Когда мы ходили по улице, то обычно выбирали ту сторону, которая была со стороны обстрела, – западную, но во время обстрела не прятались. Ясно был слышен немецкий выстрел, а затем на счете 11 – разрыв. Когда я слышал разрыв, я всегда считал и, сосчитав до 11-ти, молился за тех, кто погиб от разрыва. Жене заведующего столовой Сергейчука снесло голову: она ехала в трамвае. В трамваях ехать было особенно опасно. Ленинградские старые трамвайные вагоны были со скамейками вдоль окон. Разрывом выбивало стекла и обезглавливало сидящих. Когда я впоследствии вернулся в Ленинград (приехал из Казани в командировку в 1944 году), я много слышал рассказов о таких трамвайных трагедиях. А против Биржи труда еще в 1945 году стоял трамвай с начисто выбитыми стеклами. Снаряд попал в рельсы под него. Рельсы вздыбились, трамвай покосился. Так он стоял довольно долго.
Ленинградские обстрелы хорошо описаны в воспоминаниях художницы О. А. Остроумовой-Лебедевой.
Ко времени отъезда мы почти все уже продали. Оставались непроданными некоторые книги и детские игрушки. Зина сшила черненькие заплечные мешки для девочек. В эти мешки мы должны были положить им их куклы (самые любимые), а остальные куклы – отдать в детский сад (открылся внизу нашего дома). Что за трагедия была, когда к нам пришла заведующая детским садом и стала выносить куклы! Дети плакали, бросались на колени, бежали по лестнице за этой женщиной и долго не могли успокоиться.
Приходил Вася Макаров (брат Зины), принес нам однажды черный творог из складов на Кушелевке. Эти склады сгорели еще в 1939 году во время финской кампании (говорят, их поджег финский самолет). Склады были продовольственные, и вот народ весной 1942 года стал раскапывать завалы и извлекать из-под угольев остатки провизии. Творог Вася купил за 200 рублей: это была черная лоснящаяся земля, масса, пахнувшая землей и замазывавшая до боли горло. После нее болел живот (единственный раз, когда у меня во время войны болел живот). Вася купил у нас кабинет (без мягких кресел) и еще что-то. Мы просили его продать остатки книг.
Броню на квартиру я сдал в ЖАКТ, но печати на квартиру наложить не удалось: не было времени. Нельзя было задерживать машину. Мягкие наши тюки мы отправили на машине на вокзал – принимали багаж на Московском вокзале. Затем мы переночевали в пустой квартире и на следующий день с самыми небольшими заплечными мешками отправились на Финляндский вокзал. Погода была хорошая. Это было 24 июня. Мы покидали нашу квартиру с таким чувством, точно никогда уже в нее не вернемся. Казалось невозможным вернуться в город, в котором мы видели кругом столько ужасов. Может быть поэтому мы даже и не опечатали квартиру, не очень об этом заботились. Вася нас провожал. Дети шли в сереньких пальтишках (они сняты в них в Ботаническом саду осенью 1941 году с заплечными мешками). Тамара, купившая перед тем швейную машину у бабушки Обновленской, несла ее, завернутой в одеяло, но без крышки (твердая тара!). Мы ехали в трамвае и в последний раз смотрели на многострадальный город.
На Финляндском вокзале нас в первый раз сытно кормили: дали пшенной каши с большим куском колбасы. Нас подкрепляли к дороге. Дорога предстояла тяжелая, и слабые ленинградцы погибали на ней тысячами. Мы поели на воздухе, затем нас стали сажать в дачные вагоны. Тесно было страшно. Вместе с нами очутился и Стратановский. Он потерял жену (она умерла сравнительно рано, зимой) и был один. С растерянным видом он упрашивал пустить его к нам в вагон. Поезд шел убийственно медленно, долго стоял на станциях. Часть людей сидела, часть стояла спрессованная, тамбуры были все забиты.
Ночью, в белую ночь, мы приехали в Борисову Гриву. Нам выдали похлебку: она была жирная, и ее было много. Мы жадно ели эту настоящую пищу. Нас кусали комары, как живых, мы видели природу. Это было прекрасно. Не спали. Я разговаривал с гербаристом Борисовым, умершим потом в дороге от дистрофического поноса. Дмитрий Павлович Калистов, Олимпиада Васильевна, сестра Олимпиады Васильевны Ляля и Бобик оказались в том же поезде, что и мы. Дмитрий Павлович шутил: «Хотел бы я видеть того Бориса, у которого такая грива». Мы решили держаться все вместе.
В Борисову Гриву доставили наш багаж. Мы сами разыскивали по приметам наши тюки и складывали их вместе под открытым небом. Затем началась погрузка на пароход. На пароход пропускали только один раз, после проверки паспорта, но что можно было захватить за один раз нашими ослабевшими руками? Мы с Дмитрием Павловичем, Зина и Тамара едва уговорили стражников, проверявших наши документы, пропустить нас еще раз и ходили раза по три, таская наши тюки по молу до парохода. Когда мы вернулись к пароходу с последними тюками, пароход уже отходил, а на нем были дети, бабушка, Зина, Тамара. Мы с Дмитрием Павловичем прыгнули, рискуя упасть в воду, но благополучно оказались на борту перегруженного до крайности парохода. Если бы прошла еще минута, мы бы остались на берегу. Бог знает, когда бы тогда снова нашли друг друга! Как волновалась Зина – и передать не могу.
День был ясный, и мы плыли на самом виду у самолетов, если бы они появились, но, слава Богу, их не было. Только пристав к тому берегу, мы почувствовали себя в относительной безопасности, но тут началась воздушная тревога. Мигом опустела пристань, но это были только разведчики; немцы не бомбили.
Нам отвели избу, в которой мы должны были ночевать. Но не спали мы и вторую ночь. В избе жили крестьяне. Один из мальчишек хозяев страшно кашлял, захлебывался. По-видимому, у него был коклюш. Бабушка не велела ему подходить, он обиделся, указывал пальцем на бабушку и говорил: «Она говорит, что у меня «кашлюш»!»
Нам дали хлеба на несколько дней, мы снова ели из наших алюминиевых плошек и опять много, хотя чувство голода не проходило ни на минуту.
Помню, как мы снова искали наши тюки. Весь багаж был сложен на песке плотно друг к другу. Мы все (сотни пассажиров) ходили вокруг этих сложенных вещей и разыскивали свои тюки с бирками, на которых были написаны наши фамилии и название учреждения. Мы искали долго, так как тюков у всех было много и народу тоже было очень много, но ничего не пропало. Затем нас стали грузить в товарные вагоны с нарами. Досок для нар не хватало, и надо было их достать. Доски мы с Дмитрием Павловичем и Стратановским достали, но все же их не хватало; в нарах были большие щели, спать в пути было очень неудобно. Мы спали наверху, внизу Тамара и Стратановский. С другой стороны теплушки, наверху, спали Калистовы. Тюки наши были сложены под нары и посреди теплушки. Эшелон тронулся. Первая большая остановка была в Тихвине. Мы снова ели там кашу с большим количеством масла и успели даже сходить осмотреть город, в котором жили с Дмитрием Павловичем в 1932 году. Город пострадал отчаянно. В нем не было жителей, но странно, что статуя Ленина против гостиного двора на площади была немцами не тронута.
По дороге мы покупали у жителей дикий лук, на станциях ходили за кипятком, за пайком. Всюду нас обильно кормили, а мы ели, ели и не могли насытиться.
В пути было много грудного, о чем уж не стану рассказывать. И в Казани было нелегко. Но все это – другой рассказ и другая «эпоха». О ней следует рассказать особо.
Были ли ленинградцы героями? Нет, это не то: они были мучениками...
Нева. 1991. № 1.
* * *
Я думаю, что, достигнув восьмидесяти лет, человек должен поблагодарить Жизнь. У меня, во всяком случае, есть за что ее благодарить. И за счастливое детство, и за хорошую школу с хорошими учителями. И за мою родительскую семью, заботившуюся о нас – детях. И за то, что казалось мне несчастьем, но что принесло мне много житейского опыта и в конечном счете избавило от худших несчастий 30-х годов. И за работу корректором – особенно в Издательстве Академии наук, где я обрел и свою семью – верную и заботливую жену, давшую мне двух любимых детей.
И Пушкинский Дом, в который я впервые пришел заниматься шестьдесят лет назад – в 1927 году, а работать постоянно стал в нем пятьдесят лет назад.
Пятьдесят лет в Пушкинском Доме, пятьдесят лет «в строю литературоведческой науки», в которой я еще застал В.М. Жирмунского, Б.М. Эйхенбаума, Г. А. Гуковского, Б. В. Томашевского Л. Б. Модзалевского, старых музейных работников и старых библиотекарей. А в Отделе древнерусской литературы я успел учиться у своих поздних учителей – у В. П. Адриановой-Перетц, у А. С. Орлова, В. Л. Комаровича и у своих учеников по историческому факультету университета.
А из своего заграничного опыта я с особенной благодарностью вспоминаю заседание Международной текстологической комиссии под председательством Конрада Гурского.
Сколько было хорошего при всем бессильном стремлении многих и многих причинить мне дурное!
Жизнь! А в какое необыкновенное время я «посетил» (Тютчев) свою страну. Я застал все роковые ее годы, видел множество людей всех возрастов, всех социальных слоев, всех степеней образования, всех психологических типов: и тех, кого мог бы назвать святыми, и тех, хуже которых трудно себе представить: прямых убийц тысяч и тысяч людей. Я видел и вершителей судеб, и их жертв. И жизнь повела меня по путям, которые шли ближе к жертвам, чем к их губителям. Что-то я смог сделать хорошее другим. Что-то я смог сделать и для Древней Руси. В чем-то осуществились мои мечты. Многое еще осуществится в будущем.
17 июля 1987 г. Волгоград.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
Часть II
ДАНО СУДЬБОЙ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ ОЧЕНЬ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ
Существует обывательское представление о «несамостоятельности» древнерусской литературы. Однако не только каждая литература, но и каждая культура «несамостоятельна». Настоящие ценности культуры развиваются только в соприкосновении с другими культурами, вырастают на богатой культурной почве и учитывают опыт соседней. Может ли развиваться зерно в стакане дистиллированной воды? Может! – но пока не иссякнут собственные силы зерна, затем растение очень быстро погибает. Отсюда ясно: чем «несамостоятельнее» любая культура, тем она самостоятельнее. Русской культуре (и литературе, разумеется) очень повезло. Она росла на широкой равнине, соединенной с Востоком и Западом, Севером и Югом. Ее корни не только в собственной почве, но в Византии, а через нее в античности, в славянском юго-востоке Европы (и прежде всего в Болгарии), в Скандинавии, в многонациональности государства Древней Руси, в которое на равных основаниях с восточными славянами входили угро-финские народности (чудь, меря, весь участвовали даже в походах русских князей) и тюркские народы. Русь в XI–XII веках тесно соприкасалась с венграми, с западными славянами. Все эти соприкосновения еще шире разрастались в последующее время. Одно перечисление народов, входивших с нами в соприкосновение, говорит о мощи и самостоятельности русской культуры, умевшей заимствовать многое у них и остаться самой собой. А что было бы, если бы мы были отгорожены от Европы и Востока китайской стеной? Мы остались бы в мировой культуре глубокими провинциалами.
Существует ли «отсталость» древнерусской литературы? А что вкладывается в это понятие «отсталости»? Что мы, наперегонки бегаем? Ведь в таком случае должен быть определенный старт, условия и прочее. А если народы Европы принадлежат к разным возрастным группам, да и рождение наше не всегда ясно? Византия и Италия продолжали античность, а мы стали развиваться позднее и в других условиях. Одним словом: мой сосед, которому три года, отстал от меня?
Другое – «заторможенность». Существовала ли она в культуре Древней Руси? Кое в чем – да, но это особенность развития и под оценки она не подпадает. Скажем, у нас не было такого молниеносного перехода от Средневековья к Новому времени, как в Италии. В Италии была «эпоха Ренессанса», а у нас были явления Ренессанса, и они затянулись на несколько веков – вплоть до Пушкина. Наш Ренессанс был «заторможенный», и поэтому борьба за личностное начало в культуре у нас была особенно напряженной и трудной и резко сказалась в литературе XIX века. Хорошо это или плохо?
Еще одно понятие – «художественная слабость литературы». Всякая культура в чем-то слаба, в чем-то сильна. Древнерусская культура была очень сильна в архитектуре, в изобразительном искусстве, а теперь выясняется – и в музыке. А в литературе? Литература была своеобразной. Публицистичность, нравственная требовательность литературы, богатство языка литературных произведений Древней Руси изумительны.
Картина довольно сложная.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
КТО БЫЛ НАШИМИ УЧИТЕЛЯМИ
Нам не следует бояться признания огромной роли Византии в образовании славянской культуры-посредницы и отдельных национальных литератур славян. Славянские народы не были провинциальными самоучками, ограниченными своими местными интересами. Через Византию и другие страны они дышали воздухом мировой культуры. Развивали свою общую и местные культуры на гребне общеевропейского развития. Их культуры для своего времени представляли собой в известной части итоги общеевропейского развития. Опередившая другие славянские страны на целое столетие Болгария сделала великое дело, присоединив и себя, и литературы других стран к общему европейскому развитию и, вместе с тем, создав общий литературный язык для всех православных славянских стран, а частично – и для не славянских. Великим счастьем для славян было то, что сама византийская литература не была узконациональной, а в значительной мере многонациональной. На основе многовекового общеевропейского опыта можно в дальнейшем глубже отразить национальные интересы и создать литературу высоких национальных форм. Общеславянская национальная литература-посредница, сама явившаяся в результате выделения из отдельных национальных литератур некоей «общей» части, была хорошей почвой для образования в дальнейшем высоких национальных литератур.
Мы очень часто находимся во власти исторических предрассудков. Одним из таких предрассудков является убежденность в том, что Древняя Русь была страной с малой грамотностью.
Тысячи и тысячи рукописных книг хранятся в наших библиотеках и архивах, сотни берестяных грамот найдены в Новгороде – грамот, принадлежащих ремесленникам, крестьянам, мужчинам и женщинам, простым людям и людям высокого социального положения. Печатные книги показывают высокий уровень типографского искусства. Рукописи «цветут» изумительными заставками, концовками, инициалами и миниатюрами. Печатные шрифты и рукописные буквы поразительны по красоте. Все новые и новые центры книжной культуры обнаруживаются в монастырях Древней Руси среди лесов и болот, на островах — даже вдали от городов и сел. В рукописном наследии Древней Руси мы все больше и больше открываем новых произведений, оригинальных и переводных. Уже давно ясно, что болгарское и сербское рукописное наследие шире представлено в русских рукописях, чем у себя на родине. Высокое искусство слова окружено открытиями в области древнерусской музыкальной культуры. Всеобщее признание во всем мире получили древнерусские фрески и иконы, русское прикладное искусство. Древнерусское зодчество оказалось целым огромным миром, изумительно разнообразным, будто принадлежащим разным странам и народам с различной эстетической культурой. Мы получили из рукописей представление о древнерусской медицине, о русской историософии и философии, о поразительном разнообразии литературных жанров, об искусстве иллюстрирования и искусстве чтения, о различных системах правописания и пунктуации... А мы все твердим и твердим: «Русь безграмотная, Русь лапотная и безмолвная!»
Почему так, догадываюсь: может быть, потому, что в XIX веке носителями древнерусской культуры оставались по преимуществу крестьяне, историки судили о Древней Руси главным образом по ним, по крестьянам, а их давно уже скрутило крепостное право, все большее обнищание, отсутствие времени на чтение, непосильная работа, нищета.
В любом историческом сочинении мы привыкли читать об усилении эксплуатации, классового гнета, обнищании народных масс... И ведь это правда, но почему же тогда мы не делаем и другого вывода, что культура народа в этих условиях нарастающего гнета должна была падать. Судить по безграмотности крестьянства XIX века о его неграмотности (еще большей!) в веках XI–XVI нельзя. Нельзя думать, что письменная культура населения непрерывно возрастала. Нет, она и падала. И именно крепостное право принесло с собой ту неграмотность, ту «лапотность» народа XIX века, которая даже историкам показалась исконной и типичной для Древней Руси.
Одна фраза в Стоглаве о неграмотности новгородских попов служила и продолжает служить этому убеждению в неграмотности всего населения. Но ведь Стоглавый собор, призванный установить единый порядок церковных правил для всей Руси, имел в виду только новгородский обычай избирать уличанских попов всей улицей, в результате чего в попы попадали лица, не имевшие точного представления о церковной службе.
Одним словом: обильнейший материал превосходных рукописных и печатных книг, хранящихся или героически собираемых нашими энтузиастами-патриотами на Севере, на Урале, в Сибири и других местах, требует от нас признания высокой письменной культуры первых семи веков русской эпохи. Грамотность народа помогает нам понять высокую культуру слова в русском фольклоре, высокие эстетические достоинства народного зодчества, изделий народных ремесел, высокие моральные качества русского крестьянства там, где его не коснулось крепостное право, как например, на русском Севере.
Публикуется впервые.
РОССИЯ
1.
То, что я скажу в этой заметке о русской культуре, – это мое сугубо личное мнение, я его никому не навязываю. Но право рассказать о своих самых общих, пусть и субъективных впечатлениях дает мне то, что я занимаюсь Русью всю свою жизнь, и нет для меня ничего дороже, чем Россия.
Россию упрекают. Россию восхваляют. Одни считают ее культуру несамостоятельной, подражательной. Другие гордятся ее прозой, поэзией, театром, музыкой, иконописью... Одни видят в России гипертрофию государственного начала, а народ воспринимают как покорный. Другие отмечают в русском народе анархическое начало и постоянное бунтарство, неприятие власти. Одни отмечают в нашей истории отсутствие определенной целеустремленности. Другие видят в русской истории «русскую идею», наличие у нас сознания гипертрофированной собственной миссии. Между тем движение к будущему невозможно без точного понимания прошлого и характерного.
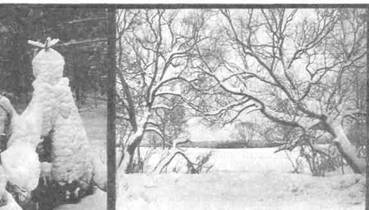
Подмосковье зимой
Россия необъятна. И не только своим поразительным разнообразием человеческой природы, разнообразием культуры, но и разнообразием уровней – уровней во всех душах ее обитателей: от высочайшей духовности до того, что в народе называют «паром вместо души».
Но буду краток. Я ведь не пророк и не проповедник, хотя убеждать и призывать в последние свои годы приходится часто. Скажу только словами Владимира Мономаха, обращенными им к его читателям: «Аще не всего приимете, то половину».
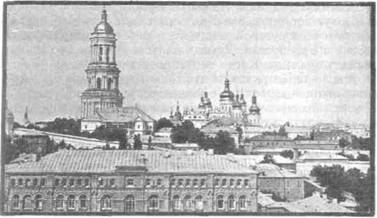
Киево-Печерская лавра
Гигантская земля. И именно земля, почва. Она же страна, государство, народ. И недаром, когда шли на поклонение к ее святыням, замолить грех или поблагодарить Бога, – шли пешими, в лаптях и босыми, чтобы ощутить ее почву и пространство, пыль дорог и траву придорожных тропинок, увидеть и пережить все по пути. Нет святости без подвига. Нет счастья без трудностей его достижения. Идти тысячи верст: до Киева, до Соловков, плыть до Афона – и это тоже частица России.
Я назвал Киев в числе мест, куда брели русские паломники. И это я сделал не случайно. Самая большая русская святыня была Киево-Печерская лавра. И украинцы могут гордиться, что их город был с самого начала центром всей русской земли: будущей Украины, Великороссии и Белоруссии. Думать иначе – узость, это значит снижать значение Киева как мирового города.
Я вспоминаю, с каким душевным трепетом я бродил в свои школьные годы по Белозерску – городу, еще в X веке знаменитому тем, что там сел на княжение один из трех братьев-варягов – Синеус (я не знал еще тогда, что и само призвание варягов – легенда, да и Белозерск перенесен на свое нынешнее место в XIV в.). Но с таким же трепетом я бывал и в Изборске (городе другого брата – Трувора), и в Новгороде, где сел Рюрик, и во Владимире, основанном Владимиром Мономахом, и в Ростове, и в Новгороде-Северском, и в Путивле. Каждый город хранит свою особую красоту и вместе с тем в чем-то общую для всех. Каждое село, в котором я бывал, – от Колы близ Мурманска и северных становищ до деревень на Волге, в Псковской области, на Волхове и Пинеге, – имело свое лицо. Невероятное разнообразие и какое-то высокое единство. Все русское. Но и после разделения на три восточнославянских народа не отгороженное глухой стеной от Украины, от Белоруссии, от селений татарских, коми-зырянских, мордовских, карельских.
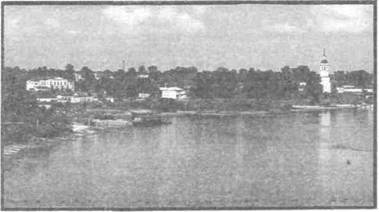
Город Тотьма
Общие судьбы связали наши культуры, наши представления о жизни, быте, красоте. В былинах главными городами русской земли остаются Киев, Чернигов, Муром, Карела... И о многом другом помнил и помнит народ в былинах и исторических песнях. В сердце своем хранит красоту, над местной – еще какую-то надместную, высокую, единую... И эти «идеи красоты» и духовной высоты – общие при всей многоверстой разобщенности. Да, разобщенности, но всегда взывавшей к соединению. А возникло это ощущение единства давно. Ведь в самой легенде о призвании трех братьев-варягов сказалось представление, как я давно доказываю, о братстве племен, ведших свои княжеские роды от родоначальников-братьев. Да и кто призывал по летописной легенде варягов: русь, чудь (предки будущих эстонцев), словене, кривичи и весь (вепсы) – племена славянские и угро-финские, следовательно, согласно представлениям летописца XI века, эти племена жили единой жизнью, были между собой связаны. А как ходили походами на Царь-град? Опять-таки союзами племен. По летописному рассказу, Олег взял с собою в поход множество варягов, и словен, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северцев, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев...
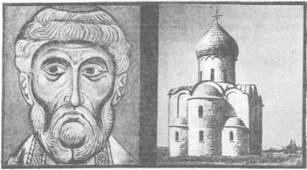
Фреска. Фрагмент. Петр
Александрийский
Новгород. Преображенская церковь на Нередице
Русская земля, или, вернее, земля «Русьская», то есть вся – с будущей Украиной, Белоруссией и Великороссией – была сравнительно слабо населена. Население страдало от этой вынужденной разобщенности, селилось преимущественно по торговым путям – рекам, селилось деревнями, и все же не такими уж большими, боялось окружающей неизвестности. Враги приходили «из невести», степь была «страной незнаемой», западные соседи – «немцы», то есть народы «немые», говорящие на незнакомых языках. Поэтому среди лесов, болот и степей люди стремились утвердить свое существование, подать знак о себе высокими строениями церквей как маяками, ставившимися на излучинах рек, на берегу озер, просто на холмах, чтоб их видно было издали. Нигде в мире нет такой любви к сверкающим золотом, издали видным куполам и маковкам церквей, к рассчитанному на широкие просторы «голосоведению», к хоровому пению, к ярким краскам, контрастным зеленому цвету и выделяющимся на фоне белых снегов чистым цветам народного искусства. «Цветам», то есть раскраскам цветов. Цветам, взятым из природы, согласующимся с ней, а вместе с тем и выделяющимся.

Звенигород
И до сих пор, когда я увижу золотую главку церкви или золотой шпиль Адмиралтейства, освещающий собой весь Невский, золотой шпиль Петропавловской крепости – меч, защищающий город, – сердце мое сжимается от сладкого чувства восторга. Золотое пламя церкви или золотое пламя свечи – это символы духовности. «Свеча бы не угасла» – так писали в своих завещаниях московские князья, заботясь о целостности Русской земли.
Вот почему на Руси так любили странников, прохожих, купцов. И привечали гостей – то есть проезжих купцов. «И человека не минете, не привечавше», – пишет в своем Поучении Мономах. Гостеприимство, свойственное многим народам, стало важной чертой русьского характера – русского, украинского и белорусского. Гость разнесет добрую молву о хозяевах. От гостя можно услышать и об окружающем мире, далеких землях. Потому и вера христианская, как бы наложившаяся на старое доброе язычество, была с таким малым сопротивлением принята на Руси, что она ввела Русь в мировую историю и мировую географию. Люди в своей вере перестали чувствовать себя одиноким народом, получили представление о человечестве в целом.

Ростов Великий
Но объединяющим началам в русской земле противостоят широкие пространства, разделяющие собой села и города. «Гардарикией» – «страной городов» называли скандинавы Русь. Однако между городами и селами тянулись безлюдные пространства, иногда трудно преодолеваемые. И из-за этого крепли в Руси не только объединяющие, но и разъединяющие начала. Что ни город, то свой норов, то свой обычай. Русская земля всегда была не только тысячей городов, но и тысячей культур. Возьмите то, что больше всего бросается в глаза и что больше всего заботило жителей России, – архитектуру. Архитектура Руси – это целый разнообразнейший мир. Мир веселых строительных выдумок, многочисленных стилей, создававшихся по-разному в разных городах и в разные времена. Одновременно воздвигаются храмы в Новгороде и во Владимире, в Смоленске и в Ярославле. И в Новгороде оказываются церкви, построенные в духе не только новгородских, но и смоленских, потом московских и волжских соборов. Ничего агрессивного, не допускающего существования зданий другого стиля или другой идеологической наполненности. В Новгороде существовала варяжская божница, была Чудинцева улица – улица угро-финского племени чуди. Даже в Киеве был Чудин двор – очевидно, подворье купцов из далекой северной Эстонии на Чудском озере. А в XIX веке на Невском проспекте, проспекте веротерпимости, как его называли иностранцы, была и голландская церковь, и лютеранская, и католическая, и армянская, и только две православные – Казанский собор и Знаменская церковь.
2.
Ко второй части своей статьи приступаю не без некоторого волнения. К мыслям, здесь выраженным, легко придраться, если изъять их из контекста всей статьи, если выдергивать их поодиночке, если просто не пожелать понять, что есть на самом деле в русской культуре.
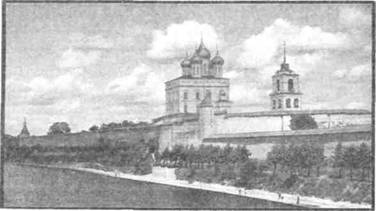
Псков
Первая часть статьи отчасти подготовила к тому, что я скажу сейчас. Соседство через пространства типично не только для русских городов и сел, но и для русской культуры в целом. Мы страна европейской культуры. К этому приучило нас христианство. С ним вместе мы восприняли византийскую культуру: в очень большой степени через Болгарию. Мы создавали свою письменность, собственные литературные жанры, выражали в литературе свои тревоги, но помощь в этом оказывали привезенные к нам болгарские книги, болгарские сочинения, жанры, утвердившиеся в Болгарии, но самое главное – тот литературный язык, который мы получили со всей болгарской культурой. Не вдаваясь сейчас в сложный вопрос о том, как называть гот церковный язык, на котором были написаны привезенные к нам книги и переписываемые произведения, скажем только, что язык этот, переделываясь, возвращаясь к старым формам и снова от них удаляясь, питал русскую литературу целого тысячелетия. Было два языковых центра, вокруг которых вращалась, обогащаясь, русская литература. Первый центр – это тот церковнославянский язык, традиционно связанный с Болгарией, который все русские вплоть до конца десятых годов XX столетия учили сызмальства, с приготовительных классов гимназии, с первых классов городских школ, реальных, коммерческих и церковных училищ, на котором молились, учились понимать мировые сюжеты европейской живописи, поэзии, философской мысли... Второй (а может быть, и первый, так как он предшествовал церковнославянскому) – это язык разговорный, традиционно русский, с его поговорками и речениями, к которому постоянно обращались летописи, юридические памятники, древнерусские повести, сатирические произведения и т.д. И близкий разговорному язык народной поэзии: былин, исторических песен, духовных стихов (забытых сейчас вместе со всей их народной мудростью), сказок и т. д. и т. п. Всех жанров народной поэзии не перечислишь, но ясно одно – что это тоже язык организованный, по-своему высокий. Какое счастье быть русским писателем, постоянно черпая в своем творчестве в нужном количестве и качестве то из одного родника, то из другого! В этом отгадка необыкновенного богатства и тонкости языка русской литературы, и особенно поэзии.
Из различных родников создавались и жанры русской литературы и поэзии: свои народные, церковнославянские, польские, западноевропейские. Обогащались взаимно жанры русской, белорусской и украинской литератур. Причем поразительно, что ни один из жанров не исчезал бесследно. Ни один из больших пластов литературы! Древнерусская литература продолжала существовать до XX века. Повествования типа Повести о Бове, о разбойнике Барбосе издавались в XX веке Сытиным. Многие произведения старинной русской литературы переходили в литературу детскую, подобно тому как в детских игрушках продолжали существовать старинные формы паровозов, саней, военных мундиров.
Правда, жанры литературы упрощались, деформировались, приспосабливались к литературным необходимостям своей эпохи.
Процесс жанрообразования шел в течение всего развития русской литературы. Эти жанры создавались вновь, но и заимствовались: роман, баллада, поэма и прочее. И всюду приобретали оригинальный, свой, русский характер.
Развивавшаяся в многочисленных центрах письменности и в «литературных гнездах» литература была необычайно богата, соединяя в каждую эпоху разнообразнейший по происхождению материал, свой и чужой, используя свободу выбора и свободу обращения с жанрами. Это относится и к тем жанрам, которые пришли к нам из Византии и с Балкан, и к тем, что явились к нам с Запада, как например, роман, который приобрел у нас свои формы и, забегая вперед, скажем – идейную, своеобразную русскую содержательность.
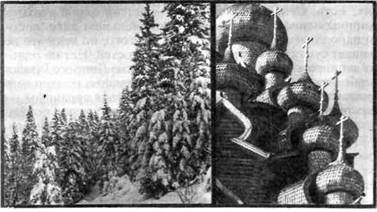
Русский лес
Кижи. Главы Преображенской церкви
Еще ярче эта способность русской культуры обогащаться за счет чужих культур и трансформации своей, старой, сказалась в смене стилей. Русская земля создавала собственные художественные стили в древний период своего развития, до эпохи петровских реформ, а после Петра включилась в общее развитие художественной жизни Запада, постоянно трансформируя художественные стили, впервые возникавшие на Западе, а затем откликавшиеся в России. Но как откликавшиеся! Каждый стиль приобретал в России не только своеобразные, но и высшие формы. Барокко, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм! Разве все эти течения и «великие стили» не приобрели в России свои формы и свою содержательность, свою направленность на решение общих проблем? Симеон Полоцкий – белорус, принесший с собой веяния и формы школьного барокко. В Москве он работал отнюдь не на школьные темы, заняв в своем творчестве глубокие и необходимые на русской почве общественные позиции. Радищев и Карамзин – разве это просто сентименталисты? Или они писали вне стилей? А реализм Достоевского? Разве это просто реализм, а не реализм высшего уровня, выходящий уже за пределы обычного литературного реализма? А ведь аналогичные наблюдения мы могли бы сделать в области зодчества. Даже многочисленные итальянские архитекторы, работавшие в Петербурге, не приблизили Петербург к типу итальянских городов. Приглядимся внимательнее – и мы увидим, что Петербург вообще не принадлежит к типично европейским городам. Европейские города у нас – Таллинн, Вильнюс, Рига, Львов, но не Петербург. Тем более он и не восточный город. Петербург – русский, обладающий необычайной восприимчивостью к чужому и творческой переработкой этого чужого в главком.
3.
Писать историю русской культуры или хотя бы литературы, архитектуры, философии, живописи, музыки необычайно трудно. Именно потому, что явления культуры самостоятельны, они не всегда четко вливаются в общий процесс. Они свободны и, как свободные, легко воспринимают и творчески перерабатывают чужое – стороннее или просто старое, возвращаются к этому старому или забегают намного вперед, опережая не только свое время в своей стране, но и чужое в других странах, как это было с «серебряным веком» в русской литературе или с авангардом в живописи. Об этой черте говорит, в частности, Блок в «Скифах»:
Мы любим, всё – и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё – и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...
Эту черту восприимчивости и понимания своего и чужого как своего отмечали многие в XIX и XX веках, нет смысла повторять и развивать это наблюдение. Скажу только (вернее, напомню о том, что давно говорилось), что эта последняя черта доводила русских не только до многого хорошего, но и до многого плохого.
А кстати, обратите внимание, какие различные писатели, поэты, художники, философы живут в прошлом одновременно. Их объединения по общим творческим принципам совершаются легко, хотя легко и разрушаются. Но разве нет аналогичных явлений в западных странах? Есть, конечно. Вообще не бывает ни одной черты в национальном своеобразии, в национальном лике любого народа, которой не было бы у другого, но ведь это не мешает существованию индивидуальностей. Нет ни одного лица, которое совпадало бы с другим. Лицо же России особенно индивидуально, ибо восприимчиво не только к чужому, но и к своему. Может показаться странным – «восприимчиво к своему», но я имею в виду черту особой правдивости, при которой человек не скрывает своего, искренен и во всем своем доходит до крайней точки.
4.
«Стыдливость формы» – эта черта, особенно ярко проявившаяся в русской литературе, связана со всем предшествующим, о чем я говорил перед этим. Как только какой-либо стиль, манера, жанр, язык начинают определяться в своих формах, как бы застывают, становятся заметными, замечаемыми, так они отвергаются, и автор стремится почерпнуть новое в низших формах, ищет простоты и правды. Обращается то к разговорному языку, то к деловым жанрам, пытается сделать литературным нелитературное. Это особенно заметно у Некрасова, Лескова, Толстого, Маяковского и многих других. Иногда это сочетается с резким поворотом к старому и даже древнему, как у А. Ремизова. На этом основывалась и постоянная «игра» двух главных полюсов русского языка в XVIII–XX веках – церковнославянского и разговорного, просторечного.
«Стыдливость формы» – постоянный источник обогащения русского литературного языка и русской жанровой системы в литературе. Но не только в жанрах и языке проявилась она, а и, по существу, в содержании, в идеологии. «Стыдливость формы» – это и страсть разоблачения всякой напыщенной лжи, стремление к неприкрашенной, «голой правде», ненависть к фразе. Всяческое «опрощение», стыд своей образованности и интеллигентности, хождение в народ и идеализация крестьянства и общины, идеализация Древней Руси, воспринимавшейся славянофилами как нечто простое, крестьянски-однородное. Даже кажущееся сейчас смешным стремление писателей одеваться «под крестьянина», «под странника», иногда под мелкого торговца – отражение той же идеологии. И уж в этом-то мы полностью «самобытны».
5.
Но если говорить об идеологическом своеобразии, то здесь главенствующей чертой, несомненно, должно быть выделено правдоискательство, которое постоянно отделяло русскую мысль от русской государственной деятельности либо даже, ненадолго правда, подчиняло последнюю себе.
Правдоискательство было главным содержанием русской литературы начиная с X века. Да, с десятого, хотя обычно принято начинать русскую литературу, точнее «русьскую», ибо она была началом литературы и украинской, и белорусской, с одиннадцатого века. В самом деле, историческая литература, в которой искали «откуда есть пошла», или «вещи сея начало», или место русского народа среди народов других стран, или место русской истории в истории мировой, – такая историческая литература была тоже формой правдоискательства. Древнейшее из дошедших до нас компилятивных произведений, относящееся ко временам крестителя Руси Владимира I Святославича, «Речь философа» – именно такого характера. «Речь» рассказывает о мировой истории в средневековом ее понимании, показывает место Руси в мировой истории и в заключение наставляет Владимира принять христианство. Историческая литература с необычайным размахом составлялась и переписывалась на Руси вплоть до XVII века. И характерно, что один из первых летописцев, создатель самой формы летописания, монах Киево-Печерского монастыря Никон вынужден был бежать от княжеского гнева в Тмутаракань. А затем и пошло... Авторы древнерусских сочинений постоянно становились в оппозицию к князьям – будь то автор «Слова о полку Игореве», или Даниил Заточник, или автор «Повести о разорении Рязани» и т. д. Поучения обращались к князьям чаще, чем к представителям какого-либо другого сословия. Татаро-монгольское нашествие и объединило людей разных социальных слоев, и еще больше разъединило их. Князья и монархи следили за литературой или сами брались за перо. Но это не уничтожило пропасти, которая существовала между государством и литературой.
По отношению к государству в России была не только оппозиция интеллектуальная, политическая, но и «оппозиция души». Вспомним, какие тонкие, нежные лики изображены на некоторых из икон времени Ивана Грозного. Вместе с тем в пору ослабления государства, в период феодальной раздробленности и междоусобных ратей литература сама слала своеобразным «вторым государством». Она переняла у государства его объединяющие функции. Национальное самосознание, сознание своего единства держалось в основном на относительном единстве языка, фольклора, искусства, быта. Я говорю об «относительном единстве», так как наряду с общими явлениями существовали и различия, о которых я уже говорил. Были различия племенные, областные, различия между культурными гнездами и центрами. Больше всего объединяющей силы было в литературе, произведения которой кочевали по всей Руси, пересылались из одного книжного центра в другой, объединяли Русь общей книжной культурой, а благодаря своей открытости не знали и национальных границ с южными славянами.
6.
Широта свойственна не только пространству, населенному русью, но и натуре русского человека, русской культуре. Многообразие форм, многообразие собственного культурного наследия, многообразие «областных» культурных гнезд и книжных центров в значительной мере определяло исключительную свободу в обращении с культурными ценностями разных времен и разных народов. Вот почему своеобразный символ русской культуры – Пушкин, стремившийся приобщить свое творчество ко всем вершинам мировой поэзии: Данте, Хафиз, Гёте, Шекспир и т. д. и т. п.
Пушкинская энциклопедия, когда она будет составлена, сможет быть источником обширной образованности для любого читателя.
И, по существу, в русской культуре всякое явление культуры предстает в своих наилучших формах, стремится подняться на ступеньку выше, быть наполненным значительным содержанием, обрести свободу от канонов. Таковы философская опера Мусоргского, философский роман Достоевского, философская проза Гоголя, философская лирика Тютчева, даже философский «авангардизм» (Малевич, Филонов, Гончарова и многие другие). Русская культура не перенимала, а творчески распоряжалась мировыми культурными богатствами. Огромная страна всегда владела огромным культурным наследством и распоряжалась им с щедростью свободной и богатой личности. Да, именно личности, ибо русская культура, а вместе с ней и вся Россия являются личностью, индивидуальностью.
Личность, индивидуальность не терпят одиночества и замкнутости в себе. От этого Россия всегда стремилась любовно усвоить наследие прошлого: наследие Греции, балканских стран, и среди них в первую очередь Болгарии, культуру Италии во всем ее многообразии, сперва, в XV веке, – зодчество, затем, в XVIII и начале XIX века, – не только зодчество, но и музыку, живопись, литературу. Такое же стремление усвоить культуру Голландии намечается уже в XVII веке и проявляется с наибольшей силой при Петре. А в XVIII и XIX веках пафос усвоения чужих культур обращается, помимо Италии, на Францию, Германию, Англию, Испанию... Что может создать это русское усвоение, могло бы быть продемонстрировано хотя бы на такой специальной области, как балет.
7.
И все ж таки есть одна черта в русской культуре, которая явственно сказывается во всех ее областях: это значение эстетического начала. «Аргумент красоты» сыграл первенствующую роль при выборе веры Владимиром I Святославичем. Рассказ летописи о том впечатлении, которое произвела на послов Владимира церковная служба в константинопольском храме Софии, общеизвестен. Именно это побуждало русских князей строить великолепные храмы во всех основных городах Руси: Киеве, Новгороде, Полоцке, Владимире, Суздале, Ростове, Пскове и других городах. Эстетические формы культуры не смогло полностью уничтожить даже чужеземное иго. И ни о каком отставании в целом в области зодчества, в живописи, прикладных искусствах, фольклоре, музыке не может быть и речи. В литературе выдвинулось на первый план не личностное, а «хоровое» начало, но вопрос об этом хоровом начале должен решаться на фоне существования такого же хорового начала в русской музыке и в русском фольклоре, высота которого в эпосе и лирике бесспорна. О влиянии христианства на русскую историю, на русский национальный характер, в частности на эстетические представления русского народа, писалось много. Нет нужды повторяться. Но об одной особенности религиозного сознания русских не писалось вовсе. Если сравнить Сергия Радонежского с Франциском Ассизским (а такое сравнение делалось постоянно), то выступает огромная разница в большом и принципиальном. Франциск считал бедность одним из главных достоинств монашества. То же считал и Сергий. Но Франциск проповедовал нищету, бродяжничество монахов, а Сергий запрещал уходить из монастыря и просить милостыню. Монахи должны были трудиться и трудом своим зарабатывать хлеб. Сергий выполняет всю крестьянскую работу сам. Пафнутий Боровский перед смертью отдает распоряжения по хозяйству. Игумен Филипп Соловецкий технически благоустраивает монастырь, и именно это считается его главным подвигом на Соловках. Иульяния Осоргина спасается даже у себя дома в хозяйственных заботах, приравниваемых к подвигам благочестия. Таких примеров особого отношения к труду у русских святых можно привести множество. Христианский идеал приобретал в России существенную добродетель – трудолюбие, заботу о богатстве всего коллектива, будь то монастырь, княжество, государство в целом или простая помещичья семья с ее слугами.
8.
Есть еще одна черта русской культуры, которая неразрывно связана с ее особенностью как личности, индивидуальности. В произведениях русской культуры очень велика доля лирического начала, собственного авторского отношения к предмету или объекту творчества. Можно спросить: как это может сочетаться с хоровым началом, о котором только что говорилось? И вот сочетается... Возьмите древнерусский период, первые семь веков русской культуры. Какое огромное количество посланий от одного к другому, писем, проповедей, а в исторических произведениях как часты обращения к читателям, сколько полемики! Правда, редкий автор стремится выразить именно себя, но получается, что выражает... А в XVIII веке как часто русская классическая литература обращается к письмам, дневникам, запискам, к рассказу от первого лица. Поэзия у всех народов живет самовыражением личности, но возьмите прозу: «Путешествие...» Радищева, «Капитанскую дочку» Пушкина, «Героя нашего времени» Лермонтова, «Севастопольские рассказы» Толстого, «Мои университеты» Горького, «Жизнь Арсеньева» Бунина. Даже Достоевский (за исключением, может быть, «Преступления и наказания») все время ведет повествование от лица хроникера, стороннего наблюдателя, имеет в виду кого-то, от чьего лица течет повествование, кто ведет наблюдение и как бы даже не разбирается, что происходит, предоставляя читателю радость догадки. Эта домашность, интимность и исповедальность русской литературы – ее выдающаяся черта.
Автор всегда осознает читателя умным и сообразительным, и этим поднимает его над собой, освобождает от мелочной опеки.
И снова «противоречие» в моей характеристике русского искусства. Литература на всем ее протяжении сохраняет «учительный» характер. Литература – трибуна, с которой – не гремит, нет – но все же обращается с моральными вопросами к читателю автор. Моральными и общемировоззренческими.
Может быть, впечатление того и одновременно совсем другого возникает потому, что автор действительно не ощущает себя выше читателя. Аввакум не столько наставляет в своем «Житии», сколько подбадривает самого себя. Не учит, а объясняет, не проповедует, а плачет. Его «Житие» – это плач по себе, оплакивание своей жизни накануне ее неминуемого конца. Ведь он пишет «Житие», когда вот-вот должен прийти конец.
9.
Страстность и темпераментность составляют отличительный характер русского искусства: не только литературы, но и живописи во всех ее видах и во все времена, музыки и, смею утверждать, зодчества. Если бы был найден какой-то способ определять в зодчестве дозу лирического начала, то уверен, это лирическое начало было бы особенно велико в народном деревянном зодчестве и в гениальной древнерусской архитектуре, несмотря на все разнообразие ее форм и стилей по отдельным эпохам и по отдельным областям. Этому очень помогала свобода от чертежей. Примерные чертежи, предварительные наброски существовали, конечно, но в основном зодчие работали в натуре, работали «с образца», то есть по примерному желанию заказчика старались воспроизвести ту или иную существующую церковь, здание, полагаясь на то, что зодчему «мера и глаз укажут». Особенно много для самовыражения давали строителям луковичные завершения, шатры, свобода от строгой симметрии, выбор места среди естественного пейзажа – среди елей, над озером (с разнообразием отражений на водной поверхности. Как завершение дороги или как «возвышение», подъем к небу среди обыденной крестьянской застройки. Всего не предусмотришь в чертеже, но все мог учесть строитель в процессе своей работы (особенно, скажу, если, работая топором, он пел; я наблюдал в детстве и такое).
10.
Первоначальная летопись сообщает, что греческий философ, рассказывая Владимиру I Святославичу о христианстве, развернул перед ним «запону» с изображением Вселенной, а в ней людей, двигающихся группами, – одни в ад, другие в рай. Была ли эта «наглядная агитация» требованием? Да, русская литература началась с самого своего «учительного», проповеднического произведения, но в дальнейшем русская литература разворачивала перед своими читателями более сложные композиции, в которых предлагался читателю тот или иной авторский вариант поведения как материал для размышлений. В этот материал входили и различные нравственные проблемы. Проблемы нравственности ставились как художественные задачи, особенно у Достоевского и Лескова. В русской литературе всегда было мало простой занимательности, как и «среднего уровня». Горные хребты русской культуры (не только в литературе) состоят из вершин, а не плоскогорий, на которых обычно гнездятся простая занимательность или загадки для чтения – кроссворды риторики. Риторика вообще нетерпима в русской литературе. А чистое проповедничество всегда требует именно риторики.
Риторика нетерпима и в живописи. Между тем самая характерная живопись для России – портрет. Я не смогу этого доказать в этой статье. Пусть это останется для читателя моим мнением. Но русский портрет не перестает меня восхищать всякий раз, когда я обращаюсь к русской живописи, даже древнерусской. Ибо в древнерусской живописи ее портретная выразительность – в нравственной поучительности образа. Стоя перед фреской или иконой, испытываешь как бы давление противостоящей тебе личности – почти как перед живым собеседником.
Вы скажете: Рембрандт, Веласкес... Да, поэтому-то эти художники так сильно влияли на русских живописцев. Они были им сродни. И так важно их иметь в Эрмитаже. Но в Эрмитаже так любопытны и «малые голландцы». Они и были нужны русским передвижникам, да и не только им.
Рассматривая карту культуры Европы, сколько в ней мы узнаем «своего», нужного для нас! Поэтому-то так важна нам наша природная открытость, воспитанная в нас отсутствием естественных границ. Всякая попытка закрыть границы для прохода в обе стороны губительна для нашей культуры. Мы не только получаем из-за рубежа, но мы и даем за рубеж. Как ни странно, эта самоотдача «неразменного рубля культуры» дает нам не меньше, чем процесс получения из-за рубежа. У каждого народа есть, как у летучей мыши, свой эхолот, свой радар. Издания, переводы, отклики на наши произведения за рубежом помогают нам наряду с откликами нашими собственными самоопределиться в мировой культуре, найти в ней свое место. Поэтому-то так важны для нас зарубежные издания и исследования Достоевского, Булгакова, Пастернака, Шолохова и других. Поэтому-то так важны для нас внимание к нашей музыке и музыкантам, к нашим иконам и фрескам (ах, нет у нас еще настоящего музея копий фресок!), впечатления туристов от наших городов, от их образа, их индивидуального облика.
11.
Национальный характер антииомичен. Каждому положительному свойству противостоит своя противолежащая отрицательная черта: открытости – замкнутость, щедрости – жадность, любви к свободе – рабская покорность и т. д. Мы судим, однако, о любом национальном типе прежде всего по его положительным чертам. Ведь и в исследованиях искусств процесс их истории восстанавливается по лучшим произведениям, по первому ряду творцов, а не по худшим и не по «второму ряду». Тем не менее русскому народу приписывается как одна из присущих ему черт беспрекословная покорность государству. Доля правды в этом есть, ибо в России не было устоявшихся традиционных форм для выражения народного мнения. Вече, земские соборы, сельские сходы?.. Этого было явно недостаточно. Поэтому независимость, любовь к свободе выражалась по преимуществу в сопротивлениях, принимавших массовый и упорный характер. Переходы из одного княжества в другое крестьян и отъезды князей и бояр. Уход за пределы досягаемости властей в казачество навстречу любым опасностям. Бунты – Медный, Разинский, Пугачевский и многие, многие другие! Боролись не только за свои права, но и за чужие. Одно из самых удивительных явлений в мировой истории – восстание декабристов, И оно типично русское. Весьма состоятельные люди, люди высокого общественного положения, пожертвовали всеми своими сословными и имущественными привилегиями ради общественного блага. Выступили не за свои права, как это обычно бывало во всех выступлениях, а за права тех, чей труд сами перед тем присваивали. В подвиге декабристов есть много народного. Русь еще в своем восточнославянском единстве, до татаро-монгольского ига, когда она не выделила из себя три основных восточнославянских народа – украинцев, великорусов и белорусов, знала уже мужество непротивления. Святые Борис и Глеб без сопротивления принимают смерть от своего брата Святополка Окаянного во имя государственных интересов. Тверской князь Михаил и его боярин Федор добровольно едут в Орду и там принимают смерть за отказ выполнить языческий обряд. Крестьяне уходят от крепостного права на край света в поисках счастливого Беловодского царства. Староверы предпочитают сжигать себя, чем поддаться искушению изменить вере. И это непротивление злу? Пожалуй, такое сопротивление нечасто знает история! Царственное пренебрежение материальными благами, в уродливых своих формах переходящее в мотовство.
12.
Было бы нелепо предполагать, что черты русского характера являются врожденными. На самом деле они воспитывались историей, историческими ситуациями, в которые чаще всего попадала Россия, и до нее общая родина всех восточнославянских народов – Русь, Русьская земля.
И характер народа не един. Мы замечаем, как свои отличия в русском характере формировались и формируются у поморов, другие в Сибири, третьи по Волге – в средней и нижней ее части. Россию нельзя оторвать и от населяющих ее народов, составляющих вместе с русскими ее национальное тело. Россия по богатству своих культурных типов, по сложности вплетения в них различных черт, по энергии своих разных проявлений, наконец, по интенсивности своих отношений с другими национальностями – едва ли не единственная в своем роде страна. Мы писали выше, что русская культура представляла собой в средние века (да и позднее) подвижное соединение различных центров культуры. В этих центрах были образования разновременные и разнохарактерные... Центры были разъединены между собой территориально и социально. Это вело к тому, что в русской культуре могли сосуществовать очень древние слои и очень новые, легко образующиеся.
Для русского исторического развития характерны одновременно консерватизм и быстрые смены общественных настроений, взглядов. Кажется, что даже самые смены поколений совершаются в России через меньшее число лет, чем на Западе. Это происходит не просто из-за некоторой неупорядоченности русской жизни, но и потому еще, что в русской жизни непременно что-то остается от старого и даже от неправдоподобно старого, а с другой стороны, есть страстность, развивающая это старое и взыскующая нового. Кто бы мог подумать, что у нас продолжается традиционное древнерусское иконописание, составление житий святых (и неплохих) и переписка рукописей древнерусскими приемами? Структура русской культуры не была монолитной, при которой она развивалась бы как единое целое – относительно равномерно и неуклонно.
Культурный уклад России менялся, с одной стороны, кардинально, а с другой – оставлял целостные системы старого. Так было и в эпоху Петра. С одной стороны, решительные перемены, а с другой стороны, не изменившийся уклад жизни крестьянства и решительно с «идеологической основой» сохранявшийся старый уклад жизни старообрядчества.
Русская история – как река в ледоход. Движущиеся острова-льдины сталкиваются, продвигаются, а некоторые надолго застревают, натолкнувшись на препятствия. Эту особенность русской культуры можно оценивать двойственно: и как благоприятную для ее развития, и как отрицательную. Она вела к драматическим ситуациям. Но важно еще и то, что благодаря ей русская культура включается в удивительно широкие рамки. Особенности русской культуры чрезвычайно трудно оценить в немногих и однозначных категориях. Как и русскую природу, впрочем. Оценить широту этих рамок в одной статье невозможно. Можно только удивиться богатству и разнообразию того, что русская культура в себя включает.
13.
В настоящее время мы владеем огромным и при этом живым, развивающимся наследием – наследием полей культуры. Часть этих культурных явлений продолжает живую жизнь в современности (как, например, уже упоминавшееся старообрядчество), а другая живет в сбережении музеев, книг, памятников архитектуры и памятников градостроительства (что не следует отождествлять с архитектурой отдельных домов). Это наследие (особенно если оно действительно сберегается как наследие) может оказывать влияние на свободу творческого выбора. Свобода выбора увеличивалась и благодаря открытости русской культуры. Культура всей Европы, всех европейских стран и всех эпох оказывается в зоне нашего наследия. Рядом с Русским музеем существует Эрмитаж, оказавший колоссальное влияние на развитие русской живописи. Перейдя Неву, воспитанники Академии художеств учились у Рембрандта и Веласкеса, у «малых голландцев», которые так повлияли на будущих передвижников...
Русская культура благодаря совмещению в ней различных наследий полна внутренней свободы. К несчастью, свобода, которой она владеет, состоит не только в свободе выбора учителей и учебного материала, не только в свободе творить, но и в свободе отрекаться от чужого и своего, крушить, уничтожать, продавать, сносить, отправлять в безвестность здания, города, села, картины, памятники, фольклор, а затем и самих авторов, художников – интеллигенцию в целом.
Итак, нет сомнений, что одно из богатств русской культуры и ее широких творческих возможностей – в свободном и широком выборе учителей, путей, наследия, которое отнюдь не узко одно. И не случайно столько внимания уделяется проблеме внутренней свободы в русской философии: в философии Бердяева, Франка, Карсавина, а до них – у Достоевского. Сознание предлагаемого выбора было остро у Тютчева и у многих других. Необходимость свободы почти болезненно ощущалась в философской лирике Блока и Владимира Соловьева. Обращаясь к России, Вл. Соловьев говорил:
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?
Чтобы самим владеть путями нашей культуры, надо прежде всего изучить особенности истории и культуры России. Осмыслить русскую историю, выявить существенные черты России чрезвычайно важно для современности, ибо многое из того, что произошло и происходит в наши дни, в известной мере определяется и будет еще определяться тем, что представляет собой Россия. И интернационализм, и характер продвижения к будущему, и отношение к прошлому – все это должно корректироваться тем, что представляет собой Россия. Перед нами стоит задача восстановить полноту русской культуры.
Прошлая Россия в наше время не может быть сброшена со счетов даже тех, кто искренне стремится к ее будущему утверждению в веках.
О чем же свидетельствует эта широта и поляризованность русского человека? О чем свидетельствуют «уроки России»? Прежде всего о громадном разнообразии возможностей, скрытых в русском характере, об открытости выбора, о неожиданности появления нового, о возможности бунта против бунта, организованности против неорганизованности, о внезапных проявлениях хорошего против самого дурного, о внутренней свободе русского человека, в котором сквозь завесу дурного может неожиданно вспыхнуть самое лучшее, чистое и совестливое. Исторический путь России свидетельствует о громадных запасах не только материальных благ, но и духовных ценностей. Россия не абстрактное понятие. Развивая ее культуру, надо знать, что представляла ее культура в прошлом и чем она является сейчас. Как это ни сложно. Россию необходимо изучать.
Литературная газета. 1988. 12/Х

Кремлевские купола
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ОПЫТА
— Дмитрий Сергеевич, менее всего хотелось бы, чтобы этот разговор получился столь же круглым и «юбилейным», как сама дата – 1000-летие христианизации Древней Руси. С чего же мы начнем?
— С вопроса о роли крещения Руси в истории культуры Отечества. Я думаю, что с крещения Руси вообще можно начинать историю русской культуры. Так же, как украинской и белорусской. Потому, что в общем культура восходит к каменному веку, к неолиту и палеолиту. Но характерные черты русской, белорусской и украинской культуры – восточнославянской культуры Древней Руси – восходят к тому времени, когда христианство сменило собой язычество.
Христианство – письменная религия, приобщившая Русь к высокоразвитой мифологии, к истории европейских и малоазиатских стран. Произошло соединение с культурой Византии, наиболее передовой страны того времени. Причем это произошло, когда византийская культура переживала пик своего расцвета IX–XI веков.
— Итак, вспомним, как это происходило...
— Русь спасла византийского императора Василия в момент восстания Варды Фоки. Владимир I направил на помощь императорам Василию II и Константину VIII шеститысячный отряд отборных своих войск – варягорусов, и они подавили восстание. В результате чего, очевидно, Василий II и обещал выдать свою сестру Анну за Владимира. Но, когда император Василий II и его бездеятельный соправитель Константин VIII укрепились на престоле, Василий II забыл о своем обещании, решил его не выполнять, потому что его дед Константин Багрянородный запрещал византийским императорам родниться с инородцами, а тем более с язычниками. И ссылался при этом на надпись в алтаре Софии, где говорится о том, что представительницы императорской фамилии не должны выходить замуж за инородцев. Но Владимир сумел доказать свое право военной силой.
— Он осадил Корсунь – этот греческий город сейчас входит в черту Севастополя – Корсунь пала, и, по преданию, князь сам крестился в корсуньской крещальне, сохранившейся, кстати, до наших дней.
— Тогда Василий II отдал свою
сестру за Владимира I, и в династическом плане Русь поднялась на невиданную
высоту, она породнилась с императорским домом Византии. И Владимир Мономах был
потомком византийских императоров. Из варварской державы на краю света вдруг
появилась держава с мировой культурой, мировой религией, и сразу это было
ознаменовано расцветом древнерусской культуры. Необычный расцвет виден уже по
строительству Софии в Киеве. Это до сих пор
центральное архитектурное сооружение в городе.
— И почти тысячу лет киевская Оранта, мозаичная Богородица Нерушимая Стена воздетыми в молитве руками удерживает свод храма. И смальта, из которой она сложена, не потускнела и не осыпалась, несмотря на чреду столетий и разорений матери русских городов.
— А вспомним полоцкую Софию. Это тоже центральный храм в Полоцке. И новгородский храм Софии. Сколько бы небоскребов ни построили рядом, София будет оставаться центром Новгорода. Если только это будет Новгород, а не какой-то другой, чужой нашей культуре город. Затем собор Спаса в Чернигове: и сейчас это центр Чернигова. Успенский собор во Владимире – центральный храм в своем городе. Повсюду возникают храмы, равных которым у соседей по размерам и по красоте не было, ведь в Чехии, в Моравии и в Польше в это время возводились маленькие храмы-ротонды. А к востоку – великая страна с большими храмами, с фресками, мозаикой, замечательными иконами, замечательной литературой. Скажем, «Слово о законе и благодати» Илариона. Это исключительное произведение, потому что таких богословско-политических речей не знала Византия. Там только богословские проповеди, а здесь историософская политическая речь, утверждающая существование Руси, ее связь с мировой историей, ее место в мировой истории. Это поразительное явление, так же точно, как поразительное явление – Начальная летопись. Потом произведения Феодосия Печерского, затем сам Владимир Мономах, в своем «Поучении» соединяющий высокое христианство с воинскими языческими идеалами. Таким образом, Русь сразу становится мировой державой, а Киев – соперником Константинополя.
— Мне хочется обратить внимание наших читателей на то, какими живыми были для современников связи культурных традиций. Если мы не будем по-пушкински «будить мечту сердечной силой», мы не заметим, что знаменитая Ярославна сопоставляется с той же киевской Богородицей Нерушимой Стеной: ведь Ярославна своей страстной мольбой тоже удерживает обожженные стены Путивля. И такое сближение тем важнее, что в 1185 году единственный город, взятый половцами, пал после того, как рухнули, не выдержав тяжести защитников, две городницы с людьми. И, значит, стена между башнями-городницами. А воздетые к Ветру, Днепру и Солнцу руки Ярославны незримо поддерживают стену. А разве не так сравнивали с Марией своих дам в том же XII веке трубадуры? И разве не помогает Ярославне ветхозаветная Рахиль, ведь Плач Ярославны пронизан цитатами из» Плача Рахили: «На Дунай Ярославнынъ гласъ ся слишитъ...» – «Гласъ в Раме слышенъ быстъ. Плачь и рыдание, и вопль многъ...» Читатель древнерусский не требовал комментария этих «сближений». Нам куда труднее... Но как вышло, что Русь так быстро проходит ученическую стадию и включается в мировую культуру на правах равного диалога с ней?
— Я думаю, это потому, что была богатейшая основа в виде фольклора, в виде развитой правовой системы: «Русская Правда» создана, очевидно, до христианизации Руси.
— Значит, почва была уже подготовлена?
— Почва была подготовлена еще великим путем «из варяг в греки». Ведь Русь владела северо-южным европейским путем. В XII веке он перекочевал на запад, но двумя столетиями раньше великий путь из «варяг в греки» был основным. И христианство идет именно по этому пути. И недаром создается легенда о том, что апостол Андрей путешествовал по этому пути. Здесь, в Херсонесе (той же Корсуни), в Киеве, Новгороде – в этих двух центрах Руси – на этом великом пути и возникает наше христианство. Оно появляется уже в тех языческих войсках, которые нападали на Константинополь. Если по договору с греками 911 года Русь представлена главным образом язычниками, то договор 944 года в первую очередь подписан христианами.
— Это видно по именам?
— Нет, просто в договоре указано. Если вы прочитаете в «Повести временных лет» договор 944 года, там сказано, что русь-христиане клянутся в церкви Ильи, а русь-язычники клянутся у своих богов в Киеве. Русь была поразительной державой, в которой соединялись и финно-угорские народы, и тюркские народы, и народы иранские, и воет очные славяне. Это видно по именам и по именам богов. Что такое Мокошь? Племя Мокошь. Что такое Перун? Это финно-угорский Перкун. А у нас – Велес-Волос, Стрибог...
— Вспомним еще из «Слова о полку Игореве» – Хорс, Даждъбог.
— Тем более Русь нуждалась в политическом объединении. И за несколько лет до принятия христианства, в 980 году, Владимир пытается создать пантеон языческих богов. Но это не выходит.
— То есть незадолго до крещения Владимир пытается «ввести» язычество, только упорядоченное. Почему лее это не вышло?
— Я думаю, что тут причины совершенно объективные: язычество все было раздроблено по местностям и племенам. И объединить можно было только верхушку язычества, но не всю религию целиком. Кроме того, это религия без развитой письменности, и сказалась изолированность язычества от всей Европы, от Византии.
— Другими словами, язычество было хорошо дома, на полянке?
— Вот именно – на полянке. И оно до времени действительно было хорошо, ведь и в язычестве была своя мораль. И очень важная. Вот вышла замечательная книга Марины Михайловны Громыко «Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX века» (1986), где доказывается, что каждый обряд заключает в себе некую моральную норму. Что такое толока? Это общая работа всей деревни. Но в христианской Руси, на той стадии экономического развития, когда потребность в общей работе отпала, потому что крестьянин владел своей землей и мог ее обрабатывать сам, толока превратилась в форму помощи бедным семьям. Тем, у которых не было главы семейства.
— Название этого обряда от глагола «толочь»?
— Да. Но вспомните еще, как в «Слове о полку» называют союзников-язычников. Они упомянуты в сне Святослава.
— Толковины.
— Вот и дохристианская славянская деревня объединялась во время толоки. И еще о так называемом «двоеверии». Я думаю, что это кабинетный миф. Двоеверие не могло существовать, потому что вы не можете одновременно верить и в языческих богов и быть христианином. Это невозможно.
— Это значит, что человек не верит ни в то, ни в это?
— Или лжет.
— Или верит в Христа как еще в одного языческого бога.
— Поскольку высшее язычество было раздробленным, оно и было уничтожено Владимиром довольно мирным путем. Столкнули в воду этих идолов, простоявших в Киеве всего несколько лет. О них поплакали, и о них забыли. И заметьте – не порубили, не сожгли. Проводили с почестями: так обветшалую икону будут класть на воду, доверяя ее реке. И все. Древние боги ушли. А вот язычество в своих земледельческих и бытовых нравственных формах живо до сих пор. Пример – хотя бы домовые.
— Ведь и Мокошь жива в народном сознании. Моя мать, всю войну девочкой прожившая в тверской деревне, сама слышала, что Ивановы живут богато, им по ночам Мокушъ (так!) в амбар зерно носит. Крестьяне помнят Мокошь-Мокушъ до сих пор, хотя она по всем законам не существует уже тысячу лет. Но кто будет говорить о религиозном двоеверии современных крестьян?
— И эта Мокошь никак не противоречит христианству. Вы помните, что Раскольников у Достоевского кланяется на площади земле, просит у земли прощения? Есть научные работы о поклонении и исповеди земле.
— Так до XX века поклонялись и исповедовались стригольники.
— У земли просили прощения, когда плуг или соха драли землю. Люди пели песню, мол, прости, земля родимая, за то, что твою грудушку вспарываю. На вере в землю, на уважении к земле строилось земледелие.
— И христианство на это не покушалось. Ибо иначе как жить, как растить хлеб?
Это не двоеверие, а особая любовь к земле.
— Рискну даже предположить, что сам термин «двоеверие» появляется как следствие пренебрежения к крестьянскому укладу, как следствие активного непонимания устройства крестьянского хозяйства, быта, жизни.
— Это термин XIX века. И вот что еще очень важно. Вернемся к той же толоке. Люди, чтобы помочь другим, одевались в праздничные одежды, пели веселые песни, наряжали лошадей. Потом устраивались гонки, игры, пирование. Это был праздник. Помощь и милосердие не были вымученными. Не тяжелая обязанность, а праздничный обряд – вот что такое толока. Так же точно, как и вера в могущество деревьев. Вспомним священные рощи Руси. Перынь – священная роща, может быть, последняя, которая гибнет сейчас в Новгороде от невнимания властей. Она постоянно поддерживалась и возобновлялась новгородцами, а сейчас в роще какой-то лагерь – туристский или пионерский, – и люди вытаптывают Перынь... Вера в деревья, в их целительную силу – как это важно! То, что мы сейчас пытаемся привить всякими научными способами, – все это достигалось жизнью, верованиями: дерево живое, и если жить под большим дубом, то долго проживешь, потому что он отдаст часть своей силы. Разве не так? И христианство это приняло: Троица – праздник всего живущего на свете.
— Дмитрий Сергеевич, да вот же это священное Мировое Древо, древнейшая ось мироздания, прямо в вашем кабинете. Я имею в виду деревце за плечом у среднего ангела на репродукции рублевской Троицы. И сейчас в этот день православные церкви украшаются зелеными ветвями. А не так давно московский биолог Г. В. Сумаруков составил хронологическую таблицу бегства из плена Игоря Святославича, и оказалось, что в «Слове о полку» Игорь прощается с Донцом как раз на Троицу, а Донец «расстилал ему зеленую траву на серебряных берегах под сенью зеленого древа»! И это же древо в тоске приклоняется до земли, когда на Русь приходит беда.
— В одной из своих книг я воспроизводил изображение древнерусской иконы, на которой деревья кланяются Богородице. А вспомните икону с Власием – заместителем языческого Волоса, где разноцветные кони. Кони, как цветы.
— Сколь же безболезненно совершалась замена того же Волоса на Власия?
— Я думаю, что этот процесс шел более-менее безболезненно. Потому что восстание волхвов в 1071 году было вызвано в первую очередь голодом, а не защитой старых богов. Волхвы уверяли, что какие-то ведуны держат жито за горбом. И надо спороть им горбы, чтобы был хлеб. Так что восстание это не чисто религиозное, а экономическое.
— Но, справедливости ради, здесь, видимо, необходимо напомнить читателю и о христианских поучениях против язычества. Когда языческие обряды и мораль входили в противоречие с моралью христианской, церковь занимала жесткую позицию. Был взгляд на языческих богов, как на родоначальников племен, и его придерживался автор «Повести временных лет». И был взгляд, как на бесов. Его разделяли многие более поздние церковные писатели. Но разве редко так получалось, что воинствующий христианин сам поступал как самый настоящий язычник и, борясь с суеверием, сам впадал в жестокое суеверие?
— Княжеское поведение в миру долгое время определялось языческим кодексом чести и славы. Идеал воина был не христианским, но языческим. Таким он и оставался. Владимир Мономах рассказывает, сколько он походов совершил, с какой быстротой он из Киева достигает Чернигова. Он хвастает этим.
—И это не христианское поведение.
— Не христианское. Но очень похоже на поведение Святослава, который ходил «воз но себе не возяше» и питался, конину ли, зверину ли нарезав потонку, под седло подклав, возил с собой. А спал на попоне. Вот языческий идеал князя. Повторю, мы не знаем подробностей высшего языческого культа. Мы знаем обряды, а они в каждой местности свои. И знаем этические нормы язычества.
— В прошлом году вышла книга, где утверждается, что тот же автор «Слова о полку Игореве» – язычник. Почему это невозможно?
— Невозможно просто потому, что Игорь в конце поэмы едет к церкви Пирогощей Богородицы, и вся поэма пропитана христианским духом. По «Слову» ясно, что языческое мировоззрение не забыто в XII веке. Но оно приняло ту форму, которая характерна и для XVIII или XIX века, когда писатели обращались к языческим античным богам как к определенным символам. Те же «стрелы Стрибога» у автора «Слова» – это уже не религиозная, а эстетическая стадия язычества.
— Давайте еще скажем, что упоминание языческих божеств и языческой атрибутики у поэта появляется лишь там, где он говорит о прошлом Русской Земли или о том, как это прошлое определяет собой трагедию настоящего. Языческой раздробленности поэт противопоставляет христианское поведение и христианское единение родины. Потому кроме Пирогощей церкви упоминает и два Софийских храма – полоцкий и киевский. Поэт, если развивать вашу, Дмитрий Сергеевич, мысль, показывает, как следование языческим моральным нормам, сколь бы привлекательны они ни были, ведет к трагедии правнуков Даждьбога.
— В прежних богов уже не верили, как в богов. Но экологическая система язычества была принята и христианством.
Заметим, что это мировой процесс: М. И. Стеблин-Каменский, исследователь творчества североевропейских скальдов, писал, что после христианизации Ирландии и Скандинавии упоминание о языческих богах исчезает на полтора века. И как раз в эпоху «Слова» они вновь входят в поэзию, но уже в ином качестве.
— Язычество не отрицательная величина. Оно представляет собой определенную культурную ценность, которая с принятием христианства не обесценивается, а поднимается на высоту иного миропонимания. Есть такие строки в одном из псалмов: «всякое дыхание да хвалит Господа...» Языческое представление о «всяком дыхании» поднято здесь на недосягаемую для язычества ступень.
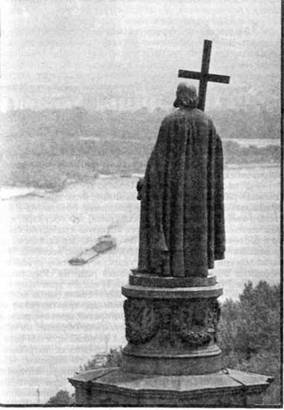
Киев. Памятник Владимиру
— Есть прекрасная книга Сергея Сергеевича Аверинцева «Поэтика ранневизантийской литературы», где автор, в частности, показал, что христианство было выходом из духовного и интеллектуального тупика античности. Такой тупик к началу эры был весьма ощутим античными писателями.
— У нас было по-иному. Просто государство не могло жить разрозненными верованиями. Ведь христианство принимается в момент, когда Владимир объединил Русь. Надо говорить не о выходе из тупика, а о государственной необходимости, обеспечить которую язычество было не в состоянии. Государство Владимира держалось не на полицейской системе и не на одной системе военной. Это было многонациональное государство, потому столь необходима была интернациональная религия. Уже после крещения Руси Иштван I (Стефан I) введет христианство в Венгрии, где до этого оно существовало лишь местами – у славянских племен, принявших христианство от Кирилла и Мефодия, великих болгарских проповедников. Иштван вводит христианство западного образца, он объединяет Венгрию силой, как Карл Великий крестил перед этим саксонцев оружием. А у нас и оружия не потребовалось. У нас этот процесс был довольно мирным. Что здесь очень важно для понимания восточного варианта христианства? Вот патриарх Фотий, тот, при котором Аскольд и Дир неудачно штурмовали Константинополь, отправляет болгарскому князю Борису-Михаилу несколько посланий, где говорит, что истина опознается красотой.
— Кажется, спустя тысячу лет кто-то из великих западных физиков утверждал, что если формула красива, то она верна?
— Вот-вот. Как в человеческом лице ничего нельзя изменить, если это здоровое и красивое лицо, так для Фотия истинная религия опознается красотой. И послы Владимира, отправившиеся в разные страны в поисках истинной религии, вернувшись, говорят князю, что надо принимать именно греческую веру, ибо у греков увидели они красоту.
— Но разве мог Владимир знать изречение Фотия?
— Знал или не знал, но этим было пронизано все. В том числе и решение послов, конечно, не столь лаконичное, как это представлено в летописи.
— Значит, мы можем летописи доверять?
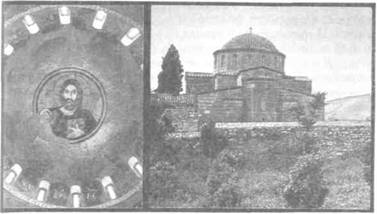
Христос Панкратор
Афины. Храм Дафнис
— Можем доверять. Даже если ставить под сомнение посылку послов и саму поездку, и аргументацию, как же не доверять самому выбору? Главный аргумент – храмы, покорявшие живой, истинной красотой. Владимир озабочен постройкой храмов, а Иштван I в Венгрии не озабочен. Так же, как Польша и Моравия, принявшие христианство с Запада, не озабочены. А Владимир строит, строит, строит. Приглашает греков. Создает целую сеть ремесел. И потом это сказывается на всей русской культуре. Это проявляется в примате эстетического момента над философским. Кто лучшие русские философы? Державин (в оде «Бог»), Тютчев, Достоевский, Владимир Соловьев. Даже Чернышевский стремится быть писателем. Можно спорить – хорошим или плохим, но русские философы – это все писатели, художники. И «умозрение в красках» – это иконы. Какой наш самый великий трактат начала XV века? Троица Рублева.
— Дмитрий Сергеевич, об этом мне хотелось бы чуть подробней. Нам говорили, что Гагарин летал, но никакого бога не видел. Конечно, для растущего в атеистической семье ребенка это может быть аргументом. Но можно ли назвать такой атеизм научным, если верующий знает, что икона – «уподобительное изображение», дабы от зрительного образа он мог подняться к тому, что, как сказано у византийского философа, «никакого чувственного образа не имеет»?
— В стремлении к красоте и постижению мира через красоту было преимущество, но был и недостаток.
— Сейчас в «Науке» выходит сборник, где есть статья о монограмме «1НЦИ», вписанной в колонны здания на рублевской Троице. Это сокращенная запись того, что написал на табличке креста Понтий Пилат. Левая колонная – «I». Справа – «Н». Вместе они составляют «Ц». А последняя буква совпадает с тем же «Н»: такие графические совмещения встречаются в древнерусских книгах. Монограмма у Рублева устроена так, что малейшее искажение пропорций ее убивает. И вот уже спустя несколько десятилетий иконописцы не видят ее, они рационализируют рублевскую архитектуру. Но, может быть, самое удивительное, что тайнопись у Рублева не самоцель, а ключ к философской картине мира.
Университетского образования на Руси не было, но страна была грамотная. Очень грамотная. В свое время это доказывал по подписям под документами академик А. И. Соболевский, а теперь это ясно по раскопкам в Новгороде. Мы уже перестали удивляться берестяным грамотам. Университетов нет, зато искусство никак не отстает от Запада.
— И идет по самобытному пути.
— Самобытность в чем? Наши храмы веселые, украшенные. Если хотите, тут даже какой-то элемент Востока. Или, точнее, элемент веселой красоты. Православное христианство – самое веселое христианство. Помните у Тютчева: «Я лютеран люблю богослуженье»? Но поэт подчеркивает мрачность этого богослужения. Обратите внимание, что и католические храмы суровы в своей грандиозности. Тогда как русский храм благодаря светлому, яркому, сияющему иконостасу, благодаря очеловеченному устройству пространства, его космизму и золоту огня просто красив. И светел.
— Давайте остановимся хотя бы на одном памятнике. Прошлым летом я был поражен Спасо-Преображенским собором Мирожского монастыря в Пскове. Сейчас там закончилась реставрация, и во всем великолепии предстали фрески середины XII века. Вот к куполу возносится на многоцветной радуге Христос, а лучи света из узких окошек его поддерживают. Вот из такого же оконца тянется луч от архангела к Марии. А вот древнерусские мастера пошли на нарушение канона и написали композицию Сретения зеркально. Отступив от буквы, они добились того, что Мария протягивает младенца в центр храма, где на престоле уже сидит ее взрослый сын. Тут каждой псковитянке должно быть понятно: как она принесла сюда свое чадо, так было когда-то и с Марией. Почему понятно? Да потому, что дорога от города как раз и расположена справа налево, с юга на север. И вся северная часть храма повествует о смерти, а южная – о воскрешении. А вот пещера с погребенным Лазарем на глазах из черного провала превращается в зеленое дерево. Так, при самом беглом первом взгляде видно, что пересекаются верования языческие и христианские, делается гениальная попытка прорыва в одушевленный и одухотворенный космос. Нет картины Страшного Суда: вместо нее – сошествие Святого Духа на апостолов. Оглядываешься, где же Страшный Суд? А он здесь, в тебе, в твоей душе, потому что Судия уже сидит на престоле прямо перед тобой. И более всего меня поразило, что храм расписывали греческие и русские мастера вместе, но создали даже не ансамбль фресок, а единое повествование, аналогов которому я не знаю.
— Надо сказать, что Русь никогда не была отгорожена от других стран: она впитала в себя и византийскую культуру, и западную, и скандинавскую, и культуру южных соседей – кочевников. Потому что своя основа была необычайно сильна. Какой язык был у нас еще до влияния церковного, книжного языка! Как поразительны по краткости и красоте обращения князей к войску и речи на княжеских съездах! Эта не фольклорная, но ораторская, устная традиция была необычайно сильна.
— Дмитрий Сергеевич, хотелось бы коснуться роли монастырей в христианизации Руси.
— Роль монастырей чрезвычайно интересна. Мы привыкли к тому, что культура развивается главным образом в городах. На самом же деле смерды с самого начала становятся крестьянами, то есть христианами. В древнейшей летописи смерды упоминаются только один раз. Значит, в крестьянской среде христианство распространялось очень быстро. И это невозможно было при помощи меча, но возможно при помощи самого язычества, которое христианизовывалось и делало понятным христианство. Смерды видели в христианстве как бы продолжение своего язычества. Но открывались новые горизонты, и они готовы были эти горизонты принять. Русь поняла, что помимо кругового календарного времени есть и горизонтальное, в которое втянуты соседние народы. Или, скажем, вертикальное время.
— Круг стал спиралью?
— Да. Христианство у нас начало развиваться по великому пути «из варяг в греки» потому, что тут видели иностранцев, иноземные товары, знали о существовании других народов. И тут появляется понимание, что история не ограничивается местными курганами, что есть история человечества. У славян была письменность, но письменность неорганизованная. Ведь черноризец Храбор говорит о том, что славяне писали чертами и резами, но без устроения. Для первой письменности использовались или свои знаки, или даже греческие буквы. Скажем, знак того, что в этом сосуде находится вино, и такого-то сорта, а в этом – зерно. С христианством пришла письменность иного, высочайшего класса. Это была письменность с устроением, со знаками препинания, с разделением на слова, с определенной грамматикой. Это письменность литературного языка и богатейшей литературы. Появляются сложнейшие понятия: значит, язык был подготовлен к принятию христианской идеи, к принятию письменности. И тут примечательна роль монастырей. Как осваивались новые земли? Они осваивались монастырями, где прежде всего занимались письменностью. Самое богоугодное дело – письмо. Вот почему при продвижении христианской культуры на север сначала образуются монастыри. Ярославль – это Спасо-Преображенский монастырь. Вологда – Кирилло-Белозерский монастырь. И там главным образом развивается письменность. Потом Валаам. И там письмо. Потом Соловки – и там та же картина. При монастырях колоссальные книгописные мастерские. Книга осваивала новые территории. Теперь ясно, что в Сибирь везли книги. И этим завоевали Сибирь. Не столько оружием, сколько книгой.
— Вспомним хотя бы так называемую зырянскую Троицу, икону с пространной надписью по-зырянски, сделанную Стефаном Пермским, просветителем зырян. Она дошла до нас из XIV века, и ее можно увидеть в вологодском музее.
— Монастыри строились за городом. И Киево-Печерский монастырь был за городом, и Троице-Сергиев, главнейший центр русской книжности, монастырь – матерь многих русских монастырей. Наш отдел древнерусской литературы Пушкинского Дома занимается изучением книжных центров Древней Руси. Совершенно ясно, что книжность идет на окраины, и на окраинах происходит огромная книжная работа. Если сейчас пишут в домах — пятиэтажных и двадцатиэтажных, то тогда писали в лесах.
— А могла ли существовать русская дохристианская литература? Что вы думаете о «Влесовой книге»?
— Это подделка. Ясно, и когда, и как появляется эта примитивная фальсификация, и почему она становится популярна в белоэмигрантской среде. «Влесова книга» – это неинтересно. Давайте о чем-нибудь настоящем...
— Если Русь крещена, как представляют некоторые авторы, огнем и мечом, почему за три века татарщины не произошла реставрация язычества?
— Татаро-монголы, которые завоевали Русь, были многобожниками, а многобожие сильно тем, что признает новых богов. Батый был веротерпим. Когда мусульманство овладело татаро-монголами, тогда и началась священная война Дмитрия Донского против Мамая. Поход Мамая – это не просто очередной поход, это поход ислама на Русь.
— Кстати, это понимали и современники: в повестях Куликовского цикла говорится, что Мамай собирается не разрушить русские города, а захватить и владеть ими. То есть ставится задача оккупации и порабощения Руси, ее мусульманизации. И перехода монголо-татар к оседлому владению русскими городами.
—Тогда Дмитрию понадобилась
поддержка христианства, и он обращается к Сергию Радонежскому. А Сергий – главный авторитет в русском крестьянстве.
Почему? Да потому, что он делал всю крестьянскую работу. Сергий Радонежский – русский аналог Франциска Ассизского: у
него то же отношение к природе, птицам, зверям... Это нищенствующее
христианство, идущее от бедности и тесно связанное с народом. Но Франциск был
на полтора столетия раньше и действительно жил подаянием. Сергий не занимался
нищенством, он занимался простой крестьянской работой. Для крестьянина
Сергий Радонежский был более авторитетен, чем митрополит, чем церковь в Москве
и где бы то ни было.
― Но почему московский князь едет к нему? Дмитрию необходимо ополчение. Впервые в русской истории пришла нужда мобилизовывать народное, крестьянское ополчение. И князь обращается к главному авторитету крестьянства, христианства. Для них Сергий глава народа. И Сергий Радонежский пошел на нарушение церковных канонов...
― Дал Дмитрию двух иноков...
— Не просто иноков, а схимников. И это не значит, что дал двух богатырей. Два богатыря, какими бы они ни были, ничего бы не значили в такой битве. Но они создали уверенность у войска, что это святая битва, что умершие здесь пойдут в рай, что эта битва не просто убийство ради спасения родины, а священная война. Они идут защищать свою землю и потому разрушают на Оке за собой перевозы. Они перешли. И назад не пойдут: они тут станут, на Рязанской земле.
— И тут умрут, скрепив своей кровью русскую землю. Недаром само понятие Россия появляется с конца XIV столетия. Напомним, что и Андрей Рублев пишет Троицу «в похвалу преподобному отцу Сергию» и – как сказано у Епифания, – «дабы воззрением на Святую Троицу уничтожался страх розни мира сего».
Сергий Радонежский был проводником определенных идей и традиций: с церквью связывалось единство Руси. Князья ссорились, наводили татар на Русскую Землю, как когда-то половцев. Шло постоянное соперничество за великое княжение, за титул великого князя. А церковь-то была едина. И поэтому главная идея рублевской Троицы идея единства, столь важная во тьме разделения нашего... Дмитрий Донской начинает не с объединения территории, а с объединения национально-нравственного. Этим-то и замечателен московский князь, ставший во главе русского войска. И Москва от этого выиграла в глазах всей Руси. Она выиграла не потому, что, как пытаются это доказать, стояла на очень выгодных торговых путях, а потому, что в этой сложнейшей ситуации возглавила политику объединения Русской Земли. То есть Москва выиграла духовно.
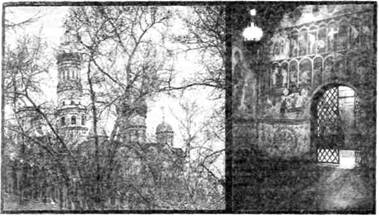
Соборы Московского Кремля
Интерьер Благовещенского собора Московского Кремля
— Но есть же экономические законы!
— У нас бытует неправильное, вульгарное представление об экономических законах. Эти законы, конечно, в основе всего, но, когда они приводят к духовному процветанию, в какой-то момент духовное начало начинает играть главную роль. Москва не была экономически сильней Твери или Новгорода, она оказалась духовно сильней. Если Новгород ничего не делал для объединения Руси, потому что был республикой, то в Москву переехал митрополит Всея Руси, и Москва стала символом духовного объединения.
— Был ли обязательным церковный раскол в XVII веке? Были ли необходимы и неизбежны никонианские реформы?
― В какой-то мере они были обязательны, но могли быть иными. Москва стала центром и для Украины, и для Белоруссии, и поэтому православная церковь должна была иметь единые обряды. Инициатором раскола был Никон, потому что он отменил старое двуеперстие ради нового троеперстия. К тому времени обряды у греков, как говорили на Руси, «испоганились», было много «новизны», а в России сохранялись традиционные обычаи. Можно было найти какое-то компромиссное решение, но Никон взял сторону Украины для объединения ее и Белоруссии с Россией. На Украине же было «от грек идущее» троеперстие. Сейчас ясно, что во многих случаях старообрядцы были правы, поэтому, как известно, никонианам пришлось подделывать некоторые документы. Кроме того, Никон обладал чрезвычайно жестоким характером. Как и Алексей Михайлович, тоже обладавший крутым характером: недаром он был отцом Петра. Никон и Алексей начали вводить обрядовое единообразие очень жестокими мерами, чем усилили раскол русской церкви. Вот пример роли личности в истории.
— Когда же наступает тот исторический миг, после которого духовные искания цвета нации расходятся с установками официальной ортодоксии?
— Я думаю, что очень большую роль, отрицательную роль, тут сыграла система семинарского обучения. В XIX веке на смену дворянскому образованию пришло семинарское. На смену дворянской культуре – разночинная. Культура Добролюбова и Чернышевского. Разночинство было главным проводником атеизма, потому что их образовательной опорой была, как это ни парадоксально, семинария. Она отбивала охоту от казавшихся устарелыми церковных догм. Когда к священным предметам и обычаям слишком близко подходит человек, священное теряет обаяние священности. Слишком обыденной, слишком простой стала церковь для интеллигенции из разночинцев. Было в ней что-то деревенское, устарелое. Было и что-то от театра, где роли и актеры заранее известны. Кроме того, как и у католиков, в наших семинариях проводились дискуссии: кто-то брал на себя роль атеиста или еретика, и ученики вживались в роль просто по юношескому духу противоречия. Их атеизм провоцировался начальством и преподаванием. Но главная причина, конечно, заключалась в том, что вообще весь цивилизованный мир становился атеистическим. Это относится и к Европе, и к Америке. Появление материалистов было закономерностью развития тогдашней науки. Есть научный дух, разный в разные времена. Скажем, в эпоху Ренессанса наука была зрительной, поэтому в Италии образуется академия Рысьих глаз. В это время главный признак ученого – точный глаз, способный замечать и мелкое в быту, и то, что на небе, например звезды в телескоп. Потом наступает период математизации науки и объяснение явления из самого явления. Затем появляется формула: человек есть то, что он ест. Появляются всякие Базаровы. Базаров – это явление общеевропейское, потому что наука переживает такой период, что Бог ей не нужен. А потом, уже в XX веке, в космическом пространстве и в пространстве атома обнаруживаются различные неясные явления, и тут ученый может быть и верующим человеком. Таких случаев мы знаем немало.
— Но сначала, еще веке в XVI–XVII, когда зарождается конфликт науки и церкви, когда западноевропейские ученые в рясах в силу научных фактов вынуждены идти против церковной картины мира, видимо, в этом конфликте повинна сама ортодоксия? Ведь монах Коперник выступает против геоцентрической системы язычника Птоломея и язычника Аристотеля.
— Конечно. Но и ученому XIX века казалось, что вот-вот здание науки будет достроено и все будет объяснено. Так до появления таблицы Менделеева. И возникает миллион новых вопросов. После таблицы Менделеева появляется возможность атомной физики. И расширяющаяся Вселенная, и многое другое.
— Целые отрасли современной науки выросли из религиозных исканий средневековых ученых. Скажем, из подсчета, сколько ангелов поместятся на острие иглы, возникло интегральное и дифференциальное исчисление, теория «размытых множеств». Многое из того, что наукой было сдано в архив как суеверие, в конце XX века осмысливается как прозрение донаучной мысли.
— Многое идет от недостатка воображения. Система Коперника и Галилея не покушалась на церковные догмы: Земля могла оставаться центром Вселенной и вращаясь вокруг Солнца. Просто надо было построить несколько более сложную математическую модель. Ведь Солнце само движется в космическом пространстве.
— И чтобы заключить эту тему: у нас образуется разрыв между развитием собственно религиозной мысли и ее оппонентом – научным атеизмом. Критика религии у нас нередко подменяется тем, что ниже всякой критики. Пользуясь случаем, хочется сказать о необходимости специального издания, некоего «Диалога», где на равных правах выступали бы ученые, богословы, философы, поэты и писатели. Так, по крайней мере, мы сможем освободиться от предрассудков, найти общие точки позиций. И уж, во всяком случае, не вести полемику в разных плоскостях, не слыша и не понимая друг друга. Итак, когда же идеология официального православия стала духовным тормозом в развитии нации? Откуда отсчитывать? С николаевской формулы Самодержавие–Православие–Народность? Пли раньше? Почему декабристы в своем большинстве люди верующие, а разночинцы нет?
— Я думаю, что очень многое зависело от Петра I. Хотя сам Петр любил православное богослужение и пел на клиросе и ни в коем случае не был атеистом. Петровские реформы были продолжением реформы Никона и привели к страшному падению авторитета церкви. Если исповедник лишается права тайны исповеди, если священник государственным указом обязан доносить, то какой же может быть авторитет у церкви? Тут и расцветает старообрядчество. Расцветает не столько при Алексее Михайловиче, сколько при Петре и Николае I. И уже ничего нельзя сделать. Роль Николая I в этом процессе очень отрицательная: он гонением на староверов во многом разрушил экономику России. Наиболее состоятельный и работящий класс – старообрядцы. И уральскую промышленность старообрядцы создали. Законы Николая I против них разрушили русскую металлургию. При Екатерине и при Александре I русская артиллерия была первой в мире. Россия 'была передовой по количеству и качеству выплавляемого металла. Если вы спросите археологов, копающих на Бородинском поле, они скажут, что сразу видны отличия русских ядер от французских. У русских качество отливки другое, – нет раковин. Захваченные англичанами русские пушки старой отливки стоят во многих английских и шотландских городах. До сих пор англичане восхищаются качеством отливки этих пушек. А при Николае Россия начинает отставать.
— А все же почему уваровско-николаевская формула Самодержавие–Православие–Народность была с таким отвращением встречена русской интеллигенцией?
Самодержавие нельзя было отождествлять с православием. Я не берусь судить, насколько тут вина церкви, хотя вина, скажем, митрополита Фотия и других была. Гарантия авторитета церкви – отделенность ее от государства. Церковь и государство переплелись, и все вины государства падали на церковь. Эта формула погубила тогдашнее православие или, во всяком случае, подрубила его. Церковь должна быть отделена от государства. Тысячелетие назад христианство стало государственной религией Древней Руси и объединило Русь, а потом Россию, Белоруссию и Украину. В этом была сила, в этом же и слабость: подчиненная государству церковь утратила свою духовную свободу, свободу совести. Дальнейшее было предопределено: верующий – значит монархист. А христианство – это не идеология, буржуазная или социалистическая. Это мировоззрение плюс этические нормы поведения в быту, в жизни.
— Последние лет пятнадцать на страницах наших газет замелькало слово «духовность». Употребляется оно в сугубо светском смысле и противопоставляется бездуховности...
— Я не знаю, что такое «духовность» в газетном смысле. Слово пестрит, но определения ему никто не дает.
— Так что же, слово-фантом? Слово-эрзац?
— Я понимаю так: если под этим подразумевается жизнь умственная, жизнь интеллектуальная, то уровень ее действительно падает. Падают интеллектуальные интересы – меньше стали читать философскую, классическую, художественную литературу, настоящую поэзию. В поэзию вторгается фельетонизм. Это плохо. Интеллектуальная сторона, столь сильная в Пушкине, Тютчеве, Фете, в поэзии Владимира Соловьева и Александра Блока, сейчас у наших наиболее популярных поэтов ослаблена. Стихотворный фельетон, то есть стихи, разоблачающие или воспевающие какое-то событие общественной жизни, подменяет поэзию. Это, кстати, было и у Некрасова. Но все-таки Некрасов умел поднять фельетон до поэзии, а нынешние не умеют.
— Несомненен вклад Русской православной церкви в Победу над фашизмом. Почему же не появились яркие церковные памятники, или мы просто не знаем этих произведений?
— Ну где же они могли появиться, если не печатали Платонова и Набокова? Тем более что общедуховное падение коснулось и церкви.
— И тем не менее в 70-е годы многие из моих сверстников обратились к религии. Гражданская реализация личности была крайне затруднена для того, кто не хотел принимать участия в славословиях или делать карьеру...
— Ну, тут я с Вами, Андрей Юрьевич, не соглашусь. Когда человек идет в церковь ради моды или только ради перемены мировоззрения, – это тоже ложь. Церковь – это не одна перемена мировоззрения, это уже перемена образа жизни, обычаев. У верующего и быт должен быть религиозным, с соблюдением постов, праздников и так далее. А многие ходили в церковь из чувства протеста против официозной лжи. И в этом тоже был элемент лжи. Христианство требует не одного христианского мировоззрения, а действий. Без действий вера мертва. А действий-то и не было.
— Веру верить значит дело делать? Но в 70-е годы печать забила тревогу: комсомольцы крестят детей. А православные батюшки стали даже поговаривать о втором крещении Руси.
— Очень неточное выражение. Христианство было на Руси и до крещения Руси, до принятия христианства. И княгиня Ольга крестилась, и церковь Ильи существовала в Киеве. Крещение Руси – официальное принятие христианства государством, соединение церкви и государства. Говорить о втором крещении Руси ни в коем случае нельзя, это было бы несчастьем для христианства – воссоединение церкви и государства. Наоборот, церковь должна быть" полностью отделена от государства для того, чтобы она могла свободно развиваться и быть религией в полном смысле этого слова. Вообще общественный прогресс заключается в свободе, в увеличении сектора свободы. Я писал об этом в статье «О будущем литературы», она повторена и в моем трехтомнике. Сектор свободы по всем линиям увеличивается, а сектор свободы церкви в том, что она отрешается от своей зависимости от государства. Зависимости какой? Либо поощрительной, либо непоощрительной.
— Вопрос из волнующих сегодня особо: почему христианин не может быть националистом, а националист – христианином?
— Это легкий вопрос. Потому что христианство – вселенская религия, в равной мере религия и для негров, и для китайцев. Поскольку христианство интернационально, постольку оно является великой религией. Если оно сводится к религии национальной, оно перестает быть собой. Мне не хочется упоминать религий, замкнутых в одном народе. Их несколько, но это большой недостаток этих религий.
— Дмитрий Сергеевич, в чем же главный итог юбилея русской церкви?
— В том, что церковь не должна вмешиваться в дела государства, а государство – в дела церкви. Эта зависимость их друг от друга была предопределена еще Владимиром I. Многое еще предстоит сделать, в частности преодолеть страх чиновников. Вот малый пример: под Гатчиной перед музеем Вырской почтовой станции кто-то боится поставить крест на восстановленной часовне. Тоже суеверие? Наконец, надо издать Библию, потому что Библия – это код современного искусства. Значит, от такого положения страдают не только верующие, но и атеисты. Мы воспитываем патриотизм, но не знаем богатейшей древнерусской словесности, ведь она недоступна без знания христианской проблематики. Отсюда и спекуляции, и секты, и увлечение Бог знает чем. Остается надеяться, что положение поправимо, если мы не будем бояться диалога.
Беседу вел А. Чернов
Огонек. 1988. № 10.
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ПИСЬМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСТОЧНОГО СЛАВЯНСТВА И МИР
Мы должны в полной мере осознать тот знаменательный факт, что нашим братским литературам – украинской, белорусской и русской – исполнилось тысяча лет.
Почему мы должны это осознать? Что за обязанность лежит на нас? Прежде всего это наш долг перед нашими героическими предками. Героями делаются не только на войне – герои и те, кто вопреки трудностям создает новое, новую культуру, новую форму культуры.
Далее. Мы должны осознать этот факт для того, чтоб оглянуться назад, подвести итоги тысячелетия и с новыми силами, новым взглядом на самих себя продолжать наш путь, раз он того стоит... Мы должны проверить наш компас, нравственный компас, по которому мы движемся в бурном океане современных проблем. Часы, по которым мы, люди письменной культуры, живем, отсчитывают уже второе тысячелетие. Стрелка компаса имела отклонения, но в целом служит нам верно.
Что сохранить нам из наших традиций? Чем мы сильны? Что мы сделали не только для себя, но и для всего мира и мировой культуры, для человечества и человечности? Шли ли мы – украинцы, русские, белорусы – в ногу друг с другом и в ногу с мировой литературой? Что мы взяли у других и что мы им сами дали?
Служили ли мы прошедшую тысячу лет делу мира – мира во всех его смыслах: миру – «тишине», «спокойствию», «мирному времени», и миру – «вселенной», «земному шару», и миру – «человечеству»? (Все три значения слова «мир» не случайно сходятся на одном слове!)
Стремились ли наши литературы развлекать и отвлекать или, напротив, они влекли к поискам истины, правды (опять-таки в специфически русском значении этого слова, совмещающего в себе истину и справедливость: правда-истина и правда-справедливость)?
Над всем этим вы должны сейчас задуматься, именно сейчас, когда кончается первое тысячелетие существования у нас письменной культуры.
Восточнославянская письменная культура, а в недрах ее и наша восточнославянская, еще не разделенная литература Древней Руси, возникли одновременно и постепенно, и внезапно...
От самого начала до нас дошли только «признаки» и «знаки» существования письменности и деловые тексты.

Д.С.Лихачев
В пространном «Житии» Кирилла-Константина, относящемся к XI веку, говорится о том, что в Крыму, где издавна были поселения Руси, Кирилл-Константин нашел Евангелие, писанное по-русски – «русьскими» письменами, т. е., по-видимому, на языке Руси, восточнославянском, ибо сам Кирилл-Константин легко стал его понимать. Впрочем, ученые спорят – был ли это язык Руси или какой-то иной, «рушьский». Но вот более достоверное известие и вместе с ним документы: договоры русских с греками 911 и 941 годов. Там сказано, что договоры Руси с греками составляются на двух языках и один экземпляр хранится у греческой стороны, а другой – у русской. Дошедшие до нас тексты в «Повести временных лет» несомненно, как это доказал академик С. П. Обнорский, X века, т. е. перед нами памятники письменности первой половины X века. Письменности (!), но еще не литературы!
Но уже существование на Руси староболгарских книг – переводных с греческого и оригинальных – было явлением восточнославянской литературы, ибо книги эти были понятны на Руси, язык их оказался очень близким к русскому разговорному и деловому, хотя более сложным. Еще до официального признания христианства Киевским государством христианство на Руси было уже распространено. Христиане были в составе тех дружин, которые ходили на Константинополь, христиане были и в Киеве, где на Подоле стояла церковь Ильи Пророка. Раз были официально признанные христиане, была церковь, то было и богослужение, совершавшееся по книгам, и тексты в книгах были рассчитаны и на эстетический эффект, а это уже ближе к литературе.
Из этого следует факт более раннего проникновения на Русь чтения. Чтение в широком плане предшествовало на Руси письму, а переводы – собственным произведениям. Как и всякие младенцы, наши предки в X в. раньше научились читать и слушать читаемое, чем писать. Но ведь и это нелегкое дело! Правда, искусство слова существовало издавна, и нельзя даже указать, сколько веков оно существовало, ибо фольклор – ровесник устной речи, а сама устная деловая речь имеет разные эстетические формы: воинские речи, произносившиеся князьями перед битвами и выступлениями в поход (вспомните знаменитые речи князя Святослава), речи на княжеских съездах, на вече, судебные установления, облекавшиеся в кратчайшую и выразительную форму, речи, передававшиеся через послов союзным или враждебным князьям. Как я предполагаю, еще до официального принятия Русью христианства возникло произведение, пропагандирующее новый христианский взгляд на всемирную историю, – «Речь философа», включенная впоследствии в «Начальную летопись». Это полукомпилятивное произведение должно было дать представление обращаемому в христианство народу о всемирной истории, – и народу, и его правителю.
Можно спорить о том, была ли «Речь философа» русской по происхождению и была ли она уже произведением литературы, но факт тот, что силы, знания, навыки, необходимые для образования литературы в полном смысле этого слова, литературы как особой области культуры, накапливались постепенно в течение и IX и X веков. Накопление это было незаметным для современников, восточных славян, и для глаз наших исследователей.
Но вот внезапно (подчеркиваю – внезапно) из этого незаметного накопления родилась литература очень высокого уровня – уровня идейного, уровня литературного умения, уровня великолепного литературного языка, как бы сразу достигшего изумительного совершенства.
Литература внезапно поднялась как огромный защитный купол над всей Русской землей, охватила ее всю – от моря и до моря, от Балтийского до Черного, и от Карпат до Волги.
Я имею в виду появление таких произведений, как «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, как «Начальная летопись» с различным кругом произведений, в нее входящих, как «Поучения» Феодосия Печерского, «Поучение» князя Владимира Мономаха, «Жития Бориса и Глеба», «Житие Феодосия Печерского» и т. д.
Весь этот круг произведений знаменуется высоким историческим, политическим и национальным самосознанием, сознанием единства народа, особенно ценным в период, когда в политической жизни уже начиналось дробление Руси по княжествам, когда Русь стала раздираться междоусобными войнами князей. Именно в этот период политического разобщения литература осознает, что князья не в «худой» и не в неведомой стране княжат, и занята вопросом, «откуда пошла» Русская земля; произведения призывают к единению и писаны не в одном центре, а по всему пространству Русской земли – так составляются летописи, проповеди, «Киево-Печерский патерик», так ведется переписка Владимира Мономаха с Олегом Гориславичем, и т. д. и т. п. В литературное творчество удивительно быстро втянуты многочисленные русские города и монастыри: помимо Киева – Новгород Великий, оба города Владимира на разных концах Русской земли – Владимир Волынский и Владимир Суздальский, Ростов, Смоленск и даже маленький Туров. Всюду писатели и особенно летописцы пользуются трудом своих собратьев из самых отдаленных мест восточнославянской равнины, всюду возникает переписка, писатели переезжают из одного княжества в другое.
В пору упадка политического единства и военного ослабления литература заменила собой государство. Отсюда с самого начала и на протяжении всех веков громадная общественная ответственность наших литератур – русской, украинской и белорусской.
Вот почему я употребил выше выражение: литература поднялась над Русью громадным защитным куполом – стала щитом ее единства, щитом нравственным.
Взгляд на русскую историю как на часть мировой и чувство ответственности за весь мир стали также отличительной особенностью всех восточнославянских литератур и отчасти были унаследованы ими через единую литературу Древней Руси от славянских просветителей – Кирилла и Мефодия. Это им принадлежит мысль о единстве человечества и ответственности каждой страны, каждого народа в общечеловеческом устроении и просвещении, о служении каждой страны человечеству. Для Кирилла и Мефодия это была Болгария, для писателей Древней Руси – Русь.
Благодаря этой особенности «литературного мировоззрения» восточнославянских литератур они всегда были литературами с «открытыми границами». Переводная литература занимала в них такое же место, как и оригинальная. Рукописи из балканских стран ввозились и здесь «смешивались» со своими, переписывались на равных с ними основаниях, составлялись сводные редакции – болгаро-русские, сербо-украинские, молдаво-влахийско-болгаро-русские и т. д. Вместе с тем до очень поздней поры литературы трех братских народов воспринимались и развивались как единая литература. Едиными они были и в глазах их авторов, переписчиков, печатников, и в глазах самих читателей. Характерна в этом отношении деятельность первопечатника Ивана Федорова: перенося свою деятельность из Москвы во Львов, он не был ни перебежчиком, ни изменником – он делал одно дело.
Не случайно на Русь в XIV–XVI веках переезжали сербские и болгарские писатели и чувствовали себя здесь как на родине, защищали общее дело восточного славянства, а в монастырях Афона, Болгарии, Сербии, Молдаво-Влахии работали восточнославянские переписчики и книжники. Книжники из Руси работали и в Будапеште, учились в Кракове.
Мысль о каждом народе как о части всечеловечества дожила до нашего времени и в XIX веке получила яркое выражение в знаменитой речи Достоевского при открытии памятника Пушкину. Достоевский только в силу ограниченности представления своего времени о древнерусской литературе не знал, что приписываемые им Пушкину «чувства-идеи» и необыкновенная восприимчивость Пушкина ко всем явлениям культуры Европы существовали уже в Древней Руси, и существовали в полной мере.
Другая особенность наших восточнославянских литератур, также появившаяся как бы сразу, во всяком случае «повзрослевшая» в течение очень короткого времени, – это их учительный характер.
«Неправду» князей уже в середине XI века разоблачал летописец Никон, затем летописец Нестор и его преемники, потом составители повестей о княжеских преступлениях (об ослеплении Василька Теребовльского, об убийстве Игоря Ольговича, об убийстве Андрея Боголюбского, о клятвопреступлении Владимирки Галицкого и проч.), далее с призывами к князьям обращались автор «Слова о князех» и автор «Слова о полку Игореве» (в период монголо-татарского завоевания на неправильное поведение князей указывали авторы северо-восточных повестей о событиях Батыевщины и т. д.).
Характерно и чрезвычайно важно, что изобличение неправд идет параллельно с поисками положительных решений. Это не критика ради критики, не дискредитация княжеской, а впоследствии царской власти ради ее дискредитации, а поиски решения вопроса – и об укреплении власти, и о создании справедливого общества. Это особенно характерно для первой половины XVI века, для сочинений Ивана Пересветова, Ермолая-Еразма, Вассиана Патрикеева, Федора Карпова и многих других авторов. Литература становится «вторым государством», она тоже полна государственных забот, и не случайно это понимают и сами князья и цари, когда берутся за перо, – Владимир Мономах. Иван Грозный, Алексей Михайлович, Петр Великий и др.
В этом году исполнилось триста лет со дня сожжения протопопа Аввакума, и хотя он был по официальному приговору сожжен «за великий на царский дом хулы», но на самом деле «хулой» он был озабочен меньше всего, а стремился убедить царя до последнего дня и решить проблемы путем слова и убеждения, путем создания положительной программы, которая виделась ему в возврате к прошлому по целому ряду вопросов.
Новый подъем государственного и исторического, общественного значения литературы наступает с конца XVIII – начала XIX века – в сочинениях Радищева, Новикова, поэтов-декабристов и т. д.
Общественная и национальная миссия литературы в полной мере осознает себя в творчестве Пушкина и Шевченко. Не случайно именно эти два имени стояли на знаменах литера туры русской и украинской.
Ни в одной стране мира с самого начала ее возникновения литература не играла такой огромной государственной и общественной роли, как у восточных славян.
И с этим связана характерная черта художественной формы наших литератур. Общественная ответственность ведет за собой ответственность перед словом и своеобразный лаконизм наших литератур. Необычайной лаконичностью отличается и проза Пушкина, и проза Лермонтова, и проза Тургенева. Их романы и повести сравнительно невелики по объему. Все существенное вырезано в них почти что резцом – с ювелирной точностью. Но ведь и кажущаяся многословность Толстого и Достоевского тоже свидетельствует об особой ответственности перед словом. Недаром, знакомясь с черновиками Толстого, мы замечаем, что первоначальный текст был как будто бы глаже: глаже, но не точнее. Во внешне неряшливой и корявой форме сказывалось другое – то, что я бы назвал характерной для всей русской литературы «стыдливостью формы». Писатель заботится прежде всего об истине, о правде и не заботится о красивости сказанного, постоянно нарушает законы жанра, привносит в литературу жанры деловой письменности, изобретает новые жанры или берет жанры «низкой литературы» – рецензии, фельетоны, письма, разного рода документы и т. д. Это в высокой степени свойственно Лескову, Некрасову. Документ говорит читателю больше, чем литература, документу читатель больше доверяет, и вот писатели пишут свои произведения в форме писем, хроник, открытых писем в редакцию, дневников, а то нарушают жанры – объявляют поэму романом в стихах, а роман поэмой. Не важно, как написать, лишь бы правду, лишь бы воздействовать на поведение людей, пробудить в них общественное сознание.
С этим связана всегдашняя конструктивность критики наших литератур: наличие большого и общественно ответственного мировоззрения за всеми критическими выступлениями. С этим связано и единство литературы и критики, литературы и публицистики. История литературы всегда была у нас и историей общественной мысли, всегда включала в себя и историю критики.
Обращаясь к настоящему советских литератур, не найдем ли мы в них все те же черты, присущие всему тысячелетию развития восточнославянских литератур? Разве не для решения важных общественных проблем пишут наши писатели-современники – В. Распутин, В. Белов, В. Астафьев, писали Ю. Трифонов и Ф. Абрамов, пишут В. Быков, Ч. Айтматов и многие другие. Все они не только заинтересовывают своими произведениями, восхищают лаконизмом, но и тревожат, будят, заставляют думать, призывают к общественной ответственности. Все эти писатели – наши современники – вышли из школы Аввакума, Радищева, Пушкина, Достоевского, Толстого... А если охватить более широкий круг писателей, то и круг непосредственных учителей окажется гораздо шире – вся наша тысячелетняя литература. Если материалом лучших современных произведений оказывается село и даже появился несправедливый термин «деревенская проза», то ведь круг решаемых проблем отнюдь не сводится к тем, что могут быть интересны лишь деревенским читателям. Если сводить все темы литературных произведений только к их материалу, тогда окажется, что и Достоевский интересен лишь жителям Петербурга и в лучшем случае Старой Руссы, а Аввакум – староверам... Писатели поднимают общие вопросы на частных случаях – это почти закон художественного творчества. Но характернейшей чертой нашей советской литературы, продолжающей традиции шестидесяти лет советской литературы и тысячелетия литератур разных народов нашей страны, из которых многие стали обладать письменностью уже в условиях советской действительности и поэтому следуют по-своему опыту других литератур, необходимо признать большие общественные и мировоззренческие вопросы, поднимаемые всегда с большой душевной болью, страстью и стремлением к лучшему.
Спрашивается: можем ли мы определить точную дату тысячелетия наших братских литератур? Даты юбилеев по большей части условны. Условны даты юбилеев наших исторических городов, многих учреждений. Мне думается, что для тысячелетия наших братских восточнославянских литератур условной даты устанавливать не следует. Литература – это процесс. Возникновение литературы тоже было процессом. Тысячелетие восточнославянских литератур – это процесс. Такой юбилей не может быть отпразднован одним заседанием, открытием одного памятника или созданием произведения. Весь конец XX века есть дата юбилея. От него надо ждать многих совместных конференций, обобщающих трудов и отдельных глубоких исследований.
Нам нужна не дата, а своего рода юбилейные десятилетия. Они будут полезны в мировом и мирных аспектах и раскроют нам многое в наших собственных достижениях.
Вместе с тем тысячелетие литератур будем рассматривать как часть тысячелетия нашей письменной культуры, восходящей к единым корням и распространившейся в виде кириллицы у многих народов Советского Союза.
Нам, людям конца XX века, следует, подводя итоги, определить, чего достигли литературы трех братских народов и как достигли, обратив особенное внимание на все, что свидетельствует в наших литературах о совместном решении общественных и художественных вопросов. Эти итоги должны подводиться вдумчиво, несуетно, неторопливо, путем исследований, совместных конференций писателей и литературоведов трех братских народов.
Нам необходимо осознать самих себя, понять наши пути, а исходя из понятого, наметить пути на будущее. Под прошлым я понимаю и то прошлое, что ушло под сень веков, и то прошлое, что еще живо в нашей собственной памяти, что мы еще не перестали считать настоящим. Итоги прошлого есть всегда и планы на будущее.
Иностранная литература. 1982. № 10.
ПОДВИГ ИВАНА ФЕДОРОВА
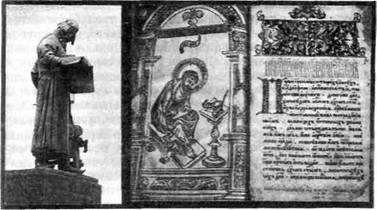
Иван Федоров
«Апостол», книга И. Федорова (1564 г.)
Время – лучший судия. Сегодня, четыре столетия после смерти Ивана Федорова, из исторического далека, нам особенно отчетливо видны истинные масштабы деяний «друкаря книг, пред тем невиданных». Да он и сам вырастает в гигантскую фигуру, характерную для эпохи Возрождения, и занимает достойное место в ряду других древнерусских деятелей отечественной культуры, литературы и искусства, таких, как Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий с сыновьями или автор «Слова о полку Игореве». Иван Федоров – мастер на все руки. Он и типограф, и художник, и редактор, и издатель, и ученый, и писатель, и изобретатель, и организатор. Наконец, он и энциклопедист-просветитель. Словом, не только его деяния, но и личность Ивана Федорова была исключительная, в чем-то, быть может, таинственная. Все говорит о том, что он был горячий патриот, храбрый и мужественный человек, подвижник печатного слова.
Почему мы называем Ивана Федорова первопечатником? Ведь анонимные печатные издания были на Москве уже и в 1552–1553 годах. Но то, в общем, если можно так сказать, пробные издания.
«Апостол» и другие книги Ивана Федорова выделяются своей светскостью, если не по содержанию, то по назначению. Эти книги – ученые. Они предназначены для индивидуального чтения, для обучения, для справок. Соответственно они были разного оформления, разного формата, разной толщины и разного набора. Федоров ищет, экспериментирует, создает все новые и новые типы книг и новые эталоны для разных книг. В этом он неутомим. Его работа отличается последовательностью и логичностью. Каждому назначению книги Иван Федоров ищет соответствующее наиболее удобное и практичное оформление. При этом утилитарность не господствует: все виды книг имеют и художественное оформление в пределах, гармонирующих с назначением. Кое в чем этому могли бы поучиться и мы. Ведь Иван Федоров вряд ли был обеспечен бумагой лучше, чем мы, но он умел не экономить там, где экономия портила бы книгу, делала бы ее менее удобной или менее красивой.
Знакомясь с «Апостолом» 1564 года, ясно осознаешь что Иван Федоров и Петр Мстиславец заботились не о доходах, не о выгодности способа размножения книг, а, не щадя сил, используя огромный опыт русской рукописной книги и некоторых европейских образцовых изданий, стремились создать как бы эталоны книгопечатания.
В этом убеждает и то, что «Апостол» 1564 года в отличие от предшествующих «безвыходных изданий», возможно, той же типографии, был снабжен превосходно написанным послесловием. Самый факт этого послесловия, даже вне зависимости от содержания, свидетельствовал о том, что издатели придавали огромное значение своему детищу именно как образцу, модели, эталону для будущих книг. Они продумали все, чтобы сделать книгу максимально удобной для чтения, для пользования и вместе с тем красивой, но не роскошной, а как бы «усредненной», пригодной для подражания, «типовой».
Интересно отметить, например, что блок текста, расположенный на каждой странице, построен по четкому соотношению: три к двум (21 х 14 сантиметров) и содержит 25 строк – число, удобное для чтения и совпадающее с размером сегодняшней машинописной страницы. Масштаб шрифта соответствует лучшему зрительному восприятию и учитывает экономию бумаги (в XVI веке в России не было еще очков и поэтому шрифт должен был быть крупным). Длина строки и расстояние между строками очень удобны для перехода глазом со строки на строку. Переход со страницы на страницу для чтения вслух облегчается тем, что в конце страницы даются начальные слоги слова, которое напечатано на следующей за ней странице. Читающий как бы предупреждается, что его ждет на обороте страницы. Характерно и другое: каждая спусковая полоса размещается только на правой, лицевой стороне листка. Деталь эту в полной мере могут оценить только полиграфисты. Она чрезвычайно важна для облика книги. На развороте правая страница всегда наиболее важная: здесь титул, здесь и заглавия разделов.
Удивительно продуман и сам рисунок шрифта. Укажу лишь на такую деталь. У федоровского шрифта нижняя часть несколько больше. Это дает ему некоторую зрительную «устойчивость»: шрифт как бы учитывает силу тяжести. А с другой стороны, этим достигается равновесие по отношению к верхним выносным над строкой буквам и знакам. Красив и очень легкий наклон «полууставного» шрифта по направлению движения чтения – слева направо. Этот наклон художественно логичен, учитывается движение глаз. Такова особенность только федоровских печатных изданий. До него наклон был лишь в рукописях.
Заботой о читателе пронизана и вся организация текста книги. Отысканию нужных текстов помогает система нумерации страниц, колонтитулы, подстрочные и надстрочные ссылки. Первая печатная книга производит впечатление, будто она явилась результатом многовековой типографской практики, замечательной полиграфической культуры и, повторяю, вся пронизана заботой о читателе. До сих пор исследователи ломают голову над таким феноменом: в первопечатной русской книге и в других московских изданиях Ивана Федорова нет ни одной типографской погрешности – в виде плохих ли оттисков, непрочно закрепленных строк или нестойкой типографской краски; нет и ни одной опечатки в собственном смысле этого слова, хотя, как хорошо известно, без них не только в России, но и в Западной Европе не обходилось во все последующие века книгопечатания ни одно издание. Это ли не лучшее доказательство высокой филологической образованности и высокой культуры умственного труда первопечатника?
Многие исследователи изучали и художественное оформление «Апостола» 1564 года. Существует немало статей и о его орнаменте, и о выходной миниатюре, и об их истоках – русских и нерусских. Я хочу сейчас обратить внимание лишь на две особенности федоровского первенца. Одна касается орнамента, другая – выходной миниатюры. В середине XVI века, когда первопечатник приступал к делу своей жизни, русская рукописная и западная печатная книги имели в своем арсенале огромный «запас» разнообразных орнаментов. Но выбор Ивана Федорова пал именно на лиственный орнамент, дающий ощущение выпуклости, объемности. Благодаря этой относительной объемности печатный орнамент оказался не менее нарядным, чем многоцветный рукописный. И замечательно, что орнамент напечатан не красной краской, что было бы естественно для древнерусских книжников, привыкших к цветным украшениям, а черной. Первопечатники почувствовали красоту черной типографской краски.
Другая деталь, свидетельствующая о высоком вкусе Ивана Федорова и Петра Мстиславца, касается выходной миниатюры. До них обычно в древнерусских рукописных книгах авторов изображали сидящими и пишущими свои труды. В печатном «Апостоле» такое изображение «писания» книги Иван Федоров счел неуместным. На миниатюре Лука у него не пишет книгу, а только держит ее в руках, как держат в руках модели храмов на фресках, изображающих древнерусских зодчих. Письменные принадлежности в миниатюре федоровского «Апостола» лежат на столике. Они как бы оставлены – это знак предшествующей работы. А книга в руках не у писца – у печатника! Это тонкость, на которую стоит обратить внимание, она свидетельствует о глубокой продуманности выходной миниатюры.
Другой тип текста и другой тип книги представляют собой два издания «Часовника» 1565 года. Они предназначались для обучения грамоте. Поэтому формат их мал – в восьмую долю листа. Шрифт тот же, что и в «Апостоле» 1564 года, однако вся организация текста проще, ибо и объем меньше, и назначение не такое сложное. Это издание карманное. Очень удобное для пользования. Кстати, здесь уместно заметить: глубоко ошибочно представление некоторых исследователей, что «необходимость» массовой книги в России возникла лишь с эпохи преобразований Петра I. «Часовник» и «Буквари», Ивана Федорова были уже типами массовой и учебной книги. Поиски «лица» подобного рода изданий продолжались Федоровым и на Украине. Особенно интересен в этом плане созданный им библиографический указатель «Собрание вещей нужнейших». К нему примыкает и его «Хронология, составленная Андреем Рымшею».
Почему Иван Федоров и Петр Мстиславец выехали из Москвы и продолжили свою деятельность на Украине? Сообщения иностранца Флетчера о якобы имевшем место бегстве Ивана Федорова и уничтожении его типографии – явная легенда. Просто Иван Федоров, девизом жизни которого являлось «духовные семена... по свету рассеивать», был очень нужен на Украине, разделенной в то время. На Украине надо было поддержать украинскую культуру. И поэтому наиболее вероятно предположение писателя Николая Самвеляна, изложенное им в его повести «Московии таинственный посол»: переезд первопечатника на Украину, каковы бы ни были обстоятельства и трудности в Москве для печатного дела, носил идейный характер. Идейностью была пропитана и вся деятельность Ивана Федорова. Он вообще был человек самоотверженной идейной активности.
Замечательной особенностью работы Ивана Федорова на Украине – в Заблудове, Остроге и Львове – является то, что он всюду в своих послесловиях пишет о себе и называет себя «москвитином», указывает, что он «из Москвы».
...Вся жизнь Ивана Федорова, насколько мы ее знаем, была сопряжена с титаническим трудом, трудом бескорыстным, беззаветным и самоотверженным. Ничто его не останавливало – ни лишения, ни житейские невзгоды, ни технические и творческие трудности, неизбежные при его новаторских установках. Дело жизни Ивана Федорова было подвигом по цели, по своей жертвенности и по достигнутым результатам. Он весь вдохновлен любовью к своему народу. Иван Федоров не просто создатель книгопечатания – он великий сеятель славянской культуры, создатель русской и украинской печатной книжности, книжной печатной культуры.
Правда. 1983. 14. XII.
ПОСЛЕСЛОВИЕ К БРОШЮРЕ 1942 ГОДА
В блокадную зиму 1942 года вместе с известным уже к тому времени археологом М. А. Тихановой я написал брошюру «Оборона древнерусских городов». Впрочем, эту брошюру можно назвать и маленькой книжкой (в ней была 101 страница). Через месяца два она была набрана слабыми руками наборщиц и отпечатана. Осенью того же года я стал получать на нее отклики прямо с передовой.
В книжке есть смешные ошибки. В заключении я, например, процитировал известные строки Н. Н. Асеева:
Петербург,
Петроград,
Ленинград!
Это слово, как гром и как град, –
но приписал их Маяковскому! Просто не было сил снять с полки книги и проверить. Писалось больше по памяти. Впоследствии я рассказал о своей ошибке Асееву. Николай Николаевич утешил меня словами, что он горд этой ошибкой: ведь смешал я его стихи не с чьими-то – со стихами Маяковского!
И при всей своей наивности в частностях брошюра эта имела для меня большое личное значение. С этого момента мои узкотекстологические занятия древними русскими летописями и историческими повестями приобрели для меня «современное звучание».
В чем состояла тогда современность древней русской литературы? Почему мысль от тяжелых событий ленинградской блокады обращалась к Древней Руси?
8 сентября 1941 года с запада над Ленинградом взошло необычайной красоты облако. Об этом облаке вспоминали и писали затем многие. Оно было интенсивно белого цвета, как-то особенно «круто взбито» и медленно росло до каких-то грандиозных размеров, заполняя собой половину закатного неба. Ленинградцы знали: это разбомблены Бадаевские склады. Белое облако было дымом горящего масла. Ленинград был уже отрезан от остальной страны, и апокалипсическое облако, поднявшееся с запада, означало надвигающийся голод для трехмиллионного города. Гигантские размеры облака, его необычная сияющая белизна сразу заставили сжаться сердца.
 |
Великая Отечественная война потрясала своими неслыханными размерами. Грандиозные атаки с воздуха, с моря и на земле, сотни танков, огромные массы артиллерии, массированные налеты, систематические, минута в минуту начинающиеся обстрелы и бомбежки Ленинграда! Электричество, переставшее действовать, водопровод без воды, сотни остановившихся среди улиц трамваев и троллейбусов; заполнившие воды Невы морские суда – военные, торговые, пассажирские; подводные лодки, всплывшие на Неве и ставшие на стоянку против Пушкинского Дома! Огромный турбоэлектроход, причаливший у Адмиралтейской набережной, с корпусом выше встретивших его старинных петербургских домов.
Поражали не только размеры нападения, но и размеры обороны. Над городом повисли в воздухе десятки невиданных ранее аэростатов заграждения, улицы перегородили массивные укрепления, и даже в стенах Пушкинского Дома появились узкие бойницы.
И одновременно со всем этим тысячи голов беспомощно, безумно блеявшего и мычавшего скота в пригородах: собственность личная и коллективная сбежавшихся сюда беженцев из ближних и далеких деревень. Казалось, что земля не выдержит, не снесет на себе ни тяжести людей – ни своих, ни подступивших к невидимым стенам города врагов, – ни тяжести человеческого горя и ужаса.
Невидимые стены! Это стены, которыми Ленинград окружил себя за несколько недель. Это была граница твердой решимости – решимости не впустить врага в город. В подмогу этим невидимым стенам вырастали укрепления, которые делали женщины, старики, инвалиды, оставшиеся в Ленинграде. Слабые, они копали, носили, черпали, укладывали и иногда уходили в сторону, чтобы срезать оставшиеся на огородах капустные кочерыжки, а затем сварить их и заставить работать слабевшие руки.
И думалось: как можно будет описать все это, как рассказать об этом, чьи слова раскроют размеры бедствия?
А город был необычайно красив в эту сухую и ясную осень. Как-то особенно четко выделялись на ампирных фронтонах и арках атрибуты славы и воинской чести. Простирал руку над работавшими по его укрытию бронзовый всадник – Петр. Навстречу шедшим через Кировский мост войскам поднимал меч для приветствия быстрый бог войны – Суворов. Меч в его руках – не то римский, не то древнерусский – требовал сражений.
И вдруг в жизнь стали входить дренерусские слова: рвы, валы, надолбы. Таких сооружений не было в первую мировую войну, но этим всем оборонялись древнерусские города. Появилось, как и во времена обороны от интервентов начала XVII века, народное ополчение. Было что-то, что заставляло бойцов осознавать свои связи с русской историей. Кто не знает о знаменитом письме защитников Ханко? Письме, которое и по форме и по содержанию как бы продолжало традицию знаменитого письма запорожцев турецкому султану.
И тогда вспомнились рассказы летописей:
«Воевода татарский Менгухан пришел посмотреть на город Киев. Стал на той стороне Днепра. Увидев город, дивился красоте его и величию его и прислал послов своих к князю Михаилу и к гражданам, желая обмануть их, но они не послушали его...»
«В лето 1240 пришел Батый к Киеву в силе тяжкой со многим множеством силы своей и окружил город и обнес его частоколом, и был город в стеснении великом. И был Батый у города, и воины его окружили город, и ничего не было слышно от гласа скрипения множества телег его, и от ревения верблюдов его, и от ржания табунов его, и была полна земля Русская ратными людьми».
«Киевляне же взяли в плен татарина по имени Товрул. Братья его были сильные воеводы, и он рассказал обо всей силе их».
«Батый поставил пороки подле города у Лядских ворот, где овраги. Пороки беспрестанно били день и ночь и пробили стены. И взошли горожане на стену, и тут было видно, как ломались копья и разбивались щиты, а стрелы омрачили свет побежденным».
«Когда же воевода Дмитр был ранен, татары взошли на стены и заняли их в тот день и в ту ночь. Горожане же воздвигли другие стены вокруг церкви святой Богородицы Десятинной. Наутро же пришли на них татары, и был между ними великий бой».
Даже небольшие рассказы летописи поражают своим чувством пространства и размеров описываемого. Даже рассказы об отдельных событиях кажутся выбитыми на камне или написанными четким уставом на прочнейшем пергаменте. В Древней Руси были масштабность и монументальность. Они были свойственны не только самим событиям, но и их изображению.
В древних русских летописях, в воинских повестях, во всей древней русской литературе была та монументальность, та строгая краткость слога, которая диктовалась сознанием значительности происходящего. Не случайно нашествие монголо-татар сравнивалось в летописях с событиями библейскими. Этим самым по-своему, по-средневековому, давалось понять о значении событий, об их мировом размахе. Популярное в Древней Руси «Откровение Мефодия Патарского о последних днях мира» давало масштабность изображению. Летопись рассказывает о нашествии монголо-татар:
«Пришла неслыханная рать, безбожные моавитяне... их же никто ясно не знает, кто они и откуда пришли, и каков язык их, и какого племени они, и что за вера их... Некоторые говорят, что это те народы, о которых Мефодий, епископ Патарский, свидетельствует, что они вышли из пустыни Етревской, находящейся между востоком и севером. Ибо так говорит Мефодий: к скончанию времен явятся те, кого загнал Гедеон, и пленят всю землю от востока до Евфрата и от Тигра до Понтийского моря, кроме Эфиопии. Бог один знает их. Но мы здесь вписали о них, памяти ради о русских князьях и о бедах, которые были им от них».
Враги приходят «из невести», из неизвестности, о них никто раньше не слыхал. Этим подчеркивается их темная сила, их космически злое начало. Тою же монументальностью отличаются и повествования об отдельных людях: о Данииле Галицком, черниговском князе Михаиле и боярине его Федоре, об Александре Невском. Их жизнь – сама по себе часть мировой истории. Они, как библейские герои, сознают значительность происходящего, действуют как лица истории, как лица, чья жизнь – часть истории Руси. Их мужество – не только свойство их психологии, но и свойство их осознания важности и значительности всего ими совершаемого.
Размеры событий, значение поступков, черты эпохи осознаются только в исторической перспективе. К геройству зовут не только чувства, но и ум, сознание важности своего дела, сознание ответственности перед историей и всем народом. Так важно было осознавать себя частью целого – и в пространственном, и во временном смысле!
Понять те 900 дней обороны Ленинграда можно было только в масштабе всей тысячелетней истории России. Рассказы летописей как бы определяли размеры ленинградских событий. И мне стало ясно, что напомнить историю осад древнерусских городов остро необходимо. Это было ясно и М. А. Тихановой. Вот почему, работая над нашей книгой в разных концах города, не связываясь друг с другом даже по телефону или письмами, ибо ни телефон, ни почта не работали, мы все же писали так, что и теперь трудно нам сказать, кто из нас писал какую главу.
Было бы односторонним определять героический характер древней русской культуры, ограничиваясь только ее монументализмом. В русской культуре в целом есть удивительное сочетание монументальности с мягкой женственностью.
Монументальность принято обычно сближать с эпичностью. Эпичность действительно свойственна древнерусской литературе и искусству, но одновременно им свойственна и глубокая лиричность.
Женственная лиричность и нежность всегда вплетаются во все оборонные темы древнерусской литературы. В моменты наивысшей опасности и горя вдруг неожиданно и поразительно красиво начинает слышаться голос женщины.
С наступающими врагами сражаются не только воины – борется народ. И как последняя подмога приходят женщины. Именно они строят вторые стены позади разрушенных, как это было в Киеве во время нашествия Батыя или в Пскове при нашествии Стефана Батория. Именно они выхаживают раненых, уносят и погребают тела убитых. И именно они осмысляют в своих плачах случившееся.

Плач Ярославны. Гравюра В. Фаворского
Русские женские плачи – необыкновенное явление. Они не только изъявление чувств, они – осмысление совершившегося. Плач – это отчасти и похвала, слава погибшим. Плачи проникновенно понимают государственные тревоги и самопожертвование родных, значение событий. В них редки упреки. Плачи по умершим – в какой-то мере ободрение живым.
Не случайно и в «Слове о полку Игореве» в момент тягчайшего поражения, когда Игорь пленен, на стены Путивля всходит Ярославна и плачет не только по Игорю, но и по его воинам, собирается полететь по Дунаю, утереть кровавые раны Игоря.
Русские плачи – это как бы обобщение происшедшего, его оценка.
Вот почему и летопись, выполненная по заказу ростовской княгини Марии в XIII веке после монголо-татарского нашествия, тоже может быть отнесена к огромному плачу не в жанровом отношении, но по существу. Это своего рода плач-некролог: по ее отце Михаиле Черниговском, замученном в Орде, по ее муже Васильке Ростовском, мужественно отказавшемся подчиниться врагам, по князе Дмитрии Ярославиче и по многим другим.
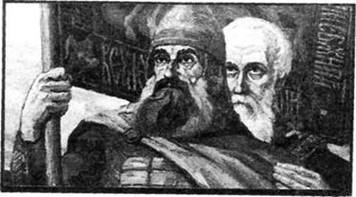
Дмитрий Донской, Сергий Радонежский. Картина
С.И. Никифорова
Так было и в Ленинграде. Мужество вселялось сознанием значительности происходящего и пониманием живой связи с русской историей. Мужество проявляли женщины Ленинграда, строившие укрепления, носившие воду из прорубей на Неве и просто стоявшие ночами в очередях в ожидании хлеба для своей семьи. Женщины же зашивали в простыни умерших, когда не стало гробов, ухаживали за ранеными в госпиталях, плакали за своих мужей и братьев и по ним.
И как значительно в этом национально-историческом плане, что осада Ленинграда раньше всего нашла свое отражение в плачах-стихах женщин – Ольги Берггольц, Анны Ахматовой и Веры Инбер.
Надписи Ольги Берггольц выбиты на тяжелых камнях Пискаревского кладбища. Ольга Берггольц вернула литературе камни как материал для письма. Ее голос множество раз звучал в эфире и слышался по всей стране...
Звучал в эфире голос Веры Инбер и однажды – Анны Ахматовой, читавшей свое стихотворение «Мужество»:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет...
Тысячелетняя русская литература сумела воплотить в своих многочисленных произведениях иноземные нашествия, неслыханные осады, страшные поражения, обернувшиеся конечными победами – победами духа, победами мужества – мужества, присущего не только мужчинам, но в час жесточайших испытаний и женщинам...
Поразительно, как национальные традиции связывают литературу поверх всех столетий в единое, прочное целое.
Звезда. 1975. №1.
БОЛЬ ОТЕЧЕСТВА
Мы возмущаемся тем, что произошло с нашими городами, с нашими историческими памятниками. Но возмущаемся мы как-то кустарно. Нужно начать научное изучение потерь, поднять архивы, выяснить, что произошло. Как это происходило? Кто уничтожал культуру народа? Это научная задача, а не публицистическая. И происходить это должно спокойно, без истерики. Факты должны сами воздействовать своей непреложной объективностью.
Вот хотелось бы на основе архивных разысканий знать, куда девались наши тысячелетние богатства, в том числе и церковные. Они были изъяты, но какова их судьба? Ведь среди них не только золото, серебро и драгоценные камни, были же вещи, важные для истории русского искусства. Они как будто бы передавались в государственные музеи. Но на самом деле оказывается, что многое ушло за границу. Скажем, серебряный иконостас Казанского собора Петрограда. Подаренный атаманом Платовым, он был отлит из отбитого у французов серебра.
А куда исчезли императорские ценности из Петропавловского собора? Где вещи из раскрытых могил царской фамилии?
Начавшись году в двадцатом, утечка национальных сокровищ продолжается до сих пор. Это можно с уверенностью сказать, потому что и сегодня что-то мелькает на международных аукционах.
Каким образом, скажем, Филонов попал в Центр Помпиду?
Сам Филонов голодал, но считал, что ничего не должно уходить из страны. Он ел черный хлеб с клюквой и пил один чай, но ничего не продал из работ. Потому что он не продал души художника, мечтал о музее аналитического искусства.
Потом за его полотнами строго следили сестры художника. Бесплатно передали картины брата в Русский музей. Не пожертвовали – передали на хранение. И вдруг оказывается, что полотна Филонова на Западе, и нас уверяют, что виноваты сестры. А я знаю, что и в блокаду они голодали, но ничего не продали.
Меня также интересует деятельность «Международной книги». Она торговала книгами из разных библиотек, усадебных и государственных. Мне было бы важно знать, за какую цену из Публичной библиотеки Ленинграда ушел «Синайский кодекс», древнейший кодекс Библии. Сейчас он находится в Британском музее. Где переписанный в XIV веке митрополитом Алексеем Новый Завет? Где многое другое?
Мы сейчас заняты судьбой отдельных людей, но кто займется установлением судьбы культурных шедевров?
Вершиной распродаж были распродажи Эрмитажного собрания, а основание этого страшного айсберга огромно, оно коснулось всех усадеб России, всех собраний всей страны.
Говорят, что из Эрмитажа Рафаэль не продавался. Это значит, что рафаэлевские «Георгий Победоносец» и «Мадонна Альба» проведены по спискам Зимнего дворца. Когда-то самое большое собрание Рембрандта было в Эрмитаже. А что сейчас? Где Ван Дейк, Веласкес, Тициан, Фрагонар, Буше и т.д. и т.д.?
Что-то продавали, что-то широким жестом дарили. «Московский дворик» Поленова, один из авторских вариантов, был подарен французскому музею «Комеди Франсез». Они восхитились картиной, а вернувшись в гостиницу, нашли ее в номере. (Мне это рассказывали французы.)
Скажут, что мы не только продавали, но и покупали. Но что мы продали и что купили? Меншикова Растрелли? Не мало ли?
В 30-е годы мировой рынок художественных ценностей был перенасыщен нашими картинами, и цены на великую живопись резко упали в Соединенных Штатах, Франции, Англии, даже в Португалии.
Сейчас Эрмитаж – крупнейший музей мира. Но ведь это произошло за счет упразднения других отечественных собраний, за счет передачи в Эрмитаж многих картин, часто второстепенных.
«Первым рядом» торговали, «третий» было невыгодно продавать, вот и ломятся запасники.
Мировой рынок переполнен Фаберже, у нас же его изделий почти не осталось.
Министерство культуры СССР и сегодня дает разрешение на продажу художественного наследия прошлого. Этой весной в финской гостинице «Интерконтиненталь», в ларьке, я видел прекрасные русские иконы XVII и XVIII веков с удостоверениями нашего Министерства культуры. Значит, распродажа продолжается. И нас уверяют, что это «ненужные» вещи!
В 30-е годы появилась такая концепция: мол, раньше музеи были хранилищами коллекций, а у наших музеев педагогический уклон, в них представлено все, но со строгим отбором. Концепция и была создана для оправдания распродаж. (Кстати, Веласкес ушел просто целиком.) Для будущего культуры это оказалось ударом. Ведь музеи создавали, воспроизводили культуру. Это же училища живописи, как библиотеки – те же университеты.
Мы можем лишиться университетов, но если останутся музеи и библиотеки, культура и искусство не исчезнут.
Меж тем годы, когда библиотекам не отпускалось необходимого, начинают сказываться. Там пожар, тут разрывает отопительные трубы, повсеместно – грабеж среди бела дня. Гибель и запустение.
Почему библиотека Института мировой литературы, великолепная библиотека, столько лет гниет по подвалам и недоступна для исследователей? Ведь это же удар по нашему литературоведению!
«Память» и прочие экстремисты списывают все беды на инородцев и иноверцев. Логика знакомая: все виноваты, кроме нас самих! Так вот, чтобы нелепость эта не проходила, необходимо установить все факты ущерба национальной культуре. И сказать, кто виноват. А виновата система, режим, целые учреждения. Что, конечно, не снимает личной ответственности. «Память» будет тлеть в обществе, пока нет достаточного уровня гласности. Гласность – это отсутствие секретности. А его еще нет. И когда валят на инородцев, мне мерещится тень Сталина, тень сталинизма. Сталинский план переселения народов и шельмования целых национальностей. Сталинский страх и подозрительность. Сталинский поиск вредителей и врагов народа. Целые народы были «врагами народа». Это мышление с 30-х годов навязывалось стране, воспитывалось десятилетиями. И сейчас прорастает, грозит принести те же кровавые плоды.
Вот почему так необходимо точно знать, что и когда уничтожено, продано, загублено. И кем это сделано.
Все это впрямую относится к новейшей истории двух великих в истории русской культуры городов – Пскова и Новгорода.
Великих и древних. Псков – это родина княгини Ольги, которая и крестилась-то много раньше своего внука Владимира. Село, где родилась Ольга, псковское село Выгуды, существовало до самого последнего времени. Пишу в прошедшем времени, потому что не знаю, существует ли оно сейчас, оказалось ли оно «перспективным». В последние годы исчезли многие исторические села и населенные пункты. Погибла и память о них.
В Швеции или Норвегии известна история каждого села, есть книги по истории деревень. И каждый житель гордится своим селом, потому что знает его историю. У нас на рубеже 30-х краеведение было объявлено буржуазной националистической наукой. А краеведы были арестованы. И до сих пор краеведение на должном уровне не возобновлено. Возродить его – одна из задач нашего Фонда культуры.
Одна из самых красивых псковских церквей – Сергий с Залужья. Она всемирно известна, великолепное ее воспроизведение было в «Истории русского искусства» Игоря Грабаря.
Сначала ее приказали снести, но снос был приостановлен, хотя главку успели-таки порушить. Не снесли, но застроили многоэтажными домами и даже гаражами.
Мы с Вениамином Кавериным протестовали, добились того, чтобы гаражи убрали. Но и только.
Кинотеатр «Октябрь» в Пскове построили так, чтобы он отвлекал старушек, идущих в церковь Троицы. Этакий громоотвод от религиозного дурмана. Так начальство понимало исключительную важность киноискусства.
При строительстве погибли бесценные, не исследованные никем пласты культурного слоя, а в них – псковские древние водоотводы. Сегодня кинотеатр «Октябрь» проседает. Планируется его снести.
Но, когда он проектировался и строился, в 50-е, Псков был еще красив, он еще был старым Псковом. А потом его застроили.
Застройка Пскова равнялась его уничтожению. Потому что, если городской чиновник снесет древний храм, ему никто слова не скажет сверху, а если он сроет стоящее на балансе панельное «человекохранилище» десятилетней давности, его будут судить.
Красоту Пскова убили панельной застройкой. Она велась даже на берегу реки Великой, даже на площади перед Кремлем.
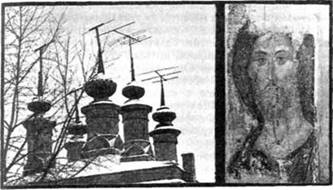 |
Спас из «Деисуса». XV в. Андрей Рублев
Застройка сводила на нет все усилия реставраторов. Они восстановят, а восстановленное обнесут пятиэтажками, как забором.
Вообще современная застройка наших городов – это унылое однообразие гигантских трехмерных заборов.
Псков и Новгород – культурные центры древнерусской вечевой демократии. Там начиналось русское Возрождение. Оно не развилось, потому что республики были раздавлены Москвой. Оно дало лишь первые побеги, которые мы видим в собственно возрожденческих приемах живописи, в интересе к индивидуальности человека и теме материнства. Шел этот процесс и в Центральной России (вспомним Феофана Грека и Рублева!), но все-таки основными центрами Предвозрождения были Псков и Новгород.
Сегодня в Новгороде климат определяется химическим комбинатом: воздух в городе пропитан такой дрянью, что на глазах разрушаются новгородские фрески и иконы. А между тем Новгород с его музеями – третий по величине центр древнерусского искусства в стране. Третьяковка. Русский музей. И потом – новгородские собрания.
Даже древний известняк, строительный новгородский камень, не выдерживает ядовитых испарений. Крошится. Известняк – материал нежный и хрупкий. В древности его штукатурили и белили. На новгородских иконах мы видим храмы – светло-голубые, светло-розовые. Теперь делаются попытки оставить известняк без штукатурки и побелки. Одна из них – Петр и Павел на Софийской стороне. Но это все равно что человек со снятой кожей.
И в Новгороде лучшие храмы застроены. Сохранение памятников идет главным образом в пределах исторического ядра города. А нужно сохранять весь город целиком. Более того, Новгород не может быть отделен от своих окрестностей, он естественно переходит в Красное (красивое!) поле. Поле это действительно ценили за красоту. И по его горизонту высились церкви. На одном берегу Волхова – Юрьев монастырь, на другом – Рюриково городище и Нередица, затем шел Кириллов монастырь, Андрей на Ситке, Ковалево, Волотово, Хутынь.
Я видел все это еще перед войной. С принятием христианства Киев стал соперником Константинополя и началось на Руси строительство Софийских храмов.
Люди верили, что Русь находится под покровительством Божьей Матери. А София – это объединение Премудрости Божьей и Богоматери в одном лице.
Новгородская София в отличие от киевской не подвергалась решительной перестройке. Потому-то она ценна особенно. Это она хранит на своих стенах и сводах ранние фрески, росписи, глаголические надписи и граффити.
По преданию, записанному в Новгородской третьей летописи, этот город стоит до тех пор, пока Вседержитель в куполе удерживает в деснице его судьбу. Снаружи центральный купол был густо позолочен, в нем, как в зеркале, отражались облака.
Немцы выпустили первый же снаряд по куполу Софии. Но вопреки пророчеству город еще стоит. Хотя и гибнет, задыхается от застройки и химкомбината.
Построили пешеходный мост через Волхов – нанесли удар по образу города. Что для Новгорода Волхов? Центральная улица, поскольку сам город был портом четырех морей. По Волхову шли ладьи с товарами, и Новгород ставился лицом к Волхову. И вдруг мы возводим громадный театр, обращенный к Волхову задом.
Это все равно что вывернуть город наизнанку!
Как можно настолько не задумываться о красоте и историческом укладе?
Планировали-то свои!
Меня уверяли, что на содержание этого театра в год мы тратим чуть не полмиллиона. Театра, в который не ходят или почти не ходят зрители. Театра, стоящего задом к культуре, выстроенного не по размерам города.
Сейчас зрителю прежде всего нужны маленькие залы, ведь в современных пьесах не участвуют танки и конница. С кинематографом и телевидением могут конкурировать только маленькие театры: в Европе и во всем мире сейчас их расцвет. Лишь в таких условиях возможен контакт зрителя с актером.
В новой рубрике «Огонька» я хотел бы увидеть не только красивые снимки древнерусских городов, но и то, в частности, как нельзя эти города застраивать. Нельзя застраивать новгородское Красное поле, нельзя тянуть город к Юрьеву монастырю. Тем более стандартными зданиями.
Новгород был необыкновенно красив перед войной: невысокие деревянные дома, окруженные садами, тысяч пятьдесят жителей. После войны было решено, что в Новгороде будет только электрическая промышленность. Ни о какой другой (химической и прочей) не было и речи. Значит, и при Сталине понимали, что такое этот город. А потом понимать перестали.
Сейчас в правительстве решается вопрос о возрождении Пскова и Новгорода, о приведении их в порядок. На это будут отпущены большие деньги. Но есть опасность, что получится, как с Суздалем: развитие туризма превратит древнерусские города в «валютные». Значит, нужно сначала возродить города для жизни (причем не только их исторические центры, а целиком) и лишь потом строить отели для иностранцев.
И хорошо, что будут приглашены специалисты-реставраторы из Болгарии и Польши. У них большой опыт. Но принципиальные вопросы все-таки должны решаться нашими специалистами, потому что реставрация – искусство национальное, и Псков с Новгородом не должны походить на Софию или Познань.
Драма нашего реставрационного дела – в разделении, в отделении и отлучении реставрационного труда от реставрационного проектирования. Одни рисуют, другие исполняют. Исключения сегодняшняя реставрационная практика почти не знает, разве что опыт гатчинского реставратора Александра Александровича Семочкина, восстановившего своими руками комплекс Вырской почтовой станции.
Реставратор перестал быть строителем, плотником и каменщиком. Тот, кто проектирует, получает большую зарплату. Гот, кто возрождает, воплощает проект, – мизерную. Так умирают древние ремесла, потому что никто не хочет идти в каменщики и плотники за эти деньги. Нельзя плотнику-реставратору платить, как строителю панельного дома, а тем паче меньше строителя.
Такое «разделение труда» произошло лет двадцать пять назад и погубило профессию реставратора, погубило народные ремесла. И тут же сделало реставрацию дорогостоящим делом!
Мне об этом рассказал псковский реставратор Б. С. Скобельцын. Когда-то он говорил плотнику: «Надо поставить крышу. По проекту мы хотим сделать вот так». Тот соглашается: «Хорошо, сделаю. Сколько будет стоить?» – «Ну 600 рублей». Плотник берется со своими молодцами и делает. А Скобельцын ему: «А как бы ты сделал для себя?» «А для себя я бы тут и тут сделал бы вот этак...» И делали!
Мне рассказывали, что в Новгороде недавно списали одних лишь реставрационных проектов, неосуществленных и морально устаревших, на три миллиона рублей... То же и в Ленинграде.
Интересно, долго ли это будет продолжаться? Я говорил об этом в правительстве, со мной согласились. А как это выйдет на практике?..
И еще о памятнике в честь освобождения Новгорода. Это безобразное сооружение возмущает и новгородцев, и приезжих. Этот нелепый памятник поставлен на Софийской стороне: всадник, скачущий в сторону Торговой стороны и буквально ломающий ноги коня о свастику.
Для справки: освобождение города пришло как раз с Торговой стороны. Значит, всадник летит навстречу советским войскам. Кстати, в тех местах действовала только фашистская конница, она стояла как раз в Юрьевом монастыре. У наших конницы под Новгородом не было. Весь памятник – как увеличенный оловянный солдатик. Уровень художественный – самый примитивный.
Сейчас время стремительно меняется и ставит перед нами очень сложные задачи. Возродить культуру народа можно, только оценив утраченное. Повторю, это насущная задача дня – изучить и восстановить историю утрат: распродаж и разрушений.
И, наконец, еще одно и очень важное: необходимо изучать «образ города», его индивидуальность. Только после того составлять планы реставраций. И новые районы должны создаваться в гармонии с историческими.
Огонек. 1988. № 34.
РУССКИЙ СЕВЕР
Русский Север! Мне трудно выразить словами мое восхищение, мое преклонение перед этим краем. Когда впервые мальчиком тринадцати лет я проехал по Баренцеву и Белому морям, по Северной Двине, побывал у поморов, в крестьянских избах, послушал песни и сказки, посмотрел на этих необыкновенно красивых людей, державшихся просто и с достоинством, я был совершенно ошеломлен. Мне показалось – только так и можно жить по-настоящему: размеренно и легко, трудясь и получая от этого труда столько удовлетворения. В каком крепко слаженном карбасе мне довелось плыть («идти», сказали бы поморы), каким волшебным мне показалось рыболовство, охота. А какой необыкновенный язык, песни, рассказы! А ведь я был совсем еще мальчиком, и пребывание на Севере было совсем коротким – всего месяц, – месяц летний, дни длинные, закаты сразу переходили в восходы, краски менялись на воде и в небе каждые пять минут, но волшебство оставалось все тем же. И вот сейчас, спустя шестьдесят лет, я готов поклясться, что лучшего края я не видел. Я зачарован им до конца моих дней.
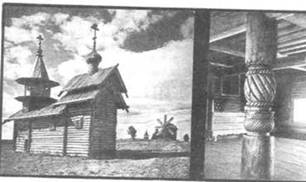
Почему же? В Русском Севере удивительнейшее сочетание
настоящего и прошлого, современности и истории (и какой истории – русской! – самой значительной, самой трагической в прошлом и самой
«философской»), человека и природы, акварельной лиричности воды, земли, неба,
грозной силы камня, бурь, холода снега и воздуха.
Архитектура Севера
О Русском Севере много пишут наши писатели-северяне. Но ведь они северяне, многие из них вышли из деревни («вышли», но в какой-то мере и остались) – им стеснительно писать о своем. Им самим иногда кажется, что, похвали они свое, и это будет воспринято как бахвальство. Но я родился в Петербурге и всю жизнь прожил только в этих трех городах: Петербурге, Петрограде, Ленинграде, может быть, еще и в Питере – это особый, рабочий город, выделившийся из Петербурга. Мне-то писать о моей бесконечной любви к Русскому Северу вовсе не стеснительно...
Но самое главное, чем Север не может не тронуть сердце каждого русского человека, – это тем, что он самый русский. Он не только душевно русский, он русский тем, что сыграл выдающуюся роль в русской культуре. Он не только спасал Россию в самые тяжкие времена русской истории – в эпоху польско-шведской интервенции, в эпоху первой Отечественной войны и Великой, он спас нам от забвения русские былины, русские старинные обычаи, русскую деревянную архитектуру, русскую музыкальную культуру, русскую великую лирическую стихию – песенную, словесную, русские трудовые традиции – крестьянские, ремесленные, мореходные, рыболовецкие. Отсюда вышли замечательные русские землепроходцы и путешественники, полярники и беспримерные по стойкости воины.

Жизнь Севера
Да разве расскажешь обо всем, чем богат и славен наш Север, чем он нам дорог и почему мы его должны хранить как зеницу ока, не допуская ни массовых переселений, ни утрат трудовых традиций, ни опустения деревень. Сюда ездят и будут ездить, чтобы испытать на себе нравственную целительную силу Севера, как в Италию, чтобы испытать целительную силу европейского Юга.
Предисловие к книге К. П. Гемп «Сказ о Беломорье».
Архангельск. 1983.
О НОВГОРОДЕ
Новгород и Киев – два равноправных центра Восточнославянского государства Русь. Вокруг них объединялись все восточнославянские племена, от которых пошли будущие русские, украинцы и белорусы.
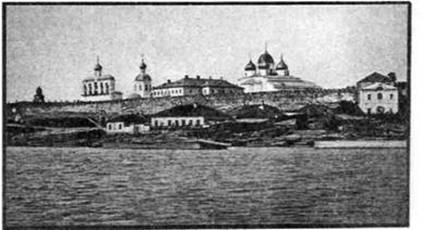
Новгород
Из этих двух святынь Руси лучше всего сохранился Новгород. В Новгороде наибольшее число и наилучшего качества памятники древнерусского искусства и письменности.
Третье в мире по качеству собрание древнерусской живописи (иконы) – в Новгородском музее. Наибольшее количество фресок в Новгороде (церковь Спаса на Ильине с фресками XIV века Феофана Грека, фрески XIV века Федора Стратилата, Ангониева монастыря, Софийского собора XI века и т.д.). Здесь сохранился Кремль, полностью – земляной вал, поразительный Георгиевский собор в Юрьеве монастыре, Собор Антониева монастыря – оба начала XII века. Николодворищенский собор начала XII века со знаменитой фреской Иова на гноище, с величайшим трудом собранные из осколков фрески Спаса на Ковалеве. Можно смело сказать, что ни один город в РСФСР не имеет по числу и по высокой ценности такие сокровища, как Новгород.
Восстановление новгородских памятников в условиях колоссального напряжения началось еще тогда, когда война не закончилась.
Музейные ценности были спасены (эвакуированы) в тяжелейших условиях.
Подвергать все сохранившееся в Новгороде опасности если не уничтожения, то хотя бы порчи – преступление перед теми бойцами Советской Армии, которые умирали под Новгородом, но не стреляли по его памятникам, где были у врагов наблюдательные вышки, множество погибло при штурме Юрьева монастыря, но не разрушили Георгиевского собора, где под крышей засели немецкие корректировщики артиллерийского огня.
Прошлое – будущему. Л. 1985.
ПИСЬМО О ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМАХ
Глубокоуважаемый Дюла Свак!
Мне очень жаль, что наш разговор о Петре Первом в фойе Будапештского форума культуры нам не удалось довести до конца: меня звали звонки на заседание. Вопрос о том, была ли деятельность Петра I прогрессивной или гибельной для русской культуры, чрезвычайно запутан в литературе и общественной мысли XVIII–XX веков, но запутан он вовсе не безнадежно. В коротком ответе на Ваше письмо по этому поводу моим мыслям будет тесно для мотивированного изложения своих взглядов, но подвести все-таки некоторые основания под будущие ответы возможно.
Прежде всего вопрос должен быть поставлен так: совершил ли Петр I некий переворот в общих тенденциях русской культуры или деяния Петра I шли в общем русле ее развития? Я стою на последней точке зрения. Петр продолжил и ускорил то, что было заложено в русской культуре. Европеизация России началась со Смутного времени, и Россия всегда была связана с другими странами: Скандинавией, Византией, западнославянскими странами, южнославянскими странами и пр. Петру не пришлось «прорубать окно» в Европу. Он открыл широкие двери главным образом на северо-запад Европы. Но и здесь он не произвел «открытия». Интерес к Англии начался еще в XVI веке, интерес к Голландии был широк еще при Алексее Михайловиче. Первоначально Петр I вводил в России венгерское платье, но и это не новшество. Интерес к Венгрии существовал на Руси уже в XI–XII веках.
Идея «просвещенной монархии», «царя-труженика» была изложена еще до Петра в стихах Симеона Полоцкого I учителя детей отца Петра Алексея Михайловича.
Петр сменил в России всю знаковую систему (символы, эмблемы, гербы, знамена), познакомил с идеями басен Эзопа, перенес столицу поближе к естественным путям в прибалтийские страны и пр. Но уже в XVII веке эта смена «знаковой системы» была глубоко подготовлена в России.
Второй Ваш вопрос: не слишком ли дорогую цену заплатил народ за все «благодеяния» Петра? Да, слишком дорогую. Не говоря уже о многом другом, Петр устлал трупами болота, на которых строился Петербург. Можно было бы, не так торопясь, прийти к таким же результатам несколько медленнее – растянув реформы на весь XVIII век. Но это мы рассуждаем с современной точки зрения, – мы, умудренные большим историческим опытом. А реально, если бы и не было «торопливого» Петра, то легко возникли бы другие исторические деятели, только менее талантливые и менее способные к государственному творчеству. Дело в том, что деспотизм – одна из отрицательных сторон любой «просвещенной монархии». «Просвещенная монархия» не просто стремилась осуществить счастье народа, она навязывала это счастье часто насильственными способами. «Король-Солнце» Людовик XIV тоже не был ягненком. Да это было бы и невозможно в системе «идеологического государства», какой представлялась Франция при Людовике XIV. Можно было бы привести и другие примеры.
Петру удалось провести сближение России с северозападной Европой, сближение, которое было неизбежным и зародилось ранее. На Западе в эпоху Петра существовало два стиля – классицизм и барокко. В России со второй половины XVII века господствовало только барокко, которое приобрело формы, позволившие барокко стать заменителем Ренессанса. Барокко было типичным не только для искусств, но для характера науки, мышления, поведения человека и т. д. Петр был типичным его представителем. Петр – «человек барокко» со всеми его противоречиями, контрастами, темпераментом, загадочностью и т.д.
Обвинять в чем-либо Петра нельзя. Его следует понимать, как следует понимать его эпоху и нужды, перед которыми очутилась Россия на грани столетий.
Можно ли считать Петра типичным для русской истории? Только в той мере, что в огромной России все реформы, все исторические перемены требовали больших усилий и совершались с большим трудом и большими жертвами.
С уважением
Ваш Д. Лихачев
* * *
Кто были деятели Петровской эпохи? Да все люди, родившиеся в Московской Руси. Разве этого недостаточно, чтобы понять органичность у нас явления Петра?
Кто были нашими учителями? Одни голландцы? Нет, Петр учился во многих странах и у многих учителей. Из них первым был швейцарец. Разве этого недостаточно, чтобы понять самостоятельность Петра?
Наш алфавит называют «кириллицей». Да, письменность наша восходит к делу Кирилла и Мефодия. Но алфавит, который в ходу у нас и у болгар, по составу букв и по их начертаниям создан и указан к употреблению Петром. И мы должны были бы его называть петровским. Но о Петре в этой связи никто и никогда не вспоминает.
Рассматривая мнения нашего общества о Петровских реформах, В. О. Ключевский писал: «Любуясь, как реформа преображала русскую старину, недоглядели, как русская старина преображала реформу». Ключевский назвал последнее явление «встречной работой прошлого».
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
О ТЕМПАХ ИСТОРИИ
Очень верная мысль высказана С.М.Соловьевым в его «Публичных чтениях о Петре Великом» по поводу пресловутой популярной в обывательских представлениях мысли об «отсталости» России: движение народов по историческому пути нельзя сравнивать... с беганьем детей взапуски или конскими бегами, к которым прилагается слово «отстать». Внутренние силы могут быть больше у того, кто движется медленнее. Я добавлю к мысли Соловьева и следующее: дело может быть и в возрасте – тот, кто моложе, тот может быть и менее образован того, кто старше, может отстать от старшего по возрасту и на служебной лестнице. А потом обогнать...
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
О НАЦИОНАЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ РУССКИХ1
На нашей планете издавна существовало несколько типов культур: китайская, японская, буддийская, исламская, европейско-христианская. Я не буду их все перечислять и не собираюсь оценивать. Каждая национальная культура и каждый тип культуры бесценны. В мире существует множество бесконечностей, и каждая бесконечность находится в несоизмеримости с другой...
Но можно сказать другое (хотя повторяю я не собираюсь и не могу оценивать), что европейский тип культуры наиболее универсален, наиболее восприимчив к другим культурам и обладает наибольшей способностью воздействовать на другие культуры. Европейская культура, как определенный тип культуры, открыта для других культур, и именно это обстоятельство делает ее культурой будущего, а в какой-то мере и культурой нашей современности.
В самом деле, в пределах европейской культуры сохраняются многие национальные культуры Европы. Европа внимательнейшим образом изучает все культуры (я бы сказал – всего земного шара); все культуры использует, обогащается сама и обогащает другие народы.
Теперь обратимся к России. Бессмысленно спорить о том, принадлежит ли Россия Европе или Азии. К сожалению, такой вопрос изредка поднимался в Германии, Польше и некоторых других ближайших к нам странах, в которых наблюдалась определенная склонность изобразить себя пограничными стражами Европы. Русская культура распространяется на огромную территорию, в нее включаются и Ленинград-Петербург, и Владивосток. Это культура единая. Семья, переезжающая из Ленинграда в Хабаровск или Иркутск, не попадает в иную культурную среду. Среда остается того же типа. Поэтому нет смысла искать географические границы Европы в Уральском хребте, Кавказских горах или где-нибудь еще. И Армения, и Грузия принадлежа! европейскому типу культуры. Спрашивается: почему? Ответ в том, что я сказал вначале: они принадлежат к единому типу культуры. И это в силу своего христианства. Для христианина в принципе «несть эллина и иудея». Свобода личности, веротерпимость, пройдя через все испытания средневековья, стали основными особенностями европеизма в культуре.
Русская культура уже по одному тому, что она включает в свой состав культуры десятка других народов и издавна была связана с соседними культурами Скандинавии, Византии, южных и западных славян, Германии, Италии, народов Востока и Кавказа, – культура универсальная и терпимая к культурам других народов. Эту последнюю черту четко охарактеризовал Достоевский в своей знаменитой речи на Пушкинских торжествах. Но русская культура еще и потому европейская, что она всегда в своей глубочайшей основе была предана идее свободы личности.
Я понимаю, что эта моя последняя мысль может показаться в высшей степени странной тем, кто привык подменять знание истории исторической мифологией. Большинство людей и на Западе до сих пор убеждены, что русским свойственна не только терпимость, но и терпение, а вместе с тем – покорность, безличность, низкий уровень духовных запросов.
Нет, нет и нет! Вспомните, в союз многих племен – восточнославянских, угро-финских, тюркских – были по летописной легенде призваны князья-варяги. Сейчас ясно, что князья выполняли в X–XI веках роль военных специалистов. А кроме того, если легенда верна, то для такого общего призвания нужен был союз, какая-то организация. Но мало этого – кем бы ни управляло вече в русских городах, оно было большой школой общественного мнения. С мнением киевлян и новгородцев постоянно должны были считаться князья. Новгородских князей даже не пускали жить в пределах города, чтобы избежать диктатуры. Люди свободно переходили из княжества в княжество, как и сами князья. А когда установились границы государства, началось бегство в казачество. Народ с трудом терпел произвол государства. Вече сменили собой земские соборы. Существовало законодательство, «Русская Правда», «Судебники», «Уложение», защищавшие права и достоинство личности. Разве этого мало? Разве мало нам народного движения на Восток в поисках свободы от государства и счастливого Беловодского царства? Ведь и Север, и Сибирь с Аляской были присоединены и освоены не столько государством, сколько народом, крестьянскими семьями, везшими с собой на возах не только хозяйственный скарб, но и ценнейшие рукописные книги. Разве не свидетельствуют о неискоренимом стремлении к свободе личности постоянные бунты и такие вожди этих бунтов, как Разин, Булавин, Пугачев и многие другие? А северные гари, в которых во имя верности своим убеждениям сами себя сжигали сотни и тысячи людей! Какое еще восстание мы можем противопоставить декабристскому, в котором вожди восстания действовали против своих имущественных, сословных и классовых интересов, но зато во имя социальной и политической справедливости? А деревенские сходы, с которыми постоянно вынуждены были считаться власти! А вся русская литература, тысячу лет стремившаяся к социальной справедливости! Сотни произведений, удивительных по своей общественной совестливости: целые семьсот лет, о которых мы знаем лишь понаслышке, а прочли лишь одно – «Слово о полку Игореве», да и то в переводе... И это «рабская покорность народа государству»? И это «отсутствие опыта общественной жизни»? Да хоть бы немного воспользоваться нам опытом нашего земства!
Часто повторяется мысль, что на характере русского народа отрицательно сказалось крепостное право, отмененное сравнительно с другими странами Европы довольно поздно – только в 1861 году. Однако крепостным правом не был затронут русский Север. По сравнению с некоторыми иными европейскими государствами крепостное право в России не носило характера рабства: рабство же в США было отменено позднее, чем крепостное право в России. К тому, же русский национальный характер оформился до закрепощения крестьян. Писатели же в XIX веке всегда отмечали чувство собственного достоинства у русских крестьян (Пушкин, Тургенев, Толстой и др.).
Я стремлюсь развеять миф, но я не хочу сказать, что все было прекрасно в характере русской культуры. Следует искать лишь реальные недостатки, а не вымышленные. Не у маркиза де Кюстина, пребывавшего в России чуть больше двух месяцев, учиться нам воспринимать Россию! Будем свободны в наших представлениях о России.
Одна черта, замеченная давно, действительно составляет несчастье русских: это во всем доходить до крайностей, до пределов возможного.
У замечательнейшего представителя европейского Возрождения – Максима Грека, переехавшего в Россию на рубеже XVI века, здесь сильнейшим образом пострадавшего и тем не менее полюбившего Россию из окон своих тюремных келий, где он несмотря ни на что писал свои замечательные работы, а затем в чрезвычайно быстрый срок после своей кончины признанного святым (какова длительность нашей традиции!), есть поразительный по верности образ России. Он пишет о России как о женщине, сидящей при пути в задумчивой позе, в черном платье. Она чувствует себя при конце времен, она думает о своем будущем. Она плачет. Берег реки или моря, край света, пути и дороги были всегда местами, к которым стремился народ. Даже первые столицы Руси основывались на Великом пути «из варяг в греки». На пути был основан Владимир и Смоленск. Ярославль получает свое значение как первый путь за «Камень» – в Сибирь. Иван Грозный мечтает о переносе своей столицы в Вологду на путях в Англию, и только случай (вернее «дурная» примета) заставляет его отказаться от своей затеи. Но Петр Великий переносит все же столицу своей империи на самый опасный рубеж – к морю. Столица на самой границе своей огромной страны! – думаю, это единственный в своем роде случай в мировой истории. Но в России он еще связан с идеологическим моментом – решительным преобразованием всей страны.
А что говорить о многочисленных монастырях, которые все время двигались дальше и дальше в леса и на острова к Студеному морю?
Эту же черту доведения всего до границ возможного и при этом в кратчайшие сроки можно заметить в России во всем. Не только в пресловутых русских внезапных отказах от всех земных благ, но и в русской философии и искусстве.
Хорошо это или плохо? Не берусь судить; но что Россия благодаря этой своей черте всегда находилась на грани чрезвычайной опасности – это вне всякого сомнения, как и то, что в России не было счастливого настоящего, а только заменяющая его мечта о счастливом будущем.
Я кратчайшим образом остановился только на двух чертах русского народа, но и эти две черты смог скорее назвать, чем определить. Самое главное: выйти из тумана мифов о русском народе и русской истории – выйти при свете досконального знания фактов, фактической истории, не затемненной туманом ложных обобщений.
Черт русского национального характера очень много. Существование их непросто доказать. Особенно если каждой черте противостоят как некие противовесы и другие черты: щедрости – скупость (чаще всего неоправданная), доброте – злость (опять-таки неоправданная), любви к свободе – стремление к деспотизму и т. д. Но, к счастью, реальной национальной черте противостоит по большей части призрачная, которая особенно заметна на фоне первой – настоящей и определяющей историческое бытие.
Что же нам делать в будущем, особенно с теми двумя чертами русского характера, о которых я говорил раньше?
Я думаю, что в будущем их надо во что бы то ни стало развивать в правильном направлении. Стремление русских к воле надо направлять по пути всяческого развития духовной множественности, духовной свободы, предоставления юношеству разнообразных творческих возможностей. Мы слишком стиснуты сейчас в рамках немногих профессий, которые не дают развиваться тем многочисленным потенциалам, к которым склонен народ, юношество нации.
Стремление русских во всем достигать последнего предела надо также развивать по преимуществу в духовной области. Пусть будут у нас герои духа, подвижники, отдающие себя на служение больным, детям, бедным, другим народам, святые, наконец. Пусть снова страна наша будет родиной востоковедения, страной «малых народов», сохранения их в «красной книге человечества». Пусть безотчетное стремление отдавать всего себя какому-либо святому делу, что так отличало русских во все времена, снова займет свое достойное место и отвлечет русского человека от коверкающих его схем единомыслия, единодействия и единоподчинения. Все эти «едино» не свойственны нам и ведут в сторону, к взрывам и выстрелам, к развитию преступности, которая есть не что иное, как теневой противовес стремлению русских во всем ударяться в крайности, стоять на краю опасности.
Надо понять черты русского характера (хотя бы те две, на которые я указал). Правильно направленные эти черты – бесценное свойство русского человека. Не направленные никак или направленные по неправильному пути, они дают в первый момент большой эффект, а потом становятся взрывоопасными.
Эффект «теневого противовеса» русских национальных черт характера опасен, и он должен быть предотвращен.
Я мыслю себе XXI век как век развития гуманитарной культуры, культуры доброй и воспитывающей, закладывающей свободу выбора профессии и применения творческих сил. Образование, подчиненное задачам воспитания, разнообразие средних и высших школ, возрождение чувства собственного достоинства, не позволяющего талантам уходить в преступность, возрождение репутации человека как чего-то высшего, которой должно дорожить каждому, возрождение совестливости и понятия чести – вот в общих чертах то, что нам нужно в XXI веке. Не только русским, конечно, но особенно русским, потому что именно это мы в значительной мере потеряли в нашем злополучном XX веке.
Вопросы философии. 1990. №4.
О «ТРОИЦЕ» РУБЛЕВА
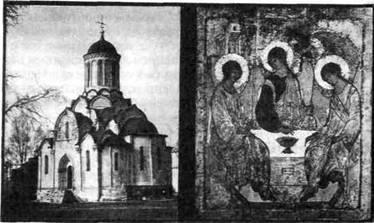
Москва. Спасо-Андроников монастырь
„Троица” Андрея Рублева
Самопогружение личности в индивидуальные переживания не было в конце XIV – начале XV века уходом от сопереживаний с другими людьми: от чувства сострадания, от чувства материнства, отцовства, чувства ответственности за грехи других людей. Символ этой «соборной индивидуализации» – икона «Троица». Все три ангела погружены в свои собственные мысли, но находятся между собой в гармоническом согласии. И мы верим, что их «безмолвная беседа», согласие между собой знаменуют истинное единение. Они думают одну думу. Поэтому индивидуализация в высшем своем проявлении не есть отход от человеческой культуры, а есть высшая форма проявления культуры человечества.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
ДАВИД ИЛЬИЧ АРСЕНИШВИЛИ
Грузия – это прежде всего грузины. И хотя природа Грузии и счастливая, и грозная, и радостная, и трагическая, то есть такая, что может заставить забыть все на свете, – людей в Грузии она не заслоняет. Грузины в Грузии всегда на переднем плане: горы их сопровождают.
С самым грузинским из грузин я познакомился в Москве, и это было лет тридцать назад. Это был Давид Ильич Арсенишвили – организатор и основатель теперь всемирно известного Музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева. На всю жизнь запечатлелся в памяти его облик. Человек уже к тому времени не молодой, к тому же не искусствовед, но обладавший «чутьем к искусству», он увлекался древнерусским искусством в ту самую пору, когда оно меньше всего ценилось в нашей стране – в конце 40-х – начале 50-х годов.

Москва. Спасо-Андроников монастырь
Он жил в Москве совершенным бедняком – без квартиры, без денег, гордым и независимым. Он спал где-то в служебном помещении на раскладушке, имел только один, но всегда аккуратно выглаженный костюм, а разговаривал он с самым высоким начальством как равный. Он всегда требовал, а не просил. Он ощущал себя власть имеющим. Это ощущение давалось ему его рыцарственным служением древнерусскому искусству. Он был слугой древнерусского искусства, а потому господином в отношениях с теми, кто не понимал этого русского искусства, а вместе с тем застенчивым и скромным, когда он общался с теми, кто знал больше его. Он учился и слушал своих подчиненных, в ком ощущал свое собственное «горение идеей», но нисколько не смущался тех из «начальников» и «председателей», в ком не признавал этого права вершить судьбами русского искусства.

И.А. Иванова, Н.А. Дёмина, Д.С. Лихачев, Д.И. Арсенишвили 14 июня 1952 года перед музеем Андрея Рублева
Он жил одной идеей – основать в Москве на остатках Андроникова монастыря, где работал и умер Рублев, музей древнерусского искусства. Насколько труднее организовывать что-то новое, чем принимать «бразды правления» уже существующим! Он был именно организатором, бойцом, совершенно преданным своей благородной деятельности. Благородство, рыцарственность, самопожертвование, сознание собственного достоинства, сознание своего служения высшей идее – вот что в моих глазах стало главным в представлениях о грузинах.
Вечным и лучшим памятником грузинского характера навсегда останется основанный грузином в Москве Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева. Низкий поклон Давиду Ильичу Арсенишвили. Разумеется, он не единственный грузин, кого я люблю всем сердцем.
Прошлое – будущему. Л. 1985.
ПУШКИН – ЭТО НАШЕ ВСЕ
Почему именно Пушкин стал знаменем русской культуры, как Шевченко – украинской, Гёте – немецкой, Шекспир – английской, Данте – итальянской, Сервантес – испанской. И если бы пришлось определять день Праздника русской культуры, то лучшего дня, чем день рождения Пушкина, и искать бы не пришлось!
В истории русской культуры можно было бы назвать десятки имен не менее гениальных, но среди них нет имени более значительного для нашей культуры, чем имя Пушкина. Хотя понять русский характер нельзя без Пушкина, но этот характер нельзя понять и без Л. Толстого, без Достоевского, без Тургенева, а в конце концов и без Лескова, без Есенина, без Горького.
Так почему же все-таки первым из первых возвышается в нашей культуре Пушкин?
Пушкин – это гений, сумевший создать идеал нации. Не просто «отобразить», не просто «изобразить» национальные особенности русского характера, а создать идеал русской национальности, идеал культуры.
Пушкин – это гений возвышения, гений, который во всем искал и создавал в своей поэзии наивысшие проявления: в любви, в дружбе, в печали и в радости, в военной доблести. Во всем он создал то творческое напряжение, на которое только способна жизнь. Он высоко поднял идеал чести и независимости поэзии и поэта.
Пушкин – величайший преобразователь лучших человеческих чувств. В дружбе он создал идеал возвышенной лицейской дружбы, в любви – возвышенный идеал отношения к женщине-музе («Я помню чудное мгновенье...»). Он создал возвышенный идеал самой печали. Три слова «печаль моя светла» способны были утешить тысячи и тысячи людей. Он создал поэтически мудрое отношение к смерти («Брожу ли я вдоль улиц шумных...»). Он открыл возвышающее значение памяти и воспоминаний. Поэзия его полна высоких воспоминаний молодости. Воспоминания молодости сливаются с памятью истории. Никто из поэтов не уделял русскому прошлому столько произведений – и эпических, и драматических, и лирических в стихах, и. лирических в прозе. Именно в воспоминаниях родится у Пушкина притягательный, горький образ прошлого и мудрые объяснения настоящего. Он создал основные живые человеческие образы русской истории, в представлениях о которых мы сохраняем некоторую традиционность, идущую от него. Это образы Бориса Годунова, Петра, Пугачева... Он создал их, как бы угадав в них основную коллизию русского исторического прошлого: народ и царь-деспот.

Михайловское
А.С. Пушкин. Скульптор Н.Балашова
Он дал основное направление русскому роману XIX века – «усадебному роману», как бы распределив в нем и основные роли: Онегин и Татьяна – это своего рода конфликтные центры, которые мы найдем у Гончарова, Тургенева.
Пушкин в кратчайшей форме выразил основные достижения мировой поэзии, дал как бы символы наивысших достижений мировой литературы: «К Овидию», «Из Катулла», «Подражание Корану», «Суровый Дант не презирал сонета...», «Из Гафиза», «К переводу Илиады», «Из Анакреона», «Подражание арабскому», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Песни западных славян» и гениальные по проникновению в самую суть художественных произведений «Сцена из Фауста», «Каменный гость» и многое другое. Не случайно он считал Россию «судилищем» европейской культуры – ее истолкователем и ценителем.
Возвышение духа – вот что характеризует больше всего поэзию Пушкина.
Могут спросить, как это согласуется с тем, что порой сам он мог быть «ничтожен» среди ничтожных? Всегда ли сам он в собственной жизни был так возвышен? Не нужно спрашивать. Это не должно нас интересовать. Цветы растут, и они прекрасны. Разве должны мы пачкать их огородной землей? Он сам творил свой человеческий образ, заботился о его простоте и обыденности. Это не следует забывать. Он хотел быть, «как все».
И даже если бы Пушкин оказался застегнут в редингот проповедника на все пуговицы и крючки, – уверен, его поэзия лишилась бы известной доли своей притягательности. Поэт в какой-то мере должен быть «ничтожен» в жизни, чтобы поэзия его приобрела подлинное обаяние возвышенности. Как человек он не мог ходить на котурнах, ибо это создало бы непреодолимую дистанцию между ним и нами. Он играл в наши игры, чтобы суметь овладеть нами в чем-то самом значительном. Поэт непременно должен быть обыкновенен в жизни, чтобы его поэзия приобрела подлинное обаяние возвышенности. Творчество всегда преображение, всегда рождение из сора. На чистом мраморе не растут цветы. И «обыкновенность» Пушкина-человека среди обыденности других людей – другое, таинственное, носящее печать вневременности.
Нам необходимо пройти хоть немного вместе с Пушкиным по путям, оставленным им для нас в своей поэзии. Он служит нам и в любви, и в горести, и в дружбе, и в думах о смерти, и в воспоминаниях. Это первый поэт, который открывается нам в детстве и остается с нами до смерти.
«Пушкин – это наше все», – сказал о нем Аполлон Григорьев. И он был прав, потому что преобразующая и возвышающая сила поэзии Пушкина находит нас во все ответственные мгновения нашей жизни.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
МИЛОСТЬ К ПАВШИМ
Мне уже приходилось говорить и писать об умении русских сочувствовать врагам в их несчастьях и об отсутствии у русских чувства национального превосходства. Это видно по всем литературным произведениям вплоть до XVII века. Самое удивительное в этом отношении произведение – обширная «Казанская история». Поразительно прежде всего то, что присоединяется к Русскому государству не просто земля и население, присоединяется царство с его историей. Завоевание Казани ознаменовано составлением на русском языке для русских читателей истории Казани. И эта история Казанского царства, «разбойничьего гнезда», по выражению современных историков, составлена внимательно и с полным уважением к самим казанцам. В описании сражений и штурмов Казани воздается похвала храбрости казанцев – и это не один раз. «Един бо казанец бияшеся со сто русинов, и два же со двема сты». Гибель воинов оплакивается автором без разбора их национальной принадлежности. «И мнози ото обою страну падоша, аки цветы прекрасныя». Это о врагах-то – «цветы прекрасныя». Это удивительно. Как бы прося извинения у читателей за восхваление врагов, автор пишет: «Да нихто же мя осудит от вас о сем, яко единоверных своих похуляющи и поганых же варвар похваляющи: тако бо есть, яко и вси знают и дивятся мужеству его < казанского царя Шигалея >, и похваляют».
Вся «Казанская история» наполнена восторженным описанием красоты Казани и крепости ее стен. Но самое удивительное – это лирические плачи царицы Сююмбеки, уводимой из Казани в Москву. Три плача могут сравниться с ними в русской литературе: плач Ярославны, плач Евдокии по Дмитрии Донском и плач Евпраксии по погибшим от Батыя.
Удивительно сопереживание автора с нею: Сююмбека называет русских людей «незнаемыми», Иван Грозный для нее «некий царь». И все-таки все плачи Сююмбеки целиком сочинены автором «Казанской истории» в духе русских народных песен. Но их нужно прочесть – они большие.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
О ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМА, О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И ОСВОЕНИИ КУЛЬТУРЫ
Я люблю Древнюю Русь. В чем отличие моей любви от некоторых славянофильских идеализации Древней Руси? Славянофилы не замечают никаких недостатков. Они восхищены красотой древнерусской жизни, которая действительно в каких-то отношениях была красива, хотя в других – и очень некрасива.
В Древней Руси было очень много таких сторон, которыми отнюдь не следовало бы восхищаться. Но тем не менее я эту эпоху очень люблю, потому что вижу в ней борьбу, страдания народные, попытку чрезвычайно интенсивную в разных группах общества исправить недостатки: и среди военных, и среди крестьянства, и среди писателей. Недаром в Древней Руси так была развита публицистика – публицистика, иногда сопряженная с очень реальными опасностями для ее авторов. Вот эта сторона древнерусской жизни – борьба за лучшую жизнь, борьба за исправление, борьба даже просто за военную организацию, более совершенную и лучшую, которая могла бы оборонять народ от постоянных вторжений, – она меня и притягивает. Я очень люблю старообрядчество не за самые идеи старообрядчества, а за ту тяжелую, убежденную борьбу, которую старообрядцы вели, особенно на первых этапах, когда старообрядчество было крестьянским движением, когда оно смыкалось с движением Степана Разина. Соловецкое восстание ведь было поднято после разгрома разинского движения белыми разницами, рядовыми монахами, у которых были на Севере очень сильные крестьянские корни. Это была борьба не только религиозная, но и социальная.
Патриотизм – начало творческое, начало, которое может вдохновить всю жизнь человека: избрание им своей профессии, круг интересов – все определять в человеке и все освещать.
Патриотизм – это тема, если так можно сказать, жизни человека, его творчества.
Патриотизм против национализма
Существуют совершенно неправильные представления о том, что, подчеркивая национальные особенности, пытаясь определить национальный характер, мы способствуем разъединению народов, потакаем шовинистическим инстинктам.
Великий русский историк С. М. Соловьев в начале седьмой книги своей «История России с древнейших времен» писал: «Неприятное восхваление своей национальности... не может увлечь русских...» Это совершенно верно. Восхвалением самих себя по-настоящему русские никогда не «хворали». Напротив, русские очень часто, а особенно в XIX и в начале XX века, были склонны к самоуничижению – преувеличивали отсталость своей культуры.
Русские хоть и не всегда, но по большей части жили в мире с соседними народами. Мы можем отметить это уже для древнейших веков существования Руси. Мирное соседство русских и карельских деревень на севере в течение тысячелетия – факт очень показательный. Соседство с русскими мери, веси, ижоры и т.д. не было окрашено кровопролитиями. В Киеве был Чудин двор – какого-то знатного представителя чуди (будущих эстонцев). В Новгороде была Чудинцева улица. Там же в недавние годы найден древнейший памятник финского языка – финская берестяная грамота, лежавшая рядом с написанными по-русски. Несмотря на все войны со степью, иные из которых носили отнюдь не национальный, а сугубо феодальный характер, русские князья женились на знатных половчанках. Не было, значит, расовой отчужденности. Да и вся история русской культуры показывает ее преимущественно открытый характер, восприимчивость и в массе своей отсутствие национальной спеси. О том же писал и Достоевский в статье «Два лагеря теоретиков»: «Но узкая национальность не в духе русском. Народ наш с беспощадной силой выставляет на вид свои недостатки и пред целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать самого себя; иногда даже он несправедлив к самому себе – во имя негодующей любви к правде, истине...» С какой, например, силой эта способность осуждения, самобичевания проявилась в Гоголе, Щедрине и всей этой отрицательной литературе, которая гораздо живучее, жизненней, чем положительная литература времен «Очаковских и покоренья» Крыма.
И неужели это сознание человеком болезни не есть уже результат его выздоровления, его способности оправиться от болезни... Сила самоосуждения прежде всего – сила: она указывает на то, что в обществе есть еще силы. В осуждении зла непременно кроется любовь к добру: негодование на общественные язвы, болезни предполагает страстную тоску о здоровье.
Национальные особенности – достоверный факт. Не существует только каких-то единственных в своем роде особенностей, свойственных только данному народу, только данной нации, только данной стране. Все дело в некоторой совокупности и в кристаллически неповторимом строении этих национальных и общенациональных черт. Отрицать наличие национального характера, национальной индивидуальности – значит делать мир народов очень скучным и серым...
Именно индивидуальные особенности народов связывают их друг с другом, заставляют нас любить народ, к которому мы даже не принадлежим, но с которым столкнула нас судьба. Следовательно, выявление национальных особенностей характера, знание их, размышления над историческими обстоятельствами, способствовавшими их созданию, помогают нам понять другие народы. Размышление над этими национальными особенностями имеет общественное значение. Оно очень важно.
Осознанная любовь к своему народу несоединима с ненавистью к другим. Любя свой народ, свою семью, скорее будешь любить другие народы и другие семьи и людей. В каждом человеке существует общая настроенность на ненависть или на любовь, на отъединение себя от других или на признание чужого – не всякого чужого, конечно, а лучшего в чужом, – неотделимая от умения заметить это лучшее. Поэтому ненависть к другим народам (шовинизм) рано или поздно переходит и на часть своего народа – хотя бы на тех, кто не признает национализма. Если доминирует в человеке общая настроенность к восприятию чужих культур, то она неизбежно приводит его к ясному осознанию ценности своей собственной. Поэтому в высших, осознанных своих проявлениях национальность всегда миролюбива, активно миролюбива, а не просто безразлична к другим национальностям.
Национализм – это проявление слабости нации, а не ее силы. Заражаются национализмом по большей части слабые народы, пытающиеся сохранить себя с помощью националистических чувств и идеологии. Но великий народ, народ со своей большой культурой, со своими национальными традициями обязан быть добрым, особенно если с ним соединена судьба малого народа. Великий народ должен помогать малому сохранить себя, свой язык, свою культуру.
Необязательно сильный народ многочислен, а слабый малочислен. Дело не в числе людей, принадлежащих к данному народу, а в уверенности и в стойкости его национальных традиций.
Истинный патриотизм в том, чтобы обогащать других, обогащаясь духовно. Национализм же, отгораживаясь стеной от других культур, губит свою собственную культуру, иссушает ее.
Культура должна быть открытой.
Несмотря на все уроки XX века, мы не научились по-настоящему различать патриотизм и национализм. Зло маскируется под добро.
Патриотизм – это благороднейшее из чувств. Это даже не чувство – это важнейшая сторона и личной, и общественной культуры духа, когда человек и весь народ как бы поднимаются над самим собой, ставят себе сверхличные цели.
Национализм же – это самое тяжелое из несчастий человеческого рода. Как и всякое зло, оно скрывается, живет во тьме и только делает вид, что порождено любовью к своей стране. А порождено оно на самом деле злобой, ненавистью к другим народам и к той части своего собственного народа, которая не разделяет националистических взглядов.
Национализм порождает неуверенность в самом себе, слабость и сам, в свою очередь, порожден этим же.
Русская история в прошлом – это история бесконечных испытаний, несмотря на которые народ сохранял и достоинство, и доброту.
Будем любить свой народ, свой город, свою природу, свое село, свою семью.
Если в семье все благополучно, то в быту к такой семье тянутся и другие семьи – навещают, участвуют в семейных праздниках. Благополучные семьи живут социально, гостеприимно, радушно, живут вместе. Это сильные семьи, крепкие семьи.
Так и в жизни народов. Народы, в которых патриотизм не подменяется национальным «приобретательством», жадностью и человеконенавистничеством национализма, живут в дружбе и мире со всеми народами.
Русская природа и русский характер
Начиная с XVIII и ранее, с XVII века, утвердилось противопоставление человеческой культуры природе. Века эти создали миф о «естественном человеке», близком природе и потому не только не испорченном, но и необразованном. Открыто или скрыто естественным состоянием человека считалось невежество. И это не только глубоко ошибочно, это убеждение повлекло за собой представление о том, что всякое проявление культуры и цивилизации неорганично, способно испортить человека, а потому надо возвращаться к природе и стыдиться своей цивилизованности.
Это противопоставление человеческой культуры как якобы «противоестественного» явления «естественной» природе особенно утвердилось после Ж.-Ж. Руссо и сказалось в России в особых формах развившегося здесь в XIX веке своеобразного руссоизма: в народничестве, толстовских взглядах на «естественного человека» – крестьянина, противопоставляемого «образованному сословию», просто интеллигенции.
Хождение в народ в буквальном и переносном смысле привело в некоторой части нашего общества в XIX и XX веках ко многим заблуждениям в отношении интеллигенции. Появилось и выражение «гнилая интеллигенция», презрение к интеллигенции, якобы слабой и нерешительной. Создалось и неправильное представление об «интеллигенте» Гамлете как о человеке, постоянно колеблющемся и нерешительном. А Гамлет вовсе не слаб: он преисполнен чувства ответственности, он колеблется не по слабости, а потому что мыслит, потому что нравственно отвечает за свои поступки.
Врут про Гамлета, что он нерешителен.
Он решителен, груб и умен,
Но когда клинок занесен,
Гамлет медлит быть разрушителем
И глядит в перископ времен.
Не помедлив, стреляют злодеи
В сердце Лермонтова или Пушкина...
(Из стихотворения Д. Самойлова «Оправдание Гамлета»)
Образованность и интеллектуальное развитие – это естественное состояние человека, а невежество, неинтеллигентность – состояния ненормальные для человека. Невежество или полузнайство – это почти болезнь. И доказать это легко могут физиологи.
Национальный идеал и национальная действительность
А как же с концепцией русского человека у Достоевского, с его, русского человека, безудержностью, метаниями из одной крайности в другую, с его «интеллектуальной истерикой», бескомпромиссностью, нелегкой для себя и других, и т.д. и т.п.?
Но тут я отвечу вопросом на вопрос: а откуда вообще взято мнение, что такова концепция русского человека у Достоевского? Как судят о русском человеке отдельные действующие лица его произведений? Но разве можно судить по действующим лицам, по их высказываниям о взглядах автора? Мы бы повторили ошибку многих философов, писавших о мировоззрении Достоевского и отождествлявших высказывания его героев с его собственными взглядами.
Русские люди вроде Мити Карамазова, конечно, были в русской действительности, но идеалом русского человека для Достоевского был Пушкин. Об этом он твердо и ясно заявил в своей знаменитой речи о Пушкине. Для Достоевского русский человек прежде всего – человек, для которого родна и близка вся европейская культура. Следовательно, русский для Достоевского – человек высокого интеллекта, высоких духовных запросов, приемлющий все европейские культуры, всю историю Европы и вовсе внутренне не противоречивый и не такой уж загадочный.
Если для Достоевского идеалом русского был гений, и при этом такой гений, как Пушкин, так ведь это и понятно: самое ценное в народе – в его вершинах.
Сказать можно еще многое, многое еще надо обдумать, раскрыть. Идеал ведь вряд ли был один, одинаковый у всех. Для одних, кто меньше задумывался над судьбами и особенностями великого народа, типичный образец всего русского – это ухарь-купец Никитина, для других – Стенька Разин (не реальный Степан Разин, а Стенька Разин из известной песни Д. Н. Садовникова «Из-за острова на стрежень»), для третьих – это радищевский молодец из главы «София» его «Путешествия из Петербурга в Москву» и т. д. А я говорю – не надо забывать о русской природе: это крестьяне Венецианова, русские пейзажи Мартынова и Васильева, и Левитана, и Нестерова, бабушка из «Обрыва», гневный и все ж гаки добрый Аввакум, милый, умный и удачливый Иванушка-дурачок, а где-то на втором плане картин Нестерова его мерцающие вдали тонкие белые стволы берез. Все вместе, все вместе: природа и народ.
Мне кажется, следует различать национальный идеал и национальный характер. Идеал не всегда совпадает с действительностью, даже всегда не совпадает с действительностью. Но национальный идеал тем не менее очень важен. Народ, создающий высокий национальный идеал, создает и гениев, приближающихся к этому идеалу. А мерить культуру, ее высоту мы должны по ее высочайшим достижениям, ибо только вершины гор возвышаются над веками, создают горный хребет культуры.
А как все-таки быть с братьями Карамазовыми? Пушкин один, а их все же трое, и стоят они перед нами сплоченным рядом. Идеал должен быть один, а Карамазовы – характеры. Типичные для русских людей? Да, типичные. Это «законные» братья, но есть у них еще и четвертый братец, «незаконный»: Смердяков.
В «законных» Карамазовых смешаны разные черты: и хорошие, и плохие. А вот в Смердякове нет хороших черт. Есть только одна черта – черта чёрта. Он сливается с чертом. Они друг друга подменяют в кошмарах Ивана. А черт у каждого народа не то, что для народа характерно или типично, а как раз то, от чего народ отталкивается, открещивается, не признает. Смердяков не тип, а антипод русского.
Карамазовых в русской жизни много, но все-таки не они направляют курс корабля. Матросы важны, но еще важнее для капитана парусника румпель и звезда, на которую ориентируется идеал.
Было у русского народа не только хорошее, но и много дурного, и это дурное было большим, ибо и народ велик, но виноват в этом дурном был не всегда сам народ, а смердяковы, принимавшие обличье государственных деятелей: то Аракчеева, то Победоносцева, то других... Не случайно так много русских людей уходили на север – в леса, на юг – в казаки, на восток – в далекую Сибирь. Искали счастливое Беловодское царство, искали страну без урядников и квартальных надзирателей, без генералов, посылавших их отнимать чужие земли у таких же крестьян, как и они сами. Но оставались все же в армии Тушины, Коновницыны и Платоны Каратаевы: это когда войны были оборонительные или освобождать приходилось «братушек» – болгар и сербов.
«Братушки» – это слово придумал народ, и придумал хорошо.
Следовательно, меньше было в русском народе национального эгоизма, чем национальной широты и открытости.
Что делать – каждый предмет отбрасывает в солнечный день тень, и каждой доброй черте народа противостоит своя недобрая. Публикуется впервые.
«БЕДЕН НЕ ТОТ, У КОГО МАЛО, А ТОТ, КОМУ МАЛО»
— Когда впервые вы почувствовали себя русским? Как ощутили свою принадлежность русской культуре?
— На этот вопрос трудно ответить. У отца были друзья из русских' немцев, живших на Васильевском острове, были немцы-сослуживцы. В дачной местности, где мы обычно жили, в Куоккале, мы снимали дом у финских крестьян, и я играл с финским мальчиком Айно. Там жили и шведы, немцы, полуитальянская семья Пуни, с которыми мы дружили. У меня была бонна – фрейлейн Пуппель. Разноязычная и разнонациональная обстановка казалась вполне обычной. Мое национальное чувство впервые было задето поражениями русской армии в 1915 году, слухами о возмутительном поведении Г. Распутина. Я мало что понимал, но мне было больно за Россию и русских, особенно за поражения на фронте.
— Наблюдали ли вы в годы учения в школе проявления национализма? Поощрялись ли они?
— Ни в школе Карла Мая, ни в школе имени Лентовской национализма вообще не было, и потому он не мог ни поощряться, ни осуждаться. Я дружил со сверстниками, не интересуясь их национальностью. Моими друзьями были Миша Шапиро, Володя Раков и мордвин Коля Неуструев.
— Как складывались в годы вашего учения в университете отношения между студентами различных национальностей?
— Я учился в университете с 1923 по 1928 год. Тогда я впервые столкнулся с антисемитизмом некоторых студентов (их было очень мало). Очень задевала мое национальное чувство «школа Покровского» и сочинения самого М.Н.Покровского, оплевывавшие русскую историю. Один из таких учеников Покровского экзаменовал меня по русской истории, и, когда я отказался признать, что Петр Великий был болен сифилисом, он поставил мне «неуд» в матрикуле (так называлась зачетная книжка). А потом сообщил в профком, что я монархист.
— Как и когда у вас возникло решение заниматься литературой Древней Руси?
— В университет я поступил на романо-германское отделение, изучал английскую литературу и занимался Шекспиром. Но вскоре убедился, что, живя в России, будучи русским, досконально изучить английскую литературу нельзя. Почувствовал, что трудно написать хорошую работу, не живя в Англии: англичане сделают это гораздо лучше. Поэтому стал заниматься древнерусской литературой.
В семинаре члена-корреспондента АН Дмитрия Ивановича Абрамовича нас было всего-навсего два человека. Дмитрий Иванович был сыном деревенского священника и сам внешне напоминал священника. Лекции читал с закрытыми глазами. Сперва он показался мне скучным. Но я вслушивался и постепенно понял, что мир древнерусской литературы требует внимания. В то время она еще не была объектом обобщенного изучения. Поэтому, как ни странно, мне оказались очень полезными лекции профессоров романо-германского отделения: Жирмунского, Шишмарева, Брима, Миллера. Они дали мне возможность понять, как нужно научно подходить к древнерусской литературе.
— По-видимому, еще до поступления в университет вы были достаточно хорошо знакомы с основными произведениями древнерусской литературы?
— Древнерусская литература по дореволюционным гимназическим программам изучалась больше и лучше, чем сейчас. И хотя я заканчивал школу в 1923 году, новых программ еще не существовало, мы учились по старым. «Слово о полку Игореве», хотя бы начало его, полагалось знать наизусть. Естественно, что первое знакомство с этим памятником древнерусской письменности произошло у меня еще в школьные годы. Произведения древнерусской литературы, которые сейчас изучаются в институтах, в наше время преподавались в школе. Мы умели читать тексты вслух, правильно расставляя ударения. Интересно, что этого порой не умеют делать даже преподаватели нынешних вузов и литературоведы, не то что студенты.
— Ваша жизнь связана с Ленинградом, с Петербургом, с Петроградом. Это город, где всегда уважались национальные традиции. Обогащало ли это русскую культуру?
— В Петербурге жили люди самых различных национальностей. Из нерусских больше всего было немцев, евреев, шведов, эстонцев, французов, англичан. Принадлежность к нации была связана с «национальными профессиями». Так, например, второй этаж Эрмитажа говорил по-французски, первый, античный, – по-немецки. Ботаники-систематики в Академии наук были из немцев.
Из немцев были преимущественно колбасники, портные, детские врачи. Евреи – аптекари, зубные врачи, ювелиры, репортеры газет, банкиры. Французы владели парфюмерными и модными магазинами.
Я не настаиваю, что мои данные статистически точны: просто у меня сохранились такие впечатления. Все это казалось вполне естественным. Конкуренции между национальностями в Петербурге не было. Антисемитизм был характерен прежде всего для южных городов России. Представить себе еврейский погром в Петербурге было трудно.
Многонациональность города, разнообразие школ с национальными уклонами (существовала эстонская школа, около пяти немецких, еврейская гимназия, было татарское учебное заведение – для детей татар дворников и мелких торговцев); существование французского театра, французского института, возглавлявшегося профессором Луи Рео, – все это способствовало широте петербургской культуры, петербургской терпимости (в том числе и религиозной), разнообразило культурный опыт людей.
Я забыл упомянуть, что Петербург был полон финскими крестьянами (молочницы-финки разносили молочную провизию – слова «продукты» не существовало). Финны были вполне «своими». Редкий из петербуржцев не умел поздороваться, попрощаться или поблагодарить по-фински. К югу от Невы рядом с финскими располагались русские деревни. Финны и русские крестьяне жили вполне мирно, свадьбы, смешанные браки были редки – главным образом по религиозным соображениям. Да и в быту встречались некоторые различия.
Иное дело – немецкие колонисты. Немцев, ведших сельское хозяйство, насчитывалось множество – они почитались «интеллигентами» и держались от русских крестьян обособленно. Они в Петербурге и селились отдельно: на Васильевском острове, на Гражданке, в Петергофе.
— Изучая древнерусскую литературу, историю нашей родины, вы, наверное, составили себе представление о том, каково было традиционное отношение к иностранцам или людям других национальностей в Древней Руси?
— Государство Русь с самого начала было многонациональным. В государственный союз Руси входили кроме восточнославянских племен финно-угорские (меря, весь, чудь), а также тюркские племена. Русские вместе с норманнами ходили на Константинополь и в другие далекие края – главным образом на юг. Ни у кого не было национального высокомерия. Князья если и были норманнского происхождения, то говорили по-русски, вернее, «по-руськи», так как разделения на русских, украинцев и белорусов еще не было – до XIV века во всяком случае.
Многонациональное государство воспитывало уважение наций друг к другу. Даже татар-завоевателей русские ненавидели как врагов, но не за их национальные черты – их не замечали. Половчанки славились красотой, и русские князья часто на них женились. Ни разу в русской письменности не проскользнуло слово «косоглазые» или что-то подобное. «Всеотзывчивость», о которой писал Ф. М. Достоевский, была чертой русского национального характера, но начало ее положил не Пушкин: «всеотзывчивость» и национальная терпимость существовали на Руси всегда. Было бы крайне важно, чтобы эту черту кто-нибудь из молодых ученых проследил по русской письменности с XI века. Эта-то черта и составляет силу и национальную особенность русского народа. Великая русская река Волга населена множеством народов, и как это великолепно!
— Чем вы объясните распространение на Руси в начале XVI века писаний старца Филофея, утверждавших исключительность Московского государства?
— Теория Москвы как Третьего Рима получила распространение главным образом в XVII веке. В XVI веке господствовала теория происхождения Русского государства и княжеского рода, изложенная в «Сказании о князьях владимирских». Огромная роль, которая отводилась в мечтах и чаяниях людей первой половины XVI века Русскому государству, побуждала к созданию особой теории, которая обосновывала бы национальное и мировое значение Руси. Русское государство становилось «идеологическим государством» – со своей теорией общемировых обязанностей и прав.
Объединив отдельные русские княжества под своей властью, московские государи стали воспринимать свои обязанности прежде всего как некое служение – служение православию во всем мире, себя они считали единственными после падения Византии защитниками православия. Три теории привлекли к себе внимание русских государей и были ими восприняты как обоснование своих неограниченных прав на вмешательство в судьбы мира. Одна теория изложена в «Повести о Вавилонском царстве» (вторая половина XV века), там права русских государей связываются с обретением ими царских регалий. Другая теория изложена как бы «попутно», как сама собой разумеющаяся, в посланиях старца псковского Елеазарова монастыря Филофея о Москве – Третьем и последнем Риме. И третья теория создана в основном бывшим московским митрополитом Спиридоном-Саввой и изложена им в «Послании о Мономаховом венце», а затем, в переработанном виде, официально принята в «Сказании о князьях владимирских», где власть московских государей рассматривается как унаследованная от римских цезарей.
Именно это «Сказание» и было использовано для официального обоснования права московских великих князей возглавить все русские княжества, а затем и Русское царство. Более же широкое обоснование прав Москвы на первенствующее положение в мире было изложено в неофициальных посланиях псковского старца Филофея. Согласно его теории, не представлявшей ничего исключительного для средневековой Европы (где большинство царствующих династий связывали свое происхождение либо с римскими императорами, либо с участниками Троянской войны), мировая история представляет собой последовательную смену мировых держав.
Первой мировой державой был Рим Древний (основателями которого выступали иногда герои Троянской войны). Второй мировой державой, пришедшей на смену первой, является Рим Второй, или Византия. После же отпадения Второго Рима от православия в результате Флорентийской унии и захвата Константинополя магометанами Третьим Римом, защитницей и центром истинного православия стала считаться Москва. «Четвертому же Риму не бысть», – утверждала легенда. Более подробно этот вопрос рассмотрен в книге Р. П. Дмитриевой «Сказание о князьях владимирских».
А вот то, что теория Москвы - Третьего Рима получила распространение в XIX и XX веках, это явление общественной мысли нового времени, отчасти вызванное тем, что Древнюю Русь славянофилы знали плохо, как плохо знают ее и те, кто сейчас думает, что борется за возрождение русского национального самосознания.
― Почему же теория эта оказалась столь живучей? Почему и Екатерина II, а вслед за ней Николай I ощущали себя освободителями плененной Византии, ее прямыми наследниками? Почему до наших дней живы идеи старца Филофея, не основанные ни на каких конкретных исторических фактах?
― Ответ на этот вопрос должны дать историки общественной мысли нового времени.
— В XIX веке было распространено мнение, что национальные отличия лишь мешают людям сосуществовать. Высказывались мнения, что в XX веке они просто отомрут. Этого не произошло. Почему, как вы полагаете?
— Не берусь утверждать, что все люди в XIX веке думали, будто национальные различия излишни или вредны. Думаю, что даже не большинство, но наиболее крикливые. Национальные различия, безусловно, нужны человечеству. Это ведь тот строительный материал, из которого возводится здание мировой культуры, а строительный материал должен быть разнообразным. Для культуры необходим диапазон различий. Национальные черты – признак богатства человечества.
Сравнения с букетом, с разноцветьем полей, с радугой, с разнообразием животного мира или даже миром бабочек надоели. Разнообразие людей – нечто гораздо более ценное, оно находится на самом высоком уровне мировой «пирамиды». Национальные черты в людях – это субстрат личностей. Национальные черты в культурах – это субстрат тех культурных ценностей, которыми богато человечество. Без национальных особенностей немыслима культура античности, многочисленные культуры Востока, культуры Европы.
Самое ценное, что есть в национальных культурах, – это языки, ибо мышление и язык теснейшим образом связаны. Не будет многих языков – унифицируется мышление, обеднеет. Причем я имею в виду мышление не только поэтическое, но и прозаическое, мышление научное, творческое в широком смысле этого слова. Останется одно только примитивное утилитарное мышление.
Национальные различия способствуют привязанности людей друг к другу. Мы любим Италию за то, что она Италия, Францию за то, что она Франция, и умерли бы от тоски, если бы культурное лицо мира было бы одним и тем же, повсюду одинаковым. Оно неизбежно стало бы унылым. Я уже говорил, что в детстве на меня произвело огромное впечатление то, что великая русская река Волга – многонациональна. Там слышалась и русская речь (притом такая различная в диалектах), и татарская, и башкирская, и чувашская, и персидская (Волга была полна торговцами-персами), и все многообразие языков Кавказа. Россия многонациональна, как Волга. Как степь, лес и тундра, полные птичьих голосов, причем самых различных пород.
― Чем вы объясните вспышки национальной розни в XX веке, например, такое уродливое явление, как национал-социализм?
― Национальная рознь всегда, к сожалению, существовала в мире, но преодолевалась разумом и сердцем, XX век – эпоха, в которой, как это ни странно, «подкорковая» психология стала доминирующей. Слишком много появилось примитивных философских систем, и о своем культурном прошлом, о наших памятниках, о захватывающих своей агрессивностью, и притягательных тем, что могут заставить почувствовать человека как бы имеющим свое мировоззрение, свои «идеи». Развитие техники отняло у человечества слишком много интеллектуальных сил. Развитие интеллекта должно происходить равномерно, иначе начинаются «захваты».
Посмотрите на портреты – искусство портретирования в XX веке явно пало, ибо художники перестали ощущать индивидуальность человека, его личность так, как она воспринималась в предшествующие века. Да и личностей стало мало! Изучаете портреты! Ольга Чайковская лет десять тому назад написала замечательную книгу, в которой каждая глава посвящена одному человеку – его жизни и его портретам. Почему это не публикуют? Кому-то показалось, что она идеализирует прошлое. Но она не идеализирует, а просто констатирует.
Когда мы перестаем замечать чужую личность, то возникает озлобление, непонимание других национальностей. Исчезает стремление к познанию других людей, способность понимать другие национальности. Ничего, кроме себя! Любовь только к себе! Да и не любовь вовсе, а «самовосхищение», интерес только к своим нуждам, к своим материальным потребностям.
Злой глаз видит только злое, добрый – и злое, и доброе. Мы стали слишком раздражительны и не хотим видеть хорошее в других национальностях, а ведь всякая национальность включает в себя и добрые и худые черты. Злость – плохой советчик, доброта никогда не подведет. Не подведет потому, что тот, кто сохраняет свою душу, всегда в выигрыше. Тот, кто думает только о материальном, всегда в проигрыше, так как насытиться материальными благами невозможно: всегда хочется большего. Беден не тот, у кого мало, а тот, кому мало.
Национализм питается злостью, ненавистью к чужому, чувством нехватки чего-то. Патриотизм питается добротой, благорасположением, приветливостью, ибо, любя свое, человек понимает того, кто также любит свое. Щедрость питает широту, патриотизм, гордость за свою нацию, за достижения своей культуры. Национализм же питается жадностью, стремлением захватить у другого, культом силы и агрессии.
— Как вы относитесь к культурам малых народностей?
— Малые народы отданы на попечение большим. О них необходимо заботиться, сильным народам необходимо ценить их культурные достижения, а так как они неудержимо исчезают, то все, что с ними связано, необходимо собирать и хранить. Надо создать фонд, где на кассетах или еще как-то были бы зафиксированы языки, фольклор, быт, обычаи, традиции и искусство малых народов. Для этих записей необходимо создать надежные хранилища. Мы заботимся о генофонде животного мира, но сколь тщательнее мы должны быть озабочены генофондом человечества.
— Сотрутся ли, на ваш взгляд, национальные отличия в XXI веке?
― Сохранятся, если мы того захотим. Сохранятся, если мы будем уделять внимание гуманитарной культуре. Сохранятся, если кривая морали не будет идти под уклон. Сохранятся, если мы в XXI веке будем озабочены воспитанием души, а не только передачей знаний. В людях необходимо воспитывать мораль, воспитывать их художественную восприимчивость, способность к научному мышлению, к овладению любой профессией, а профессий будет все больше и больше, одним словом – надо воспитывать личность!
― Скажите, что бы вы хотели, как русский, пожелать русским? Ведь всякий народ должен развиваться к лучшему?
— Русский народ ни в коем случае не должен терять своего нравственного авторитета среди других народов – авторитета, достойно завоеванного русским искусством, русской литературой, борьбой русской интеллигенции за лучшее будущее всего человечества, глубоким интернационализмом русской интеллигенции. Великий народ должен быть на высоте ответственности в своих патриотических чувствах и не сбиваться на грубый национализм. Только осознавая свою мировую ответственность, мы, русские, сохраним наше ведущее положение в нашей стране. Мы должны помогать всем народам нашей страны стать нравственно чище и, разумеется, не опускаться до низкого шовинизма. Мы, русские, в этом шовинизме не нуждаемся. Он преимущественно присущ слабым народам – народам со слабой культурой и слабым культурным наследием. Но мы не должны забывать и о своем культурном прошлом, о наших памятниках, о своей классической литературе, классической музыке и классической живописи. Мы сами виноваты перед своим прошлым. Мы сами в ответе за разрушения, которые производили не так давно.
Беседу вел С. Бычков
Дружба народов. 1988. № 6.
НРАВСТВЕННЫЕ ВЕРШИНЫ
Вот о чем хотелось бы сказать. В «Заметках о русском» и в «Диалогах о дне вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем» я уже обращал внимание на те черты русского характера, на которые в последнее время как-то не принято обращать внимание: доброту, открытость, терпимость, отсутствие национального чванства и прочее. Читатель вправе спросить: а куда же девались в «Заметках» отрицательные черты русского человека? Разве русским свойственны одни только положительные черты, а другие народы их лишены? На последний вопрос читатель при желании найдет ответ в самих «Заметках»: я говорю в них не только о русском народе... А что касается первого вопроса, касающегося русских недостатков, то я вовсе не считаю русский народ их лишенным: напротив, их у него много, но... Можем ли мы характеризовать народ по его недостаткам? Ведь когда пишется история искусств, в нее включаются только высшие достижения, лучшие произведения. По произведениям посредственным или плохим нельзя построить историю живописи или литературы. Если мы хотим получить представление о каком-либо городе, мы ознакомимся прежде всего с его лучшими зданиями, площадями, памятниками, улицами, лучшими видами, «городскими ландшафтами». Иное дело, когда мы знакомимся с отдельными людьми – с медицинской или нравственной их стороны. Мы же подходим к представлениям о народе. Народ как создание искусства: такова моя позиция в «Заметках» в подходе к любому из народов.
О каждом народе следует судить по тем нравственным вершинам и по тем идеалам, которыми он живет. Благожелательность к любому народу, самому малочисленному! Эта позиция самая верная, самая благородная.
Вообще говоря, любая недоброжелательность всегда воздвигает стену непонимания. Благожелательность, напротив, открывает пути правильного понимания.
Самолет не падает на землю не потому, что он крыльями «опирается на воздух», а потому, что он подсасывается кверху, к небу... В народе самое важное – его идеалы.
Публикуется впервые.
О ПАМЯТИ
Память – одно из важнейших свойств бытия, любого бытия: материального, духовного, человеческого...
Лист бумаги. Сожмите его и расправьте. На нем останутся складки, и если вы сожмете его вторично – часть складок ляжет по прежним складкам: бумага «обладает памятью»...
Памятью обладают отдельные растения, камень, на котором остаются следы его происхождения и движения в ледниковый период, стекло, вода и т. д.
На памяти древесины основана точнейшая специальная археологическая дисциплина, произведшая в последнее время переворот в археологических исследованиях, – там, где находят древесину, — дендрохронология («дендрос» по-гречески «дерево»; дендрохронология – наука определять время дерева).
Сложнейшими формами родовой памяти обладают птицы, что позволяет новым поколениям птиц совершать перелеты в нужном направлении к нужному месту. В объяснении этих перелетов недостаточно изучать только «навигационные приемы и способы», которыми пользуются птицы. Важнее всего память, заставляющая их искать зимовья и летовья – всегда одни и те же.
А что и говорить о «генетической памяти» – памяти, заложенной в веках, памяти, переходящей от одного поколения живых существ к следующим.
При этом память вовсе не механична. Это важнейший творческий процесс: именно процесс и именно творческий. Запоминается то, что нужно; путем памяти накапливается добрый опыт, образуется традиция, создаются бытовые навыки, семейные навыки, трудовые навыки, общественные институты...
Память противостоит уничтожающей силе времени.
Это свойство памяти чрезвычайно важно.
Принято примитивно делить время на прошедшее настоящее и будущее. Но благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы предугадывается настоящим, соединенным с прошедшим.
Память – преодоление времени, преодоление смерти.
В этом величайшее нравственное значение памяти. «Беспамятный» – это прежде всего человек неблагодарный, безответственный, а следовательно, и неспособный на добрые, бескорыстные поступки.
Человек, совершающий недобрый поступок, думает, что поступок этот не сохранится в памяти его личной и в памяти окружающих. Он сам, очевидно, не привык беречь память о прошлом, испытывать чувство благодарности к предкам, к их труду, их заботам и поэтому думает, что и о нем все будет позабыто.

Могила А.С. Пушкина. Святогорский монастырь
Совесть – это в основном память, к которой присоединяется моральная оценка совершенного. Но если совершенное не сохраняется в памяти, то не может быть и опенки. Без памяти нет совести.
Вот почему так важно воспитываться в моральном климате памяти: памяти семейной, памяти народной, памяти культурной. Семейные фотографии это одно из важнейших «наглядных пособий» морального воспитания детей, да и взрослых. Уважение к труду наших предков, к их трудовым традициям, к их орудиям труда, к их обычаям, к их песням и развлечениям. Все это дорого нам. Да и просто уважение к могилам предков. Вспомните у Пушкина:
Два чувства дивно близки нам
В них обретает сердце пишу
Любовь к родному пепелищу.
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва.
Поэзия Пушкина мудра. Каждое слово в его стихах требует раздумий. Наше сознание не сразу может свыкнуться с мыслью о том, что земля была бы мертва без любви к отеческим гробам, без любви к родному пепелищу. Два символа смерти и вдруг – «животворящая святыня»! Слишком часто мы остаемся равнодушными или даже почти враждебными к исчезающим кладбищам и пепелищам двум источникам наших не слишком мудрых мрачных дум и поверхностно тяжелых настроений. Подобно тому как личная память человека формирует его совесть, его совестливое отношение к его личным предкам и близким – родным и друзьям, старым друзьям, то есть наиболее верным, с которыми его связывают общие воспоминания, – так историческая память народа формирует нравственный климат, в котором живет народ. Может быть, можно было бы подумать, не строить ли нравственность на чем-либо другом: полностью игнорировать прошлое с его, порой, ошибками и тяжелыми воспоминаниями и быть устремленным целиком в будущее, строить это будущее на «разумных основаниях» самих по себе, забыть о прошлом с его темными и светлыми сторонами.
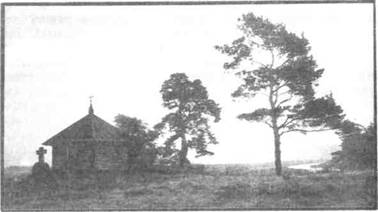
Савкина горка
Это не только не нужно, но и невозможно. Память о прошлом прежде всего «светла» (пушкинское выражение), поэтична. Она воспитывает эстетически.
Человеческая культура в целом не только обладает памятью, но это память по преимуществу. Культура человечества – это активная память человечества, активно же введенная в современность.
В истории каждый культурный подъем был в той или иной мере связан с обращением к прошлому. Сколько раз человечество, например, обращалось к античности? По крайней мере, больших, эпохальных обращений было четыре: при Карле Великом, при династии Палеологов в Византии, в эпоху Ренессанса и вновь в конце XVIII – начале XIX века. А сколько было «малых» обращений культуры к античности – в те же средние века, долгое время считавшиеся «темными» (англичане до сих пор говорят о средневековье – «dark age»). Каждое обращение к прошлому было «революционным», то есть оно обогащало современность, и каждое обращение по-своему понимало это прошлое, брало из прошлого нужное ей для движения вперед. Это я говорю об обращении к античности, а что давало для каждого народа обращение к его собственному национальному прошлому? Если оно не было продиктовано национализмом, узким стремлением отгородиться от других народов и их культурного опыта, оно было плодотворным, ибо обогащало, разнообразило, расширяло культуру народа, его эстетическую восприимчивость. Ведь каждое обращение к старому в новых условиях было всегда новым.
Каролингский Ренессанс в VI–VII веке не был похож на Ренессанс XV века, Ренессанс итальянский не похож на североевропейский. Обращение конца XVIII – начала XIX века, возникшее под влиянием открытий в Помпее и трудов Винкельмана, отличается от нашего понимания античности и т. д.
Знала несколько обращений к Древней Руси и послепетровская Россия. Были разные стороны в этом обращении. Открытие русской архитектуры и иконы в начале XX века было в основном лишено узкого национализма и очень плодотворно для нового искусства.
Хотелось бы мне продемонстрировать эстетическую и нравственную роль памяти на примере поэзии Пушкина.
У Пушкина Память в поэзии играет огромную роль. Поэтическая роль воспоминаний прослеживается с детских, юношеских стихотворений Пушкина, из которых важнейшее «Воспоминания в Царском Селе», но в дальнейшем роль воспоминаний очень велика не только в лирике Пушкина, но и даже в поэме «Евгений Онегин».
Когда Пушкину необходимо внесение лирического начала, он часто прибегает к воспоминаниям. Как известно, Пушкина не было в Петербурге в наводнение 1824 года, но все же в «Медном всаднике» наводнение окрашено воспоминанием:
«Была ужасная пора, об ней свежо воспоминанье...»
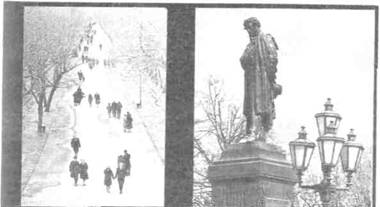
Московские бульвары
Памятник А.С. Пушкину в Москве
Свои исторические произведения Пушкин также окрашивает долей личной, родовой памяти. Вспомните: в «Борисе Годунове» действует его предок Пушкин, в «Арапе Петра Великого» – тоже предок, Ганнибал.
Память – основа совести и нравственности, память – основа культуры, «накоплений» культуры, память – одна из основ поэзии – эстетическою понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь память — это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память – наше богатство.
Письма о добром и прекрасном. М. 1985.
УЧЕНИЕ – ЭТО ТРУД
Что, мне кажется, должна делать современная школа на рубеже XX и XXI веков? Прежде всего нужно помнить, что учение – это труд. И школа должна учить человека умению работать самостоятельно, работать дома, должна приучать к труду, в том числе и к труду научного работника.
В конце концов в XXI веке физическая работа в основном будет выполняться роботами.
Потом школьники могут быть кем угодно, бухгалтерами или рабочими и так далее, по эго будет рабочий-ученый, так что нужно воспитывать ученого, потому что это профессия будущего.
И всегда следует помнить, что только в молодости закладывается интеллигентность. Поэтому людей нужно воспитывать не с восьмилетнего возраста, а с шестилетнего, с пятилетнего; я бы даже сказал, с пеленок закладывать в них основы интеллигентности.
И воспитывать с очень большой интенсивностью, ведь подумайте, уже сейчас учение в среднем отнимает одну треть жизни человека. Эту треть жизни нужно сделать как можно более насыщенной. Следует активно прививать молодежи способность осмысленно выбирать профессию. К этому надо готовить очень рано, но самый выбор можно осуществлять лишь тогда, когда молодой человек достиг известного культурного уровня, то есть с 18 19-ти лег. Он сам должен выбирать профессию, опираясь на широкий фон общих знаний, на культурную подготовку интеллигентного человека.
И тогда человек сможет внести что-то новое в выбранной сфере деятельности, потому что у него будет заложен основательный фундамент знаний из разных наук.
Конечно, среди гуманитарных наук, которые преподаются в школе, особенная роль должна отводиться тем, что воспитывают нравственность. Ведь проблемы нравственности сейчас очень усложнились и актуализировались. И потому науки, несущие сильный моральный заряд, такие, как литература, история, должны преподаваться очень умело, но прекрасным учебникам, хорошо подготовленными педагогами.
Но нужно еще преподавать формальную логику. Многие люди не умеют спорить, не умеют выражать свои мысли, не умеют доказывать свои убеждения.
Сейчас у нас и научные споры иногда просто сводятся к взаимным обвинениям. К обвинению, наклеиванию ярлыков и т. д.
Логика – это наука не только как мыслить, но и как спорить, как доказывать и как себя вести, например, в профессиональной среде. Способность к логическому мышлению в наше время в массе очень упала, даже не все ученые умеют логически точно мыслить. Они иногда делают гениальные догадки, но потом не могут их развить, доказать, в конечном счете утвердить.
Логика нужна для любой профессии, даже если человек занимается физической работой. У знающего и умеющего применять основы логики устанавливаются лучшие отношения с товарищами, он не будет грубо спорить с ними по разным пустякам и бытовым вопросам. Я считаю, что такие дисциплины, как логика, история литературы, история своей страны и чужих стран, совершенно необходимы в школе. И уменьшать объем преподавания этих дисциплин, а тем более исключать их из программ ни в коем случае нельзя.
Мое твердое убеждение, что в школе следует преподавать не отдельные произведения, а историю литературы. Литературное произведение само по себе, исторически необъясненное, теряет на 80 процентов свою действенность – моральную, эстетическую, какую угодно. Ведь каждое произведение создавалось в определенных социальных условиях, при определенных исторических предпосылках, в конкретных биографических обстоятельствах, в конце концов. Так и следует его рассматривать. А по существующим проектам школьных программ преподается не история литературы, а собственно литература, то есть берется отдельное произведение, и оно толкуется вне истории, вне биографии автора. Так можно дойти до абсурда. Ведь даже у Пушкина есть вещи, которые нельзя воспринимать абстрактно, вне исторической обстановки. Вспомним, например, знаменитое стихотворение «Клеветникам России». Попробуйте объяснить его вне контекста жизни Пушкина и времени, когда оно создавалось, и вы придете к самым неверным выводам. Поэтому крайне важно преподавание в школе именно истории литературы, а не разбор отдельных литературных произведений.
История воспитывает, и история литературы воспитывает, она тоже часть истории. При таком подходе будет ясно, что русской культуре тысяча лет и этим мы должны гордиться.
Древняя русская литература – это прежде всего семь веков в нашей культуре. Мы не вчера родились. Русский народ – один из самых древних в Европе. Имеет братьев – украинцев и белорусов. Прожил удивительную жизнь и создал целый мир искусств. Русской архитектуры хватило бы на десять наций, такая она разнообразная и в разные эпохи и в разных областях совершенно непохожая, своеобразная. А древняя русская литература поразительно разнообразна по жанрам, по многочисленным идеям, стилям, по своей невероятной роли в общественной и государственной жизни страны, народа. Она заменяла собой государство, когда государство распалось, и остатки, «островки», были завоеваны Батыем. Она укрепляла у народа сознание своего единства, напоминала о славной истории, продолжала культурные и политические традиции. Это чудо какое-то. И как же не приобщить молодежь к этому чуду, формирующему национальное самосознание и патриотизм?!
Но если исключить из программ преподавание древнерусской литературы, в том числе и «Слова о полку Игореве», или, оставив «Слову» так мало времени, что толком и прочитать его не успеть, то именно тогда у молодого человека создается впечатление, что Россия целиком зависела от Запада и, лишь когда пришел Петр, наступили времена свободного общения с Европой, откуда пришла литература, принесшая нам роман, повесть, поэму и т.д.
Так ведь большинство людей и думает на Западе, что у нас якобы не было никаких своих собственных традиций. Слов нет, Запад, конечно, очень сильно повлиял на развитие России в XVIII веке, но семена, посеянные в то время, упали на весьма подготовленную почву. И забывать об этом нельзя. И из чувства справедливости перед предками, и из чувства патриотизма.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
ОШИБОК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
Культура – цель, а не средство, не условие, не благоприятствующая среда. Научно-технический прогресс, борьба за мир, достижение высших скоростей, изобилие потребительских товаров – все это имеет целью развитие человеческой культуры.
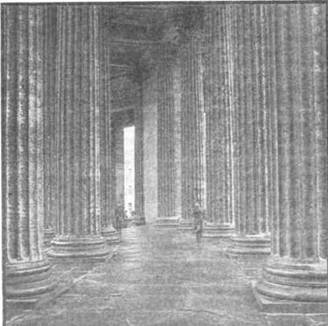
Казанский собор в Ленинграде
Природа миллиарды лет совершенствовала сама себя и наконец создала человека. Человек создан с огромными, до конца не использованными творческими возможностями. Для чего все это? Для того, очевидно, чтобы человек не прекратил собой это развитие, не замкнул на себе то, к чему природа стремилась миллиарды лет, а продолжил это развитие. Конечно, продолжение – это не создание еще более совершенного организма, а использование тех возможностей, которые уже есть в человеке, для создания произведений высочайшей культуры. Эта единая цель всего человечества воплощается в тысячах различных произведений искусства, науки, философии. Человечество беспрерывно настигает свою цель. «Мадонна Альба» или «Сикстинская мадонна» Рафаэля, симфония Бетховена, «Гамлет» Шекспира, лирика Пушкина все это «достигнутые цели».
Иногда мы возвышаемся не только до создания высочайших произведений, но до самых возможностей достигнуть их. Это тоже крайне важно. Нынешний век представляется мне как век достигнутых возможностей, за которыми должны последовать и самые произведения культуры общечеловеческой значимости, если не завяжется война, если научно-технический прогресс пойдет достаточно быстро и разумно, если наши производственные возможности реализуются в полной мере, если человеческому творчеству не будут поставлены другие помехи.
Однако культура такая цель, которая сама является и средством к достижению своих вершин. Если та или иная наука, та или иная отрасль техники будет замкнута на самой себе – произойдет замедление их развития, наступит творческое обеднение в науке и технике, истощение творческих возможностей, возникнут тупиковые ситуации.
Ученые опираются на общее культурное развитие, дающееся главным образом благодаря гуманитарным наукам. Приведу только один пример. Язык и мышление теснейшим образом связаны. Если язык обеднеет – обеднеет и мышление. Колоссальное значение имеет терминология, грамматические системы, способствующие самовыражению человека. Язык же опирается в своем развитии на письменность, а в ней преимущественно на литературу. А литература в свою очередь имеет колоссальное значение для развития нравственности, нравственного климата в науке и технике. Мы живем в мире все усложняющихся нравственных проблем, которые ставят перед нами усложняющиеся наука и техника. Кто ответит нам на многие вопросы, возникающие перед нашим нравственным сознанием? Именно литература, если она будет достаточно ответственна и глубока!

Березовая роща, посаженная Саввой Морозовым (Подмосковье)
Наступает эпоха, когда ошибки перестают быть допустимы. Нет ничего вреднее сейчас в нашем мире невероятных возможностей, чем утверждение: «На ошибках учимся!» На" чьих ошибках? Своих! Их не должно быть.
От ошибок теперь может пострадать все человечество. Будем же учиться на ошибках прошлого, то есть хорошо знать историю, уметь анализировать пройденный путь и ни в коем случае об этом пути не забывать.
Как грибники, которые не хотят заблудиться в лесу, мы должны постоянно оглядываться назад. Эта оглядка касается всех: архитекторов-градостроителей, писателей, мелиораторов, физиков, педагогов, реставраторов, художников, торговых работников – кого угодно. Нет такой специальности, которой не нужна была бы история – она основа культуры.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
ЦЕЛИТЕЛИ ДУШИ
Как-то я возвращался из путешествия по Волге до Астрахани и обратно. Теплоход современный, огромный, комфортабельный. На нем более трехсот пассажиров. Но не было ни одного, который оставался бы равнодушен при виде затопленных лесов и ободранных памятников архитектуры на берегах. Не успевало скрыться из виду одно когда-то красивое здание с провалившейся крышей, как появлялось в поле зрения другое. И так все двадцать два дня путешествия. Беда, лебедиными крыльями бьет беда! А еще больше огорчало, когда мы вообще не видели здания, еще недавно высящегося на берегу, но безжалостно снесенного под тем предлогом, что вид его из-за безнадзорности и запустения стал безобразен. Это же вопиющая безответственность и бесхозяйственность. Неужели нельзя приспособить погибающие церкви, старые усадьбы к нуждам окружающего населения или оставить их как памятники, знаки минувшего, покрыв только добротными крышами, предотвратив дальнейшее разрушение?! Ведь почти все они удивительно красивы, поставлены на самых видных местах. Они плачут глазницами своих пустых окон, глядя на проплывающие дворцы отдыха. И огорчало это решительно всех. Не было ни одного человека, которого зрелище «уходящей культуры» оставляло бы равнодушным.
Мы не храним старину не потому, что ее много, не потому, что среди нас мало ценителей красоты прошлого, любящих родную историю и родное искусство, мало патриотизма, а потому, что слишком спешим, слишком ждем немедленной «отдачи», не верим в медленных целителей души. А ведь памятники старины воспитывают, как и ухоженные леса воспитывают заботливое отношение к окружающей природе.
Особенное воспитательное значение имеют мемориальные места – места боев, усадьбы писателей, художников, ученых, их квартиры, их любимые пейзажи (должны быть зоны охраняемых пейзажей, зоны охраняемых городских ландшафтов). Их совсем не так много, как иногда кажется. И те, что есть, окружены любовью местных энтузиастов, добровольных музейных работников – работников «на общественных началах». Но как часто они безнадзорны у тех, кто за них должен отвечать по долгу службы!

Поленово
И еще одно: почему мы боимся мертвых? Почему так плохо храним родные могилы? Что мы, суеверны? Верим в привидения, в вурдалаков? Ведь кладбища в маленьких городах, селениях всегда были любимыми местами прогулок. Посмотреть на близкие могилы, прочесть чью-то фамилию, имя и отчество, даты жизни – почему все это стало нас страшить и пугать? Неужели мы думаем, что никогда не умрем? Во все века и во всех странах сознание собственной смертности воспитывало и приучало думать о том, какую память мы по себе оставим.
Но если мы верим, что не оставим по себе памяти, тогда и делать можно что угодно, живи мгновением, или, как говорят разные пошляки, «лови момент». А нам необходимо ощущать себя в истории, понимать свое значение в современной жизни, даже если она «частная», небольшая, но все же добрая для окружающих... Каждый может делать что-то хорошее в жизни и оставить по себе добрую память. Хранить память о других – это оставлять добрую память о себе.
Публикуется впервые.
Память истории священна
— Дмитрий Сергеевич, судьбы памятников культуры в нашей стране находятся постоянно в центре внимания общественности. В Москве, Ленинграде, в других городах и селах воздвигаются монументы, обелиски, мемориалы, создаются историко-архитектурные заповедники, словом, ведется большая работа, цель которой – укреплять, поддерживать в наших людях сознание великого триединства: прошлое – настоящее – будущее. Знаменательно, что передовая статья «Правды», вышедшей в День Победы 9 мая 1982 года, называлась «Воспитание историей».
Преемственность культуры, долговечность самой жизни народов гарантированы лишь при том условии, что народ обладает хорошей памятью, если прошлое его работает вместе с настоящим для будущего.
И потому всяческое невнимание к памятникам нашей духовной и материальной культуры, а они связаны и с давним прошлым, и с революционными событиями, и с минувшей войной, настораживает.
— Согласен. Памятников истории и культуры, по официальным подсчетам, только в РСФСР более 180 тысяч. А фактически – в несколько раз больше. Потому что их выявление, описание, исследование – процесс непрерывный.
Памятники эти составляют особый мир, являются важной составной частью культурной, идеологической среды, в которой, так же как и в природной среде, живут люди.
Поэтому ясно, что проблемы сохранения природной среды и сохранения культурной среды человечества стоят рядом.
Это проблема Экологии с большой буквы.
― Кто же должен решать эти проблемы?
― Можно ответить общим определением: общество, государство. Но если вглядеться внимательнее, то сразу обнаружится четкая причинно-следственная связь.
Если памятник, будь то отдельное сооружение или комплекс, или ландшафт, находится под опекой, неусыпным вниманием энтузиастов и специалистов-профессионалов, если местные власти относятся к нему с действительной, действенной поддержкой и вниманием, а общественность с готовностью откликается на любые нужды, связанные с жизнью и «работой» памятника, то положение можно считать нормальным.

Абрамцево
И хотя нет критериев для оценки пользы, она, несомненно, огромна, реальна, ощутима, видима.
«Бестелесная духовная субстанция» – воздействие культурной среды на души людей становится отчетливой силой, особенно могучей во времена предельных испытаний, выпадающих на долю народа. Минувшая война, которую и сегодня помня г наши люди, очень ясно показала это.
― И вы можете, Дмитрий Сергеевич, привести примеры такой оптимальной «жизни и работы» памятника?
― Их немало. Но, пожалуй, наиболее ярким, классическим, так сказать, примером является жизнь Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина в Псковской области.
Здесь мы встретим весь комплекс необходимых условий для успеха дела.
—Во главе заповедника вот уже более тридцати лет стоит неистовый энтузиаст, крупнейший специалист-профессионал, как его называют, «музейный гений», Семен Степанович Гейченко.
Вместе с ним работают его ученики, соратники, сотрудники – более ста человек. Все они специалисты самого высокого класса, будь то садовый рабочий, художник-оформитель или смотрительница в музее. С полным основанием можно сказать, что заповедник является еще и университетом музейного дела.
А с другой стороны, не было бы того благотворного для памятника климата в Михайловском, если бы не самое деятельное, самое всестороннее внимание к его делам, нуждам, планам со стороны как местных властей, так и самой широкой общественности.
Первый секретарь Пушкиногорского райкома КПСС едва ли не ежедневно бывает в заповеднике, и не как посетитель, почетный гость, а как сотрудник, деятельный помощник, соратник.
Здесь используются различные формы взаимодействия работников музея с паломниками-добровольцами. Кстати, интересная тема для размышлений о подобной деятельности как форме активного отдыха.
— Трудно подсчитать в рублях, в человеко-часах всю огромную пользу, которую принесли энтузиасты этой народной святыне. Не менее трудно подсчитать все то огромное духовное богатство, которым одарил Пушкин всех своих друзей. Но, подчеркну, работа энтузиастов имеет смысл и приносит пользу лишь при умелом руководстве профессионалов.
— Вы назвали цифру –180 тысяч памятников. А сколько из них нуждается в помощи?
― Вы знаете, дело не только в помощи. Ведь памятник в запущенном состоянии, полуразрушенный, заброшенный, захламленный, на котором «красуется» ржавая вывеска с еле различимыми словами: «Охраняется государством», – такой памятник тоже работает с большой силой убеждения, внушения. Со знаком минус.
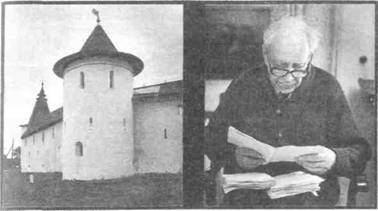
Боровск
Д.С.Лихачев
Такой памятник работает в полную силу против памяти народной. Против уважения к чести и достоинству Родины.
Север России сохранил для нас бесценные сокровища фольклора, зодчества, памяти народной. Север России – это красивейшая полоса планеты. И за все это теперь мы должны сохранить Север, должны беречь его как зеницу ока.
Из этого следует, что при разработке подобных проектов в составе авторитетных комиссий и экспертных групп должны быть искусствоведы, историки, архитекторы-реставраторы, т. е. специалисты по памятникам культуры самых высоких квалификаций.
Давно пора понять, что такие наши города-памятники, как Новгород, Суздаль, Ростов Великий, Устюг Великий, Тотьма, по своей культурной ценности для людей всего мира ни в коей мере не уступают Венеции, Флоренции, Вероне...
Да, я назвал цифру – 180 тысяч взятых на учет памятников культуры. А сколько из них на самом деле охраняется, поддерживается, используется так, как надо?

Юный художник
Город Изборск
Я буду большим оптимистом, если скажу, что треть. На самом деле положение гораздо хуже.
И тут, мне кажется, немалая доля вины ложится на республиканское общество охраны памятников истории и культуры – ВООПИК.
Причины такого положения, видимо, заключаются в том, что, например, ВООПИК более или менее активно действует в Москве, в Ленинграде (и то с большими оговорками), в областных центрах. А вот на периферии, т. е. там, где находится добрая половина ценнейших памятников культуры, деятельность общества фактически отсутствует. Нет того социального климата органичного уважения к памятникам культуры, создание которого и является главной задачей обществ. Общества охраны памятников различных союзных республик очень слабо связаны между собой. Давно уже ясно, что необходим центральный координирующий орган, вырабатывающий общие программы, общую политику для всех республиканских обществ.
Средства массовой информации должны гораздо шире, активнее и, главное, систематичнее вести пропаганду охраны памятников культуры. Хотелось бы, в частности, чтобы на Центральном телевидении появилась специальная передача-рубрика типа «Клуба путешествий», только более публицистичная, более остро ставящая проблемы. Об этом в полный голос говорилось на IV съезде ВООПИК.
— Если говорить о создании благоприятного социального климата уважения к памятникам культуры, бережного к ним отношения как о главной задаче деятельности ВООПИК, то «антипримеры» можно найти совсем недалеко от Москвы.
Хотелось бы поговорить в связи с этим о пушкинском комплексе «Захарове – Вязёмы».
— Тем более что это единственное под Москвой пушкинское место такого значения. Ведь в Захарове, в имении своей бабушки Марии Алексеевны Ганнибал, юный Пушкин жил с родителями в течение нескольких лет, с ранней весны до поздней осени.
Не осталось ни большого дома, ни флигелей усадьбы, но есть фрагменты старинного парка, есть воспетый поэтом пруд, есть, наконец, все те топографические особенности ландшафта, которые были при Пушкине.
А рядом расположено старинное село Большие Вязёмы – вотчина Бориса Годунова. Там сохранился великолепный дворец, флигели, величественный собор, красавица звонница.
Пушкин часто бывал с родителями в этом имении, принадлежавшем в го время князьям Голицыным.
Насколько мне известно, в Вязёмах, в Захарове нет ни музея, ни заповедника, но люди со всей страны знают это место, посещают его, так сказать, «голосуют ногами» за создание пушкинского заповедника под Москвой.
— Дмитрий Сергеевич, если говорить реально, то вряд ли можно рассчитывать па скорое исполнение такого вполне оправданного желания – открытия пушкинского музея-заповедника под Москвой. Но вполне своевременно говорить о том, что местные власти, местное население могли бы привести в порядок эти святые для нашего парода места.
И Захарове и Вязёмы находятся сегодня в плачевном состоянии. Собор в Вяземском имении реставрируется уже более тридцати лет. А между собором и звонницей «пользователь» – научно-исследовательской институт – выстроил гараж-времянку, и в результате памятник в целом приобрел жалкий, окарикатуренный облик. Не говоря уже о том. что тяжелые автомобили губят старинный парк, видевший Пушкина. Многие деревья уже высохли, а техника продолжает свое дело: выхлопными газами и колесами.
Что же касается Захарова, то там положение еще более печально, Нынешний владелец имения – так сказать, культурный центр – Центральный Дом Советской Армии. В Захарове пионерский лагерь ЦДСА. И этот лагерь был закрыт местной санитарно-эпидемиологической станцией.
— Что ж, вот вам печальный пример равнодушного отношения «пользователей», местного населения, местных властей к памятникам, расположенным, так сказать, у себя дома. Поистине «нет пророка в своем отечестве»!
Ведь ситуация, описанная вами, весьма проста. Исполком городского Совета народных депутатов Одинцовского района имеет все права самым жестким образом, вплоть до судебной ответственности, потребовать от лиц и организаций, разместившихся на временно переданной им Советской властью в пользование территории вместе с постройками и сооружениями, соблюдения самого строгого порядка, недопущения никаких самовольных застроек типа гаражей, сараев и так далее, не говоря уж о захламлении.
Так что власть, права имеются в полном объеме. Тем более когда речь идет о местах, о памятниках, связанных с именем Пушкина! Почему же власть не применяется? Чего для этого не хватает? Не хватает сознания того, что для всех жителей Одинцовского района Московской области, для всех депутатов городского Совета дело чести, одно из самых первоосновных дел: содержать в достойном состоянии пушкинские места. Они должны в полной мере осознать, что им выпало великое счастье, что именно на их земле есть такое место – Захарово, есть Вязёмы!
Я слышал, что в подражание Михайловскому Пушкинскому празднику поэзии на поле возле закрытого санэпидстанцией Захарова тоже устраивают праздники. Мне думается, что такое празднование рядом с захламленным памятником – издевательство, а не торжественный акт во славу поэта.

Тригорское
Знаете, я убежден, что если местные власти не сознают ценности и значения памятника, который находится на их земле, то гораздо активнее должны воздействовать на них государство, Министерства культуры РСФСР и СССР, специалисты, общественность.
И возвращаясь к разговору о деятельности обществ охраны памятников, и в частности ВООПИК, я считаю, что на начальном этапе работы с памятниками роль общества первоосновная. Широчайшая разъяснительная, просветительская работа, борьба с чиновниками и бюрократами, если надо, борьба беспрерывная и только до победного конца – это и есть первая и основная обязанность органов ВООПИК, в данном случае в проблеме Захарово – Вязёмы.
— Ну а когда наступает второй этап, когда решение о «принятии памятника в штат» состоялось, то можно, видимо, считать, что судьба памятника обеспечена?
— Жизнь показывает, что это не так. Чрезвычайно важно на втором этапе упредить возможные ошибки, могущие возникнуть из-за игнорирования административными и хозяйственными работниками очень тонких, специфических, требующих специальных знаний проблем, связанных с реставрацией и возрождением памятников культуры. В связи с этим позвольте остановиться на одном вызывающем особое беспокойство примере.
В течение более десяти лет общественность, печать, деятели науки, литературы, искусства добивались решения вопроса о восстановлении находящейся в Московской области усадьбы великого русского поэта Александра Блока Шахматове. Наконец в прошлом году было принято постановление Совета Министров РСФСР о создании в Подмосковье Государственного историко-литературного и природного музея-заповедника А. А. Блока.
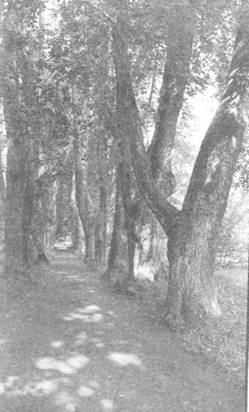
Аллея А.П. Керн
Казалось бы, что должны сделать в первую очередь люди, ответственные за выполнение (неформальное) прекрасного постановления правительства республики? (Я имею в виду сотрудников Управления музеев Министерства культуры РСФСР и сотрудников Управления культуры Мособлисполкома.)
На мой взгляд, вопрос элементарен – назначить директора будущего заповедника и хотя бы нескольких научных сотрудников из числа тех специалистов, которые давно занимаются проблемой Шахматова, досконально изучивших жизнь поэта в усадьбе, ее историю, архитектуру, планировку и так далее. И затем уже, не откладывая, начать практическую работу по созданию заповедника: разработку ею генплана, утверждение границ, охранных зон, разработку рабочих проектов восстановления усадебного дома, флигеля и иных строений, возрождение парка, приведение в порядок сада Блока и т. д.
Такое решение напрашивается само собой, ему есть добрые примеры (обратимся вновь к опыту С. С. Гейченко, поднимающего пушкинский заповедник практически с первого дня освобождения Пушкинских Гор от фашистов). А есть примеры и недобрые. Недавно ваш журнал рассказал о трагическом состоянии архитектурных памятников и природы Валаама, возникшем, в частности, и оного, что у уникального заповедника на Валааме практически не было хозяина, облеченною, подчеркиваю, всеми необходимыми полномочиями и возможностями.
Заповеднику Блока, кажется, тоже грозит опасность остаться домом без хозяина. Ведь что же получается: кто-то, но не специалисты-блоковеды, будет составлять и утверждать охранные зоны; кто-то – решать, какой же дом все-таки восстанавливать в Шахматове, ведь усадебный дом не раз перестраивался; кто-то – решать, где и какую проводить дорогу, какие вырубать, а какие сажать деревья в саду, и так далее, и так далее.
Пока же еще ни один специалист-блоковед (т. е. человек, профессионально знающий предмет) к работе над проектом блоковского заповедника, а тем более для работы в нем официально Министерством культуры РСФСР и Управлением культуры Мособлисполкома не привлекался. Но ведь будет поздно, когда что-то построят, проложат, вырубят... Поздно будет переделывать. А ведь блоковский заповедник следует создавать по образу и подобию пушкинского, с такими же задачами и возможностями. И это – очень непростое дело.
Создавшееся положение тем более странно, что организуемый в Подмосковье музей Блока должен же быть чем-то наполнен – нужны подлинные вещи, книги, портреты, мебель, помнящие поэта, близких ему людей. И они есть. Пока есть. Их надо собирать немедленно, бережно, тщательно, настойчиво. А над этим сейчас вообще никто не думает, а то, что собрали, выявили, разыскали энтузиасты, создавшие даже картотеку блоковских реликвий, видимо, работников соответствующих управлений не интересует – вот и получается, что пока, к сожалению, судьба блоковского заповедника в руках равнодушных исполнителей.
Сейчас, когда организация блоковского заповедника только начинается, следует по-государственному, разумно подходить к делу.

Фрагмент дома А.Бенуа в Ленинграде
А что, кроме недоумения (можно выразиться и резче), вызывает постоянное негативно-равнодушное отношение руководителей Солнечногорского района Московской области, да и немалого ранга руководителей самой области, к блоковским памятным местам? Кажется, что испытывают они не чувство гордости и действительной любви к земле поэта, а чувство навязанной извне обузы. Видимо, надо как-то поправлять и воспитывать подобных руководителей.
Следует безотлагательно также подумать и решить вопрос о восстановлении находящейся в семи километрах от Шахматова усадьбы одного из величайших русских ученых, гениального Д. И. Менделеева – Боблово. Почти сорок лет прожил здесь Менделеев, создал многие свои труды, работав над периодической системой элементов, в окрестных полях проводил сельскохозяйственные опыты, в устроенной им лаборатории – эксперименты, организовывал школы, трудился над провидческой книгой «К познанию России».
Грустно напоминать, что места, освященные бытием национального гения, заброшены, запущены. Такое беспамятство по отношению к прошлому ведет к опасному нравственному оскудению. Думается, всем нам, и Академии наук СССР в том числе, будет стыдно смотреть в глаза гостям, которые съедутся в 1984 году в нашу страну со всего мира на празднование 150-летия со дня рождения великого представителя мировой науки. Ведь должны же быть у народа святыни!
Хотелось бы напомнить еще об одном близящемся юбилее. В 1984 году исполняется 175 лет со дня рождения Н. В. Гоголя. В Москве сохранился дом Талызиной, где скончался великий писатель. Сейчас здесь городская библиотека № 2 имени Н. В. Гоголя и в нескольких комнатах расположилась небольшая, очень хорошо продуманная литературная экспозиция. Но, видимо, необходимо перевести библиотеку в соседнее здание этой усадьбы, а в доме, где умер писатель, открыть наконец музей Гоголя — первый в нашей стране. Да, поразительно, но у нас нет музея Н. В. Гоголя и очень неспешно продвигаются дела в Полтавской области, где создается гоголевский заповедник. Москва обладает и правами и возможностями для создания мемориального музея Н. В. Гоголя, и надо приступать к его созданию. Возрождение этих памятников – дело чести двух республик: РСФСР и УССР. Ведь Гоголь – это живая связь двух братских народов – русских и украинцев!

Большие Вязёмы. Рисунок Н. Жданова
Пора подумать и о создании музея М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, на Литейном проспекте, где прекрасно сохранилась квартира писателя. Творчество Салтыкова-Щедрина, как известно, вкривь и вкось толкуют на Западе. Музей Салтыкова-Щедрина может стать превосходным местом для широкой просветительной работы, основой которой будет освещение истинного смысла и значения великого наследия писателя.
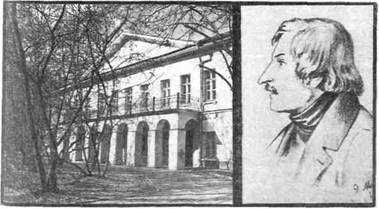
Москва. Дом на Суворовском бульваре, где жил и умер Н.В. Гоголь
Последний портрет Гоголя (1852). Рисунок Э.А. Дмитриева-Мамонова
Не могу здесь не сказать и о добром начинании, о котором мне только что стало известно. Главное управление культуры Моссовета поддержало ходатайство Московского городского отделения ВООПИК о создании литературно-мемориального музея А. Блока в Москве, в доме № 6 по улице Алексея Толстого, где он жил в 1904 году. Об этом памятнике рассказывали журнал «Огонек» и газета «Советская Россия». Поддерживая предложение Главного управления культуры Моссовета, Министерство культуры РСФСР решило открыть в этом доме литературно-мемориальный музей А. Блока на правах филиала Государственного литературного музея. Это прекрасное, своевременное и принципиально важное решение. Суть проблемы в том, что А. Блок стоял на рубеже литературы двух эпох, что он связал своим творчеством великую русскую литературу XIX века с литературой социалистического общества, ведь именно с поэмы «Двенадцать» каждый школьник уже более полувека начинает изучение советской поэзии. Блок же и завершил пушкинскую эпоху русской литературы. Неразрывность, преемственность культуры олицетворяет поэзия да и сама жизнь Блока, в первые же послереволюционные дни ставшего на сторону Советской власти и отдавшего все силы строительству новой, социалистической культуры. Не так давно, к 100-летию со дня рождения поэта, в Гослитмузее была развернута прекрасная выставка материалов о его жизни и творчестве. Уже тогда писали, что эти реликвии достойны не залеживаться в фондах, а занять место в постоянной экспозиции музея Блока в Москве. Эту позицию активно поддержали и директор Гослитмузея Н. В. Шахалова, и начальник Управления музеев Министерства культуры РСФСР А. В. Бартковская, и крупные ученые, и писатели страны. Теперь есть основания надеяться, что эти благие намерения претворятся в жизнь и откроется в Москве музей поэта, которого А. М. Горький называл «волею божией поэтом и человеком бесстрашной искренности».
— Наш разговор, Дмитрий Сергеевич, принимает направление уже более специализированное. Мы подвигли к деятельности людей, непосредственно отвечающих за работу с памятниками культуры: местных и не только местных руководителей, администраторов и хозяйственников, музейных работников, реставраторов и так далее.
— Поворот беседы вполне закономерен. В конце концов, отвечать за дело должны люди, которые к нему приставлены. Общественность общественностью, а ответственность персональных лиц прежде всего.
Ведь мы говорим о делах, можно сказать, кровно затрагивающих буквально каждого из нас!
Может ли оставить спокойным, например, ярославцев отношение местных властей к памятникам в старой центральной части этого города-музея?
А как могут жители Молдавии спокойно видеть использование белого камня из обнаруженных археологами изумительных античных построек на местные хозяйственные нужды?!
Об этом надо, как говорится, бить в колокола беспрерывно, для того чтобы те, кто виновен в подобных безобразиях, видели, знали, ощущали, что они находятся в зоне самого пристального внимания общества и что любое антидействие или любая бездеятельность не останутся без последствий.
Добавлю также, что оттого, что человека без соответствующей профессиональной подготовки и знаний назначат генеральным директором музея, этот человек ни музейным специалистом, ни искусствоведом не станет.
И еще: если власти, партийные и советские, на местах заняты лишь решением узко-хозяйственных проблем, если они равнодушны к культуре родного края, к его истории, там, как правило, идеологическое, нравственное воспитание хромает на обе ноги. А эта сторона имеет, как известно, прямую связь с любыми формами практической деятельности.

А.Блок. Рисунок Н.Жданова. Москва. Дом, где останавливался А.Блок
— Одним из самых ярких примеров недопустимого отношения к величайшим памятникам нашей культуры со стороны совершенно конкретных лиц является «борьба против Грековых», которая много лет подряд велась в Новгороде...
Если вы позволите, Дмитрий Сергеевич, мы напомним читателям начало этой истории.
Новгород. Новгородская область. Эти славные исторические места с первых же месяцев войны стали ареной жестоких, кровопролитных сражений. Более того, именно здесь прошла та черта, дальше которой fie смогли двинуться фашисты.
А когда пришел победный час и наши, выстояв, перемолов силы врага, пошли вперед на запад, то остались на старом рубеже скорбные курганы, под которыми лежали воины «сороковых роковых» и останки шедевров – новгородских храмов XII, XIII, XIV, XV веков. Тлен, прах, пыль. И так, казалось, навсегда.
Но советские люди совершили подвиг, подняв из руин Новгород, восстановив многие его памятники, которые казались утраченными навечно.
Однако и среди подвигов бывают такие, про которые говорят: «Невозможное становится возможным!» Именно таков подвижнический труд художников-реставраторов Александра Петровича и Валентины Борисовны Грековых, продолжающийся уже почти двадцать лет.
Именно они с группами энтузиастов со всей страны, из многих городов дважды перебрали своими руками, дважды просеяли пыль и щебень, из которого состоял курган, – все, что осталось от храма Спаса на Ковалеве – шедевра архитектуры и фресковой живописи.
Много лет Грековы по крупинкам выбирали сотни тысяч мельчайших частиц штукатурки со следами сохранившихся остатков фресок, подобрали из этих крупинок почти сто семьдесят квадратных метров росписей, вернули из небытия несколько больших законченных живописных сюжетов.
И все годы, пока они работали на кургане, за их плечами стояла смерть. Десятки неразорвавшихся снарядов, мин извлекли из «военного слоя» саперы – постоянные сотрудники Грековых на Ковалевском холме.
Работы еще очень много, больше половины крохотных частиц не нашли пока своего места – ждут подборки. Еще только десять квадратных метров фресок окончательно смонтированы, закреплены на специальных титановых щитах.
Весь мир знает о подвиге Грековых. О них написаны статьи, очерки, репортажи. О них сняты фильмы, показаны телевизионные передачи.
Грековы – гордость нашей национальной культуры.
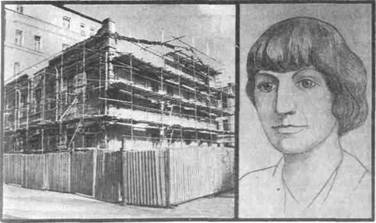
Дом М.Цветаевой в Москве
Портрет Марины Цветаевой. Рисунок Н. Жданова
— «Это самая героическая, самая вдохновенная и самая нужная работа реставраторов, которую я когда-либо видел. Это работа не только большого технического мастерства, но и работа, за которой чувствуется моральная сила», – так я писал почти пятнадцать лет тому назад о подвиге Грековых.
То же самое повторяю теперь. Только требуется внести малоприятное уточнение: подвиг продолжается, а параллельно развивается некрасивая история, которая, можно сказать, обволакивает подвиг, стремится его уничтожить.
— После первых побед Грековых, когда всем стало ясно, что их терпение, труд, талант возрождают, казалось бы, погибшие шедевры, возникла идея отстроить вновь и сам храм Спаса на Ковалеве. И естественно, вернуть фрески на их «штатное» место.
За долгие годы подвижнического труда Грековы убедились в том, что собранные из микроскопических частиц, скрепленные специальным составом и смонтированные на титановых щитах композиции нуждаются в особо бережном хранении и помещении со строгим температурно-влажностным режимом.
Считаю необходимым еще раз напомнить про исключительную культурную и художественную ценность Ковалевских фресок. Роспись была завершена за месяц до Куликовской битвы, и военная тематика доминирует в композициях. Гениальные древнерусские художники сумели передать всенародный дух высокого патриотизма, владевший в то время русскими людьми.
Особенное значение имеет и то, что в создании фресок вместе с русскими художниками принимали участие и сербские мастера.
За восстановление Ковалевского храма взялся новгородский архитектор Л. Е. Красноречьев. Человек одаренный, работоспособный, он известен в Новгороде своими работами, особенно в области реставрации памятников деревянного зодчества.
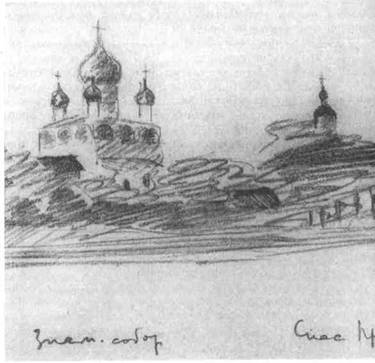
Новгород. Рисунок Д.С. Лихачева
Однако излишняя торопливость и самоуверенность в работе на Ковалевском холме сыграли с ним злую шутку. Применение в возводимой зимой постройке раствора с большими добавками цемента сделало здание сырым, как бы тянущим в себя влагу из окружающей местности.
Попросту говоря, при восстановлении Ковалевского храма был допущен большой брак. И каждому здравомыслящему человеку ясно, что ни о каком музейном экспонировании (а тем более драгоценных фресок) в этом сыром здании и речи быть не может. И несмотря на это, в Новгороде уже много лет добиваются того, чтобы фрески были установлены именно в Ковалевском храме.
Странно, но «идею» о возвращении фресок в Ковалеве деятельно поддерживали директор новгородского музея Л. И. Ярош, а также руководители ВО «Союзреставрация» – Всесоюзного объединения, занимающегося реставрационными работами, – В. И. Антонов и И. М. Гудков.
Очевидно, здесь мы имеем дело с административным упрямством и самыми мелкими чувствами по отношению к заслуженной широкой известности, которой пользуются А. П. и В. Б. Грековы.
— Министерство культуры СССР, его научно-методический совет неоднократно разъясняли, указывали, приказывали хозяйственникам и администраторам в Москве, в Новгороде, как надо обращаться с драгоценными фресками, подчеркивали, что категорически нельзя экспериментировать с ними, пытаясь всеми правдами и неправдами водворить шедевры древнерусской живописи в сырое, неприспособленное помещение.
Но три фрагмента фресок уже помещены в Ковалевскую церковь. Грековым под любыми предлогами запрещено монтировать подобранные композиции. В результате на сегодняшний день подобрано 170 квадратных метров фресок, а смонтировано лишь десять.
Особенно печально говорить про эту историю, которая происходит в Новгороде, поскольку есть немало примеров того, как внимательно, заинтересованно, чутко реагируют и областная партийная организация, и местные Советы на все проблемы археологов, реставраторов, хранителей многочисленных сокровищ Новгорода.
Убежден, что при сложившихся обстоятельствах разрешение этой проблемы может быть осуществлено лишь одним способом. Видимо, настало время для того, чтобы срочным специальным решением Министерства культуры СССР фрески, всю мастерскую, самих художников немедленно перевести в Москву.
Музей имени Андрея Рублева давно предлагает эту меру и гарантирует наилучшие условия для хранения фресок и для работы Грековых. Слишком опасными становятся безответственные действия, опасными для жизни фресок и просто для жизни Грековых, немолодых людей, которым уже не хватает сил бороться за дело, которому они отдали столько лет.
За эти и подобные действия несут ответственность не безымянные «массы», а вполне конкретные «деятели»!
Об опыте противоположного, позитивного характера могут немало интересного рассказать товарищи из Прибалтики. Там во многих местах все партийные, советские, хозяйственные руководители в обязательном порядке проходят курсы изучения истории родной республики, ее культуры, основ музейного дела. И результаты исключительно плодотворны.
Очень добрый, эталонный, я бы сказал, пример самого внимательного отношения к памятникам культуры со стороны областной партийной организации мы видим в Пензенской области. Здесь действительно происходит настоящий музейный ренессанс. Многочисленные мемориалы, музеи, памятники там и оберегаются, и работают с самым высоким коэффициентом полезного действия. Постоянно открываются новые музеи и мемориалы, реставрируются и возрождаются старые усадьбы, где жили и бывали люди, оставившие славный след в истории Отечества. И отдача этой работы велика, не только, замечу, нравственная, но и хозяйственная отдача.
Хорошие примеры есть. Но сегодня остаются еще и веские основания для большого беспокойства.
Пусть как сигнал тревоги, как набат нашей совести, как призыв к немедленным спасательным операциям прозвучат имена некоторых великих памятников, взывающих о помощи и спасении:
Остров Валаам в Карельской АССР.
Могила героев Куликовской битвы Пересвета и Осляби в Москве.
Склеп Деметры в Керчи.
Усадьба Д. И. Менделеева Боблово в Подмосковье.
Даниловский монастырь в Москве...
Память истории народа и все, что ее олицетворяет, священны. И это не просто высокие слова, это ориентир в практических действиях.
Беседу вел М. Баринов
Огонек. 1982. № 29.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СЛУЧАЙ
С 29 июня по 2 июля 1982 года проходил съезд Общества охраны памятников истории и культуры в Новгороде. Был там и Валентин Григорьевич Распутин, которому я немного показывал Новгород, и вот что я ему рассказывал, не рассчитывая на возможность использования для какого-либо рассказа. Действительность в моем рассказе была «литературнее» допустимого в литературном произведении. В церкви Рождества на Кладбище с великолепными и малоизученными фресками обнаружили при реставрации вверху алтарной апсиды огромный снаряд. Концы снаряда были видны и снаружи и внутри. Вызвали саперов. Они сказали: «Единственный способ взорвать на месте. Иначе обеспечить безопасность нельзя». Реставраторы чрезвычайно взволновались: «Но погибнут фрески!» Как всегда в чрезвычайных случаях, гут же оказались два мальчика. Услышали, что взрывать будут утром. И вот, когда утром приехали саперы, – снаряда не обнаружили. Мальчики за ночь вытолкнули снаряд наружу. Он упал на мягкую кладбищенскую землю и, к счастью, не взорвался.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
БИОГРАФИЧЕСКОЕ ЦЕЛОЕ
Жизнь человека это не отдельные события, связанные в незакономерную последовательность, а своего рода организм, «биографическое целое». Поступки и события – только звенья цепи, имеющей свою форму, свою одухотворенность и свою индивидуальность. Существует индивидуальность как человек, и есть индивидуальность как его жизнь. Последняя зависит от первой, но обе законченные цельности. И человек должен это знать, а не жаловаться («не повезло в жизни»).
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
ДАЕТСЯ СУДЬБОЙ
1
Одно из самых ценных человеческих качеств – индивидуальность. Она приобретается от рождения, «дается судьбой» и развивается искренностью: быть самим собой во всем – от выбора профессии до манеры говорить и походки.
Искренность может быть в себе воспитана.
Публикуется впервые.

Новгород. Рисунок Д.С. Лихачева
ТАЛАНТЫ РЕДКИ, ИХ НАДО БЕРЕЧЬ
Талант – это единственное в человеке, что всегда работает на своем уровне. Можно быть прилежнее или ленивее, аккуратнее или неряшливее, работать больше или меньше, но нельзя преподавать, исследовать, писать более талантливо, чем ты способен, да нельзя и на менее низком уровне. Можно вообще не работать, но это другой вопрос. Вот почему так важно замечание В. И. Вернадского в его «Страницах автобиографии»: «Таланты редки, и их надо беречь и охранять».
Публикуется впервые.
КОЛЛЕКТИВНАЯ ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ
Термин «мещанство» идет от Герцена, который разумел под ним коллективную посредственность, умеренность и аккуратность, ненависть к яркой индивидуальности. Подобного понятия нет в других языках. Уж очень ненавистно было всегда мещанство в России. Поэтому и утвердилось это понятие.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
«СИЛА САМООСУЖДЕНИЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО – СИЛА»
Достоевский писал в заметке «Два лагеря теоретиков»: «...Народ наш с беспощадной силой выставляет свои недостатки и перед целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать себя. Иногда он даже несправедлив к самому себе, – во имя негодующей любви к правде, к истине.
Неужели это сознание человеком болезни не есть уже залог его выздоровления, его способности оправиться от болезни?..
Сила самоосуждения прежде всего – сила; она указывает на то, что в обществе есть еще силы. В осуждении зла непременно кроется любовь к добру. Негодование на общественные язвы предполагает страстную тоску о здоровье».
Хорошо бы этими словами дополнить мои «Заметки о русском».
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
ЕСТЬ ЧТО-ТО, ДО ЧЕГО ТЫ ЕЩЕ НЕ ДОРОС
Всегда помнить, что есть что-то, до чего ты еще не дорос. Быть храбрым в стремлении воспринимать чужую культуру. Быть смелым к сложной и непонятной культуре, по отношению к тому, что выше тебя по интеллектуальному уровню.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
БЕЗДЕЛЬНИК ВСЕГДА ОЧЕНЬ ЗАНЯТ
Бездельничание вовсе не состоит в том, что человек сидит без дела, «сложа руки» в буквальном смысле. Нет, бездельник вечно занят: пустословит по телефону (иногда часами), ходит в гости, сидит у телевизора и смотрит все подряд, долго спит, придумывает себе разные дела. Вообще бездельник всегда очень занят...
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
Смотря передачу «В мире животных», я твердо усвоил: хищники нужны для экологического равновесия. Ну а если рассматривать человеческое общество как некое экологическое целое? Зачем нужны в нем прихвостни, доносчики, склочники? Достаточно, чтобы в здоровом коллективе появилось два-три таких хищника – и всякое экологическое равновесие оказывается полностью разрушенным, сообщество просто перестает существовать. Человеческое общество в экологическом отношении отнюдь не похоже на животный мир.
Правда, в животном мире тоже бывают экологические нарушения: города переполняют вороны, а где есть вода – чайки. Они лишили города певчих птиц. Их нужно отстреливать.
А что делать со склочниками в научных учреждениях, которые тоже уничтожают «певчих птиц» – людей, способных к научной работе, – находят у них идеологические ошибки, перегибы, загибы, уклоны, методологические неправильности и пр.? Я думаю, что наши законы слишком для них демократичны, охраняют их, тогда как полагалось бы охранять здоровую часть коллектива от них. Что, например, делать с громилой В., позорившим нас за рубежом и со все нарастающей силой продолжающим разваливать учреждения, в которых его принимают на работу после изгнания (с огромным трудом) из очередного научно-исследовательского и педагогического института? Ведь он не один! Изменить порядки и привлекать к ответственности за ложные доносы.
Если в письме, обращенном таким хищником в вышестоящие организации, есть неподтвержденные данные, – немедленно привлекать к ответственности. А по телевидению открыть новую передачу «В мире людей», в которой рисовать психологию людей хороших и плохих, порядочных и лжецов, создающих хорошую атмосферу вокруг себя и разрушающих общество. Передачу по психологии поведения.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
ЗАВОЕВАННОЕ СЧАСТЬЕ
Но явно счастье боевое
Служить уж начинает нам.
Тесним мы шведов рать за ратью;
Темнеет слава их знамен,
И бога браней благодатью
Наш каждый шаг запечатлен.
Счастье может быть только боевое – только завоеванное нами. Вечного, постоянного счастья не бывает. Нельзя быть счастливым, когда есть страдающие. Но можно быть счастливым чем-то, что сейчас добыто, получено.
Диктор телевидения в одной из передач останавливал людей на улице и спрашивал: в чем, по-вашему, состоит счастье? В ответ миллионы людей слушали детский лепет. Что-то вроде того: «Счастье – это когда дома достаток и на службе хорошо» или «Счастье – это когда мои девочки подрастут красивыми, здоровыми и хорошо выйдут замуж». Это все мещанство. И даже когда большие люди твердили: «Это гармония между чем-то и чем-то», недалеко ушли.
Счастливым чем-то достигнутым можно быть только короткий промежуток времени, а после начинаются новые заботы, ибо, повторяю, нет счастья ни для кого, пока есть несчастье рядом.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
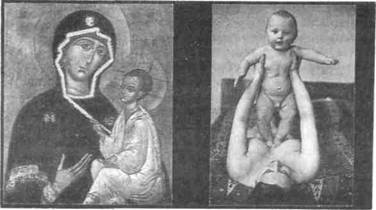
Богоматерь Тихвинская
Материнство
СТАРОСТЬ НАДО АТАКОВАТЬ
Как быть в старости? Как преодолевать ее недостатки? Об этом отчасти я написал несколько строк в своей книге «Прошлое – будущему». Но есть более подробная и вполне правильная статья акад. В. Л. Гинзбурга «Когда годы берут свое» (Природа, 1986, № 10). С мыслями этой статьи я вполне согласен. Она полезна. Пусть ее прочтут. Но статья неполна. Главное и не учитываемое В. Л. Гинзбургом в его статье вот в чем: старость – это не просто угасание, успокоение, постепенный переход к покою (могу сказать – к «вечному покою»), а как раз напротив: это водоворот непредвиденных, хаотических, разрушительных сил. Это мощная стихия. Какая-то засасывающая человека воронка, от которой он должен отплыть, отойти, избавиться, с которой он должен бороться, преодолевать ее.
Не просто уменьшение памяти, а искажение работы памяти, не угасание творческих возможностей, а их непредвиденное, иногда хаотическое измельчение, которому не следует поддаваться. Это не снижение восприимчивости, а искажение представлений о внешнем мире, в результате чего старый человек начинает жить в каком-то особом, своем мире.
Со старостью нельзя играть в поддавки; ее надо атаковать. Надо мобилизовать в себе все интеллектуальные силы, чтобы не плыть по течению, а уметь интуитивно использовать хаотичность, чтобы двигаться по нужному направлению. Надо иметь доступную для старости цель (считая и укорачивающиеся сроки, и искажение возможностей).
Старость расставляет «волчьи ямы», которые следует избегать.
Заметки и наблюдения. Л. 1989
НЕНАДЕЖНЫЕ ЛЮДИ
Самое дурное (не «самое» но одно из самых) свойство человека – не заботиться о жене, не вспоминать родителей, не заботиться о детях (по-настоящему), не посещать могилы близких, оставлять беспомощных стариков, требовать только для себя. Все это с какого-то момента начинает овладевать человеком гуртом, вместе, в совокупности. И поэтому по одному из этих признаков можно определить наличие и всех остальных. Это люди во всех отношениях ненадежные.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ СВЯТЫНЯ
«Человек человеку – волк», – любят повторять люди дурных наклонностей. Но мало кто слышал другую сентенцию: «Человек человеку святыня». Сенека (кажется) утверждал, что «общество человеческое похоже на свод, где различные камни, держась друг за друга, обеспечивают прочность целого». Это удивительно верно. Один только пример: мы идем по улице и доверяем, интуитивно доверяем тысячам водителей, их опытности и элементарным нравственным устоям. Не их дипломам, уличным правилам движения и службе милиции только доверяем, а доверяем им как людям с чувством ответственности.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
НАУКА БЕЗ МОРАЛИ ПОГИБНЕТ
— Думаю, нам не следует обожествлять Академию наук. В стране кроме нее может сосуществовать множество научных сообществ. Вообще, настоящая наука развивается не очень большими коллективами. Если в исследовательской организации работают несколько сот, а то и тысяч человек, науки там не будет. Она развивается в лабораториях, где максимум 25 человек. Вот я, например, убежден, что у нас в Пушкинском Доме древнерусская литература успешно исследуется оттого, что занимается этим отдел, где всего 12 человек. Было бы 40, половина была бы из лентяев, а другая ориентировалась на них.
— Это относится к гуманитарным наукам?
И к естественным, к техническим тоже. Может быть, соотношения там будут иные. Но – важен принцип! – и там удаление крупного ученого вверх по административной линии от непосредственного предмета исследований и от непосредственных их участников, создание многоступенчатой управленческой лестницы ни к чему хорошему не ведут. Нельзя таким путем создать коллективы единомышленников.
Наука сильна школами, борьбой разных, противоположных позиций. Но что-то я не видел, чтобы командно-административная система, «троянским конем» внедряющаяся и в науку, этому способствовала.
— Вы говорите о монополизме так, словно он охватил уже всю науку.
— Монополизм, к сожалению, разросся в ней повсеместно. И страшно даже не то, что он объявляет одну из точек зрения истиной в последней инстанции, добываемой однозначно, единственным путем. А то, что он утверждает бесконтрольность, безответственность, подменяет гражданский долг заглядыванием в рот институтскому или академическому начальству.
Отдельные научные положения и концепции начинают доминировать. Все, что от них хоть на йоту отличается, объявляется от лукавого. Может быть, ярлыки типа «кибернетика – продажная девка империализма» и с другими всякими «измами» впрямую нынче и не услышишь. Но суть такого подхода во многих случаях остается, пока цел в науке командно-административный и ведомственный костяк.
Существует, например, структуральная школа. И вот ее начинают всячески клеймить. И клеймить политически. А между тем это не политическая, а чисто научная школа. Не противопоставляемый марксизму метод, как кое-кто утверждает, а советская структуральная школа филологической науки. И возглавляющий ее Ю. М. Лотман – патриот, в войну не где-то в тылу отсиживался, а был на фронте боевым офицером-артиллеристом. Настоящий патриот нашей страны, замечательно пропагандирующий по телевидению Пушкина, отечественную историю, культуру.
И еще одно порождение монополизма – вторичная наука. Ее адепты без труда пользуются выводами, добытыми трудом других, настоящих ученых. Появились люди, которые в инквизиции назывались квалификаторами: им давалось право определять, где ересь, а где нет. Такие квалификаторы узурпируют право милицейской палочкой дирижировать движением в науке. Да кто им такое дал право?! Разве не отторгнула их от себя наука вместе с Лысенко и ему подобными?!
― Лысенко кончился, а тенденция остается?
— Продолжается дальше. Не в таких катастрофических масштабах, как при нем. Но по-прежнему живо прямолинейное, угрюмбурчеевское стремление определить, кто прав, кто не прав и на сколько процентов.
Да, вторичность, порожденная монополизмом, губит науку. Но и – диалектика! – подпитывает сам монополизм. Ведь человек, захвативший регуляцию движения в науке, должен формально подтверждать свое право на это, все время «делать открытия». Все это вынуждает подобных людей паразитировать на творчестве настоящих ученых, выступая в качестве благодетелей-соавторов или, если те от соавторства отказываются, не давая им ходу. А то и просто «склеивать» свою концепцию из осколков двух чужих. Потом находятся не менее ловкие компиляторы, строящие на основании такой, третьей концепции «свою», четвертую. Ну и так далее.
— Точные, рациональные знания и умения далеко не всегда напрямую связаны с представлениями о добре и зле, о порядочности и непорядочности. Не тут ли корень дефицита нравственности, о котором так много сейчас говорят в научных аудиториях?
— Думаю, не тут. Ибо с проблемами совести, нравственных ценностей связана судьба личности в любой области ее деятельности, судьба общества, человечества. Никакие законы экономики не действуют там, где нет минимума нравственности. В среде воров, допустим. Для нормальных взаимоотношений между людьми должен быть минимум доверия их друг другу, минимум нравственности.
А вот для того чтобы развивалась наука, нужен даже максимум нравственности. Ибо при теперешнем ее состоянии, при ее компьютерных системах даже самая «маленькая» сделка ученого с начальственным давлением против своей совести и истины, угодливое молчание и самоустранение от борьбы ради душевного комфорта, а то и просто ради тривиального материального благополучия тиражируется, разрастается потом до вселенских масштабов чернобыльской беды, гибели Арала, нашего отставания на ключевых направлениях научного и технического прогресса.
В первооснове этого всегда лежат ложные якобы результаты якобы науки, добываемые ради чего угодно – диссертации, премии, академического титула, но не ради истины. Сложилась даже определенная «философия проходимости». Чтобы подтвердить свою концепцию (а она заведомо должна хорошо согласовываться со взглядами, принятыми в данный момент высшими эшелонами и государственной, и академической власти), исследователь закладывает в основу экспериментов явно неправильные данные и, как недобросовестный школьник, подгоняет ход решений под ответ. Но это ложь! Ведь жизнь – не задачник с ответами в конце.
Наука без морали погибнет. А это потянет за собой деградацию экономики, распад социальных связей, отношений людей. Недавняя наша история сурово подтвердила истину: в XX веке невозможно средневековыми, приказными, палаческими методами, не обращаясь к совести человека, его разуму, внутренней свободе, праву личного морального выбора, осуществить самые светлые социальные идеи. Дворцы и храмы грядущего не возводятся на крови.
И не случайно наука все меньше и меньше дает честных результатов. Мы слишком часто встречаемся с фактами плагиата, подмены научных данных, подгонки аргументации, материалов, экспериментов «под ответ».
— Итак, вы утверждаете: нравственность в науке падает. В чем причина?
— В том, что нравственность формируется в большей мере искусством и гуманитарными науками, а у нас в АН СССР они на самом последнем месте. В президиуме АН нет ни одного филолога. В Академии наук исчезло искусствознание. Лишь в последнее время выбраны в АН два искусствоведа, и то – по разным отделениям.
Может быть, нет достойных? Да нет же! Целый ряд ученых, не имеющих у нас даже звания членов-корреспондентов, в то же время всемирно известны: Ю. М. Лотман, М. Л. Гаспаров, В. Н. Топоров, В. В. Иванов. Сейчас мировое литературоведение следует, например, за М. М. Бахтиным, за введенными им новыми понятиями (хронотоп и другие). А для Академии все это будто на другой планете. Только в последние выборы стал членом-корреспондентом С. С. Аверинцев. Не был избран в Академию гениальный А. Ф. Лосев.

Н. И. Вавилов И. В. Курчатов
Надо ли после этого объяснять, почему у нас с искусствоведением провал и это ведет к массовому снижению уровня культуры, к непониманию искусства?! В школах о нем вообще не говорят или говорят на уровне уроков рисования и музыки в детском саду и первой гаммы. Причем даже это делают неспециалисты.
— Но ведь есть же и прекрасные школьные искусствоведческие кружки, и творческие педагоги!
— Но на 130 тысяч школ у нас всего 50 тысяч учителей музыки, в большинстве своем с начальным музыкальным образованием. После этого стоит ли удивляться, что серьезную музыку у нас слушает всего один процент населения, что симфонических оркестров в СССР в 20 раз меньше, чем в США (а ведь Россия еще недавно по праву слыла страной величайшей музыкальной культуры)? Мы, когда-то гордившиеся успехами своей системы просвещения, по образовательному уровню откатились на 25-е место в мире.
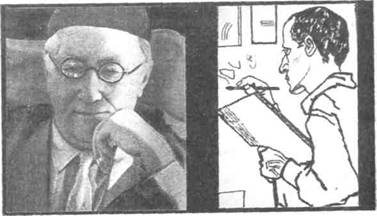
А.Ф. Лосев
П.Ф. Филонов. Автопортрет
Такие плоды мы пожинаем потому, что по отношению к гуманитарным, духовным началам в науке, и не только в ней, по сей день действует всесильный «остаточный» принцип. Если отношение к гуманитарной науке, гуманитарной культуре человека будет оставаться в сегодняшнем состоянии, неизбежно падение и нравственности. Она ведь не стоит на месте, а либо подымается, либо падает. Конечно, если человек начнет читать Пушкина, это не значит, что он немедленно станет нравственным. Должно вырасти несколько новых поколений.
Вот посмотрите, житейский факт. Уходит из семьи отец, ему ребенок не нужен. Мать снова выходит замуж, и ей он ни к чему. А в результате какое огромное количество сирот в нашей жизни, сколько сызмальства деформированных судеб и душ! И это в мгновение ока не поправишь. Это дело нескольких поколений – формирование в обществе нормальной семьи, чтобы у ребенка были постоянные, а не временные родители.
То же происходит и с истиной в науке, которая никому не нужна, когда идет не поиск истины, а беспардонная дележка жизненного пирога. И это уже...
— Духовное сиротство.
― Да, именно! Духовность не может существовать в одиночку. Она создается или подавляется средой, в семье науки, семье ученых. Какая сложилась семья – такая в ней и нравственность. И вот сегодня мы пребываем в состоянии духовного сиротства.
При этом я имею в виду, что у нас в науке мало осталось личностей, которых и коллеги, и ученики почитали бы за духовных отцов, по которым сверяли бы свои поступки, как по этическому камертону. А ведь всегда, во все эпохи в Отечестве нашем были личности, которых современники почитали как совесть нации: Лев Толстой. Достоевский, Некрасов, Белинский. Я назвал писателей. Но могу обозначить и такой же ряд ученых.
Меня в свое время удивили вавиловские «Пять материков», и я даже написал на них рецензию. В них открывается одна очень светлая грань его личности: огромный, искренний интерес к людям в любой точке планеты, к их жизни, болям, тревогам. Характеристики людей у него поразительные. Сквозь строки просвечивает его кровная связь с окружающим обществом, но связь не административная, не абстрактно-теоретическая, а через интерес к живым, конкретным людям. Это, между прочим, отмечают и все, кто работал рядом с ним. Я знал секретаря Н. И. Вавилова. И мне запомнилось (это было еще при его жизни) ее восхищение порядочностью, честностью, этической чистотой этого человека уже в нелегкие и для него, и для страны времена. Интерес не только к своей специальности, но и к людям, снисходительность к их странностям и слабостям, понимание человеческого в человеке, сочувствие ему – очень важная черта настоящего ученого. Николай Иванович Вавилов обладал ею в высшей степени. Беда науки не только в том, что его лично уничтожили. Уничтожили его школу, его учеников, единомышленников и – уничтожили его оппонентов, сам дух развития науки через спор, дискуссию, через столкновение разных позиций, через все то, что выводило советскую генетику на первое место в мире. Ибо Лысенко оппонентом не был. То, что он сделал, – это уже вне науки и ее дискуссий.
Да, такие ученые, как Вавилов, были не только гениями, но и совестью народа. А сейчас что происходит? Среди ведущих ученых буквально единицы, с кем люди считались бы. Но ведь это важно, чтобы человек имел репутацию. Чтобы о ком-то говорили: «Это глубоко порядочный человек». Или наоборот: «Этому человеку я не подам руки».
Часто мы не подаем руки мерзавцам? Стараемся на всякий случай подать – «чтобы не связываться». А людям нужно не подавать руки, если они совершают подлость, в том числе и предательство истины в науке.
Да, у нас сейчас многие ученые не имеют репутации. Это первое, что предстоит восстановить из руин. И по сей день некоторые люди, числящие себя по ведомству (именно по ведомству!) науки, не стесняются выступать по одному и тому же вопросу с совершенно противоположными мнениями в зависимости от нынешней конъюнктуры. Вчера они восхваляли Брежнева, сегодня – Горбачева. Это оскорбительно по отношению к сути оздоровительных процессов в обществе. Перестройке нужны твердые убеждения, а не флюгеры.
— Стендаль говорил: опираться можно на то, что оказывает сопротивление.
― Верно! Сами подумайте: можно ли опереться на молодых приспособленцев, которые и в наши дни начинают с того, что носят портфель за академиком, в мечтах видя, как «племя младое, незнакомое» будет когда-нибудь носить и их портфели? Это уже генетические мутации совести, передаваемые из поколения в поколение. Это самое страшное: мы тем самым на 20, на 30 лет вперед программируем моральную бесхребетность.
Правда, в науке есть основы, противоречащие нашествию портфеленосцев. Мы часто живем нравственностью предков – наших родителей и дедов. И там, в традициях отечественных научных школ, есть на что опереться. Это еще действует. Но это не вечно, если не позаботиться о возрождении лучших традиций нашей науки.
— Некоторые читатели сетуют: когда нынче общество сталкивается с крупными проблемами,
затрагивающими интересы целых регионов или даже всей страны, Академия
почему-то нередко оказывается нерешительной, робкой, беспомощной. Когда
нужно было создать атомную бомбу (понятно, методами самыми жесткими), был
собран необходимый интеллектуальный потенциал.
А сейчас сколько неразберихи с одними водными проблемами, например. Но
Академия как-то вперед не
заглядывает, а все время мечется между
минводхозовскими проектами, туша сиюминутные экологические пожары.
Подобных писем, надо сказать, много. Правы ли их авторы?
― Отвечу. Но сначала вопрос, который я все время как ленинградец задаю сам себе и моим коллегам. Возьмите уже многолетние дискуссии вокруг сооружений по защите нашего города от наводнений. Казалось бы, позиции «за» и «против» давно определились. Но почему ни одна сторона до сих пор не может «нокаутировать» другую неоспоримыми доводами? Потому что нет настоящей гласности. И с общественной точки зрения, и с технической даже.
На том же заливе должны стоять многочисленные посты и лаборатории, оснащенные необходимой наблюдательной техникой. Население должно, как о погоде, регулярно информироваться об экологической обстановке в Неве и в Маркизовой Луже. Ничего этого нет.
Почему Ленинград – единственный крупный город на Балтике, который пока не имеет соответствующих его уровню очистных сооружений? Почему президент АН СССР Г. И. Марчук умолчал об этом, обращаясь к проблеме дамбы на экологической сессии общего собрания Академии?
Президиум АН последнее время регулярно обсуждает пожарные, горящие экологические ситуации. Но при этом ему, на мой взгляд, не хватает твердости, стойкой моральной позиции. Как можно, не унижая достоинства Академии, вообще говорить о целесообразности канала Волга–Чограй, если при разработке проекта под него не была подведена минимальная научная основа? Не принимает же Академия для обсуждения проекты вечного двигателя! В конце концов, правда, президиум высказался против канала. Но сколько мягкотелых колебаний он при этом проявил!
Да, президиуму АН не хватает моральной твердости. Слишком уж часто он выступает то в роли «исполнителя поручений» вышестоящих инстанций, то в роли коллегии некоего научного министерства. Конечно, долг АН СССР такие поручения выполнять. Но и опережать их, не доводить дело до них в результате обострения экологической ситуации то на Байкале, то на Арале, то в Невской губе это высшее призвание Академии. Ведь она не министерство науки, а мозговой центр, интеллектуальная сердцевина общества.
― В науке когда-то был особый климат, высокая культура научного общения – от общих собраний Академии до чаепитий в знаменитой Лузитании – дома у академика Я. Я. Лузина, о которых до нас доходят легенды, и «александровских четвергов» – музыкальных вечеров академика П. С. Александрова на мехмате МГУ, которые мне еще посчастливилось застать. Не слишком ли чиновничьей стала атмосфера научных собраний и коллективов?
― Коллективы и собрания, как и люди, бывают разными. Но в целом, пожалуй, да, утрачивается культура спора, вежливости в науке. Кроме того, сходят на нет некоторые строгие, высокоморальные традиции. Например, раньше считалось недопустимым агитировать за себя при выборах в Академию. Когда встал вопрос об избрании В. Н. Перетца в академики, он уехал в Саратов и жил там месяц, пока не прошли выборы. Чтобы и пятнышка подозрений, будто он как-то на кого-то может повлиять, не легло на его репутацию.
А сейчас? Кандидаты в академики и в члены-корреспонденты ходят и просят за себя, преподносят свои труды, а иногда даже и нечто более существенное. Требуют обещаний агитировать и голосовать за них.
Но ведь самое главное: ученый должен быть внутренне свободен в своем выборе. Он не должен быть ангажирован. Сейчас страшно развилась ангажированность, то есть приверженность к определенной группе людей, к определенным научным руководителям.
Выборы в Академию – очень характерный пример. С одной стороны, она не допустила исключения А. Д. Сахарова из своих рядов. С другой – очень много проходит в нее сейчас людей недостойных. Мы часто голосуем за людей, которых не знаем.
В АН должна быть полная информация о завтрашних ее членах, об их исследовательской, гражданской, человеческой репутации. Как к ученому относятся коллеги? Есть у него научные противники, и какие позиции они отстаивают? Способен ли он оценивать приращение, прогресс в науке, выходя за границы той ее области, где работает сам?
Кстати, об этой способности. Сейчас, при развитии информатики и ее машинной базы, возможности переключаться из одной области науки в другую резко усилились. И одновременно чувствуется в личностях многих исследователей сужение диапазона научного охвата жизни. Откуда этот парадокс?
— Дело не столько в специализации или кооперации разных научных областей, сколько во внутренней – тайной, как говорил Блок о Пушкине, но к любому творчеству это применимо – свободе, в способности не сращивать свой мозг с одной какой-либо догмой.
Трезвая самооценка любого ученого, как и любого общества, – это лучшая почва для выхода на духовные вершины, на острие мирового прогресса, на пути первопроходцев.
—Не оттого ли, что мы стали утрачивать эту трезвость и в нашей науке, и в психологии общества начинает утрачиваться дух первооткрывательства? В послеоктябрьские годы первородство было во всем – и в поисках новых путей развития общества, и в культуре, и в науке. Возвращенные нам сегодня имена Вавилова и Булгакова, Чаянова и Филонова – имена первооткрывателей. Не теряем ли мы этот дух?
—Теряем. Чтобы быть первооткрывателем, чтобы ощущать свое первородство в мире, нужны научная дерзость и духовная свобода. Но где и когда вы видели их на административных лестницах, где человек и не личность уже, а лишь ступенька в ряду других ступенек – выше и ниже?
— Как быть с молодежью в науке? Ведь в конечном счете все решится ею. Уйдет сегодняшнее поколение исследователей со всеми их светлыми и темными чертами и началами. Работать в науке и руководить ею будут сегодняшние молодые. И будут работать и командовать либо по принципам Курчатова и Капицы, либо... Как обеспечить молодым ученым верный нравственный выбор?
— Это проблема чрезвычайно большая и больная. Потому что Академия наук – не остров в океане. Она связана с нравственным климатом всей страны. И это меня больше всего беспокоит. Если люди думают, что перестройка совершится в 3–4 года, то я скажу, что они ничего не понимают в жизни.
Разрушать всегда очень легко. И вы посмотрите: несколько десятилетий командно-административная система разрушала нравственные основы общества. Должно пройти длительное время, чтобы мы их восстановили. Так что наивно надеяться, что есть какой-то волшебный золотой ключик, при помощи которого уже в следующей человеческой генерации можно получить высоконравственное научное сообщество. Это работа нескольких поколений. А вот по каким путям здесь идти, об этом, по-моему, и был весь наш разговор.
Беседу вел К. Смирнов.
Известия. 1989. 25.III.
МЫ ДОЛЖНЫ ОТВЫКНУТЬ ЛГАТЬ
― Моя депутатская деятельность направлена не только на возрождение культуры, но и на то, чтобы в нашу жизнь вернулись понятия долга, совести, веры, нравственного поведения. Буду добиваться, насколько это в моих силах, разработки комплекса законодательных актов, которые гарантировали бы свободу совести, создания строгой правовой системы в нашем государстве.
Мы должны прежде всего отвыкнуть лгать, к чему упорно и жестоко приучал нас Сталин. Ни экономическая, ни научная, ни культурная жизнь страны не может существовать без честности. Во времена сталинщины для того, чтобы выжить, требовалось изворачиваться. Существовали постоянная угроза смерти, неволи и много, много мероприятий, чтобы сделать людей послушными, лишить чувства собственного достоинства. В результате страна развратилась, стерлись общечеловеческие критерии, идеалы.
Но во все времена были удивительные примеры гражданского и человеческого мужества, благородства. Мне на всю жизнь запомнились курсанты и командиры Полтавского военного училища, которые были направлены на подавление голодного крестьянского восстания (это было, помнится, в 1931 году) и заявили, что подчиняются Советской власти, но стрелять в безоружных украинских крестьян отказываются. Готовы идти в заключение, но только все вместе... И вот однажды к нам на Соловки пришел пароход «Глеб Бокий», и из него выгрузилось это Училище в полном составе. Курсанты были аккуратные, подтянутые, четко выполняли все команды своих командиров; помню их в строю – с суровыми, мужественными лицами... Потом их стали разбивать на отдельные группы и разослали по всему Соловецкому архипелагу. Я пытался узнать об их дальнейшей судьбе хоть что-нибудь. Безуспешно. Но они были, я их видел собственными глазами... Мы можем поучиться у них мужеству, сознанию своей воинской чести.
— Но, Дмитрий Сергеевич, сейчас у нас ГУЛАГа нет, можно высказывать мнения. Нынче едва ли не самое употребимое слово «плюрализм».
— К сожалению, законодательно плюрализм не закреплен. Право иметь убеждения не защищено. К примеру, сейчас отношение к церкви, к мечети, к синагоге определяется не законом, а различными инструкциями, многие из которых совершенно устарели. Председатель исполкома местного органа власти может вскрывать мощи в церкви, которым поклоняются верующие. Это же издевательство над верующими! К счастью, эти инструкции сейчас не выполняются. Но указ такой есть. Положение верующих и атеистов в правовом отношении должно быть одинаковым. Свобода вероисповедания заключается в совершении не только молитвы, но и других действий, которые диктуются религией. Особо хочу подчеркнуть право на проповедование веры, потому что в былые времена проповедь нередко рассматривалась как антисоветская агитация со всеми вытекающими последствиями.
Если допускать свободу атеистической пропаганды, а это необходимо, без этого просто немыслимо вообразить наше государство, то в такой же мере следует допускать и свободу пропаганды всех религий (атеисты ведь проповедуют свою веру!). Я представляю себе это так: в религиозных объединениях, в церкви, мечетях могут функционировать школы, читаться лекции, посвященные изложению вероучений. При этом следует пресекать (и в школах, и способами милицейского вмешательства) всякие действия, которые ущемляли бы интересы верующих или неверующих.
Школы с изучением различных вероучений помогают лучше вникнуть в традиционную культуру своего народа, помогают понять многие сюжеты мировой живописи и познакомиться с нравственными системами, существовавшими много веков. Поэтому не обязательно, чтобы все посещающие вероучебные школы или лекции были верующими.
— Свобода совести, убеждений связана прежде всего с национальными традициями. Любое учение – религиозное или атеистическое – элемент традиционной культуры, которой веками жил народ. Возрождение культуры, в том числе и религиозной, связано с разрешением национального вопроса, не так ли?
― Согласен с вами. Хочу только подчеркнуть, что гуманитарная культура и произведения искусства играют в жизни человека особую роль и потому способствуют восприятию культур разных национальностей. Произведения искусства – это самые широкие ворота к сердцу людей любой национальности. Культурный человек не может быть шовинистом. В этом великая примиряющая роль гуманитарной культуры.
Сейчас во многих республиках принимаются законы о государственном языке. Любой язык необходимо беречь, тщательно записывать, изучать, сохранять для будущего. Разумеется, никого нельзя заставлять пользоваться только определенным языком, как нельзя запретить смешанные браки, ограничить образование.
Я буду добиваться скорейшего создания Института малочисленных народностей. Пользуясь современной видеотехникой, нужно сохранить то, что никогда и нигде больше не возникнет, – язык, фольклор, танцы, произведения ремесел, бытовой уклад. Один из общественных советов Фонда культуры занимается этой проблемой, но возможности его ограничены.
Много в национальном вопросе проблем и общих, и специфических... Почему, например, чрезвычайно трудолюбивые немцы Поволжья до сих пор живут в Казахстане? Ведь Поволжье стало их родным домом еще со времен Екатерины II. Это наши немцы, народность, между прочим, никогда России не изменявшая. Или почему Удивительный край коми-зырян превратили в место сплошной ссылки? Не может пройти бесследно для здешнего населения обилие уголовного элемента... Ханты-Мансийская земля – просто исчезающая. Нефть мы там еще, может быть, будем иметь, но вот удивительных умельцев края – охотников, оленеводов, художников – потеряем безвозвратно.
Исчезновение народа на живой карте державы практически невосполнимо. Вновь поселенные, приехавшие по найму люди за несколько лет не в состоянии освоить того, на что у их предшественников ушли тысячелетия. Освоиться – не просто привыкнуть и даже глубоко изучить край, нужно его любить, считать своим, единственным, чувствовать Родиной.
— Почему вы отказались войти в состав парламента?
— Я не обладаю такими возможностями, как москвичи, не могу ходить по инстанциям, добиваясь скорого разрешения вопросов, быть участником комиссий. Я бросил бы научную работу, пошел работать в Верховный Совет, но в мои 82 года тяжело жить в гостинице. К тому же я не вправе требовать, чтобы жена бросила дом и ехала вслед за мной. Для меня это уже невозможно. Но я чувствую: к моему слову прислушиваются. И потому говорю. Повторяюсь не оттого, что не могу выдумать ничего нового, занимательного, но буду твердить, как «Карфаген должен быть разрушен», что прежде всего страна должна быть выведена из состояния хамства и бескультурья. Когда это, главное, сдвинется с мертвой точки, и проблемы экономики легче решатся.
Для подъема нравственности не обязательно дожидаться подъема культуры, а нужно, чтобы люди поняли наконец, что живут не только для приобретения мебели, материальных благ. Поэтому я предлагаю, чтобы люди брали на себя обязательства жить по чести и с достоинством, может быть, даже в ущерб собственной карьере. Человек сам выбирает свой путь.
Сейчас самый большой дефицит не на колготки или стиральный порошок, а на людей. Так мне говорили руководители государства. Вот мы отказываемся от такого-то министра. Но кого назначить вместо него? Принципиальные, неподкупные профессионалы, способные полноценно управлять отраслью народного хозяйства, – редкость, потому что прежде не обращалось внимания на их воспитание. Отсутствие добросовестных людей – самый большой кризис... Я довольно много общаюсь с молодежью. Славное, умное поколение. Очень надеюсь на него.
— Дмитрий Сергеевич, в Ленинграде на вокзале я купил седьмой номер журнала «Ленинградская панорама» за этот год и с удивлением прочитал о работе комиссии по ликвидации последствий пожара в Библиотеке Академии наук СССР, который случился полтора года тому назад. В статье недвусмысленно говорится о том, что виновники пожара – некие поджигатели, причем становится ясно: вдохновители деятельности злоумышленников – академик Лихачев и писатель Гранин. Редакции же «Московских новостей», «Правды», «Советской культуры», «Книжного обозрения» и другие названы в числе пособников. (Сталинские процессы 30-х годов, «дело врачей» тоже начинались с поисков вредителей.) Это похоже на попытку доказать, что есть, есть злоумышленники и никто из ответственных работников не виноват в том, что у нас теперь тонут корабли, взрываются электростанции, горят библиотеки...
― Деятельностью по спасению библиотек я затронул интересы многих людей, которые неплохо жили, занимая высокие посты. На меня стали писать доносы, обвинять в том, что выступаю против кого-то персонально. Это абсолютно не так. Я сознаю, что не в силах помешать чиновникам от культуры делать их карьеру, но категорически настаиваю, чтобы это не было за счет уничтожения и разбазаривания национальных культурных ценностей.
Библиотека Академии наук оказалась беззащитной перед пожаром, как почти все наши библиотеки. Для пожаротушения пользовались водой, а вода опаснее огня, потому что промочило нижние этажи. Меня возмутил факт, что руководитель библиотеки сразу после пожара счел возможным для себя уехать в зарубежную командировку... К тому же развернута кампания преследования сотрудников, которые не согласны молчать о положении библиотеки. Все наши библиотеки в ужасающем состоянии. Пожар за пожаром, затопление за затоплением. Книги гибнут. Если кому-нибудь экстренно необходимо помещение (например, ресторану), то закрывается библиотека. Так собираются поступить с одной из самых популярных в столице библиотек – Некрасовской, а прежде закрыли Тургеневскую... Библиотеки под вечным обстрелом бюрократов. Им они не нужны.
Если так будет продолжаться, наша страна останется без библиотек, а это уже означает гибель культуры.
Я добиваюсь того, чтобы главные научные библиотеки Москвы и Ленинграда были приведены в состояние, достойное нашей страны, чтобы им были предоставлены удобные помещения. Государственная библиотека СССР имени Ленина должна быть выведена из того состояния, в котором она находится. Она должна стать главным консультационным научным центром правительства. Во главе библиотечного дела должен стоять Национальный комитет по делам библиотек.
К сожалению, сейчас распространена практика, по которой директорами библиотек назначают не библиотекарей, а посторонних людей, которые, по существу, не любят книгу. Просидев десять лет в библиотеке, такие директора не знают даже расположения книг.
Специалисты-библиотекари должны иметь шансы стать в результате своей деятельности директорами библиотек. Сейчас у них этих шансов фактически нет. То же самое подчас происходит с музеями. Директорами музеев становятся люди, приглашенные со стороны, дилетанты. Их «бросили» на культуру. Они не знают и не любят музейное дело, не знают принципов экспозиционной и выставочной работы... Считаю, система назначения директорами культурных учреждений людей, не имевших отношения к данной отрасли культуры, а иногда и вообще к культуре, должна быть коренным образом изменена.
Буду стремиться к улучшению условий жизни рядовых библиотекарей. Низовые работники библиотек, музеев, школ – те, кто обращен лицом к человеку, те, кто несет культуру, должны быть прежде всего почитаемы и награждаемы. Профессии библиотекарей, архивистов и рядовых музейных работников должны иметь авторитет. Библиотекарь – первое лицо в селе, в маленьком городе.
В плохом положении находятся музеи – и большие, столичные, и провинциальные. Буду добиваться, чтобы музеям предоставлялись хорошие, просторные помещения, чтобы им отпускались большие кредиты на приобретение оборудования и новых экспонатов, чтобы не распродавались художественные ценности. Буду стремиться к созданию Музея современного искусства, потому что наша страна единственная в мире не имеет такого музея. У нас нет и специального Музея XX века. Это положение для нашей будущей культуры очень опасно, потому что все ценное будет вывезено.
Ежедневно вывозятся редчайшие книги, потому что книги вывозить разрешено, а разница в цене между антикварными книгами в нашей стране и на Западе колоссальная. Это очень выгодный бизнес – вывозить книги в портфелях.
Нужно не только добиваться того, чтобы все лучшее не вывозилось из нашей страны, но и возвращались предметы искусства, по праву нам принадлежащие.
— Обычно в таких случаях возникают технические и финансовые трудности, часто непреодолимые.
— И из этого положения должен быть найден выход. В тех странах, откуда нельзя вывозить наши ценности, следует создавать какие-то отделы, залы нашего национального искусства, чтобы было представление о нашем искусстве на Западе. Для этого не обязательно даже возвращать произведения искусства в нашу страну.
— Дмитрий Сергеевич, вам довольно часто приходилось в жизни отстаивать свои принципы. Правда ли, что, когда в 1975 году в числе немногих академиков вы отказались подписать письмо против Сахарова, вас сильно избили на улице и вы попали в больницу?
— Нет, это преувеличение. Дело было так. В тот день («Это было 21 октября 1975 года», – уточнила Зинаида Александровна) я должен был читать доклад на конференции по «Слову о полку Игореве». Всегда выхожу пораньше, чтобы не торопиться. Очевидно, некто знал о моей привычке. Только я запер дверь квартиры, из-за угла на лестничной площадке неожиданно выскочил человек в вязаной спортивной шапке с опущенным на глаза козырьком и ударил меня в солнечное сплетение. Меня очень выручило, что я был в плотном осеннем двубортном пальто. Оно смягчило удар, и я не упал. Только очень удивился: что происходит? Тогда он меня опять ударил – в сердце. Но и тут мне повезло, потому что слева на груди у меня лежали тезисы доклада по «Слову». Человек бросился вниз по лестнице. Надо было спуститься на лифте и встретить его внизу, а я стал звонить в милицию, чтобы его задержали. Ну, не успели, конечно.
Мне нужно было ехать на конференцию читать доклад, что я и сделал. Вечером вернулся домой и почувствовал, что мне не вздохнуть, у меня болит бок. Оказалось, удар сломал два ребра...
Потом позвонил академик М. Б. Храпченко и сказал, вот мы тут обсуждаем положение с Сахаровым. Президиум Академии наук СССР подписывает заявление против его изменнических выступлений. У вас кончатся все ваши неприятности, если вы к нам присоединитесь. Я отказался. Михаил Борисович ответил коротко: «На нет и суда нет...»
— Мое поколение вышло из разрушенной культуры, причем в силу скудности нашего образования мы слабо представляем даже контуры былой культуры. Нам пришлось, да и теперь еще приходится, переоценивать многие ценности, переосмысливать этические принципы. Вы же получали образование и сформировались до того, как жизнь оказалась зажатой в тиски сталинщины, и пронесли свои убеждения через многие испытания. Что вы можете нам посоветовать?
— Прежде всего отвыкать как от привычного «образа врага», так и от привычного в еще большей степени образа «отсталости и безграмотности России». Очень долго нам внушалось, что мы – исторически отсталая страна. Между тем русские инженеры были лучшими в мире, правда, многие свои идеи они реализовали за рубежом. А русскую литературу и музыку XIX века с чем можно сравнить?
Десятилетиями искажалась и фальсифицировалась наша история. Бывший президент АН СССР Александров каждую свою ежегодную речь начинал с фразы о том, что Россия из страны отсталой с таким-то количеством неграмотных людей в наши годы стала передовой страной. Ну, мы теперь видим, какой она стала передовой...
Россия в XIX и начале XX века была высокоцивилизованной страной, иначе откуда же в ней могли появиться Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Блок... Когда говорят о «безграмотности», то забывают, что прежде записывали в неграмотные всех старообрядцев, отказывавшихся читать книги гражданской печати.
С 1899 года в нашей стране действовали пушкинские кружки и общества. Сейчас они возрождаются, вскоре состоится учредительная конференция Всесоюзного Пушкинского общества, которое, я надеюсь, объединит всех любителей классического наследия и привнесет пушкинскую традицию в культурную жизнь сегодняшнего дня.
О Пушкине мне часто приходилось говорить с моим другом Марком Михайловичем Бариновым. До дня своей смерти он был директором московского Музея А. С. Пушкина и был одним из тех, кто понимал высокое значение пушкинской темы в нашей культуре, что молодежь нужно воспитывать на тех нравственных идеалах, которые заложены в творчестве Пушкина (это и тема памяти, и культ дружества, и понимание гражданской роли поэта и поэзии). Я уверен, что приобщение к пушкинскому наследию действенно поможет духовному становлению современного молодого поколения. Не случайно одно из главных направлений деятельности Фонда культуры представляет – программа «Пушкин в сердцах поколений».
Что я еще посоветую? Прежде всего, читать, читать и читать. При этом не только модные произведения, а классику – то, что всеми признано как самое ценное в мире. Русскую классику. Именно она позволяет человеку вместо одной жизни прожить десять и за десятерых набраться ума. Во-вторых, смотреть, посещать музеи, бывать в наших исторических городах. Я лично многим обязан одному свойству, которое воспитал в себе сам: интересоваться всем, куда бы я ни попадал. На нарах в Соловецком лагере я написал на лагерную тему свою первую научную работу, которая была напечатана. Мне тогда было 22 года...
— Общество сейчас ощутило вкус свободы. Стараясь сберечь свое, исконное, мы пытаемся изучать языки и на этих языках читать, пытаемся ездить за рубеж (хотя это безумно дорого) – открываем для себя мир. При этом, как известно, люди, познавшие тоталитарный режим, имеют большую энергию бытия, чем жившие от рождения в свободном обществе... Можно ли назвать нашу современную культуру «послеупадочной», развивающейся, молодой?
— Пожалуй, так. Сейчас эпоха, в которую создается какая-то еще неведомая нам культура. Так было в петровское время, так было при князе Владимире Святославиче. Мы еще не знаем, какой окажется будущая культура, но уже чувствуем – большой, сложной, опирающейся на культуру старую в ее лучших проявлениях.
Беседу вел А. Михайловский
Неделя. 1989. № 38.
ОБРАЗ ГОРОДА
В последнее время большое беспокойство в специальной научной литературе, в публицистике и выступлениях по поводу современной архитектуры вызывает потеря городами своих отличительных, характерных черт – безликость архитектурная и в широком смысле градостроительная.
Архитекторы, планирующие развитие городов, по большей части крайне поверхностно знают историю планируемого ими города, не имеют представления о том, что в этих городах ценного в градостроительном отношении, какие градостроительные идеи в этих городах развивались. Простейший пример. В Новгороде Великом большой современный театр выстроен тылом к Волхову. На центральной площади в Новгороде-Северском центральный универмаг также выстроен тылом к Десне и закрыл собой вид на Десну и заречные заливные луга. И в том, и в другом случае градостроители даже не представляли себе, что древнерусские города строились лицом к реке: именно река была центральной магистралью города.
Только история городов, взятая в ее краеведческом смысле, может помочь градостроителям сохранить или даже обогатить «образ города» – его «душу», усилить эмоциональный аспект городской архитектуры, столь важный в древности и столь необходимый в будущем.
Русское краеведение пережило в начале XX века свой наивысший подъем, в котором участвовали две выдающиеся личности: проф. И. М. Гревс и его ученик Н. Н. Анциферов. И. М. Гревсом были заложены основы городского краеведения. Ему принадлежит целый ряд трудов, посвященных созданному им «экскурсионному методу» обучения истории, но который, по существу, мог бы быть причислен и к методу изучения того, что И. М. Гревс называл «образом города», или более эмоционально – «душой города».
И. М. Гревс так определял значение городов в познании исторического прошлого страны: «Города – это и лаборатории, и приемники, хранители культуры, и высшие показатели цивилизованности. В них происходит сгущение культурных процессов, насыщение их результатов... Город – центр, в одно время, культурного притяжения и лучеиспускания, самое яркое и наглядное мерило уровня культуры, а история города прекраснейший путеводитель ее хода и судеб»1.
Отсюда следует, что в сохранении исторической преемственности развития культур изучение и сохранение образа городов играет первостепенную роль.
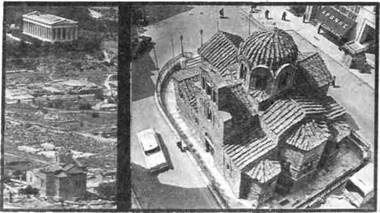
Афины
И. М. Гревс говорит о наглядной «биографии» городов, наблюдаемой более или менее открыто для его жителей и посетителей. Изучая город, нельзя ограничиваться лишь «внешней физиономией его». «Надобно изучить его биографию, познать его именно как своеобразную коллективную личность, – и эта биография даст превосходно конкретизированную часть биографии данной страны и народа... Необходимо уразуметь процессы, какими эта душа слагалась, на какой почве, из какой цепи влияний и смены обстоятельств, – и к чему в конце концов привело город его прошлое»1.
Изучение истории города, наглядное ощущение этой истории для И. М. Гревса – основная часть «реального и монументального исторического родиноведения». Ни в коем случае изучение биографии города, его образа не должно, с точки зрения И. М. Гревса, ограничиваться его «сильными памятниками». Образ города составляют его планировка, взятая в историческом аспекте, рядовая застройка города, создававшаяся веками, рельеф местности, связь с окружающей природой, путями сообщений, окрестностями и т. д.
Без всего этого невозможно и думать о познании образа города, а для архитекторов – о сохранении исторической преемственности в новой застройке.
При этом И. М. Гревс справедливо полагал, что, изучая историю города, нельзя ограничиваться одними документами, историческими планами города, литературными источниками и т. д. Необходимо наглядное, зрительное и вместе с тем эмоциональное восприятие истории.
В самом деле. Если современный градостроитель или архитектор отдельного здания хочет создать эмоциональный образ города, района, он обязан знать и тот эмоциональный образ («душу») города, которая заключена в нем как в целом, а также в том районе, который архитектор собирается обновить своим творением. Не ломать образ города, а совершенствовать его или, по крайней мере, сохранять, оберегать – такова естественная задача любого строителя, создателя нового памятника или озеленителя, если только, конечно, он ценит создававшуюся столетиями красоту города, в котором строит.
В каком же порядке должно вестись изучение образа города и с чем должен считаться архитектор? И. М. Гревс дает на это ряд последовательных ответов, сохраняющих до сих пор свою силу.
Постараюсь кратко изложить основную программу изучения образа города, пользуясь, где это возможно, словами самого И. М. Гревса.
«Прежде всего взгляд историка рассматривает город на земле2 в рамке окружающей природы, как физической среды, в которой развертывается его многообразная жизнь. Здесь имеется в виду страноведение местности данного города в широком смысле: ее геология, рельеф и орошение, климат и почва, флора и фауна, естественные богатства и, наконец, мир человека, антропология и особенно этнография населения. В том же кругу чрезвычайно важно тщательное изучение, более специально, географического положения местности, ситуация ее во всей стране: этим подготовляется понимание очень многого в условиях возникновения города и его развития»3. И этим в значительной мере определяются условия рождения города.

Москва. Большой театр
И. М. Гревс указывает, какое огромное значение имеет изучение топографии города для понимания образа Рима, Афин, Александрии египетской, Киева, Москвы, Петербурга, а несколько дальше – таких выдающихся городов нашей страны, как Чернигов или Нижний Новгород.
И. М. Гревс рекомендует не ограничиваться картами и планами, а закрепить свое понимание планировки города «с птичьего полета», поднявшись на башню, колокольню, барабан над куполом самого высокого храма. В Петербурге, – взойдя на галерею Исаакиевского собора над большим золотым его куполом, в Риме – на собор Святого Петра и т. д. При этом И. М. Гревс предупреждает: «виды a vol d'oiseau не особенно хороши в отношении художественном: в них стирается рельеф, все сплющивается, теряет телесность, нарушаются отчасти пропорции». Для того чтобы противопоставить этому «расплывающемуся» воздействию видов сверху, очень важны, с точки зрения И. М. Гревса, традиционные видовые точки, с которых открывается обзор города сбоку. И. М. Гревс пишет: «В дополнение к указанному ознакомлению с панорамою города a vol d'oiseau существенно искать общих видов иного характера, так сказать сбоку, из некоторого отдаления: они не откроют плана, но дадут часто чудные «фасы» и «профили», полные своеобразной жизни, прелести и значительности; они раздвинут перспективы для уразумения «психического облика» изучаемого, часто таинственного и сложного чувства. Некоторые из мировых городов, перлов культуры и вечных объектов экскурсионного изучения, дают для этого, по самой ситуации своей, отличные возможности. В таком смысле одинаково неподражаемы и великолепны, каждый по-своему, виды Москвы с Воробьевых гор, Киева от памятника кн. Владимира, а на Западе – Рима с Яникула, Флоренции от Сан-Мартино или из Фьезоле, Парижа с Монмартра или из Сен-Клу. Кто это видел, тот испытал не только незабвенные впечатления, но и получит глубокие и прочные исторические образы»1.
В сноске к этому месту И. М. Гревс указывает для русских городов виды на Калугу с гребня возвышенности за Окою, на Харьков с так называемой Холодной горы, на Владимир с соседних холмов и др. В русских городах огромную роль обычно играют виды на город из-за озера (Белозерск, Петрозаводск, Ростов Великий, Переславль-Залесский и т. д.) или из-за реки (таковы виды во всех волжских городах, городах по Сейму, Десне, Днестру, Днепру и т. д.) или боковые виды с набережных в Ярославле, Горьком (Нижнем Новгороде), Костроме и т. д. Все эти виды безусловно должны охраняться градостроителями, и при этом не только видовые точки сами по себе, но и те виды, которые с них открываются. Застройка заречных или приречных частей русских и украинских городов может вестись только с крайней осторожностью. Ибо и виды на заливные луга, на водные пространства озер и рек (ср., например, потрясающий вид из центра Горького – Нижнего Новгорода – на заволжские и закамские просторы), создавая гармоническую связь города с природой, носят своего рода успокаивающий, целебный характер и поэтому любимы местными жителями.
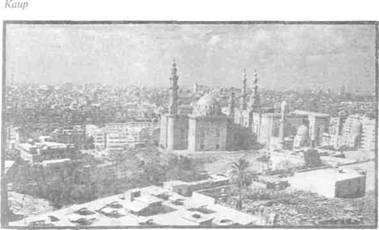
По-разному складываются взаимоотношения города с почвой, рельефом местности, водным пространством. То город расположен «у реки», по одну ее сторону (большинство волжских городов), то «пропускает» реку через себя (Новгород и его преемник Ленинград). То город стоит у подножия горы (София у Витоша в Болгарии), то окружает собой гору (Эдинбург вокруг Седла короля Артура).
Я помню ощущение необычности, когда впервые приехал в Москву из Петрограда и увидел улицы, которые шли то вверх, то вниз. До того я не ощущал почвы, на которой стоит мой город. Мне казалось, что почва равна полу в доме; пол не может вздыбиться или опуститься, только при катастрофе.
У англичан есть понятие: skyline. Это не горизонт. Горизонт – это обычно очень отдаленная линия, где сходятся небо и степь, небо и вода моря или большого озера. Skyline – это очертание на фоне неба, линия схождения неба и гор, неба и домов; вернее, линия, прочерченная горами или рядом домов по небу. Но это и линия города на фоне неба. Так, например, англичане говорят «Thameside skyline» – силуэтная линия домов по Темзе.
В каждом городе есть точки, с которых хорошо видна skyline его зданий. С Воробьевых гор когда-то была отчетливо видна силуэтная линия Москвы – с Кремлем и всеми вершинами церквей. Силуэты русских городов определялись, во-первых, тем, что они по большей части бывали построены на высоком берегу (русские реки имеют с одной стороны высокий берег и с другой – низкий), и на этом высоком берегу всегда бывала одна высочайшая точка храма или колокольни. Так было в Костроме, Нижнем и других городах.
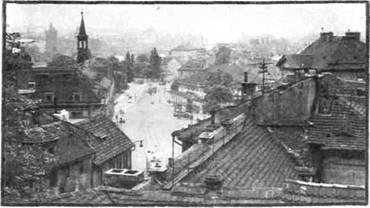
Прага
Спускаясь ниже, силуэты городов по-своему варьировали, повторяли, иногда монументализировали эту точку. Например, в Суздале высокий Спасо-Евфимиевский монастырь как бы имел низкое повторение в Покровском женском монастыре.
В Петербурге долгое время силуэт города, видный с разных точек Большой Невы, определялся шпилями Петропавловской крепости и Адмиралтейства, пока не был построен Исаакиевский собор, отнявший на себя центр внимания. Для Петербурга характерна горизонтальная линия набережных и стоящих за набережными дворцов, иногда «башен» (Кунсткамеры и Таможни).
Насколько сознательно определялись эти силуэтные линии? Это видно в Великом Новгороде по храму Софии. Последний – самое высокое и самое монументальное строение в городе. Все здания, более высокие, построены вне города (Георгиевский собор Юрьева монастыря, собор на Хутыне и др.). Софийскому храму в Новгородском Кремле противопоставлен за Волховом более низкий и менее монументальный Николодворищенский собор на Ярославовом дворище Торговой стороны. Город построен на обоих берегах Волхова, и Волхов служит как бы центральной его улицей.
Строя в современных городах, надо непременно учитывать его «skyline», открывающуюся с разных точек обзора.
Иногда это не «skyline», а только некоторая перспектива: вид, имеющий глубину. Так, например, подъезжая к Петербургу со стороны Финского залива, пассажиры издали видят Исаакий, иглу Петропавловскую, иглу Адмиралтейскую. Это было своеобразным «предчувствием» Петербурга. После Отечественной войны ленинградские градостроители решили создать «морской фасад» Ленинграда. Фасад создали безликий, забороподобный, к тому же заслонивший вид с моря на главнейшие архитектурные доминанты города. Редкие путешественники, предпочитающие сейчас морской путь в Ленинград железнодорожному или воздушному, видят перед собой стену домов, белых, более или менее одинаковых, никак не характеризующих облик Ленинграда, лишенных «предчувствия» встречи с его главнейшими памятниками.

Нижний Новгород
Помимо зрительного и исторического образов города есть еще и немаловажный «звуковой образ» города: в свое время – это пароходные гудки в волжских городах, автомобильные гудки и трамвайные звонки во всех крупных городах, звуки военных оркестров в Петербурге и Лондоне, пение в итальянских городах и т. д. В Петербурге-Ленинграде всегда вплетались звуки Большой Невы: пушечные выстрелы в «адмиралтейский час» (12 часов) с Петропавловской крепости, игра курантов на Петропавловской колокольне. Звуки курантов были слышны на всех набережных Большой Невы и собирали в определенные часы любителей неповторимого по своему звучанию звона петропавловских колоколов (они сохранились, и их игру необходимо восстановить).
Для образа города хотелось бы указать на важность рядовой застройки и ее характера. Нельзя нарушать фронт домов, заменяя его микрорайонным типом застройки. Это особенно важно в Ленинграде, где типичная уличная застройка XIX века создает значительную часть облика города. При этом, как в Ленинграде, так и в других городах, архитектура рядовых домов XIX века обладает свойством особой «архитектурной уживчивости» – и с домами других эпох, и с выдающимися произведениями архитектуры, которые они окружают.
В Древней Руси этой «архитектурной уживчивостью» обладали обычные деревянные дома, в которые были встроены, введены отдельные каменные церкви. Застраивая районы между отдельными охраняемыми зданиями, надо стремиться к тому, чтобы либо сохранять облик района прежним, либо в какой-то степени делать его нейтральным.
И. М. Гревс считает необходимым делать отчетливо различимым город по выдающимся строителям: «Петербург Трезини, Растрелли, Росси и т. д.». И сохранять даже Петербург «в style moderne или в возрождении нового классицизма»1. В облике города И. М. Гревс считает возможным оберегать по возможности характер районов, типичных для произведений того или иного писателя. И. М. Гревс имел в виду сохранение в Ленинграде элементов Петербурга Достоевского, Петербурга Пушкина, Гоголя. Это он называл «Подходом литературным»: «отражение города в разные моменты его жизни в творчестве писателей-художников, изучение его природы по толкованию великих поэтов»1.
Далее, и это особенно важно, следует «захватывать не одни художественные произведения архитектуры, скульптуры, живописи и малых искусств, – но и деловые: рядом с храмами и дворцами привлекать заводы, больницы, мосты, водопроводы... изучать оборудование библиотек, канцелярий, мастерских...», то есть входить уже во внутренность зданий, рассматривать как часть «образа» города содержимое его музеев, общественных зданий.
И. М. Гревс был в высшей степени прав, когда утверждал, что, сохраняя и изучая историю города, мы выполняем «не тему из истории искусств, как таковую: последнее входит в дело лишь как составной элемент. Тут ставится общеисторическая задача: мы изучаем биографию коллективного существа, «жизнь лица» составляется из многообразных сторон. Так и жизнь города должна познаваться в ее экономической, вещественно-бытовой и социальной, политической, умственной, художественной и религиозной природе и правде»1.
Напомню слова одного из первых деятелей возрождения понимания красоты Петербурга в начале XX века – В. Я. Курбатова: «Санкт-Петербург стал городом Медного всадника – „полночных стран красой и ликом", и не только по своим грандиозным сооружениям, но и по цельности своего облика», для которого были характерны «ряды скромных, но совершенных по пропорциям и немногим украшениям домиков»2.
Изучая образ города, мы не должны забывать, что образ города складывается из образов отдельных его районов. В Ленинграде – это центр, Васильевский остров, район бывшей Коломны, Выборгская сторона, Петроградская сторона и др., которые также должны сохраняться в их цельности и неповторимости.
«Радиус наблюдения можно сокращать и дальше, сосредоточивая внимание в еще более тесной и индивидуализированной сфере: брать объектом (изучения. – Д. Л.) концы, улицы и урочища» 3. Это касается почти всех русских исторических городов – будь то Новгород, Псков, Углич, Ярославль, Горький (Нижний Новгород) и пр. «Действительно, – пишет И. М. Гревс, – в целом ряде старых городов Франции, Германии, Италии, начиная даже с античного Рима, находим ремесленные концы и улицы, заселенные суконщиками, металлургами, ювелирами, печатниками, художниками, даже учеными и учащимися (университетские, школьные концы: Латинский квартал в Париже). Констатирование таких соединений открывает нам многое в особенностях развития города, его реального, повседневного интимного быта»4.
Не буду перечислять всех тех объединяющих принципов, по которым может изучаться история города не только как целостного объекта, но и как совокупности многосторонней его жизни. Подобно тому как в общую историю входит история культуры, история отдельных искусств (театра, литературы, архитектуры и т.д.), история науки, история отдельных замечательных лиц, так и история города может быть разделена на целый ряд специальных историй, каждая из которых должна учитываться в истории города.

Павловск
Совершенно прав И. М. Гревс, когда утверждает, что образ города неотделим от образа его окрестностей. «Рим, Париж, Флоренция становятся вполне ясны в своих таинственно-многозначительных лицах только при сообществе с типичными «филиалами», – Рим с Тиволи, Альбано, Фраскати, Палестриною, Витербо, – Париж с Сен-Клу, Фонтенбло, Шатильи, Сен-Жерменом и Версалем, – Флоренция с Фьезоле, виллами Медичи, даже дальше, с Прато, с Пистоей и Ареццо. Только вместе дают всю правду о великом прошлом руководившего ими центра. Так же точно уяснению Москвы прекрасно служат окружающие ее монастыри и царские либо княжеские дворцы и поместья, а душу Петербурга прекрасно толкуют Петергоф, Царское, Павловск, Гатчина и Ропша, Ораниенбаум, Кронштадт и Шлиссельбург»1.
Сады и парки в окрестностях Петербурга, воздвигаемые одновременно с самим городом, полным садов, должны были служить созданию образа «парадиза» от Охты до Ораниенбаума и Котлина.
Характер окрестностей города связан с его историей чрезвычайно тесно. Вспомним, например, что окружающие дворцы и парки Ленинграда строились одновременно с городом. Кольцо пригородов было той оправой искусств, в которой Петербург-Ленинград всегда был центром. Ни один город мира не строился в таком плановом порядке вместе со своими окрестностями. Совсем иное в Москве, где подмосковные дворцы строились в различное время и не были объектом градостроительного замысла, как это было в Петербурге.
Таким образом, мы видим, что краеведческое изучение и краеведческое сохранение городов имеет чрезвычайно сложную, богатую и трудную структуру.
Однако как сохранить образ города в современных условиях разрастания населения, транспорта, промышленности и т. д.? Ясно, что строительство по окраинам не спасет город как культурный центр, особенно если иметь в виду то, что только что было сказано о роли окрестностей в создании «образа города», его «души». Разрастание пригородов в конце концов раздавит город. Ответ на этот вопрос должны дать градостроители. Им надлежит создать новые приемы градостроительства, которые позволили бы сохранить старые города как важнейшие ценности нашей истории. Здесь могут быть предложены различные способы: создание невдалеке от исторического города в продуманной связи с ним городов-спутников или создание цепи линеарных городов, объединенных скоростной транспортной системой.
Так, например, предотвращению безудержного разрастания Москвы и Ленинграда могло бы служить создание ряда городов и поселений по скоростной транспортной линии между Москвой и Ленинградом. Все строительство должно было бы быть снято из окружения этих двух городов и направлено навстречу друг другу по линии Октябрьской железной дороги, в тесном соседстве с которой могли бы быть построены другие транспортные линии: однорельсовые, автомобильные и т. д. Через несколько столетий Ленинград и Москва соединились бы в единый линеарный мегаполис Москволенинград при полном сохранении исторической части городов Москвы и Ленинграда в их современном объеме. На линию Москволенинграда могло бы быть вынесено часть фабрик, учебных заведений, созданы все условия по соединению застройки с природной средой. Это облегчило бы строительство очистных сооружений и сделало бы доступным для миллионов жителей музеи, театры, высшие учебные заведения, библиотеки и т. д. обоих крупнейших городов нашей страны. Для таких линеарных мегаполисов не стояли бы вопросы ограничения численности населения пропиской или другими способами.
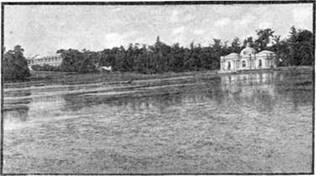
Царское Село
Нам необходимо полное сохранение истории, полная визуальная доступность этой истории для всех рядовых жителей страны и без всяких ущемлений транспортных нужд и среды обитания.
Для сохранения исторических городов нужны новые широкие планы строительства: направление отпускаемых государством на строительство средств по правильному пути. Путь этот должен разрабатываться градостроителями совместно с историками, социологами, экономистами, историками искусств, экологами и техниками.
Нашим лозунгом в области строительства на XXI век должны быть слова: изучим, сохраним все ценное, приумножим богатства и средства среды обитания.
Градостроитель должен учитывать исторически созданный многими поколениями образ города и продолжать, а не ломать своим невежеством существующую традицию. Образ города должен внимательно изучаться, как изучаются произведения искусства. Тем более что искусство города – многовековое, созданное многими зодчими и воздействующее на горожан повседневно и сильно.
В заключение мне хотелось бы напомнить о том, что память – это не сохранение прошлого, это – забота о вечности. Память в одинаковой мере стремится к сохранению прошлого для вечности, настоящего для вечности и будущего для будущего, чтобы оно тоже, в свою очередь, не ушло и служило вечности. Память – это форма воплощения вечности и преодоления времени.
Публикуется впервые
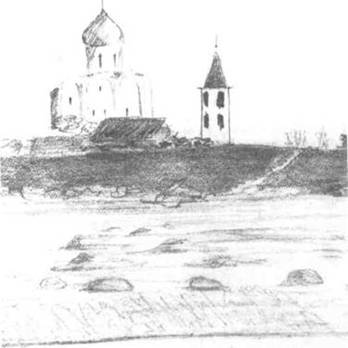
Новгород. Рисунок Д.С. Лихачева
НЕБЕСНАЯ ЛИНИЯ» ГОРОДА НА НЕВЕ
Архитектор в городе – градостроитель. Любое архитектурное сооружение в городе так или иначе его изменяет: либо углубляет, дописывает, – когда оно рождено самим городом, его духом, обликом, либо разрушает, если оно – инородное тело.
Поэтому архитектор обязан знать не только его существенные внешние или исторические черты, но и образ города, чтобы правильно соотнести свое творение с тем, что создано в городе до него. Если сегодня искусствовед столь тщательно изучает картину, ее построение, композицию, красочный слой, то тем более следует изучать такой сложный конгломерат, как город. Но это и ответственнее и сложнее.
Образ города предстает перед нами в двух аспектах: в аспекте синхронии – его внешний облик как наглядная данность, и в аспекте диахронии – восприятие его как истории, как становления культуры и так далее.
Важность изучения образа города в этих двух аспектах для архитектора-градостроителя особенно удобно показать на примере Ленинграда.
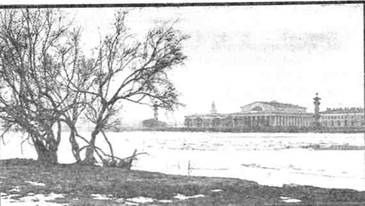
Ленинград. Вид на Биржу
Самая, может быть, характерная градостроительная черта в облике Ленинграда – преобладание горизонталей над вертикалями. Горизонтали создают основу, на которой рисуются все остальные линии. Преобладание горизонталей определяется наличием многочисленных водных пространств: Большой Невы, Малой Невы, Большой Невки, Малой Невки, Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова, Крюкова канала и так далее. Соприкосновение воды и суши создает идеальные горизонтальные линии, особенно если суша обрамлена плотным строем набережных. Набережные создают вторую линию, может быть, несколько неровную, но столь же решительную. Ленинград подчеркнут как бы двойной линией. При этом следует учесть, что Нева почти всегда (за исключением редких осенних наводнений) стоит в своих берегах на одном уровне, при этом очень высоком. Вода в Ленинграде наполняет город как бы до самых краев. Это всегда удивляет приезжих, привыкших к городам, стоящим на реках с «нормальным» речным режимом (более высокий уровень весной в разливы и осенью, более низкий – летом). Следовательно, черта, которой «подчеркнут» город, очень заметна, занимает почти центральное положение, проходит почти по центру общей панорамы города.

Мойка
Над двумя горизонтальными линиями – энергичной и абсолютно правильной линией стыка воды и суши и второй, менее резкой, верха набережных – возвышается более слабая, размытая полоса приставленных друг к другу домов, созданных по многократно возобновлявшимся требованиям строить «не выше Зимнего». Полоса стыка домов и неба – расплывающаяся, но тем не менее достаточно определенно выраженная в своей горизонтальности, словно противостоит нижней линии, – стыка строений и воды. В английском языке есть понятие skyline (небесная линия). Это не линия горизонта в нашем смысле слова. Значение skyline более широкое: оно включает линию соединения гор и неба (где горизонта с нашей точки зрения нет), линии домов и неба и прочее. Зубчатая, как бы дрожащая линия домов на фоне неба создает впечатление призрачности, эфемерности городской застройки. Это прекрасно передано Достоевским в «Подростке»: «Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымится с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото?..»
Ленинград не исключение в ряду городов, имеющих большую береговую линию. Первым среди этих городов должен быть назван Хельсинки. Однако в Хельсинки береговая линия чрезвычайно изрезана, волниста, и сочетается она не с линией регулярных набережных, а с неровной скалистой поверхностью берега. Строение на берегу не входит в сколько-нибудь стройные системы, и главный собор первой половины XIX века, проектировавшийся в основном замечательным архитектором Энгелем, построен поэтому на возвышении. Он как бы выделен этим возвышением из городской застройки, вознесен над ней. Линия, разделяющая воду и берег, не играет той роли, что в Петербурге-Ленинграде. Она незаметна, скрывается за пристанями, кораблями, то перекрываясь, то появляясь вновь.
Ближе по своему характеру к Ленинграду Копенгаген, особенно благодаря плоскому характеру почвы, но опять-таки отсутствие протяженных набережных и наличие портовых сооружений заставляет город сочетаться с водой площадями, но не линиями. Любопытно к тому же, что наличествующие в Копенгагене шпили не производят впечатления перпендикуляров, воздвигнутых к горизонталям водных пространств. Шпили недостаточно остры и ровны. Один из них вздымается, закручиваясь винтом от самого низа и до самого верха. Все шпили имеют неправильную барочную форму.
Любопытно, что и skyline обоих городов – Хельсинки и Копенгагена, вырисовывающаяся на фоне неба крышами домов и верхней частью различных других сооружений, не имеет более или менее четких очертаний.
«Низкие, топкие берега» – как будто бы единственная реальность Петербурга и у Пушкина, и у Достоевского.

Петербург Достоевского
Но и удаляясь от водных пространств, мы видим те же горизонтальные линии, определяемые почти совершенно плоским рельефом почвы, на которой стоит город. Сплошная застройка улиц – чрезвычайно типичная черта Петербурга-Ленинграда. Благодаря отсутствию подъемов и спусков улицы становятся интерьером города. Именно как интерьер трактует Достоевский жизнь улиц и площадей (особенно в «Преступлении и наказании»). Сады и бульвары «встраиваются» в эту плотную застройку улиц, что служит еще одним выражением горизонтальности города. Особенно типичен в этом отношении Васильевский остров, где пропадает даже само название «улица». Есть только три проспекта (три «перспективы») и «линии», линии домов.

«Интерьер» города
Характерные элементы города – три шпиля: Петропавловской крепости, Адмиралтейства и Михайловского замка. Они представляют собой как бы перпендикуляры к горизонтальным линиям и тем самым не противоречат им, а как бы подчеркивают их существование. Шпилям вторят высокие колокольни – Чевакинского на Крюковом канале и церкви на Сенной площади (снесена).
Мощная громада Исаакиевского собора с золотым (а потому «неархитектурным») куполом должна была бы создать второй центр Ленинграда, по своим градостроительным целям сходный с ролью собора Святого Петра в Риме. Отметим все же, что ни шпили, ни купола, равно мерно расставленные по городу, не создают еще каких-то линий – купола не прямые, сферические, а потому не могут задавить горизонтали.
Главные площади города – Дворцовая и Марсово поле – хотя и находятся у Невы, но отгорожены от нее рядом домов. Единственная обращенная к Неве площадь – «Петрова» (Сенатская) с «Медным всадником» – раскрыта к Неве, пропуская в широкое водное пространство Петра на жарко дышащем коне. Как бы вторя ей, на противоположном берегу Невы, но ближе к истокам, находится площадь Финляндского вокзала с Лениным на броневике. Властный жест «Медного всадника» противостоит ораторскому жесту Ленина. Площадь в целом удачна (если, конечно, исключить громоздкое мрачное административное здание, углом вторгающееся в нее).
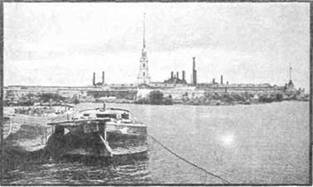
Петербург. Петропавловская крепость
Доминирующее значение горизонталей в городе сильно нарушено гостиницей «Ленинград», выстроенной в безнациональном «коробочном стиле». Ее горизонтали совершенно не согласуются с горизонталями Большой Невы. Легко можно было бы включить в горизонтали города постройки набережных Большой Невки, но здесь нарушен принцип сплошной, «ленточной» застройки. Существенным нарушением образа города является гостиница «Советская» в старом районе Коломны. Здания резко разновысотные, поставленные изолированно, нарушают типичную для Ленинграда «небесную линию», создают мрачную хаотичность.
Конечно, внешний облик Петербурга-Ленинграда был бы бедным, если бы он своей единственной чертой имел горизонтали. На самом деле очень важной и обогащающей чертой Ленинграда являются многочисленные и своеобразные нарушения этих горизонталей – «богатые нарушения», придающие своеобразие горизонталям.
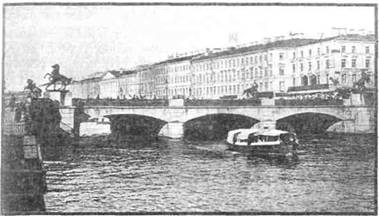
Петербург. Аничков мост
Из других особенностей Ленинграда считаю главными две: красочную гамму города и гармоничное сочетание в нем больших стилей.
Окраска домов играет в Ленинграде очень важную роль. Едва ли какой-либо крупный город Европы может сравниться с Ленинградом в этом отношении. Ленинград нуждается в цвете: туманы и дожди заслоняют его больше, чем какой-либо другой город. Поэтому кирпич не оставлялся неоштукатуренным, а штукатурка требовала окраски. Тона в городе по преимуществу акварельные.
Было бы чрезвычайно важно исследовать, как в Ленинграде сочетается барокко (в его разных формах) с рококо и екатерининским классицизмом. И как ампир оказался доминирующим стилем. Своеобразным и «умным» дополнением к этим стилям сделалось окружение этих стилей эклектикой, а еще дальше – модерном. В последнем стиле особенно удачным оказался поздний модерн с его возвращением к классике.
Последнее замечание обращено к будущим исследователям образа Ленинграда. Внешний облик города сочетается с удивительной стройностью его исторического образа. Историческое прошлое города, сравнительно короткое – всего три столетия, воспринимается как своеобразное драматургическое действо, при этом завершившееся, ибо совершенно ясно, что, каково бы ни было его будущее значение в нашей стране, внутренняя драматургия города закончилась.
Наше наследие. 1989. № 1.
ОБ АРХИТЕКТУРЕ
В современной архитектуре утомительно отсутствие значимости. Значимость придается ей временем, событиями, которые связаны с тем или иным архитектурным сооружением, людскими судьбами, внесенными литературными темами и т. д. Но значимость вносится и самим строителем. Мы должны «узнавать» назначение здания по его архитектурным формам. Мы должны сразу видеть, что перед нами вокзал, а не больница, не гостиница, не школа, не жилой дом. Назначение здания должно быть выделено в нем. Но помимо назначения здания мы должны ясно ощущать вход, подъезд, лестничную клетку. Вместе с тем фасад не должен быть однообразным. Однообразие окон (особенно «ленточных») утомляет не менее, чем однообразие улицы, дороги (на отчетливо прямых магистралях водители засыпают). Районы должны быть разные, разнообразные, разноэтажные.
Проектировать надо фасад не с отдаленной и серединной точки зрения, а с точки зрения прохожего, идущего по тротуару или переходящего улицу. Макеты тоже не годятся, они дают «вертолетный» взгляд на будущие строения. И особенно важны первые, цокольные этажи, мимо которых мы проходим и которые видим «в упор» и чаще всего сбоку. Первые этажи улицы воспринимаются с комнатной точки зрения, они должны быть чистыми, прибранными и... интересными (витрины с чистыми стеклами и интересной экспозицией; подъезды с лакированными и полированными дверями, дорогими ручками, за которые можно «поздороваться» с домом и пр.).
Архитектура первых этажей находится сейчас в полном небрежении. Ее не понимают архитекторы. И это связано с другим непониманием – непониманием значения в архитектуре деталей. Все, что не умещается на генеральном общем плане здания, которое чертежник видит с уровня среднего этажа, – все это современному зодчему кажется неважным. А между тем на дом смотрит прежде всего прохожий, и на своем уровне – уровне своих глаз. Он может пройти мимо дома, даже не взглянув на второй, третий и следующие этажи. Но прохожий видит витрины магазинов, входные двери, подъезды и пр. Эркеры очень украшают вид на дом сбоку, с тротуаров.
В начале 20-х годов был объявлен в Петрограде сбор меди. Медную посуду сдавали в обязательном порядке. Комбеды или управхозы, домхозы (не помню, кто тогда был) снимали изящные медные ручки с парадных подъездов и заменяли их деревянными палками с какими-то прикреплениями из белого металла. Они и до сих пор стоят на большинстве старых ленинградских домов. Входные двери, которые полагалось полировать, и перила лестниц стали красить масляной краской, иногда грубой – половой. Это сразу изменило вид первых этажей. А в блокаду вылетело во время обстрелов большинство зеркальных витрин в магазинах. А какие были до войны в Ленинграде «Елисеев», «Александр» и многие другие магазины, которыми славился когда-то Невский...
•
Принято называть современные дома «коробками». Это неправильно – они чемоданы; старинного скучного фасона, все одинаковые. Около них есть и краны, чтобы их поднимать и переставлять на другое место, – переставлять, заставлять, расставлять, выставлять, просто «влять». Понятно и так. Большие носильщики – архитекторы. Они в любой город готовы перенести их. Только надо «привязать к местности»: это так, кажется, называется на языке этих «чудо-носильщиков».
Высунешься на вокзале из тамбура вагона и крикнешь: «Эй, носильщик, вези мой чемодан в чемодан вашего города». – «В какой?» – «Да в любой – они все одинаковые». А чемоданы входят в них, как куклы в матрешку, только без всякой экономии места.
А то построят для библиотеки в самом центре Москвы огромный книжный шкаф. И он стоит на улице – точно хозяева переезжают. Но шкаф разваливается, потому что улица не место для мебели.
«А это что? Крытый рынок?» – «Нет, это Курский вокзал». – «Тот самый, на который приезжали в Москву Лев Толстой, Тургенев, Бунин? Вся русская литература?» – «Heт, тот сломали». – «А почему построили такой скучный?» – «Да, знаете, некому теперь из писателей приезжать: писатели изволят прибывать в Москву самолетами, и больше из-за границы».
•
О скульптуре «Мать-Родина» в Киеве можно сказать: «Скульптура небольшая, но красивая» (меня поймут, кто видел).
•
Всем нравится «Медный всадник» Фальконе. Он один на весь город. Но вот уставьте Ленинград произведениями Фальконе, пусть даже на разные сюжеты, и не очень много: пять-шесть. Или пять-шесть монументов Козловского? Коней Клодта четыре, но это одна группа. А если бы Монферран воздвиг в нашем городе не одну колонну, а пять-шесть в честь разных событий? Нет уж, пусть ставят у нас в городе хорошие скульптуры, самые хорошие, но разные. А трижды воздвигнутый одним скульптором Пушкин – да ведь это убийство, еще раз совершенное.
•
Самое трудное для архитекторов – создать площадь. В мире не так уж много хороших площадей. Какие я знаю? Конечно, Дворцовая площадь в Ленинграде. Конечно, площадь на Капитолии с конной статуей Марка Аврелия. Конечно, площадь Навонна с фонтанами в том же Риме. Судя по всем снимкам, площадь святого Марка в Венеции (я там не был). Но самая поразительная площадь, которую я знаю, – это Соборная площадь в Московском Кремле. Она удивительна. Все здания стоят как бы отдельно и совершенно свободно, но человек чувствует себя в замкнутом пространстве. Пространство замкнуто, но вместе с тем и раскрыто – главным образом в сторону Москвы-реки. На Москву-реку через площадь смотрит умиротворенным и торжественным взглядом и Успенский собор – главный властитель площади, хотя далеко не самый большой и высокий.
А ведь здания площадей все разновременные, но, очевидно, у архитекторов было самое драгоценное для архитекторов чувство – чувство ансамбля. И еще одно свойство было у архитекторов – умение понять, как ощутит себя человек среди зданий. Последнее в Соборной площади Московского Кремля удивительно. Человек на этой площади не принижен, он возвышен и окружен историей. Повсюду здания обращены к нему. Ни одно здание не отвернулось от человека, не пропускает его мимо себя. Торжественность площади не надменна. Русская история, с которой связана площадь, не подавляет человека, а включает его в себя, делает пришедшего на площадь участником истории. Он становится как бы даже выше ростом.
•
Архитектура сейчас онемела, не имеет своего языка. Вокзал может быть выстроен, как крытый рынок, крытый рынок, как цирк, дворец, как один из корпусов завода Форда и т. д. А вот что писал в XVIII веке М. Е. Головин: «Выбор ордена зависит от намерения, с коим здание сооружается. Тосканской орден служит для городских ворот, Арсеналов и проч. Дорической орден пригоден наипаче для храмов и церквей. Ионической посвящен миролюбию и правосудию и употребляется при судебных зданиях, увеселительных домах, внутри покоев и извне строения. Коринфской орден служит украшением дворцов, словом там, где красота и великолепие предпочитаются твердости и простоте. Наконец, римской орден украшает здания, богатство изъявляющие» (цит. по книге: Н. А. Евсина. Архитектурная теория в России второй половины XVIII – начала XIX века. М., 1985, с. 43). А что говорить о знаковой системе цветов, деревьев, скульптур, павильонов, планировки садов? – здесь мы совершенно неграмотны. Попытка моя намекнуть на существование и такой стороны в книге «Поэзия садов» среди садовых реставраторов успеха не имела.
•
Графиня Шуазель-Гуфье в своих «Воспоминаниях об императоре Александре I и императоре Наполеоне I» восхищенно описывает Петербург при первом своем знакомстве с ним. Вот несколько удачных фраз из ее описания. Подъезжая к Петербургу: «Окрестности Парижа, за исключением королевских резиденций, не имеют того великолепия, как окрестности Петербурга, где между тем все создано искусством». Действительно, кольцо пригородов Петербурга основано одновременно с городом. Это единственная в мире столица, так строившаяся. Описывая Неву, «ее сапфировые волны», большую часть года покрытые судами с разноцветными флагами всех народов, она замечает: «Нева составляет красоту Петербурга, его славу, богатство и ужас». И далее: «Вечером этот красивый и пустынный город, при полусвете не похожем ни на дневной, ни на лунный < были уже белые ночи > и дающем всем предметам какое-то волшебное освещение, казался мне настоящею панорамой».
•
М. П. Погодин где-то сказал: «Город есть книга, в коей всякая улица занимает страницу. Будем прибавлять новые листы, но не станем вырывать старых».
Дело не только в том, что Александровская колонна на Дворцовой площади – самый большой монолитный монумент в мире: не перестаю удивляться ее красоте – красоте пропорций ее самой и соотношению размеров статуи, постамента, колонны и площади и т. д. Монферран – великий архитектор.

Ленинград. Дворцовая площадь
Интересна идея колонны. Мне кажется (не знаю, писал ли уже об этом кто-нибудь раньше), что памятник Александру противостоит памятнику Наполеону – Вандомской колонне в Париже. Но там Наполеон поставлен на чужую колонну, статуя Наполеона в соотношении с колонной мала и вряд ли стоило на такую «неразглядимую» высоту ставить натуралистическое изображение Наполеона. Монферран умно поставил на Александровской колонне лишь символ Александра, понятный для своего времени.
Удивительно, что Монферран, воздвигший такой великолепный памятник Александру, был в юности короткое время (но все же...) солдатом в армии Наполеона (не то в Италии, не то в Испании).
Кстати, раз речь зашла о Вандомской колонне, то для размышлений совсем другого порядка интересно было бы вспомнить о стихах какого-то англичанина, написанных на постаменте после свержения Наполеона:
Tyran, juche sur cette echasse,
Si le sang que tu fis verser
Pouvait tenir en cette place,
Tu le boirais sans te baisser.
(«Тиран, поднятый на эту ходулю!
Если бы пролитая тобою кровь могла устоять здесь, ты мог бы пить ее не наклоняясь».)
Большинство бы сказало – «ты бы в ней захлебнулся», но безвестный англичанин
написал лучше – «мог бы пить не наклоняясь» – куда более сильный образ.
Наполеон действительно любил кровь, восхищался (считал «великолепным») полем
сражения «под Можайском» (Бородинское), усеянным убитыми и умирающими. И
Наполеон не склонял головы («мог бы пить ее
не наклоняясь»).
•
Витражи часто бывали так высоко, что Их нельзя было разглядеть.
Фриз Пантеона в Афинах, когда он был не в Британском музее, а на своем месте, тоже был «невидим» для зрителя.
Следовательно, архитекторы, скульпторы, витражисты и фрескисты творили для Бога, для правды, а не для зрителя, который часто не мог разглядеть детали.
•
Из английских впечатлений. Английский дом развивался и приобрел свой типичный для XIX века вид в течение столетий. Характерная черта внутреннего убранства типичного богатого английского дома: эклектизм – вещи разных эпох и стилей, накапливавшиеся в семьях, связанные с семейными воспоминаниями и типичным английским бытом. Обилие картин на стенах особенно типичны – акварели и карикатуры). Вещи, привезенные в столетие колониальных завоеваний из Индии, Китая, Японии, Персии, Америки.
Внутренним убранством английского «country house» («загородный дом») много занимались архитекторы Вильям Кент и Роберт Адам, Генри Холланд, Вильям Чеймберс, сэр Джон Стоун – создатели палладианского стиля, столь же типичного для английских загородных домов, как екатерининский классицизм и ампир для русских усадебных домов. Этот стиль еще более развил эклектизм, смешение стилей, эпох и стран в английских богатых домах, объединенных, однако, любовью их английских хозяев к уюту (камины почти во всех комнатах), к садам и паркам (цветы живые в горшках и вазах и изображения цветов на картинах, растительные орнаменты и цветочные букеты на английских обивочных ситцах). И вместе с тем – любовь англичан к «скромной элегантности»: ковры слегка потертые, кожа слегка поношенная, ситец чуть блеклый. Ничто не должно выглядеть новым, ярким, реставрированным или только что купленным.
В Кембридже я несколько дней провел в типично английском гостеприимном доме. Он был двухэтажным с лифтом во второй этаж, с комнатой для гостей (на полке над кроватью – Библия и детективы). Одна дверь открывалась на двор, соединенный с улицей, где подъезжали машины. Другая вела в сад прямо на газон, без дорожек. Сад разделен кустами на две половины: одна – ближайшая и другая – отдаленная. С боков кусты, за которыми ухаживает садовник (садовник обязателен, но нет другой прислуги). Садовник же сажает цветы. Был март, и на вечнозеленом газоне цвели желтые нарциссы (daffodils). Цветы были в комнатах – в вазах и в горшках. Англичане впускают природу в свои дома.
Но дело не в этом. Хочу сравнить с русскими загородными усадьбами. Приведу описание большой русской усадьбы Трубецких «Ахтырка» (недалеко от Абрамцева; сейчас не существует): «Это была величественная барская усадьба Empire, один из архитектурных chefs d'oeuvres начала XIX столетия. Усадьба эта и сейчас <речь идет о 1917 годе> славится как одно из самых дивных подмосковных поместий старинного типа. Как и все старинные усадьбы того времени, она больше была рассчитана на парад, чем на удобства жизни. Удобство, очевидно, приносилось тут в жертву красоте архитектурных линий.
Парадные комнаты – зал, билльярдная, гостиная, кабинет – были великолепны и просторны; но рядом с этим — жилых комнат было мало, и были они частью проходные, низкие и весьма неудобные. Казалось, простора было много – большой дом, два флигеля, соединенные с большим домом длинными галереями < так же, как и в «Узком» под Москвой >, все это с колоннами Empire и с фамильными гербами на обоих фронтонах большого дома, две кухни, в виде отдельных корпусов Empire, которые симметрично фланкировали с двух сторон огромный двор перед парадным подъездом большого дома. И однако, по ширине размаха этих зданий помещение было сравнительно тесным. Отсутствие жилых комнат в большом доме было почти полное... жизнь должна была подчиняться... стилю. Она и в самом деле ему подчинялась. Характерно, что стиль этот распространялся и на церковь, также с колоннами, также Empire, и как бы сросшуюся в одно бытовое и архитектурное целое с барской усадьбой. Это была архитектура очень красивая, но более усадебная, чем религиозная». Даже о быте Трубецкой говорит, вспоминая обед: «Этот обед... был слишком стильным» (Кн. Евгений Трубецкой. Из прошлого, ц. 8–9).
Отмечу, что центр английского загородного дворца «drawing room» (гостиная) – был полной противоположностью танцевального и музыкального залов русских усадеб.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
ПРОГУЛОЧНЫЕ ПАРКИ
У нас слишком мало включали историю садовых стилей в историю культуры. Сады бывают не только регулярные и пейзажные: это очень примитивное деление. В садовом искусстве отражается смена всех великий стилей. Мне хотелось это показать в своей книге с достаточной степенью ясности.
Не только «озеленение» городов (скверы, бульвары), но и строительство больших прогулочных парков, в которых можно было бы гулять и наслаждаться переменами целый день, отвлекаться от повседневных забот, – задача будущих паркостроителей. Города растут, а площади, занятые в них прогулочными парками, катастрофически уменьшаются. Пути прогулок прерываются новым строительством. Большие цепи прогулочных парков превращаются в цепи скверов. Примеры тому – Ленинград и Москва.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
«САДЫ ЛИЦЕЯ»
Обычное понимание слов «сады Лицея» не ведет читателя дальше поверхностного значения – «сады, примыкающие к Лицею», или «сады, принадлежащие Лицею»1. При этом ясно, что одновременно «сады Лицея» – метонимия, употребленная вместо Лицея как учебного заведения в целом. Последнее (метонимичность) не может вызывать сомнений, но и в первое значение должны быть внесены некоторые коррективы. В понятии «сады Лицея» есть некоторые оттенки, которые не следует упускать из виду.
Сады, как известно, были непременной принадлежностью лицеев и академий начиная со времен Платона и Аристотеля. Платон по возвращении своем из первого сицилийского путешествия (вскоре после 387 г. до н. э.) читал лекции в саду, созданном Комоном, в тени платанов и тополей. Позднее Платон купил себе сад по соседству и перенес туда свои чтения и там же создал святилище муз. В дальнейшем Спевсипп поставил в саду Платоновской Академии изображения харит, а перс Митридат – статую самого Платона. Сад перешел в собственность Академии и просуществовал со своими скульптурными группами до 529 года (до времени императора Юстиниана). Аристотель основал свой Лицей вскоре после Платоновской Академии, и также с садом, где преподавание происходило на прогулках учителя с учениками (школа перипатетиков).

Разлив Оки
В средние века наставительный богословско-аллегорический характер имели сады монастырей ученых орденов. Для них, в частности, были характерны лабиринты, обставлявшиеся скульптурными группами, символизировавшими то крестный путь Христа, то запутанную жизнь человека, которого встречали и пороки и добродетели.
В эпоху Ренессанса возрождается интерес к Платоновской Академии. В флорентийской Академии огромную роль играли сады Медичи при монастыре Сан-Марко. В Академии Лоренцо Великолепного в саду собирались заседания, на которых бывали Фичино, Пико делла Мирандола, Полициано и другие. Здесь Микеланджело учился у Бертольдо, здесь же он сблизился с Анджело Полициано. Сад в Сан-Марко был академией и музеем античной скульптуры1. Во время своего пребывания в Академии Микеланджело рисовал со старых гравюр, создал «Полифема», «Фавна», «Битву кентавров», «Мадонну у лестницы» и др.
Кстати, здесь же, в монастыре Сан-Марко, жил и будущий русский публицист и богослов – Максим Грек.
Традиция соединять учебные и ученые учреждения с садами сильна и до сих пор в Англии, где она восходит к средним векам, – вспомним знаменитые «basks» в колледжах Оксфорда и Кембриджа. Знакома была эта традиция и самим лицеистам. И. И. Пущин в своих «Записках о Пушкине» писал, что «новое заведение» (Лицей. – Ред.) самым своим названием поражало публику в России, – не все тогда имели понятие о колоннадах и ротондах в афинских садах, где греческие философы научно беседовали со своими учениками»2.
Садовое искусство было не только ученым и учебным, но и идеологическим, постоянно испытывая на себе воздействие поэзии и поэтов. Некоторые из них были реформаторами и усовершенствователями садового искусства на практике, – вспомним Петрарку, Томсона, Попа, Аддисона и Гете3. Идеологический момент полностью присутствовал в садах Царского Села: и тогда, когда при Петре I в нем стояли скульптуры на сюжеты басен Эзопа, и тогда, когда при Екатерине II в открытой (обращенной к саду) Камероновой галерее, этом «мирном убежище Философии», были поставлены «статуи и бюсты знаменитых мужей»4. Напомню, наконец, что рядом с Царским в Розовом павильоне Павловска у императрицы Марии Федоровны собирались поэты, среди которых особенно следует отметить Жуковского, Крылова, Батюшкова, Карамзина. Для праздника в Павловске были сочинены Пушкиным стихи «Принцу Оранскому». Молодой Пушкин тем самым входил в круг поэтов, связанных с Павловском.
Своим известным словам о «Садах Лицея» Пушкин придал несколько иронический характер, указав, что свое образование в них он сочетал с некоторой свободой от школьных требований: «Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал». То же соединение школы с образом садов встречаем мы и в стихотворении «В начале жизни школу помню я» (1830), в котором он говорит как раз о своем восхищении: «все кумиры сада на душу мне свою бросали тень». Напомню, что в первоначальном наброске этого стихотворения сад и школа соединены еще отчетливее. Набросок начинается строкой: «Тенистый сад и школу помню я». Тем самым уже в зрелые годы он как бы продолжил то отношение к Лицею, которое воплотилось у него в его лицейских стихотворениях, где подчеркнут дух свободы и свободной природы.
Чтобы понять, в каких эмоциональных и интеллектуальных сферах происходило у Пушкина в его лицейские годы общение с царскосельскими садами, необходимо самым кратким образом заглянуть в чрезвычайно сложную и слабо у нас известную область садово-паркового искусства.
Избранные работы. Т. 3. Л. 1987.
КРАСОТУ НУЖНО РАЗГАДЫВАТЬ
Каждый наш исторический город обладает своим индивидуальным лицом, красив по-своему. Но красоту нужно разгадывать. Она не дается прямо в руки.
Наши предки, меньше, чем мы, занятые техникой, больше уделяли внимания красоте, понимали ее с «полуслова» и сохраняли столетиями.
Два города в Древней Руси стали центрами ее культуры – Киев и Новгород. Новгород, оказавшийся в XIX веке в стороне от железной дороги, больше сохранился. Отчетливо сохранились и следы его красоты. Это единственный город в Европе, в котором до сих пор существует земляной вал, по которому когда-то шли деревянные укрепления с каменными башнями. И какой вид открывается с этого вала! На некотором расстоянии от Новгорода шло кольцо церквей, частично сохранившееся до сих пор. Позади Красного (т. е. «красивого») поля было видно шествие белых строений: Рюриково городище, Нередица, Кириллов монастырь, Андрей на Ситке, Ковалево, Волотово, Хутынь. Именно «шествие», обращенное алтарями на восток, они как бы двигались навстречу солнцу. В самом городе выделялся златоглавый Софийский собор, выше которого не строилась ни одна церковь. Выше строились церкви только за пределами города – Георгиевский собор Юрьева монастыря, Антониев монастырь и Хутынь на горушке. Планировка также была продумана, и согласно «закону градскому» нельзя было загораживать вид на озеро и на Волхов. Согласно былине о Садко в древнейшей ее версии Кирши Данилова, Садко выходит из Кремля и кланяется Ильмень-озеру, передавая ему привет от Волги.

Абрамцево
Домик, построенный по проекту В.М. Васнецова
Можно было бы долго рассказывать о том, как продуманно с художественной точки зрения строились древнерусские города. До сих пор следы этой продуманности видны в Новгороде-Северском, в Путивле, в Ярославле, во Владимире. В отличие от Новгорода они строились на высоком берегу реки, и прямо из центра города открывался вид на заливные луга. Это была ландшафтная связь с природой. А как строились монастыри или небольшие городки типа Плёса на Волге!
И вот к чему я клоню. Нынешние градостроители, прежде чем заниматься составлением генеральных планов развития исторических городов, обязаны прожить в этих городах достаточно долго, изучить их историю, их эстетическую сторону. В исторических городах должны быть созданы художественные советы из художников, педагогов, музейных работников, местной общественности. Задача этих советов – изучать художественные особенности статьи в местной прессе. Пусть эти работы будут казаться в какой-то своей части субъективными: уверен, что ошибок и расхождений в оценке красоты своих городов будет меньше, чем у составителей «генеральных планов».
Задача таких художественных советов состоит не столько в сохранении отдельных зданий, сколько в сохранении облика городов. Ведь здания, построенные в разные времена, очень часто хорошо сочетаются друг с другом. Есть стили «социальные» и «антисоциальные». Допустим, здание в эклектическом стиле может отлично сочетаться с храмом XVI века или XVII. Эклектика, стиль выборочно бравший, выбиравший (отсюда и название стиля), «социален» по своей природе, то есть он сочетается со зданиями других эпох. То же можно сказать о скромных зданиях XVIII и XIX веков. Они составляют средостение между пышными церквами XVI и XVII веков и строениями современного интернационального, денационализированного стиля второй половины XX века. Но все это должны оценить художественные советы, чтобы сохранить не только красоту отдельных строений, но весь район или весь город как единое самостоятельное художественное целое.
Сразу после Великой Отечественной войны, в 50–60 годах, я часто выступал в печати со статьями в защиту исторической красоты Новгорода. И с гордостью должен сказать, что, хотя в те времена аргументировать в пользу сохранения городов было трудно (обычное возражение – «людям негде жить» – сильно действовало), тем не менее под влиянием моих статей удалось сохранить земляной вал, по которому планировали провести объездную дорогу, сохранить от застройки Красное поле и район между Новгородом и Аркажами. Строительство удалось направить по шоссе в сторону Ленинграда, где порча города была менее заметна. Удалось добиться переноса моста ниже по течению Волхова, сохранив Кремль с его бесценными музеями от превращения его в проходной двор, и т.д.
Но новая угроза нависла над Новгородом. Вот письмо жителей Новгорода в защиту родного города от некомпетентного вмешательства ленинградских проектировщиков. Если бы только их письмо дошло до новгородского руководства. Если бы только художественные советы были созданы в других наших чудных русских городах. Если бы художественные советы, охрана памятников были выведены из подчинения главным архитекторам и были бы подлинными и независимыми органами общественности...
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
ОХРАНЯЕМЫЙ ПЕЙЗАЖ
Надо брать под охрану не только архитектурные памятники, но и целые пейзажи, так, как это делается, например, в Шотландии, где сохраняется весь «вид» до горизонта. Выдающиеся пейзажи должны быть учтены и сохраняемы как памятники культуры (человеческой и природной). Одной из первых должна быть взята на учет вся зона города Плёс на Волге. Центром пейзажной зоны следовало бы в таком случае избрать либо дом, в котором жил И. Левитан, либо березовую рощу на горе.
Другой охраняемый пейзаж от земляного вала Новгорода к югу – Красное поле по правому берегу Волхова и от Новгорода до Аркаж, Витославиц и Юрьева монастыря по левому берегу Волхова.

Юность. Скульптура В. Ватагина. Весна. Ока
Бородинское поле должно быть также охраняемым пейзажем, Куликово поле, заливные луга по Десне Новгорода-Северского, пейзаж Лесковиц в Чернигове и многое другое. Пейзажи России должны быть учтены.
Особую ценность представляют собой как историко-архитектурные заповедники Соловецкий архипелаг, Валаам, Ферапонтово (многих пейзажей России я просто не знаю). Соловецкий архипелаг интересен тем, что в нем каждый остров имеет свой климат и свой тип растительности, а кроме того – это единственный в России полностью сохранявшийся до XX века, а частично сохранившийся до сих пор музей древнерусской техники (каналы, канализация, водопровод, поварня, хлебопекарня, кузня, портомойня, сушило и пр., и пр. – вся эта техника, а всей и не перечислишь, работала безотказно еще тогда, когда на Соловках был Соловецкий лагерь особого назначения – СЛОН).
Кий – остров целиком искусственный, ибо богомольцы в мешках привозили туда с собой лучшую землю, и на этой привезенной земле выросли целые леса. Земля завозилась богомольцами и на Валаам.
Заметки и наблюдения. Л. 1989

Большие Вязёмы
РУССКИЙ ЯЗЫК
Самая большая ценность народа – его язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает. Думает! Это надо понять досконально, во всей многозначности и многозначительности этого факта. Ведь это значит, что вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, ощущения только окрашивают то, что мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то отношении, но мысли наши все формулируются языком.
Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, его моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит.
Если мы замечаем манеру человека себя держать, его походку, его поведение и по ним судим о человеке, иногда, впрочем, ошибочно, то язык человека гораздо более точный показатель его человеческих качеств, его культуры.
Итак, есть язык народа, как показатель его культуры, и язык отдельного человека, как показатель его личных качеств, качеств человека, который пользуется языком народа.
Я хочу писать не о русском языке вообще, а о том, как этим языком пользуется тот или иной человек.
О русском языке как о языке народа писалось много. Это один из совершеннейших языков мира, язык, развивавшийся в течение более тысячелетия, давший в XIX веке лучшую в мире литературу и поэзию. Тургенев говорил о русском языке «...нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!».
А ведь бывает и так, что человек не говорит, а «плюется словами». Для каждого расхожего понятия у него не обычные слова, а жаргонные выражения. Когда такой человек с его словами-плевками говорит, он выявляет свою циническую сущность.
Русский язык с самого начала оказался в счастливом положении – с момента своего существования вместе с другими в недрах единого восточнославянского языка, языка Древней Руси.
1. Древнерусская народность, из которой выделились в дальнейшем русские, украинцы и белорусы, населяла огромные пространства с различными природными условиями, различным хозяйством, различным культурным наследием и различными степенями социальной продвинутости. А так как общение даже в эти древние века было очень интенсивным, то уже в силу этого разнообразия жизненных условий язык был богат – лексикой в первую очередь.
2. Уже древнерусский язык (язык Древней Руси) приобщился к богатству других языков – в первую очередь литературного староболгарского, затем греческого (через староболгарский и в непосредственных сношениях), скандинавских, тюркских, финно-угорских, западнославянских и пр. Он не только обогатился лексически и грамматически, он стал гибким и восприимчивым как таковой.
Благодаря тому, что литературный язык создался из соединения староболгарского с народным разговорным, деловым, юридическим, «литературным» языком фольклора (язык фольклора тоже не просто разговорный), в нем создалось множество синонимов с их оттенками значения и эмоциональной выразительности.
4. В языке сказались «внутренние силы» народа – его склонность к эмоциональности, разнообразие в нем характеров и типов отношения к миру. Если верно, что в языке народа сказывается его национальный характер (а это безусловно верно), то национальный характер русского народа чрезвычайно внутренне разнообразен, богат, противоречив. И все это должно было отразиться в языке.
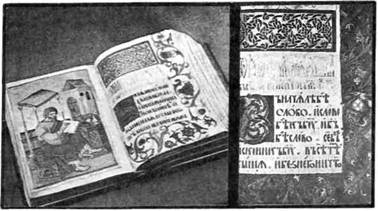
Древние рукописи Новгорода
5. Уже из предыдущего ясно, что язык не развивается один, но он обладает и языковой памятью. Ему способствует существование тысячелетней литературы, письменности. А здесь такое множество жанров, типов литературного языка, разнообразие литературного опыта: летописи (отнюдь не единые но своему характеру), «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника», проповеди Кирилла Туровского, «Киево-Печерский патерик» с его прелестью «простоты и выдумки», а позднее – сочинения Ивана Грозного, разнообразные произведения о Смуте, первые записи фольклора и... Симеон Полоцкий, а на противоположном конце от Симеона протопоп Аввакум. В XVIII веке Ломоносов, Державин, Фонвизин, далее Крылов, Карамзин, Жуковский и... Пушкин. Я не буду перечислять всех писателей XIX и начала XX века, обращу внимание только на таких виртуозов языка, как Лесков и Бунин. Все они необычайно различные. Точно они пишут на разных языках. Но больше всего развивает язык поэзия. От этого так значительна проза поэтов.
Какая важная задача – составлять словари языка русских писателей от древнейшей поры!
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
О НАЦИОНАЛЬНОМ ЯЗЫКЕ
Мне написал письмо некто, не оставивший на письме своей подписи и адреса. Боюсь, что мнение его имеет распространение, и поэтому, хотя я и не отвечаю на письма без подписей, на это я отвечу печатно.
Смысл письма сводится к следующему: надо, мол, упразднить все нации, все национальные различия в культуре, писать и говорить только по-русски, а тогда, мол, и русский язык перестанет быть русским, а станет «советским». Все проблемы разрешатся, и единая культура на чудном русском языке будет развиваться ускоренным порядком. А в конце письма утверждение: «Все равно к этому дело идет!»
Нет, к этому дело не должно идти. Этому следует оказывать противодействие. Ни один язык не должен забываться. Многообразие языков в Советском Союзе – это огромное богатство, богатство, которое необходимо для развития литератур, культур, науки – чего хотите, что только соприкасается со словом.
Своеобразие и разнообразие языков – это огромное богатство. Любовь к своему национальному языку – необходимый двигатель словесного творчества. Безнациональный язык (в который неизбежно превратится и русский язык, если у него не будет дружеского соседства с другими языками) – все равно что цветные фломастеры для живописи. Говорить на нем придется с пересохшим горлом; язык во рту будет шуршать и ерзать, утратит гибкость.
Спросите: «почему?» Да потому, что для языка нужна его история, нужно хоть чуточку понимать историю слов и выражений, знать идиоматические выражения, знать поговорки и пословицы. Должен быть фон фольклора и диалектов, фон литературы и поэзии. Язык, отторгнутый от истории народа, станет песком во рту, негодным даже для создания новой научной и технической терминологии, ибо и для последней необходима образность, традиция...
Язык не может не быть национальным. Конечно, должен быть один язык межнационального общения. В средние века таким был латинский, для восточных и южных славян – церковнославянский, арабский и персидский для народов Ближнего и Среднего Востока.
Но дело не только в общении, нужен единый язык для научной терминологии, технической, специальной. Русский язык для этого хорошо приспособлен. Но изучение его не должно вести к ущербу в знаниях своего языка для различных нерусских наций и народностей.
Двуязычие никогда не мешало своему языку. Пушкин был двуязычным. В Лицее у него было прозвище Пушкин-француз. Думаю, что превосходное чувство русского языка, точность и правильность языка Пушкина неразрывно связаны с его двуязычием. Он видел словесный мир «в цвете».
Факт, однако, в том, что отдельные национальные языки страдают в нашем школьном образовании. Надо, мне кажется, больше втягивать семью в изучение своего языка. Беседы педагогов с родителями, обучение родителей языковой грамотности чрезвычайно важно. Преподаватели же русского языка должны знать и тот язык, на котором говорят учащиеся: сравнивать, пропагандировать знание своего языка, стимулировать любовь к изучению всех языков, а своего в особенности.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
О СЛОВЕ
У Гоголя поразительно созданные сложные слова можно сравнить со сложными словами периода «плетения словес»: «умно-худощавое слово» («Мертвые души»), «обоюдно-слиянный поцелуй» («Тарас Бульба»), «глухо-ответная земля» («Тарас Бульба»); «длинношейный гусь» («Сорочинская ярмарка»), «короткошейная бутылка» («Коляска»), «древнеразломанные горы» («Страшная месть»), «зеленолиственные чащи» («Мертвые души»), «трепетнолистные купола» («Мертвые души»), «дюженогие запорожцы» («Тарас Бульба»), но особенно – «седочупрынные запорожцы» («Тарас Бульба»). Многие из этих сложных слов отмечены в замечательной книге о Гоголе Андрея Белого.
•
В «Заметках о русском» я пишу о слове «воля» как о типично русском («воля» – это свобода плюс простор и природа). Характерно, что в словаре Даля (обнаружил уже после публикации «Заметок») слово «свобода» разъясняется и занимает меньше половины страницы. Слово же «воля» имеет статью на две страницы. В словаре Ожегова к словам «на волю» и «на воле» отмечено, что они принадлежат разговорному языку. Характерно, что у Пушкина, типично русского человека и писателя, герои его «ищут волю». Степан Разин у него «вольный человек». В 1968 году Шукшин публикует в журнале «Искусство кино» сценарий о Степане Разине: «Я пришел дать вам волю».
•
Когда мне был 21 год, я написал маленькое эссе (на одной-двух страничках). Называлось оно «Феноменология вопроса». Я описал «жизнь вопроса» как слова. Подборка у меня не сохранилась, но было в ней десятка три выражений: что делается с «вопросом» в течение его «жизни». Примерно так: «Вопрос зарождается, поднимается, выдвигается, касается, разрабатывается, излагается, ставится на обсуждение, будируется, ставится ребром, становится наболевшим, исчерпывается, снимается». Я подбирал эти «идиомы» с неделю, а чем больше их я находил, тем смешнее и «сатиричнее» становилась вся жизнь «вопроса».
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ СО СЛОВАМИ
1. Требования к языку научной работы резко отличаются от требований к языку художественной литературы.
2. Метафоры и разные образы в языке научной работы допустимы только в случаях необходимости поставить логический акцент на какой-нибудь мысли. В научной работе образность – только педагогический прием привлечения внимания читателя к основной мысли работы.
3. Хороший язык научной работы не замечается читателем. Читатель должен замечать только мысль, но не язык, каким мысль выражена.
4. Главное достоинство научного языка – ясность.
5. Другое достоинство научного языка – легкость, краткость, свобода переходов от предложения к предложению, простота.
6. Придаточных предложений должно быть мало. Фразы должны быть короткие, переход от одной фразы к другой – логическим и естественным, «незамечаемым».
7. Каждую написанную фразу следует проверять на слух; надо прочитывать написанное вслух для себя.
8. Следует поменьше употреблять местоимения, заставляющие думать, к чему они относятся, что они «заменили».
9. Не следует бояться повторений, механически от них избавляться. То или иное понятие должно называться одним словом (слово в научном языке всегда термин). Избегайте только тех повторений, которые приходят от бедности языка.
10. Избегайте слов-«паразитов», слов мусорных, ничего не добавляющих к мысли. Однако важная мысль должна быть выражена не «походя», а с некоторой остановкой на ней. Важная мысль достойна того, чтобы на ней автор и читатель взаимно помедлили. Она должна варьироваться под пером автора.
11. Обращайте внимание на «качество» слов. Сказать «напротив» лучше, чем «наоборот», «различие» лучше, чем «разница». Не употребляйте слова «впечатляющий». Вообще будьте осторожны со словами, которые сами лезут под перо, – словами-«новоделами».
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
СТАРАЙТЕСЬ НЕ ГОВОРИТЬ ВЫЧУРНО
Старайтесь не говорить вычурно. Не говорите «объяснить», «волнительно». Не надо употреблять милиционерских терминов или выражений, пришедших из детективных романов: «получать прописку» – в смысле «поселить» какое-либо растение, рыбу, животное в новом месте («сиг получил прописку в озере N»), «выходить на кого-либо» в значении «связаться с кем-либо» или «получить доступ к кому-либо». И не употребляйте штампованных выражений (если то или иное слово часто употребляется в газетах – бойтесь его): «высвечивать», «высвечиваться», «эмоциональный настрой», «контакты» вместо «связи» и некоторые другие.
И еще надо думать о конкретном значении тех выражений, которые употребляешь. Вот выписки из газет: «находят простор злые языки», «однако есть отдельные злостные шептуны и прочие антиподы, проявляющие свое истинное лицо именно в такие переломные моменты».
Заметки и наблюдения. Л. 1989
О ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Выразительность русскому языку придают обилие суффиксов и префиксов, предлогов, окончаний и пр., и легкость, с которой с их помощью образуются слова, например: догнать, выгнать, согнать, пригнать, угнать, нагнать, отогнать, изгнать, погнать, разогнать, подогнать и просто гнать.
Но это же явление имеет и обратную сторону. Кажется, что предлоги смягчают предложение или вопрос: «не подскажете ли вы мне, как пройти...», «попредседательствуйте за меня...», «пожалуйста, поприсутствуйте на этом заседании...», «я приболел».
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО
Изучение Иностранных языков обостряет чувство языка – и своего в первую очередь. Это воспитательное средство. Особенно важно изучение грамматики и идиом иностранного языка. Русская литература сама воспиталась на изучении церковнославянского и латинского, а в давние времена – греческого.
Главный недостаток современной литературы – ущербное чувство языка.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
«РЯДОМ» С РУССКИМ НАРОДОМ
Чем был церковнославянский язык в России? Это не был всеобщий для нашей письменности литературный язык. Язык очень многих литературных произведений просто далек от церковнославянского: язык летописей, изумительный язык «Русской Правды», «Слова о полку Игореве», «Моления Даниила Заточника», не говоря уже о языке Аввакума. Это язык, которому доверяли самые высокие мысли, на котором молились, на котором писали торжественные слова. Он все время был «рядом» с русским народом, обогащал его духовно.
Потом молитвы заменила поэзия. Памятуя молитвенное прошлое нашей поэзии, следует хранить ее язык и ее «высокий настрой».
•
В «Повести временных лет» 3729 слов; из них 2000 слов употреблены по одному разу. Следовательно, сколько слов пропало. Если подумать о киевской литературе, то можно думать, что литературных произведений пропало от того времени еще больше. Сохранились только те, что были нужны для многократного употребления (в церковном или светском обиходе).
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
«СЕМЕЙНОЕ ГНЕЗДО»
Русское ли все это? Я как-то еще до войны спросил академика А. С. Орлова – в какой социальной среде был лучший, самый правильный и красивый русский язык? Александр Сергеевич подумал и не сразу, но уже уверенно ответил: у среднего дворянства, в их усадьбах. В тех же воспоминаниях Евгения Трубецкого я нашел описание такой «средней» усадьбы Лопухиных – Меньшова, где царила «стародворянская уютность жизни, которая нашла себе гениальное изображение в семействе Ростовых толстовского романа». «Дом городской и деревенский был для них не местом парада, – а уютным и теплым семейным гнездом» (с. 24), «все комнаты всегда неизменно полны гостей, переполняющих дом до последних пределов вместимости» (с. 26). Соответственной была планировка и обстановка. Кстати, очень часто стены были из некрашеных тесаных бревен, на которых выделялись прекрасные картины, главным образом пейзажные. Изображения таких интерьеров сохранились.
И, кстати, еще – обилие диванов во всех комнатах, чтобы было где уложить всех гостей. Диваны были и обычные, и длинные, и угловатые, где удобно было разговаривать или играть.
Заметки и наблюдения. Л. 1989
О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Русской литературе без малого тысяча лет. Это одна из самых древних литератур Европы. Она древнее, чем литература французская, английская, немецкая. Ее начало восходит ко второй половине X века. Из этого великого тысячелетия более семисот лет принадлежит периоду, который принято называть «древней русской литературой».
Литература возникла внезапно. Скачок в царство литературы произошел одновременно с появлением на Руси христианства и церкви, потребовавших письменности и церковной литературы. Скачок к литературе был подготовлен всем предшествующим культурным развитием русского народа. Высокий уровень развития фольклора сделал возможным восприятие новых эстетических ценностей, с которыми знакомила письменность.
Художественная ценность древнерусской литературы еще до сих пор по-настоящему не определена. Прошло уже около полувека с тех пор, как была открыта (и продолжает раскрываться) в своих эстетических достоинствах древнерусская живопись: иконы, фрески, мозаика. Почти столько же времени восхищает знатоков и древнерусская архитектура – от церквей XI–XII веков до «нарышкинского барокко» конца XVII века. Удивляет градостроительное искусство Древней Руси, умение создавать силуэт города, чувство ансамбля. Приоткрыт занавес и над искусством древнерусского шитья. Совсем недавно стали «замечать» древнерусскую скульптуру, само существование которой отрицалось, а в иных случаях продолжает по инерции отрицаться и до сих пор.
Древнерусское искусство совершает победное шествие по всему миру. Музей древнерусской иконы открыт в Реклингхаузене (ФРГ), а особые отделы русской иконы – в музеях Стокгольма, Осло, Бергена, Нью-Йорка, Берлина и многих других городов.
Но древнерусская литература еще молчит, хотя работ о ней появляется в разных странах все больше. Она молчит, так как большинство исследователей, особенно на Западе, ищут в ней не эстетические ценности, не литературу как таковую, а всего лишь средство для раскрытия тайн «загадочной» русской души. И вот древнерусская культура объявляется «культурой великого молчания».
Избранные работы. Т. 2. Л. 1987.
ПЕРВЫЙ ГЕНИЙ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Древняя русская письменность (именно письменность, а не только литература) – неисчерпаемый кладезь богатств русского языка. В одном только совсем небольшом «Поучении» Владимира Мономаха сколько чудесных выражений: «мыслити безлепицу» (думать о чепухе), «управити сердце свое» (совладать со своими чувствами), «больного присетити», «привечать» человека («и человека не минете не привечавше»), «ни свереповати словом, ни хулити беседою», «старыя чти яко отца, а молодыя яко братью» и т. д.
Но дело не только в языке, но и в умении рассказа. Шедевры выразительной краткости: летописный рассказ о смерти Олега, о четырех местях Ольги, о походах Святослава, о его смерти и многое другое. Лучшие рассказы – это «Повесть о разорении Рязани Батыем» и «Повесть о Петре и Февронии Муромских». И еще я люблю «Повесть о Тверском Отроче монастыре». Что касается протопопа Аввакума, то это вообще первый гений в русской литературе. Не оттого первый, что до того просто не было, а потому, что литература как фольклор была не личностной.
•
Древняя литература отличается от новой условиями своего бытования, своего существования в целом. Древняя литература распространяется рукописно, путем списков. В списках она и искажается, и совершенствуется. Произведение может отходить от своего первоначального вида в лучшую или в худшую сторону. Оно живет вместе с эпохой, изменяется под влиянием изменения среды, ее вкусов, ее взглядов. Оно переходит из одной среды в другую. Писец, а не только писатель, создает произведение. Писец выполняет роль исполнителя в фольклоре. В древней литературе есть даже импровизация, и она создает ту же вариативность, что и в фольклоре.
Л. Н. Толстой ценил древнюю русскую литературу. Он писал в 1874 году специалисту по древней русской литературе, издателю многих ее произведений, архимандриту Леониду: «Мне сообщили радостное известие, что дело составления для народа книги чтения из избранных житий не только одобрено вами, но что вы обещаете даже и личное ваше содействие этому делу. Я догадываюсь (дальше я выделяю текст), какие сокровища – подобных которым не имеет ни один народ – таятся в нашей древней литературе. И как верно чутье народа, тянущее его к древнему русскому...» (это контаминация из писем Толстого к Леониду от 22 ноября 1874 г. и 16 марта 1875 г.).
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
И ЗАМЕНИТЬ ЕЕ НИЧЕМ НЕЛЬЗЯ
Несмотря на все новейшие открытия, новые виды сохранения информации, не будем спешить расставаться с книгой. Книга остается. Она будет нужна человеку всегда. Ее не просто читают. Над нею размышляют. Общение с нею интимно. Никакие посредники не нужны. Порою они просто мешают.
Человек всегда хотел остаться с книгой наедине – как с самым доверительным, самым близким собеседником. И в этом великое преимущество книги.
Напрасны надежды некоторых слишком ретивых сторонников «прогресса» распрощаться с книгой. Никакая кинопленка, никакая электроника книгу не заменят. Новые средства массовой информации будут с нею мирно сосуществовать. Книга остается книгой. И заменить ее ничем нельзя.
ОТКРЫТЬ АРХИВЫ!
Мне неоднократно в своих выступлениях приходилось писать и говорить, что доступ к архивным материалам должен быть более открытым, свободным. Научная работа (особенно текстологическая) требует использования по той или иной теме всех рукописных источников (об этом я пишу и в других изданиях своей книги «Текстология»). У нас же все чаще в архивохранилищах решают: эту рукопись выдать, а эту – не выдавать, и решение это зачастую произвольно. Особенно надо приучать пользоваться первоисточниками научную молодежь – а она-то все чаще оказывается стеснена в читальных залах рукописных отделов.
Рукописные книги и рукописи надо выдавать почаще – от этого зависит, кстати сказать, и их сохранность. Исследователь контролирует состояние рукописей, контролирует архивиста, проверяя, так ли он «опознал» рукопись. Я мог бы привести десятки примеров, когда рукописи считались «пропавшими» в результате того, что они подолгу не попадали в руки исследователю и не отождествлялись.
Доступность источника – и рукописного документа, и книги, и редких журналов или старых газет – кардинальная проблема, от которой зависит развитие гуманитарной науки. Преграждение доступа к источникам ведет к застою, принуждая исследователя топтаться на площадке одних и тех же фактов, повторять банальности, и в конце концов отделяет его от науки.
Не должно быть никаких закрытых фондов – ни архивных, ни библиотечных. Как достичь такого положения – этот вопрос должен быть обсужден широкой научной общественностью, а не решаться в ведомственных кабинетах. Свобода доступа к животворным культурным ценностям – наше общее право, право всех и каждого, и обязанность библиотек и архивов – обеспечить осуществление этого права на деле.
Заметки и наблюдения. Л. 1989
Публикуется впервые
НО НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ РАССМЕЯТЬСЯ
В видеозаписи время отсчитывается секундами. В кинематографе время куда более емко, чем в жизни. На магнитофоне же время измеряется метрами: сколько метров магнитной пленки пошло.
Как в оптике существует «наводка на резкость», так и филологическая интерпретация памятников есть своего рода «наводка на резкость» в их понимании. Без филологии невозможно четкое понимание словесных памятников.
Перед культурой будут стоять особенно большие задачи в будущем. Когда техника удовлетворит материальные потребности человечества, потребности в комфорте и пр., наступит век создания культурных ценностей. Создание будет складываться в основном из двух моментов: создание нового и воскрешение старого, введение в культурный обиход современности старых ценностей. Первое не может осуществляться без освоения старых культурных ценностей. Второе – без продвижения вперед по пути создания новых. Роль филологической интерпретации памятников старины в этом освоении культуры прошлого станет особенно велика.
Каждое явление культуры прошлого должно получить точное приурочение, точное помещение в кругу аналогичных явлений, должно быть понятно в культурной атмосфере своего времени, в историческом процессе.
Само собой разумеется, что эти грандиозные задачи не смогут быть осуществлены без помощи кибернетики. Кибернетика сотрет различия между техникой, точными науками и гуманитарными. Запоминающие, классифицирующие машины, машины, восстанавливающие тексты памятников, вычисляющие восстановление памятников архитектуры или живописи, будут нужны особенно.
Сможет ли машина творчески решать проблемы, как человек? Вероятно, сможет. Но никогда не сможет рассмеяться.
«КНИЖНОЕ ЧТЕНИЕ» И «ПОЧИТАНИЕ КНИЖНОЕ»
Мы ничего не должны растерять из нашего великого наследия. «Книжное чтение» и «почитание книжное» должно сохранить для нас и для будущих поколений свое высокое назначение, свое высокое место в нашей жизни, в формировании наших жизненных позиций, в выборе этических и эстетических ценностей, в том, чтобы не дать замусорить наше сознание различного рода «чтивом» и бессодержательной, часто развлекательной безвкусицей.
Суть прогресса в литературе состоит в расширении эстетических и идейных «возможностей» литературы, создающихся в результате «эстетического накопления», накопления всяческого опыта литературы и расширения ее «памяти».
Публикуется впервые.
КАКИМ МНЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО БУДУЩЕГО?
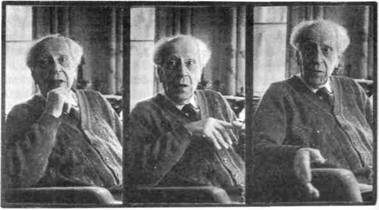
Д.С. Лихачев
Основа правового государства – это правильно представляемая гласность. Гласность – это не только право граждан требовать необходимой им информации. Гласность – это прежде всего обязанность своевременно представлять сведения гражданам по всем вопросам общественной значимости. Если предполагается, например, какое-либо строительство или снос зданий, то идея строительства и сноса должна обсуждаться гражданами до того, как будут затрачены средства на проектирование. Гласность – это не информация о проделанном, а обсуждение, широкое обсуждение с общественностью самой идеи до ее воплощения в проекте.
Второе, что необходимо для правильного понимания гласности, – это создание беспристрастно и точно работающего Института изучения общественного мнения.
Помимо гласности, правильно понимаемой, необходима уголовная ответственность за сообщение должностными лицами неправильных, заведомо неточных сведений. Верховный Совет СССР или республики должен иметь организацию (комитет, совет и т. п.), куда может вызывать руководителей (областных, районных, городских, сельских предприятий, министерств и т.д.) и требовать в необходимых случаях полной и точной информации. Если при этом докладчиком что-то будет скрыто или искажено, за этим должен последовать суд и приговор – до нескольких лет заключения. Разумеется, должен быть выработан соответствующий закон об ответственности за точность информации с соответствующими подзаконными статьями.
Само собой разумеется, что Верховный Совет должен обладать законодательной властью. В этой области за десятилетия накопились различные неприемлемые сейчас для нас установки. Законодательство у нас недостаточно точное и во многих случаях не отвечающее принципам демократии.
Само собой разумеется, что правовое государство может существовать только при условии свободы слова. С моей точки зрения, судебному преследованию должны подвергаться печать, радио и телевидение только за порнографию, призывы к национальной вражде – прямые или косвенные, обнародование военных тайн.
Самое главное и самое сложное: поднять нравственный уровень нашего общества. Без нравственности все наши усилия бессмысленны. В условиях низкой нравственности не действуют экономические законы, страдает наука. Государство не может функционировать нормально. Без нравственности мы будем ввергнуты в хаос. Для поднятия неизменно падающего уровня нравственности самый важный рычаг – поднятие нашего культурного уровня. Мы должны предотвратить занятие влиятельных постов полузнайками, как правило, обладающими крайней степенью агрессивности, самоуверенности, стремлением к господству, неуважением к человеческой личности и ее правам, низким уровнем порядочности.
Публикуется впервые.
КУЛЬТУРА: ПРОГРАММА НА СТО ЛЕТ
— Не кажется ли вам, Дмитрий Сергеевич, что вопросы культуры еще не прозвучали сегодня достаточно громко? Что проблемы культурного строительства не поставлены пока по-государственному масштабно? Между тем перестройка, идущая в стране, обнаружила не только уязвимость и слабость проводимой до сей поры культурной политики, но в иных случаях и ее ошибочность. Плоды этих ошибок мы пожинаем сегодня во всех сферах общественной жизни – экономической, социальной, научной...
— ...и нравственной. Прежде всего нравственной. Наконец-то поняли, я надеюсь, что поняли: никакими приказами, установлениями нельзя заставить человека быть честным. Честный человек действует без приказов и установлений, по своей совести. А совесть не абстрактное понятие. Совесть воспитывается в человеке, создается общей культурой, пониманием человеком того, для чего он живет, для чего нужен социализм. Ведь идея социализма – раскрытие прежде всего духовных возможностей человека, его творческих начал. Культура не средство для достижения каких-то определенных бытовых благ. Культура — цель развития человечества.
— Часто полагалось наоборот. Целью виделся технический прогресс.
— Это ошибка. В развитии цивилизации есть стена. Если мы достигнем всеобщей сытости, чрезвычайно быстрых способов передвижения, зачем дальше развивать технику? Техника имеет цель ограниченную. Она подсобная вещь для развития культуры.
— Вы считаете, что чисто технократическое мышление не имеет перспективы?
— Не имеет. Но, главное, оно еще и опасно. Опасно, потому что, по сути, лишено нравственного начала. Представьте себе на минуту, что атомная бомба попадает в руки к преступнику, – он может терроризировать весь мир. Сейчас, к сожалению, терроризм развивается в геометрической прогрессии.
— То есть здесь есть некий парадокс: чем выше уровень цивилизации, уровень техники, тем большее значение приобретает гуманитарная культура.
― Это не парадокс. Это очевидность, закономерность. Потому что, еще раз подчеркну, цель – культура, техника – лишь средство. Мы живем ради Леонардо да Винчи, а не ради изобретателя тормоза Вестингауза, понимаете? Только культура создает личность. Как личность отдельного человека, так и личность села, города, страны...
— ... народа...
— Да, и народа. Именно культура делает один народ непохожим на другой, определяет его неповторимое лицо.
Говоря о приоритете культуры, замечу, кстати, что и само развитие техники может быть остановлено отсутствием культуры. Настоящие открытия и в области точных наук, как правило, совершались людьми с высокой гуманитарной культурой. Вспомните Менделеева, Вернадского. Вернадский высказывал идеи как будто очень абстрактные, которые не имели отношения к всеобщей сытости. А на самом деле сейчас выясняется, насколько важны эти идеи – биосферы, ноосферы... Я убежден, что только общая гуманитарная культура способна вывести ученого из ограниченной сферы научной методики, позволяет ему совершать прорывы в какую-то другую область. Культура развивает интуицию, которая так же необходима в точных науках, как и в искусстве.
— На эту тему очень интересно рассуждает академик Б. В. Раушенбах, доказывая необходимость полноценного развития в человеке не только его способностей рационального мышления, но и творческого воображения, интуиции. Больше того, Раушенбах утверждает, что сегодня есть опасность недооценки этого второго момента, и это пагубным образом сказывается на духовном состоянии личности, а следовательно, и общества в целом. Как видим, физик ратует за «лирику». А ведь совсем еще недалеко ушли те времена, когда все было наоборот. Помните: нынче физики в почете, нынче лирики в загоне. Не отсюда ли и снисходительное пренебрежение к общегуманитарным проблемам, процветание в течение долгих лет так называемого остаточного принципа в экономике по отношению к культуре?
— И как следствие – резкое падение тонуса культурной жизни в стране, особенно в 30–50-е годы. А ведь когда-то в России все было иначе. Я сам еще застал те времена, когда культурная жизнь просто бурлила. Различные кружки – литературные, художественные, философские, благотворительные общества, журфиксы... О последних многие сейчас и не знают. А это очень важная вещь. У каждого ученого был определенный день, когда к нему могли приходить без всяких предварительных звонков и предупреждений. У академика Шахматова это, кажется, было воскресенье. В этот день его дом был открыт для всех, кто интересовался его специальностью. Приходили и незнакомые люди, из других городов приезжали. В его кабинете сейчас бухгалтерия, и вообще все главное здание Ленинградского отделения Академии наук занято чиновниками. Никого, кроме чиновников, нет. А ведь там были институты! Шахматовым издавался журнал, который до сих пор не утратил своего научного значения, сейчас он переиздается в ФРГ. И как издавался! Шахматов получал статью, читал, если, по его мнению, ее нужно было публиковать, пересылал ее в издательство ученому корректору, тот приводил статью в порядок, перепечатывал, редактировал, когда возникал вопрос, переходил через двор к Шахматову, тут же решал все на месте, потом отправлял в типографию к метранпажу. Метранпаж – высококвалифицированный наборщик, который был прекрасным шрифтовиком, настоящим типографским художником. Так что никаких специальных редакторов – литературных, технических, никаких дополнительных корректоров, художников-оформителей, все практически делали эти два человека – ученый корректор и метранпаж. Статья появилась не позже чем через три месяца. Сейчас же для ее прохождения понадобилось бы три года. Год вы добиваетесь включения ее в план. Причем в план какой? Редподготовки! Год ее «готовят», а чаще просто кладут в стол, и на год про нее забывают. Еще год – если вам, конечно, повезет – издают. Не странно ли при таком положении дел, что мы отстаем, и не только в области гуманитарных наук?
― Как же получилось, Дмитрий Сергеевич, что так стремительно все было утрачено?
— Из-за бюрократизации. Главным образом из-за бюрократизации. Это огромная опасность. И она заключается в том, что нам сумели внушить страх, – это, мол, издавать опасно без какой-то дополнительной проверки, без особой цензуры. Значит, нужны люди, которые все это будут делать. И вот мы нагромождаем должности на должности, появляются какие-то промежуточные инстанции, без которых уже вроде бы и не обойтись...
— И так во всех областях...
— Конечно, бюрократизм как вирус: он необычайно заразен, и противоядие ему отыскать уже бывает трудно. Вот недавно, к примеру, создали в Академии наук комиссию якобы по борьбе с бюрократизмом. То есть сама борьба с бюрократизмом приобретает бюрократические формы.
— Так какой же здесь выход?
— Один – создание общественных организаций, общественный контроль.
— Советский Фонд культуры, председателем которого вы являетесь, – такая организация?
— Да, мы его задумывали именно как общественную организацию, главная цель которой – поднятие общего культурного тонуса в стране. Это, как говорят военные, стратегическая задача.
— Церковь активно сотрудничает с Советским Фондом культуры?
— Активно. Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим – член президиума Фонда.
— Дмитрий Сергеевич, Фонд культуры создает различного рода общественные советы. По каким вопросам?
— Ну вот хотя бы совет по малым народностям. Сегодня необычайно остро стоит вопрос о сохранении культуры малых народностей. Нужно создать сеть бытовых музеев, записать фольклор, сберечь язык – это очень важная задача. Или совет по краеведению, ему я тоже придаю большое значение. Сейчас в Фонде мы разрабатываем модели культурной жизни маленьких городов, сел, деревень. Как организовать ее? Как возродить народные традиционные праздники, игры?
— Искусственно возродить, наверное, трудно...
— Вот мы над этим и думаем. В каждом городе, в каждом селе обязательно есть энтузиасты-краеведы. Их надо поддержать, даже и материально.
— Вероятно, здесь очень многое могут сделать и средства массовой информации – печать, телевидение.
Что-то я не припомню, чтобы, например, во всесоюзном масштабе организовывались соревнования по народным играм, все больше футбол... И еще: может быть, местные отделения Фонда культуры должны иметь и свой печатный орган? Свои специальные издания? Ведь когда-то в одной Твери издавались десятки собственных журналов, записок. Куда это ушло?
— Да, и об этом тоже надо думать. Нужно развертывать работу. Для этого мы и пытаемся на местах создавать так называемые Общества друзей Фонда. Друзей музеев, парков... Представляете, в Америке существует Общество друзей Павловского парка! Оно даже издает сейчас альбом Павловского парка.
— В Америке много чего существует. Например, Русское хоровое общество, которое тоже, кстати, собирается издавать 40-томную хрестоматию по русской духовной музыке, в то время как у нас практически нельзя достать даже пластинку с записями духовной музыки. Кстати, почему бы Фонду не заняться этим?
— Да, мы вполне могли бы издавать нотные рукописи...
— И, наверное, устраивать и благотворительные концерты – ведь старинная духовная музыка интересует очень многих.
Все так. Но признаюсь вам, что мне стоило больших усилий, чтобы у нас в Фонде не было концертов современной эстрадной музыки.
— Это уже что-то похожее на хозрасчет. Не дай Бог, если и Фондом культуры овладеет эта новомодная идея – перевести культуру на хозрасчет. Вот тут-то наступит конец культуре.
― Здесь я с вами совершенно согласен. И даже, если помните, писал об этом в вашей газете. Хозрасчет противопоказан культуре, издательскому делу, искусству.
— И все-таки хозрасчет в Фонде возможен. И знаете в чем? Например, в культурной политике, связанной с художественными промыслами. Ведь что сейчас происходит? Промыслы, великолепное народное искусство кружевниц, вышивальщиц, керамистов, резчиков по дереву, по кости и т. д. в буквальном смысле находится под угрозой исчезновения.
Почему бы Фонду не взять под свою защиту эти очаги народной культуры, не создать сети мастерских, школ? Вот здесь были бы хороши и аукционы. И духовная выгода огромная, и экономическая.
— Я в этом вопросе не специалист, но ощущаю, что он огромной важности. Над ним стоит подумать. Если бы мы это осуществили, это была бы реальная перестройка, практическая.
— Конечно. Еще один вопрос, Дмитрий Сергеевич. Музеи. Фонд ими занимается? Я об этом с тайной надеждой спрашиваю: а вдруг вы как-то ПРАКТИЧЕСКИ сумеете помочь с решением проблемы толстовской Ясной Поляны? Вот уже больше года мы в газете не можем сдвинуть дело с мертвой точки, хотя опубликовали немало материалов.
— И мое письмо тоже.
— Да, и ваше письмо. А воз и ныне там. Министерство культуры РСФСР упорно игнорирует голос общественности, продолжает полуграмотные реставрационные работы, не оставляет идеи строительства в заповедной зоне музейно-экскурсионного центра и т.д. Так вот, Фонд как официальная организация может вмешаться, может реально в чем-то помочь?
— Только на уровне общественного мнения.
— То есть у вас нет никаких юридических прав?
— Какие юридические права? Мы же общественная организация.
— Но, может быть, когда речь идет об объектах культуры, то и общественная организация должна иметь право выступать как юридическое лицо? Не стоит ли Фонду подумать о том, чтобы при каждом крупном музее, например, были созданы так называемые попечительские советы, без санкции которых не решалось бы ни одного крупного вопроса, связанного с судьбой музея, – серьезных реставрационных работ, новостроя в заповедных зонах, назначения руководства. Вот уж сколько времени общественность предлагает на должность директора яснополянского музея Илью Владимировича Толстого, правнука Льва Толстого, а толку никакого...
— Создание таких попечительских советов с определенными правами – это замечательная идея. Голосую «за». Был бы такой совет, может быть, легче решился бы поистине драматический вопрос и с Всесоюзным Пушкинским музеем. Основная его литературно-монографическая экспозиция, состоящая из уникальных реликвий пушкинского времени, как вы знаете, расположена во флигеле Екатерининского дворца в городе Пушкине. Арендует Пушкинский музей это помещение на договорных началах у музея Екатерининского дворца. Договор в декабре кончается, и Пушкинский музей в буквальном смысле слова вышвыривают на улицу. Сейчас, правда, благодаря настойчивым хлопотам нынешнего директора ВМП С. М. Некрасова найдено новое помещение в Ленинграде, на набережной Фонтанки, но пока оно будет подготовлено, пока будет создана новая экспозиция, пройдут годы. Значит, все это время мы будем лишены уникального музея, уникальной экспозиции, будем лишены мощного духовного очага. Прекратим просветительскую работу, учебную. Парадоксальная ситуация, которая, кстати, многое говорит о нравственной обстановке в наших учреждениях культуры: один музей выселяет другой. Я бы еще понял, если бы Пушкинский музей покушался на какие-то дополнительные помещения Екатерининского дворца... Ведь что такое Екатерининский дворец? Аттракцион первого класса. Разве можно сравнить его воспитательное значение с воспитательным значением Пушкинского музея?
— А переведи мы культуру на хозрасчет, ведь победит-то Екатерининский дворец!
— Безусловно. Парадокс еще и в том, что Пушкинский музей должен освободить помещение флигеля – ради чего бы, вы думали? Ради устройства в нем кладовой, в то время как в другом крыле дворца еще совсем недавно располагался однодневный дом отдыха. Вот и используй его в качестве подсобки для хранения фондов.
— Фонд культуры высказал свое отношение к этому вопросу?
— Только в моем лице.
— Вот и опять выходит, что нужны все-таки попечительские советы, и с правами!
— Что касается Пушкина, то нужно Всесоюзное Пушкинское общество, как это было когда-то.
— Я знаю, что Фонд задумал его возродить, даже сама вхожу в инициативную группу. И тоже глубоко убеждена, что такое общество необходимо. Нужно поднимать престиж: народного пушкиноведения, давать ему дорогу, не сковывать инициативу пушкинистов-любителей, краеведов и в то же время освобождать пушкиноведение от дешевой сенсационности, дилетантизма. Конечно, у Пушкинского общества должны быть свои определенные общественные функции, оно не должно подменять собой работу академических учреждений. Об этом мы сейчас думаем. Кстати, и при Институте мировой литературы имени А. М. Горького создано недавно Московское Пушкинское общество под председательством В. Непомнящего. Все это вещи для пушкиноведения необходимые. Хотелось бы только, чтобы у общества были не одни обязанности, но и права. Видите, я опять о правах...
— Я вас понимаю.
— Тогда еще один вопрос. Нужно ли Министерство культуры?
— Чувствую, Светлана Данииловна, что вы задаете этот вопрос от отчаяния, после своих яснополянских мытарств. И все-таки отвечу: Министерство культуры, к сожалению, нужно. К сожалению, потому что оно не всегда оказывается на высоте. Государство в лице Министерства культуры обязано заботиться о культуре, в первую очередь о музеях, библиотеках. Им нужно помогать, финансировать, обеспечивать помещением, оборудованием, средствами охраны. Пока все это, увы, в жалком, почти нищенском состоянии. Особенно в РСФСР. Вы знаете, если бы наша академическая библиотека не сгорела, она все равно бы захирела. Ведь в последние годы она практически перестала получать валюту для выписки из-за рубежа многих книг, периодических изданий. Журналы, которые выписывались сто лет и были в полном комплекте, сейчас оказались некомплектны.
— То есть мы опять приходим к вопросу об остаточном принципе в экономике...
— Вот именно. На культуре экономить нельзя. Надо наконец понять, что в конечном счете культура – тоже материальная сила. И недооценка этого рано или поздно
даст о себе знать.
— Вот мы, кажется, и возвращаемся к тому, с чего начали. К тому, что вопросы культуры даже в нынешний период перестройки не поставлены еще по-государственному масштабно.
Вы были гостем XIX партийной конференции. Какое у вас впечатление от выступления деятелей культуры?
— Прямо скажу, что выступления рабочих, производственников звучали сильнее. Ну вот, к примеру, выступает президент Академии наук. У него нет программы – программы развития науки. Самая ударная вещь была в конце выступления: Академии наук нужна газета. Оказывается, что самая большая потребность Академии наук – многотиражка, которую многие заводы выпускают без особых проблем. Ну и сделай газету! Об этом ли нужно говорить на партконференции?
― Дмитрий Сергеевич, а о чем бы вы говорили, если бы вам было предоставлено слово?
— Я бы выступил с программой. С программой развития культуры, и не на двадцать лет, а на сто.
— Что главное в вашей программе?
―Я бы постарался показать, что нужно для развития культуры в нашей стране, причем развития не изолированного, а связанного с развитием науки, экономики, социальной сферы. Ведь что сейчас происходит? Культура в пределах РСФСР замкнута в двух городах – Москве и Ленинграде. Это вещь невозможная, так быть не должно. Ломоносов, например, сегодня не мог бы переехать в Ленинград – его бы там просто не прописали. С другой стороны, дать возможность свободной прописки – значит непомерно увеличить численность населения. Это нельзя. Вот у меня и есть предложение – создать мегалиниарный город Москва-Ленинград, осуществить серьезные экономические преобразования на этом пространстве между двумя центрами. Пустить скоростные поезда.
— Космическая идея!
— Не совсем космическая.
— Но кто же будет жить в районе, например, Бологого?
— Тот, кто хочет пользоваться музеями, библиотеками, театрами Москвы и Ленинграда. Представьте себе, что в Бологом развивается одна система образования, в Клину – другая, например, музыкальная, в Твери создается Российская Академия наук, Новгород становится центром исторической науки.
— А как быть с другими городами РСФСР, с сибирскими, например? Там такие расстояния...
— Вот для этого и нужна программа культурной жизни провинции. Обязательное вовлечение в культурную жизнь молодежи – об этом мы думаем, разрабатывая одну из важнейших программ Фонда «Классика».
Превращение местных музеев в научно-исследовательские и просветительские центры, строительство библиотек, создание сети издательств. Строительство театров. Ни в коем случае не гигантских, как это делается сейчас. В Новгороде построили театр больше Софии Новгородской. Заранее можно сказать, что он будет пустовать. Сегодня театр приобретает новые формы, это нужно учитывать. Пусть театры буду! маленькие, мобильные. Это особенно существенно для наших условий – огромные пространства, разбросанность населенных пунктов. Людям должно стать интересно жить. Ведь что такое социализм? Это радостный творческий труд. И хотя, как гласит библейская легенда, бог проклял Адама и Еву, сказав, что они будут трудиться в поте лица своего, искупая свой грех, мы не можем, не должны всю жизнь искупать чужие грехи.
Беседу вела С. Селиванова
Литературная газета. 1988. 10/VIII.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЛИЦО АКАДЕМИИ
— Сейчас не утихают споры: нужна Российская Академия наук или нет, а если необходима, то в каком виде?
— Само собой разумеется, что нужна. Она должна быть наравне с академиями всех союзных республик. Другой вопрос, как ее возродить. Передать ей сегодня региональные отделения и институты Академии наук СССР значило бы обескровить последнюю. Если же мы будем создавать новые научные учреждения, то для них потребуются научные работники. Самые способные заняты, и потому неизбежно это будет академия третьего сорта. Чего не хотелось бы. Лучше уж вовсе не иметь Российскую Академию, чем иметь третьесортную!
В чем мы действительно нуждаемся, так это в отчетливо национальном лице Академии. А национальное лицо представляют гуманитарные науки. То есть разнообразные филологические, исторические, искусствоведческие дисциплины. Этим всегда отличалась Российская Академия старого образца.
― Дмитрий Сергеевич, вы, вероятно, помните время, когда она находилась в Петрограде-Ленинграде...
— Да, на Первой линии Васильевского острова, и была поистине мировым учреждением. Хотя и не в пример меньше нынешней Академии.
Кризисная ситуация ведет отсчет с рубежа 20–30-х годов, когда Академию наук перевели в Москву. Тогда вопреки протестам ученых упразднили Российскую Академию, как и целый ряд учреждений, относящихся к РСФСР. Надо бы поискать в архивах мотивировку этого решения. Говорилось, в частности, что русских ученых в Академии наук СССР вполне достаточно, чтобы представлять национальное лицо. Во всяком случае у меня, в ту пору работника издательства, было ощущение несправедливости, временности такого решения.
Ведь Российская Академия была не только национальным, но и международным центром гуманитарных исследований. И, скажем, востоковедение в Академии наук создавал русский ученый Мелиоранский, монголоведение в Соединенных Штатах – русский член-корреспондент Поппе. В музыковедении у нас были Асафьев, Оссовский. Мощно было представлено литературоведение. Правда, ни Томашевский, ни Эйхенбаум в Академию наук не входили. Это уже в 20-е годы было ненормально. Но их предварял Александр Веселовский, который остается крупнейшей фигурой в литературоведении до сих пор. Вот какая была Академия!
И в наших условиях она должна возродиться. Но сразу, декретом, развернуть ее нельзя, потому что тут же наберется множество чиновников – настоящих творческих людей всегда мало. Проверено: любое новое учреждение начинается с набора штата служащих, обеспечения им надлежащих условий, и этот процесс нередко становится самоцелью.
― Легко угодить в бюрократическую ловушку?
— Да. Поэтому я предлагаю сначала на базе Отделения литературы и языка Академии наук СССР создать еще одно – российских языков, словесности, истории и искусствознания. Это не потребует больших расходов и кадровых перемещений. А ученые для нового Отделения у нас есть. Потому что, например, весьма достойные специалисты по русской филологии в Академию не избирались годами. У нас не представлено стиховедение. Да что стиховедение – у нас нет ни одного академика по русскому языку. Это просто возмутительно. Более возмутительно даже, чем отсутствие Российской Академии наук. По украинскому, узбекскому, грузинскому, армянскому языкам члены Академии есть, по русскому – нет. Невозможное положение...
Не хочу называть имена, чтобы не возбудить ажиотажа, но я вижу по крайней мере пять совершенно надежных академиков и десять членов-корреспондентов для этого Отделения, которое будет отражать национальное лицо российской науки.
— Если это первый этап воссоздания Российской Академии, то когда может начаться и как будет проходить второй?
— Это зависит от успешной работы на первом, основном этапе. Вообще от успешности реформ в академической системе. Реформы должны обеспечить существование научных школ, многообразие мнений, независимость экспертизы. Иными словами: разрушение монополизма, страшного недуга нашей науки.
— Сейчас сам факт отсутствия у России своей Академии наук всячески обыгрывают те, кто не имеет к науке никакого отношения...
— Эти люди совершенно не думают о том, во что может вылиться немедленное учреждение Российской Академии со штатом, допустим, равным штату узбекской Академии наук. Прихлынут жаждущие пристроиться ловкачи, а сама наука не продвинется. Приходится слушать, что в Союзе есть Академия медицинских наук, педагогических наук, а в России – нет. А по-моему, слава Богу, что у нас нет плохой Академии педнаук. Поэтому, чтобы не вызывать цепную реакцию создания параллельных академических структур, я считаю, как уже сказал, самым разумным на первых порах открыть Отделение российских языков, словесности, истории, искусствознания как основу Российской национальной Академии наук с традиционным гуманитарным уклоном.
И последнее. Центр нового Отделения должен быть в Ленинграде. Иной адрес абсолютно немыслим. В Ленинграде расположены институты этнографии, востоковедения, русской литературы с их бесценными архивами; Библиотека Академии наук, которая на протяжении практически всей своей истории была ориентирована на гуманитарные издания; Публичная библиотека – по своему уставу Национальная библиотека России, которая является пятой в мире по величине фондов... Я готов продолжать этот перечень, но не менее важно сказать вот о чем. Создание Российского отделения будет способствовать возрождению Ленинграда как величайшего культурного центра страны и мира.
Беседу вел А. Соснов
Поиск. 1989. №31.
БЛИЗОРУКОСТЬ
— Дмитрий Сергеевич, в последние годы вы не раз повторяли, что в культуре страны библиотеки на первом месте. Если, не дай Бог, по какой-либо причине вдруг погибнут университеты, музеи, театры, но библиотеки сохранятся, говорили вы, культура с трудом, но все же будет восстановлена.
Для многих такая иерархия ценностей культуры непривычна. Они считают, что вы преувеличиваете значение библиотек и драматизируете ситуацию, утверждая, что они у нас в катастрофическом состоянии.
А вы сами чувствуете ли, что вас понимают?
— Не чувствую. Когда
развалена экономика, когда с каждым днем разрастаются размеры экологической
катастрофы и масса социальных проблем, которые надо решать безотлагательно,
люди думают: ну какие там библиотеки, это может подождать. А между тем ждать нельзя.
Год назад, будучи в Париже, я пошел в библиотеку Центра Помпиду узнать, какие
есть книги по Пастернаку. Хотя я специалист по древнерусской литературе, но интересуюсь
Пастернаком и даже написал о нем три
статьи. Мне сразу назвали книг 10–20. Но мне нужно все. «Ах, вам все? Тогда
подождите, пожалуйста. Познакомьтесь пока вот с этими книгами по Пастернаку».
Все в открытом хранении, войти может каждый, и никто не спрашивает
удостоверений, но при незаконном выносе срабатывает электронная система.
Через 15 минут по спутниковой связи из Библиотеки конгресса США (между всеми крупнейшими библиотеками мира существует эта связь) была получена полная библиография. На экране компьютера сначала пошли собрания сочинений Пастернака, потом отдельные его произведения, потом книги о нем, потом статьи и, наконец, упоминания в более или менее значительных книгах – всего около двух тысяч названий. Это постановка библиотечного дела!
Я вообразил себе нашего аспиранта, которому дали тему по Пастернаку, например роман «Доктор Живаго», – актуальная, кстати, тема, на Западе об этом много написано. Ведь ему только год собирать литературу!
А если бы меня заинтересовали последние работы, скажем, по микросварке? То же самое. Надо обратиться в библиотеку Центра Помпиду.
А теперь представьте положение читателя в нашей национальной библиотеке, носящей название Государственная (!) библиотека СССР (!) имени В. И. Ленина (!) – каждое слово подчеркивает ее важность. Ведь это же наш позор. Какие компьютеры?! Какой открытый доступ?! Если я сам не знаю литературы по микросварке, я ее и не получу там. Если меня туда вообще пустят!
― Поразительно, но у нас общество смирилось или даже не задумывается над тем, насколько опасно то, что в лучшие библиотеки страны имеет право доступа подавляющее меньшинство населения. Студентов, будущих создателей отечественной науки и культуры, туда не записывают. Люди с высшим образованием могут посещать национальную библиотеку, если только их ведомство подтвердит, что они ведут научную работу. А если ведомство не подтвердит или не захочет подтвердить? Если оно об этом ничего не знает или знать не желает? Сколько людей отсечено от настоящей творческой деятельности! Искусственно сдерживается интеллект нации.
— Вы забыли еще массу пенсионеров, которые уже не могут ходить на службу, но хотят и могут заниматься наукой в библиотеках.
У меня есть знакомый школьник, который сделал существенные открытия по рукописям. Но сколько усилий мне пришлось потратить, чтобы его к ним допустили!
— Ваших усилий! С вашим-то авторитетом! А если бы этот школьник попал к «простому» доктору наук?
Недоступность библиотек просто уже на грани абсурда. Социологи Лев Гудков и Борис Дубин предостерегают, указывая на самоубийственную близорукость государства, которое строит стадионы на 50, 70 и 100 тысяч мест и не хочет понять, что национальной библиотеке СССР необходимы читальные залы не на две тысячи мест, а на десять тысяч, двадцать тысяч...
— Совершенно необходимы. Если библиотеки не станут общедоступными, страна не сможет развиваться нормально.
Не только состояние наших магазинов, а во многом состояние библиотек и архивов компрометирует нас как нацию! Именно это в поле зрения интеллигенции всего мира. Для того чтобы увидеть своими глазами, что магазины у нас пусты, надо, по крайней мере, к нам приехать. Убедиться же в том, что работа библиотек и архивов никуда не годится, – для этого никуда ехать не надо. Достаточно запросить у нас какие-нибудь архивные или библиографические сведения и наткнуться на отказ.
Нет, мы даже не представляем себе, как падает престиж нашей страны из-за состояния библиотек и архивов.
— В Западном Берлине недавно прошла международная конференция, посвященная 50-летию начала второй мировой войны. Почти все страны открыли свои архивы для изучения того периода международных отношений. Нас снова критиковали – многие наши архивы до сих пор закрыты.
— Если бы закрытость архивов была единственным недостатком нашей архивной службы! Здесь целый клубок проблем, недостаточно принять наверху решение рассекретить архивы. Надо еще сообщить всему миру о том, что же именно хранится в них, издать описи и каталоги засекреченных прежде документов. Недавно в «ЛГ» была прекрасная статья на эту тему с характерным названием «Не в одной секретности дело». Ее автор старейший архивист С. В. Житомирская впервые, пожалуй, осветила комплекс основных проблем.
— Иван Дмитриевич Ковалъченко, академик-секретарь Отделения истории АН СССР, рассказал мне такую историю.
Лет двадцать назад в Ленинграде в Центральном историческом архиве он работал с фондами российского сената, изучал дела, в которых были описания помещичьих имений, крестьянских хозяйств, – очень интересный материал, представляющий большую научную ценность. Фонды сената огромны – десятки тысяч дел, а архивных описей на них в то время не было. Поэтому ученому приходилось работать вслепую, он сам в хранилище все перебирал и просматривал.
В какой-то из его приездов в Ленинград ему «по секрету» сказали, что часть этих дел скоро сдают... в макулатуру. «Как так?» – он, естественно, изумился. Ему спокойно «разъяснили», что этими делами историки не пользуются, а в архиве не хватает места, вот его и освобождают.
Тогда, 20 лет назад, приговоренные к уничтожению документы удалось спасти. Но есть ли уверенность, что и сегодня все в архивах понимают: то, что вчера исследователям почему-либо не понадобилось, завтра может статься необходимым?
— С архивами у нас в стране исторически неблагополучно. Их безжалостно уничтожали, начиная со Смутного времени. По сравнению, например, со Швецией, Францией архивы у нас очень плохо сохранились.
А вот с библиотеками все обстояло наоборот. Россия была крупнейшей библиотечной державой мира. А где мы сейчас?
Мы очень много потеряли, особенно после войны, когда говорили: «У людей нет жилья, а вы требуете восстановления памятников истории. Давайте сначала решим жилищный вопрос». Сколько времени прошло, и что – решили?
Если в обществе и дальше будет такое отношение к культуре, оно будет катиться вниз и вниз по всем линиям – и по экономическим, и по техническим...
Нет, не «сперва экономика, а потом культура». И то и другое вместе. А я даже сказал бы: сперва культура. Потому что без нравственного подъема не действуют не только экономические законы. Вообще никакие законы не действуют. Борьба с преступностью зависит от состояния нравственности. Общество не может жить только страхом наказания за проступок или преступление, оно живет культурой общения, культурой отношений друг к другу. Люди не могут быть связаны одними карательными законами.
Библиотеки – это не только основа культуры. Информационные ресурсы, находящиеся в них, – это же основа и экономики, и политики. XX век – век информатики. Наше будущее уже сегодня определяется уровнем ее развития.
Библиотека конгресса США в оперативном порядке дает все необходимые справки президенту страны, конгрессу, правительству.
С развитием парламентаризма и у нас перед Ленинской библиотекой встают такие же задачи. Но ведь она не в состоянии с ними справиться – совершенно не оснащена современной техникой и в ней нет необходимых специалистов-информаторов.
— Как вы думаете, отчего проистекает непонимание роли библиотек?
— От некультурности. Культура начинает поедать самое себя. Падение происходит с нарастающей скоростью. Сперва – кризис средней школы, за ним – кризис высшей, падает образование – падает культура, падает отношение к библиотекам следовательно, опять идет снижение культуры, и так по новому кругу.
— Но тогда, очевидно, никакие законы, никакие указы не помогут, пока в обществе не наступит перелом в отношении культуры, пока оно не осознает приоритета культуры и образования в своем развитии.
Но если все-таки ассигнования на библиотеки не увеличат? Ведь денег нет, особенно валюты.
— Не говорите мне об отсутствии денег. Нет денег, чтобы дальше жить? Страна не может развиваться без хороших библиотек. Деньги надо найти, перераспределить. У нас масса бессмысленных, никому не нужных учреждений, учреждений-анахронизмов.
Беда еще в том, что в нашем обществе утрачено пиететное отношение к книге как к одному из величайших явлений человеческой культуры. Ведь не случайно в средние века, да и последующее время книгам придавалось такое большое значение, так великолепно они оформлялись, украшались. Не знаю ничего красивее, чем средневековые французские книги, греческие книги византийского периода, древнерусские, ирландские рукописи... Это то, что может вдохновить.
Нынешней весной я был во Франции, в Шамборе и еще в одном маленьком городке рядом – примерно 20 тысяч жителей. Принимали на высшем уровне, собрался весь муниципалитет. И куда же, вы думаете, они нас повели после приема? В библиотеку. В комнату, где находятся наиболее ценные книги и рукописи – XV век, XVI...
Вот это культура!.. В прошлом веке там жил один ученый, увлекался ботаникой, собирал по ботанике книги – и нового времени, и средневековые... Ими-то и гордится городок.
Во многих европейских странах книги и рукописи – величайшая национальная ценность. В Чехословакии знаменитое Реймское Евангелие хранится не в музее, не в библиотеке – в канцелярии президента.
А вот мы, боюсь, потеряли не меньше половины книг, которыми обладала наша страна. И продолжаем терять.
— А сколько книг целенаправленно уничтожали! С книгами поступали как с людьми. Репрессировали.
— Мы возмущаемся тем, что
Гитлер уничтожал книги. Но у нас же их уничтожено больше – ценнейших, редчайших
книг. Тоже по идеологическим соображениям. Я не помню, какие это были годы,
конец 40-х или начало 50-х. Министерство среднего образования издало преступный
приказ уничтожить в школьных библиотеках все книги со старой орфографией. А
ведь в старых гимназических библиотеках были редкости. Полное собрание русских
летописей, которое начало издаваться в середине
XIX
века, достать сейчас невозможно. Так же, как, например, великие Четьи-Минеи,
«монархическую» историю Карамзина... Но эти книги были в каждой гимназии!
А в 30-е годы? На широкую ногу поставлен экспорт книг, вовсю работает «Международная книга» – целая организация по вывозу и продаже книг за границу. Мы лишились огромного количества помещичьих библиотек, в которых были французские книги XVIII – начала XIX века в великолепнейших переплетах.
Все это уходило, уходило...
Протоколы Государственной думы, изданные в небольшом количестве экземпляров, охотно покупались библиотеками Запада. Но их нет во многих библиотеках нашей страны.
И сейчас существует опасность: многие думают, что можно продавать из дублетного фонда. Продавать и обменивать дублетный фонд Библиотеки Академии наук, например. Как же можно отдавать дублеты, не выяснив предварительно, есть ли эти книги в других, хотя бы в крупнейших, библиотеках СССР, не имея общего каталога на все книги страны?
Величайшее несчастье, которое мы претерпели, – это то, что погибли, исчезли во время войны библиотеки Киева, Харькова, ужасно пострадали библиотеки Минска, Львова... Примеры можно множить и множить. Сколько библиотек в нашей стране сгорело и было затоплено уже в мирное время! Тургеневская библиотека, пока ее перевозили из Парижа в Москву и передавали на каких-то станциях, была разворована.
У нас в Ленинграде недавно было залито водой нотное отделение Публичной библиотеки – оно находилось в каком-то подвале в отдаленном районе на Охте. Рукописи, то есть то, что существует в единственном экземпляре, погибли. Хорошо еще, что некоторых композиторов XVIII века переписали энтузиасты.
Какое в обществе отношение к книгам и рукописям – такое и к библиотекам. У нас в стране идет массовое уничтожение библиотек. Каждый день я получаю письма из самых разных мест, свидетельствующие об этом. Местные власти продолжают думать, что библиотека – нечто несущественное в жизни города.
Справедливости ради надо, однако, сказать, что у процесса уничтожения библиотек в нашей стране есть свое начало. Помню, в конце 20-х было приказано ликвидировать библиотеку Петербургской Духовной академии (нынешняя ее библиотека уже составлена заново), а книги – куда угодно: сжечь, в макулатуру, на перемолку. Я от нескольких лиц знаю, как к ним с полными чемоданами приходили те, кто был связан с библиотекой, и умоляли: «Спасите книги!» Их некуда было деть – редчайшие книги! У моего учителя было прекрасное собрание отцов церкви – он попросил принести ему именно это.
— Сегодня, разумеется, библиотеки не убивают так откровенно и злонамеренно. Сегодня им дают возможность отойти в мир иной тихо, не вмешиваясь в этот процесс. Или, напротив, помогая изо всех сил. Но к чему приводят административные порывы, когда, например, «в целях дальнейшего совершенствования», «укрепления», «усиления», «повышения роли» и т. д. несколько библиотек берут и объединяют, укрупняют? Вместо нескольких культурных центров, в каждом из которых создавалась своя более или менее независимая культура, была своя культурная аура, образуется один. Даже если им будет руководить хороший директор, разнообразие – залог существования национальной культуры – постепенно будет стираться. А если плохой?
Что из того, что гигантоманию, единообразие осуждают теперь даже с высоких трибун? На культуру это мало пока распространяется.
— С назначением на должность директоров библиотек у нас вообще происходит нечто невообразимое. Как правило, ставят во главе библиотек номенклатурных работников, не пригодившихся в других областях, – культура приносится в жертву бескультурью, обрекается на гибель. Горела в прошлом году Библиотека Академии наук – национальная трагедия. Кто стоял во главе ее? Человек, который ею не интересовался, в БАН числился на полставки, а главные его интересы были в Онкологическом институте, на основном месте работы.
Сейчас крупнейшими библиотеками руководят неизвестные народу люди. Раньше во главе их стояли крупнейшие ученые, поэтому у библиотек был такой авторитет.
Возьмите Библиотеку конгресса США. Ее директор – приближенное лицо к президенту, библиотека работает под его наблюдением и имеет права почти что Академии наук.
То же было и в Российской Академии. Директор Библиотеки Академии наук Шумахер имел возможность спорить с Ломоносовым и даже причинять ему большие неприятности. Пусть он не прав был в этих спорах, но у него были такие возможности. А ныне? Библиотека Академии наук сегодня – третьестепенное учреждение, которым президиум АН, в общем, мало интересуется.
В 1923 году Библиотека Академии наук СССР переезжала в новое помещение – в то здание, в котором она в прошлом году горела, – и ни на один день(!) тогда не закрывалась. Потому что ученые, руководившие Академией наук и библиотекой, понимали, что закрыть ее – значит исключить возможность научной работы по многим специальностям.
Как же было все сделано? Тщательно разработали план переезда, в новом помещении заранее заготовили полки для книг, соответствующие тем, которые были в старом, наняли студентов, и те на спине переносили стопками книги и ставили их на то же место, где они находились в старом здании. Любую книгу можно было получить на следующий день. Узнавали по шифру, перенесена она уже или нет, и обращались либо в старое, либо в новое здание.
— А сейчас Отдел рукописей Ленинской библиотеки, которым руководит В. Я. Дерягин, переезжал почти год! Не целая библиотека, а всего один отдел. Семь месяцев ученым не выдавали рукописи, хранящиеся в нем. Двадцать лет назад в отделе тоже был переезд, но тогда для этого потребовалось две недели. Любопытная деталь: во время нынешнего переезда сменили главного хранителя отдела, опытного специалиста. Новое помещение, как говорят, совершенно не приспособлено, губительно для хранения в нем уникальных фондов – огромного собрания средневековых рукописных книг, архивов Достоевского, Гоголя, Чехова... И получилось, что за сохранность всех фондов, за условия их хранения уже не отвечает бывший главный хранитель, а новый просто не может принять на себя эту ответственность, если он, конечно, не самоубийца. А кто же все-таки отвечает? Ведь речь идет о бесценном национальном достоянии.
Впрочем, о «чудесах» в Библиотеке имени В. И. Ленина «ЛГ» не раз писала. Но это, надо сказать, не производило сильного впечатления на руководство Министерства культуры СССР.
Примечательно, однако, что, когда в Верховном Совете отвели кандидатуру В. Г. Захарова на должность министра культуры, едва ли не основной причиной тому называлось «безобразное состояние наших крупных библиотек». Тем не менее будем справедливы к бывшему министру. Не он виноват в этом в первую очередь. Непосредственные же «руководители» библиотечного дела в стране по-прежнему сидят на своих местах – заместители министров, начальники главков...
— Министерство культуры у нас занималось главным образом театрами и интригами в них, там всегда думали, что их основная обязанность — решать, кого послать на гастроли на Запад, а кого нет, и самим поехать туда же. В самом Министерстве культуры, по моим наблюдениям, очень мало людей, по-настоящему интересующихся культурой, это сильно дискредитировавшее себя учреждение. В нем самом далеко не все понимают, что значат библиотеки для страны, они думают, что культура – это только Госконцерт, эстрада, Большой театр, Эрмитаж...
— Дмитрий Сергеевич, не кажется ли вам, что назначение на должность директора национальной библиотеки, других крупнейших библиотек страны – слишком серьезная вещь, чтобы отдавать это на откуп ведомствам – Министерству ли культуры, Академии наук? Может быть, те, кто их сейчас занимает, должны пройти утверждение в Верховном Совете, и впредь без обсуждения в нем никого не назначать?
— Обязательно. Вообще директора всех библиотек должны утверждаться на сессиях местных Советов. Может быть, это будет гарантией того, что директором городской библиотеки или музея не назначат директора банно-прачечного комбината, как это было после войны во Владимире.
— Или директора тюрьмы – директором оперного театра, как это было в 70-е годы в Одессе...
Приходя к власти, невежественный, но волевой руководитель первым делом проматывает наследство – начинают «по собственному желанию» увольняться лучшие специалисты.
— Да, причины, почему из Ленинской библиотеки, Библиотеки иностранной литературы в последние годы уходили наиболее квалифицированные кадры, необходимо проанализировать.
— К сожалению, наше общество плохо представляет себе, чем оборачивается для него недостаток квалификации библиотекарей и архивистов.
Сильное впечатление в прошлом году произвел на всех пожар в ленинградской Библиотеке Академии наук. В огне погибли ценнейшие книги, старые газеты, безвозвратно погибла, стало быть, ценнейшая информация. Но вот читатель И. Френк, математик, написал в «ЛГ» следующее: «Мало кто знает о том, что в стенах библиотек ПОСТОЯННО бушует «тихий пожар», который уносит около 30 процентов информации, хотя ее источники – книги, статьи, журналы, патенты, стандарты, переводы и др. – вовсе не горят, а целехонькими стоят на полках. Затратив на их приобретение много денег, в том числе валюты, не обеспечили их полную и точную выдачу. Основная причина – непрофессионализм и невзыскательность при обработке литературы, то есть дефекты шифров». Часто это происходит потому, что библиограф просто неверно понял содержание книги.
— К этому надо добавить еще отсутствие карточек в каталогах, заставленные книги – когда они стоят не на своем месте и их нельзя найти.
— Если лучшим специалистам не создавать УСЛОВИЯ для работы, то «тихий пожар» теоретически может охватить и 100 процентов библиотечных фондов.
Интересно, оценивал ли кто-нибудь, во что обходится обществу библиотечный брак? Мы учимся считать убытки от вовремя не поставленного на конвейер килограмма гвоздей. А вот каков, например, убыток от того, что ученый, который занимается проблемами межнациональных отношений или проблемами безопасности термоядерных реакторов, недодумал до конца мысль – недодумал потому, что в библиотеке вовремя не нашлось нужной ему книги?
— А во что тогда обходится обществу закрытая библиотека? Какие будут последствия того, что недавно, например, вынуждена была закрыться библиотека Ленинградского университета?
Самоубийственно-нерадивое отношение в нашем обществе к библиотекам во многом, мне кажется, объясняется тем, что такие задачи у нас еще не просчитывают математически и экономически. Хотя уже рождается понимание, что некультурный человек экономически невыгоден.
— Есть ли какие-нибудь надежды, что положение с библиотеками поправится?
— Надежды связываю с очень хорошими рядовыми работниками библиотек, их много – тысячи, десятки тысяч, несмотря на нищенское жалованье, несправедливо низкий престиж профессии, униженное положение, когда любую мелочь им приходится вымаливать с протянутой рукой. Это и есть мои единомышленники. В стране 330 тысяч библиотек, и каждая несчастна по-своему, притом что масса общих, принципиальных проблем. Я получаю огромное количество писем, и все – крик боли, отчаяния, беспросветность. Но именно это бедственное положение и вызывало к жизни целое движение за возрождение библиотек. И оно ширится и крепнет...
—У этого движения есть уже свои лидеры. Лидеры – люди и лидеры – целые библиотеки. Прежде всего Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы.
А что вы как председатель Фонда культуры можете сделать?
— Реально сегодня – создать ассоциацию библиотечных работников, которая существовала бы на правах творческого союза или под эгидой Верховного Совета. И пусть эта ассоциация сама выработала бы статус наших библиотек всех рангов – от школьных и сельских до научных и государственных, подготовила бы проект закона о библиотеках. Нужно найти людей, которые возглавили бы эту работу.
Но кроме союза библиотечных работников должны быть и общества друзей библиотек. За границей при библиотеках, музеях, парках и даже кладбищах есть общества друзей. И у нас должно быть что-то подобное.
В каждой деревне, где была помещичья усадьба, есть парки. Они сейчас в ужасающем состоянии. Но если школьников объединить вокруг ухода за парками, чтобы они подсаживали деревья на место погибших, интересовались историей парка, у нас в обществе будет вырабатываться совершенно иное отношение к природе. Если ребенок видел в детстве заплеванный парк, он уже и о лесах не будет заботиться, а если он посадит дерево в парке, если его приучат к этому, вырастет совсем иной человек.
Но нам нужны и друзья библиотек.
При обществах милосердия, которые заботятся о стариках, нужны книгоноши. Ведь они были раньше, описанные Некрасовым, Достоевским, – за 3 копейки приносили книги на прочтение и уносили их.
Россия была насыщена книгами.
Когда я был студентом, весь Литейный проспект – от Литейного моста и до Невского – представлял улицу букинистической торговли. Сейчас в Ленинграде одна десятая той книжной торговли, которая была в старом Петербурге, а ведь город вырос в 6 раз. Это просто на глаз видно. Уже нет улицы, которая бы торговала книгами. Нет у нас удивительной набережной Сены, воспетой Анатолем Франсом и другими. Вся набережная, все гранитные стойки на ней уставлены коробками; ночью они заперты на висячий замок, а днем перед ними стоят торговцы книгами. И чего гам только нет – и русские книги, и румынские, и старые гравюры с видами Парижа, и даже восточные рукописи. И там ходят – и получают образование!
В университете я слушал лекции совершенно замечательного человека – ученого Дмитрия Ивановича Абрамовича. Он учил нас, как обращаться с книгами. Он говорил: «Вы можете не читать многие книги, но посмотреть на них, подержать в руках вы обязаны, только так вы их запомните».
Мы его только вдвоем слушали, два студента, остальные ходили на более модные лекции. И он специально для нас таскал целый саквояж, набитый книгами, которые брал в Публичной библиотеке, где работал. Показывал их нам, заставлял читать предисловия, просматривать оглавления, рассказывал историю возникновения каждой книги... Самые большие знания я получил именного от него, то, что он объяснял и показывал, запомнилось на всю жизнь. Он учил: «Вы приходите в библиотеку – не ленитесь, закажите как можно больше книг: одну вы будете читать, а остальные просто просмотрите. Может быть, они вам понадобятся, вы будете их знать. С книгой, как с человеком, нужно познакомиться в лицо, а не по визитной карточке».
И библиотеки имеют то значение, что позволяют это делать.
Беседу вел Е. Кузьмин
Литературная газета. 1989. 20/IX.
ВОСПИТЫВАЮЩАЯ НАУКА
Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества. Культура, как растение: у нее не только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно с корней.

Над вечным покоем. Картина И.Левитана
И. Левитан. Картина В. Серова
Сохранение обычаев, фольклора, музыки каждой местности необходимо для сохранения культуры страны. Даже удвоив, утроив число музейных работников, мы не сможем все сберечь, ничего не растерять. Это по силам только армии энтузиастов-краеведов. Краеведческие кружки могут стать маленькими культурными центрами в небольших городах и селах. Их не заменить столичными театрами и музеями.
Краеведение принадлежит к комплексным наукам. По типу оно близко к географии, но география обходится без оценок – она «спокойнее», строже, бесстрастнее. Это своего рода «общественный недостаток» географии. Краеведение оценивает значительность происшедших на той или иной территории событий, связанных с этой местностью людей, ценность архитектурных и археологических памятников, красоту пейзажей. С этой точки зрения моральная отдача краеведения как науки исключительно велика. И при всей необходимости географии краеведение – гораздо более «воспитывающая» наука.
Биолог, исследующий явления жизни, не вносит нового начала в сам объект исследования. Литературоведение и искусствоведение открывают что-то новое для читателей, зрителей, слушателей, но это «новое», если оно, конечно, верно, не вносит в предмет ничего сверх замысла творца, автора.
Иное дело краеведение. Оно придает местности, не имеющей «авторского происхождения», историзм, открывает в ее прошлом, хотя бы и очень недавнем, что-то совершенно новое, ценное. Когда мы узнаем, кто жил в том или ином доме, для нас этот дом уже наполняется духовным содержанием. Преобразуется и город, чью историю мы познаем. Природа Плёса приобретает особую красоту от сознания, что именно ее изобразил И. Левитан. Мы по-особому ценим места, связанные с творчеством Гоголя или Шевченко, Пушкина или Баратынского.
Чрезвычайно важная и исключительно редкая особенность краеведения в том, что у него нет «двух уровней»: для специалистов и для широкой публики. Оно само по себе популярно и существует постольку, поскольку в его создании и потреблении участвуют массы. Краеведение учит людей не только любить свои родные места, но и знанию о них, приучает интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой культурный уровень. Это самый массовый вид науки: в сборе материалов могут участвовать и большие ученые, и школьники.
Свой наивысший подъем русское краеведение пережило в начале XX века. И он во многом связан с двумя выдающимися личностями – профессором И. Гревсом и его учеником Н. Анциферовым. И. Гревс заложил основы «городского краеведения», создал «экскурсионный метод» обучения истории, который, по существу, может быть изучением того, что И. Гревс называл «душой города». И. Гревс так определил значение городов в познании исторического прошлого страны: «Города – это и лаборатории, и приемники, хранители культуры, и высшие показатели цивилизованности. В них происходит сгущение культурных процессов, насыщение их результатов... Город – центр в одно время культурного притяжения и лучеиспускания, самое яркое и наглядное мерило уровня культуры, а история города – прекраснейший путеводитель ее хода и судеб».
Интереснейшая работа И. Гревса «Монументальный город и исторические экскурсии» была издана в 1921 году и с тех пор, к сожалению, не переиздавалась. Хотя при определенной редактуре она была бы весьма полезна и сегодня.
В конце 20-х годов краеведение было объявлено лженаукой. Считалось, что человек, углубленный в историю, уходит от современных проблем. Боялись идеализации старины. В Москве было такое общество – «Старая усадьба». Оно устраивало вечера в музейной обстановке усадеб – там танцевали, слушали музыку. Так им инкриминировалось, что они сохраняют музейные ценности, чтобы потом при благоприятных обстоятельствах передать их бывшим хозяевам, которые уехали за границу. Сегодня во многих пригородах Ленинграда – в Павловске, в Ораниенбауме, в Пушкине, в Гатчине такие концерты стали обычным делом.
Сейчас, к счастью, другое отношение к истории. Есть предпосылки для нового подъема краеведческого движения. Он, собственно, уже начался. Причем краеведы не ограничиваются пассивным изучением истории и природы. Создаются общества друзей памятников, защиты природы, различные любительские объединения. И что особенно ценно – входят в них люди молодые. Если любительскими объединениями движет патриотизм, а не шовинизм, чувство национального достоинства, а не националистические амбиции, это можно только приветствовать.
Сохранять нужно все памятники данной местности, независимо от того, какому народу они принадлежат. Каждый город – это синтез нескольких культур. В Прибалтике строили и немцы, и шведы, и русские. В Крыму есть памятники, которые оставили нам античность, Византийская империя, скифы, мусульмане, армяне. Немало привнесли другие народы в города, стоящие на пути «из варяг в греки», на Великом шелковом и Янтарном пути.
Работа энтузиастов имеет смысл и приносит пользу лишь при умелом руководстве профессионалов. Возглавить краеведческую работу могли бы сотрудники музеев. Это преданные своему делу, бескорыстные по большей части люди. Они хранители нашей исторической памяти. Хотя, признаться, их зарплата далеко не всегда соответствует важности их общественной миссии. Престиж музейного работника надо поднимать, и дело не только в зарплате, а в том, чтобы у музейных работников было право голоса в делах своего города, чтобы они входили в городские Советы, чтобы с ними считались.
В опубликованном проекте комплексной программы развития центра Москвы было предложение ввести курс истории Москвы для обязательного изучения в школах и вузах столицы. Я думаю, что это должно касаться не только Москвы. Краеведение должно стать обязательным предметом в каждой школе. В каких классах, в какой форме, нужно еще подумать. Но в любом случае краеведение должно быть очень живым предметом, с посещением музеев, с экскурсиями в другие города.
В свое время я школьником ездил на экскурсию по русскому северу. Мне это очень много дало в формировании представлений о стране, о фольклоре, о деревянном зодчестве, я видел много из того, что уже исчезло. Путешествовать по родной стране нужно как можно раньше и как можно чаще. Школьные экскурсии устанавливают и добрые отношения с учителями, вспоминаются потом всю жизнь.
Краеведение – прекрасная школа воспитания гражданственности. В каждом городе, в каждом селе нашей страны должны быть памятники жертвам минувшей войны. Пусть скромные, но не безымянные. Надо спешить, пока еще живы те, кто помнит имена героев. Это святое дело должна взять в руки молодежь. Немало могут сделать школьники и в сохранении памятников истории и культуры. Советский фонд культуры предполагает установить формы поощрения лучших детских краеведческих коллективов. Это могут быть и путевки на экскурсию в Москву, Ленинград, по Золотому кольцу.
Преподавать краеведение, руководить этой работой нельзя на дилетантском, любительском уровне. Необходимо развитие теории краеведения, разработка учебных программ, достаточно гибкая, чтобы они могли применяться в каждой местности. Теория краеведения должна быть предметом изучения в гуманитарных и педагогических вузах. Сейчас такой курс введен в Московском государственном историко-архивном институте. Безусловно, надо ставить вопрос и о самом широком издании трудов по краеведению. Преподавание краеведения в школе в какой-то мере поможет решению и экономических задач хотя бы тем, что, создав атмосферу оседлости, снизит потоки миграции.
Краеведческие знания необходимы многим профессиям. Архитекторы, например, по большей части крайне поверхностно знают историю города, развитие которого они проектируют, не имеют представления о том, что в этих городах ценного в градостроительном отношении, какие градостроительные идеи в них развивались. Простейший пример. В Новгороде большой современный театр выстроен тылом к Волхову. На центральной площади в Новгороде-Северском универмаг также встал тылом к Десне и закрыл собой вид на реку и заливные луга. И в том и в другом случае архитекторы, видимо, не имели представления, что древнерусские города строились лицом к реке, именно река была центральной магистралью города. Только история города, взятая в ее краеведческом смысле, поможет градостроителям сохранить и даже обогатить образ города, его «душу».
Хотелось бы снова напомнить о том, что память – это не сохранение прошлого, это забота о будущем.
Советская культура. 1987. 20/X.
КУЛЬТУРА, НРАВСТВЕННОСТЬ, ОБЩЕСТВО
Вопросы нравственности чрезвычайно усложнились в нашем мире. Обратите внимание на рост значения законов нравственности в современной науке, в промышленности, в политике...
В самом деле, научные открытия могут быть приняты лишь при условии полной честности сделавшего их ученого. Множество экспериментов не могут быть повторены, не поддаются проверке, или сам эксперимент стоит настолько дорого, что повторение его может быть сделано лишь в исключительных случаях. Честности требует даже работа с компьютером, куда могут быть заложены неверные сведения.
В какой мере допустимы с точки зрения морали некоторые эксперименты в генетике – с человеческими зародышами, например?
Каковы условия порядочности ученого в отношении своих предшественников и товарищей? Право моральной собственности на идеи и наблюдения.
Все это вопросы чрезвычайно важные и чрезвычайно сложные. Нравственность в современном мире теснейшим образом связана с культурой человека и общества.
Недостаток культуры в нашем обществе волнует меня больше всего. Никакие законы истории или издаваемые государством, никакие надежды на будущее не оправдаются, если не будет поднят общий культурный уровень нашей жизни, культурный «тонус» нашего общества.
Сейчас это особенно важно осознать, так как уровень культуры не просто низок – он падает. Десятилетия истребления интеллигенции, десятилетия падения школьного образования и «остаточный принцип» в отношении финансирования культуры, бесконечные катастрофы с наиболее важными хранительницами культуры – библиотеками (научными и «народными»), неправильная издательская политика, при которой публиковалось не то, что требовалось читателем, а то, что ему навязывалось по разным соображениям, сыграли свою отрицательную роль. И все это на фоне общего застоя в области культуры, который начался гораздо раньше – до самого так называемого «застойного периода», боязнь не только самостоятельной мысли, но и вообще всякой самостоятельности людей привели к тому, что даже самое поведение людей сильно изменилось к худшему – к вызывающе неряшливому. Не удивляйтесь сказанному: постараюсь объяснить, какое отношение не только к науке, экономике, политическому мышлению, но и общему поведению людей, даже к их облику имеет культура.
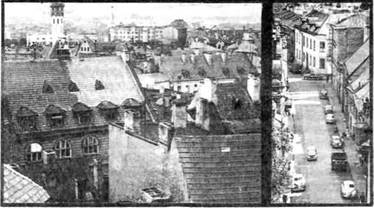
Таллин
Не буду вдаваться в чрезвычайно сложные вопросы – что такое культура и интеллигентность. Остановлюсь на чем-то, представляющемся мне элементарно ясным.
Культура основывается на знаниях, хотя сама не является просто большим объемом знаний. Можно много знать и не быть культурным человеком. Культура – это прежде всего результат знаний, знаний упорядоченных и вместе с тем осознающих свою недостаточность.
В самом деле, чем больше человек знает, тем яснее он понимает недостаточность своих знаний. Сама наука развивается не столько путем ответов на вопросы, сколько путем постановки все новых и новых тем, в основном возникающих в результате ответов, которые не столько закрывают от нас мир, сколько открывают неизвестное. Часто повторяемый афоризм «я знаю, что я ничего не знаю» – не является кокетливым, самоуничижением. Это закон упорядоченного знания.
В науке XVIII века жила уверенность, что мир скоро будет объяснен до конца и все в нем станет понятным. Человечество стояло как будто бы на грани полного познания мира – во всех областях. Сейчас, в XX веке, физики-теоретики знают, что мы очень далеки от подлинного объяснения мира. Это знание того, что мы очень мало осведомлены о Вселенной, о строении материи, об экономике, об искусстве (в теоретическом отношении) и т.д. – свойственно сейчас всем наукам (кроме самых отсталых), всем ученым...
Отсюда особая осторожность подлинно знающих людей, осознающих зыбкость человеческих знаний, и рядом с ними чрезвычайная самоуверенность полузнаек. Самоуверенность и агрессивность, крайняя ненависть к осторожным культурным людям, которые представляются им просто нерешительными или даже умышленно сопротивляющимися.
Полузнайке кажется, что он знает все, и прежде всего рецепты благополучия человечества, быстрый выход из временных затруднений. Полузнайке кажется, что ученый или просто культурный человек плохой проводник его самоуверенной политики, но еще и укор его невежеству, укор крайне оскорбительный для полузнаек, уверенных в своем «всезнайстве».
Агрессивный полузнайка ищет панацею от всех общественных бед – то в сплошной и насильственной коллективизации, то в более элементарных вещах вроде «ветвистой пшеницы», свиноводстве, кролиководстве, массовых посевах кукурузы, плотинах, различного рода гигантских предприятиях, в уверенности, что в природе все можно менять (это еще Салтыков-Щедрин заметил). Отсюда естественный рост командно-административных методов управления. Отсюда же грубость с подчиненными, нежелание менять раз принятого решения («лобная психика») малокультурных людей (полузнаек). Отсюда же существовавшее в свое время пристрастие полузнаек к «командирской» военной или полувоенной одежде, к военной и милицейской терминологии в языке. Некультурность видна во всем облике полузнайки, в его поведении. Принципиальная агрессивность во всем – в мировоззрении, в отношении к гласности, в отношении к природе, к истории, к различным течениям в искусстве (особенно к тем, которые не сразу понятны и требуют от человека несвойственной полузнайкам восприимчивости). Агрессивность идет рука об руку с уверенностью, что все инакомыслящие – враги, а если не враги, то принадлежат к народностям, искони не обладающим какими-либо свойствами или обладающим только дурными. Отсюда же уверенность, что все недостатки – от злых свойств каких-то народностей или от таинственных многовековых заговоров, тайных обществ...
Одним словом, полузнайка ведет себя так, как будто бы он находился в полузнакомом ему лесу в сумерках: стволы деревьев он принимает за разбойников, жаждущих на него напасть, он не видит дороги и с радостью бросается на все, что покажется ему дорогой или тропинкой. А самое главное – цель для него оправдывает средства, ибо он верит только в им самим сконструированное будущее и для него не существует ни прошлого, ни уроков истории. Он движется на ощупь и вот-вот встанет на четвереньки, чтобы душить и уничтожать любое препятствие: «ликвидировать», «пускать в расход». Он верит в «высшую меру», точнее, в убийство, как в наиболее действенный способ борьбы с преступностью.
Итак, полузнайство, полуинтеллигентность воспитывают определенные, очень опасные черты характера, поведения, отношения к окружающему миру – людям и природе, к истории, памятникам культуры и искусству. В наиболее кризисных ситуациях полуинтеллигентность создает таких людей, как Гитлер, Муссолини, Сталин и «иже с ними». Создает сообщество таких же полузнаек с психологией стадности, «вождизмом» (наиболее агрессивный из полузнаек легко становится вождем, или, точнее, вожаком стаи). Итак, полузнайство опаснейшая социальная болезнь.
Но если полузнайство – болезнь, болезнь, вызванная частичной незаполненностью мозговой деятельности, приводящая к самоотравлению, то, может быть, эту болезнь можно все же лечить? Это чрезвычайно трудно. Во-первых, никто из полуинтеллигентов или полузнаек не осознает себя таковым. Они окружают, себя людьми такого же невысокого интеллектуального уровня, среди которых чувствуют себя вполне сносно. Во-вторых, они обычно ведут борьбу за практическое использование знаний. Они покровительствуют техническим наукам и техническим профессиям, их «немедленной полезности», ибо в технике есть что-то понятное по результатам.
Но самое главное: тип полуинтеллигента со всеми «выходами» этого состояния в мироощущение и общественное поведение складывается в основном еще в юности. Огромное значение имеет семья и средняя школа, дополнительно – высшее образование. Последнее дает только окончательную шлифовку. Техническое образование дает совсем мало. Главное, формирующее человека, его нравственный мир и в какой-то мере отношение к окружающему, дается гуманитарными науками, гуманитарной культурой в целом, искусством.
Но дело не так безнадежно. Спасает высокий профессионализм в своей области, который может быть достигнут в зрелом возрасте и даже в старости. Осознанный профессионализм в какой-то одной области (технической, медицинской, педагогической и т. п.) заставляет человека не вмешиваться в то, чего он не знает в достаточной мере. Профессионализм учит, приучает. На примере своей хорошо освоенной профессии специалист понимает важность знаний в целом. Мне приходилось встречать вполне интеллигентных столяров, наборщиков, крестьян. В них была приобретенная их специальностью, хорошим знанием и владением своего дела «мудрость». Мудрые старики – это в основном хорошие работники в прошлом. Мне иногда представляется, что можно составить список профессий, которые очень часто воспитывают с годами у занимающихся этими профессиями мудрое отношение к людям, природе и прошлому.
Итак, мы поговорили о бедах полуинтеллигентности, о бедах, которые эти полуинтеллигенты приносят в мир, человеческому обществу, окружающей природе.
Поговорим теперь об интеллигентности. Какими чертами отличается она, как сказывается на поведении интеллигентных людей и на человеческом обществе?
Образованность не есть еще интеллигентность. Она только один из путей к интеллигентности. Образованность в значительной мере формирует нравственный мир человека и сказывается на его поведении, даже манере, держаться. Интеллигентного человека характеризует прежде всего уважительное отношение к окружающему и к окружающим, сознание того, что он не обладает полнотой знаний, а находится только на пути к знаниям. Поэтому он постоянно пополняет свои знания, особенно в области гуманитарной культуры. Отсюда осторожное отношение к другим людям и их убеждениям, отрицание насилия как пути к счастью, неверие в принцип «цель оправдывает средства». Отсюда отсутствие самоуверенности в поведении и в манере себя держать. Отсюда уважение к опыту истории, к культуре вообще. И вместе с тем интеллигентный человек лишен комплекса неуверенности в себе. Отсюда отсутствие боязни чужого мнения, чужих предложений и готовность согласиться с мнением специалистов, людей так или иначе заинтересованных. В существе своем внешне неуверенный интеллигент гораздо увереннее в себе любого агрессивного полуинтеллигента. Полуинтеллигент чаще всего категоричен, не способен изменить своего прежнего мнения, болезненно относится к своему престижу, груб с подчиненными – это все признаки слабости, впрочем, редко осознающиеся самими полуинтеллигентами.
Почему я все время говорю о роли гуманитарных наук и искусств в воспитании общей интеллигентности юношества? Здесь дело простое. Литература, живопись – вообще все искусства учат жизненному опыту. Они не только позволяют человеку прожить несколько жизней, пережить различные жизненные ситуации, возвышают чувства, которые могли бы остаться обыденными, ничем и не примечательными: например, кончину друга, любовь и пр., но и заметить в обычном необычное. Заметить красоту простых явлений, в иных случаях представлявшимися скучными и серыми. Они знакомят с «чужим» сознанием – другого человека, другого народа, другой страны, с красотой природы. Гуманитарные искусства воспитывают эстетически и этически. А кроме того, искусства развивают интуицию, которая очень важна во всех науках. Недаром великие ученые увлекались и увлекаются музыкой, сложными формами живописи, поэзией. Изучение языков, особенно древних, также развивает умственные способности, особенно если это изучение правильно поставлено: с усвоением грамматики, умением правильно пользоваться словарями, читать со словарями трудные тексты.
Как сделать так, чтобы преподавание литературы давало бы наибольшую пользу в нравственном и эстетическом отношении? Конечно, оно не должно быть сообщением только знаний по литературе. Преподавание должно приучать любви к литературе и чтению так же точно, как преподавание истории – любви к своему прошлому и настоящему. А оба предмета должны смыкаться с краеведением, с изучением своего края и в его литературных и исторических припоминаниях, в памятниках искусства. Поэтому учитель не должен быть зажат только в программах и методичках. Его работа должна быть творчеством. Учитель должен с интересом преподавать то, что, в первую очередь, интересно ему самому, что он любит, конечно, ориентируясь на тот список необходимых знаний, которые понадобятся при поступлении в вуз ученику, окончившему среднюю школу.
Искусства должны приучать видеть в мире добро и красоту, борющееся добро и борющуюся красоту.
Я за разные типы средних школ. Только тогда учащиеся будут гордиться своей школой, своими учителями. Надо возродить в учащихся гордость своими знаниями, своим умением в той или иной области. Нельзя отделять труд от учения. Учение, приготовление уроков, пребывание в классе – это и есть труд, труд упорядоченный, приучающий к аккуратности, к чувству долга и ответственности за приготовление к занятиям.
Но я слишком много, кажется, говорю о средней школе... Это не случайно, ибо средняя школа, как и семья, в первую очередь воспитывает интеллигентность. А нельзя ли это восхождение к интеллигентности совершить как-либо побыстрее? Не будем обманываться – нельзя. Нельзя, но крайне необходимо. Интеллигентность должна быть свойством всего народа, всей страны. Интеллигентность в какой-то мере «заразительна», если она авторитетна. В нашей стране слишком долго (с 60-х годов XIX в.) интеллигентность считалась чем-то чуть ли не позорным. Антиинтеллигентские настроения проникли даже в литературу (вспомните Васисуалия Лоханкина у Ильфа и Петрова – образ интеллигента подчеркнуто отрицательный).
Вспомните, в советской литературе так ли уж част персонаж – интеллигентный рабочий. А между тем не сразу, но в конечном счете интеллигентными должны стать и рабочие, и крестьяне, и все служащие от самых мелких до самых крупных, и все руководители предприятий, областей, министерств (что не всегда сейчас бывает). Для этого нужно, чтобы каждый осознал свою полную причастность к культуре, ощутил в себе достоинство человека, не лгал бы в «служебных целях» – для утверждения своего проекта, сметы, плана и т.д. Правдивость перед самим собой – это общественная позиция, на основе которой только может укрепиться правдивость общественная, подлинная гласность, которую следует рассматривать не только как право получать информацию, но и как обязанность руководителей своевременно информировать обо всем, что может представлять интерес для других.
Итак, интеллигентность и культурность не следует путать с образованностью и профессиями умственного труда. Интеллигентность – следствие образованности, следствие всесторонних знаний, при наличии которых в достаточно молодом возрасте вырабатываются определенные жизненные навыки, определенное же бережное отношение к людям и природе, свой тип поведения, глубокая социальность.
Самый крайний антагонист интеллигента и культурного человека – полуинтеллигент, полузнайка, у которого воспитывается сознание своей осведомленности, уверенности в себе, агрессивности в отношении к окружающим и окружающему. Полуинтеллигент – это полупустая бочка, грохочущая при всех спусках, с перемешанным содержимым, недостаточно плотно упакованным гуманным мироотношением, вырабатываемым только глубокими знаниями.
Воспитать в человеке интеллигентность и соответствующее мироотношение (при любых разностях в мировоззрениях) может только семья, начальная и средняя школа. В дальнейшем интеллигентность может поддержать и даже создать сама окружающая среда.
Создание культуры в обществе – дело серьезное и длительное. Нужна забота государства о культуре, об образовании, о библиотеках, о театре и кинематографе. У молодежи должно существовать не стремление к «интеллигентным профессиям», а тяга к общей интеллигентности, гордость своими знаниями. Нравственный климат в обществе определяется степенью его культуры. Без определенного уровня нравственности и культуры в обществе не действуют никакие установления, законы экономики, необходимая степень доверия людей друг к другу. Даже чувство достоинства нации и благополучие в межнациональных отношениях определяются культурой населения.
Будем же всерьез думать о том, как поднять культурный тонус нашей жизни.
Публикуется впервые.
МЫСЛИ О КУЛЬТУРЕ БУДУЩЕГО
Нужды культуры
Путь, по которому должно идти развитие культуры, мне кажется, ясен. Он в общем соответствует и тому духу, который начинает господствовать в «европейском мышлении» – мышлении прогрессивных слоев европейской интеллигенции, насколько оно определилось, например, на встрече министров культуры европейских стран в начале ноября во французском городе Блуа. Это прежде всего преимущественное обращение к человеческим ценностям. Возвращение к гуманитарным наукам, искусству, моральным богатствам. Подчинение техники интересам гуманитарной культуры. Это – развитие индивидуальных особенностей каждого человека. Свобода раз вития человека, человеческой личности в том направлении, которое больше всего способствует выявлению талантов, всегда индивидуальных, всегда «неожиданных». Формирование человеческой личности, сопротивление обезличивающей человека «массовой культуре». Отсюда вытекает и другое чрезвычайно важное направление: сохранение национальной индивидуальности во всех сферах культуры. Путь к подлинному интернационализму лежит через признание ценности и самостоятельности всех национальных культур.
Советский Союз, и в нем Россия, были и остаются государственными объединениями, чья культура развивалась через обмен культурным опытом огромного числа народов и наций, вошедших в их состав. Ни одна страна в мире не имеет такого разнообразия и такого взаимопроникновения культур, как наша.
Общая структура культуры
Мы судим о культуре любого народа по ее вершинам, а не по низшим и даже не по средним ее проявлениям. Русскую культуру представляют Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Мусоргский, Чайковский и другие. Именно культура высшего порядка характеризует страну и народ в первую очередь. Это отлично понимают туристы, изучающие в «стране пребывания» музеи, театральную жизнь, шедевры архитектуры, историю городов.
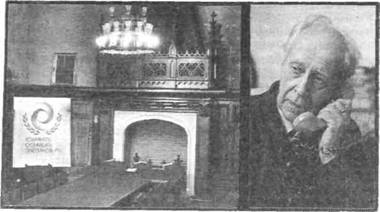
Зал заседаний Советского Фонда культуры
Что же нужно для существования культуры в ее высших проявлениях? Прежде всего среда представителей высшей культуры. Необходимы встречи, знакомства, обмены мнениями, обсуждение произведений творчества на высоком уровне. А для этого необходимы различные ассоциации, общества творческих представителей, кружки, места встреч и знакомств, свободный обмен творческими замыслами в благожелательной обстановке. Организация культурной жизни – дело не только государственных, но и общественных учреждений. В первую очередь это дело фондов культуры, в которых все люди с творческой инициативой должны чувствовать себя хозяевами, а не посетителями.
Не следует опасаться существования в стране элитарной культуры. Элитарность крайне опасна только тогда, когда она опирается на протекционизм, «заслуги родителей» или на собственное чиновничье положение в обществе, когда элита строго ограждает себя знаниями, степенями, даже просто возрастом или должностями. Но элитарная культура талантов и образованных людей непременно должна существовать в нормальном культурном обществе.
Цели и характер образования
Культура в человеке воспитывается с самых первых лет его жизни. И эти первые годы наиболее ответственны. Ясли, детские сады, средние школы! Если мы можем четко ставить задачей высших учебных заведений передачу знаний и профессиональных навыков, то начальное и среднее образование должно быть прежде всего посвящено воспитанию.
Что воспитывать? Нравственность в широком смысле этого слова: нравственное отношение к другим людям, другим нациям, к труду и т.д.
Воспитательное значение имеют преимущественно гуманитарные дисциплины и искусства. Понимание искусства и развитие в себе хотя бы начатков творческих способностей в художественной области не только способствуют нравственной стабилизации личности, ее общей интеллигентности, но и развитию интуиции, столь необходимой во всех областях человеческой деятельности. С помощью искусств главным образом и развивается интуиция, за которой не угнаться никакому компьютеру. Вот почему виднейшие математики и физики были музыкантами, интересовались поэзией, любили чтение классических произведений. Отсюда ясно, что при преподавании литературы необходима установка на развитие понимания художественной прозы, поэзии. Умение переизложить в требуемом духе то или иное произведение по программе не воспитывает любви к литературе. Скорее наоборот! Преподавание – это творчество, оно требует от учителя таланта, любви к тому, что он преподает, широких знаний. Преподаватель должен иметь некоторую свободу, останавливаться дольше всего на том, что он любит сам и считает необходимым для своих учеников. Преподаватель словесности был в XIX и начале XX века властителем дум молодежи и таким он должен снова стать в будущем.
Необходимо также понимать, что ничто так не воспитывает молодежь в нравственном отношении, как музыка и особенно участие в хоре. Хор пробуждает в человеке чувство своей причастности к другим людям, единства с ними.
Надо ввести в школе преподавание логики. Больше всего поражает в нашей общественной жизни отсутствие культуры спора, аргументации и отстаивания своих убеждений. А между тем нам необходимы поколения людей с убеждениями, принципиальные и честные не только перед обществом, но и перед самими собой, обладающие чувством своего достоинства.
Школы должны воспитывать индивидуальность человека. И для этого особенно важно чтение классики, знание литературы, искусства, конкретной истории – с людьми и событиями, героями и преступниками. Школы должны быть разными, с различными уклонами. Могут быть и элитарные, но не по служебному положению родителей, а по выявившимся способностям самих учеников. Без таких школ мы не добьемся хороших специалистов в любых областях. Представляю себе элитарные школы, в которых учащиеся проявляли бы особый интерес к различным ремеслам, ботанике и т.д. До сих пор мы думали только о школах с математическим уклоном или с преподаванием на иностранных языках.
Кстати, об иностранных языках. Напрасно думают, что школа должна учить преимущественно разговорному языку и готовить учащихся к встречам с иностранцами. Главное – усваивать грамматическую систему языка и обучать читать с помощью словаря. Помимо практического значения и развития возможностей знакомства с чужими культурами, преподавание иностранного языка развивает учащихся умственно, помогает лучше усвоить особенности родного языка. Интеллигентный человек не должен ограничиваться знаниями на родном языке. Он должен быть в курсе всего. И не случайно, когда хотят подчеркнуть чью-либо образованность, упоминают, сколькими языками он владеет.
А в целом свобода выбора различных школ, различных программ, создание школ, имеющих свое лицо, – необходимое условие развития культуры в стране.
О науке
Наука – важнейшая часть культуры. Я не буду рассуждать о всей науке, только о той ее части, которая имеет к культуре непосредственное отношение, – о филологии, искусствоведении и истории. Они находятся в загоне, и авторитет их низко упал из-за их политизации.
Литературоведение в значительной своей части выродилось в журналистику. От него требовали освещения авторов и произведений только под определенным сегодняшним углом зрения. Забыли о существовании таких основных дисциплин, которыми особенно славилась русская филология: текстоведение, источниковедение, стиховедение и т.д. Отдельные дисциплины, обвиненные в смертных грехах, привлекались к суду невежд. В космополитизме обвинили сравнительное литературоведение (и это в стране, где жил и работал такой величайший авторитет в этой области, как Александр Веселовский!). Поэтику и стиховедение обвинили в формализме. Текстологией, источниковедением перестали заниматься. Библиографию локтем спихнули со столов академических издательств.
«Неактуально»? А выдававшиеся за актуальные многотомные труды никто не читал. Их ставили на полки и лишь изредка обращались к ним за справками...
В науке, как мне кажется, следует стремиться к тем же общим целям, что и в народном образовании. В фундаментальных науках должны культивироваться различные направления и образовываться научные школы. Для этого нынешние научные сообщества часто слишком велики, слишком перегружены малоспособными сотрудниками (именно «сотрудниками», мешающими труду способных работников). Ученые нередко заняты выполнением научных планов «по валу». Я имею в виду в первую очередь гуманитарные институты, где сотрудники отчитываются не научными открытиями, а печатными листами по определенным темам, перегружая издательства многословными работами.
Формальные характеристики (по типу выдаваемых месткомами) подменяют репутацию научного работника при выборах в академию. Само понятие «репутация» перестало у нас существовать, хотя без репутации ученого трудно представить себе создание различных научных школ и направлений. Мы слишком долго полагали, что в науке необходимо добиваться «единомыслия», единых взглядов на решение проблемы и стремились непременно увидеть в инакомыслящих ученых не то «врагов», не то лжеученых.
Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть: в науке необходимо всяческое разукрупнение и забота о получении «неожиданных», а не запланированных результатов.
О нашем наследии
На заседании Комитета Верховного Совета СССР по науке, народному образованию, культуре и воспитанию Д. А. Гранин предложил создать список хотя бы из 50 памятников культуры, которые надо спасать немедленно. И действительно, темпы разрушений таковы (особенно в районе армяно-азербайджанского конфликта и в местах других национальных противостояний), что через несколько десятилетий мы истребим свою культуру. И наши потомки будут изучать фундаменты, как мы изучаем сейчас фундаменты домонгольских церквей в Киеве, Смоленске... Хорошо бы подсчитать темпы гибели памятников по десятилетиям. Они ускоряются сейчас ничуть не меньше, чем темпы гибели лесов и загрязнения воды.
Хотя бы пятьдесят памятников, хотя бы... Но чтобы они были быстро, а главное, добротно законсервированы или отреставрированы.
Составление такого списка на 1990 год – дело неотложное.
Было бы неправильным прилагать к культуре излюбленную формулу, с которой начинаются официальные документы и обращения: «В целях дальнейшего развития...» На первых порах нужно думать не о «дальнейшем» развитии, а о спасении, сохранении и восстановлении. Поэтому на первые годы наших культурных программ следует максимально повысить статью расходов по массовой консервации памятников культуры: ставить крыши, предохранять от разрушения. Консервация обходится гораздо дешевле, чем реставрация, требующая исследовательской работы, поисков в архивах, составления сложной документации. К тому же у нас нет и достаточного количества реставраторов.
Откуда же брать средства на сохранение и восстановление памятников культуры? Можно предложить разные способы. Один из самых действенных – шефство крупных предприятий и учреждений над тем или иным памятником. Другой – создание обществ друзей какого-либо определенного парка, сада, дворцового ансамбля, обществ благоустройства исторического селения, древнего места. Участники таких обществ, как и предприятия, взявшие шефство над памятниками, могли бы иметь некоторые преимущества с устройством поблизости квартир, дач, домов отдыха.
Нравственность и культура
Уровень нравственности в обществе теснейшим образом связан с уровнем культуры, а он продолжает падать. Но что сделать, чтобы возможно быстрее поднять уровень нравственности? Чтобы воздействие культуры на общество осуществлялось уже на самом раннем этапе ее подъема? Чтобы сам подъем нравственности в обществе был знамением подъема культуры и наоборот?
Было бы совершенно нереально надеяться на то, что одни только государственные ведомства смогут осилить эту задачу. Сегодня необходима, как воздух, общественная инициатива. Советский фонд культуры готов содействовать разного рода начинаниям. Но этого мало. Нужно пробудить широкую инициативу по созданию различных обществ, ассоциаций, клубов. Для примера приведу возможные типы ассоциаций: «Общество друзей Павловского парка» (кстати, такое общество уже есть в США, но его нет в Ленинграде), краеведческие общества, кружки по восстановлению трудовых традиций крестьянства той или иной местности, по изучению трудовых традиций рабочего класса, кружки под названием «посиделки» для совместных занятий во внерабочее время (вязание, шитье, кружевоплетение), хоровые организации.
И я думаю, что следует образовать добровольные общества без жесткой организационной структуры, когда люди (особенно подростки) брали бы на себя обязательства прежде всего перед самими собой жить «по правде», соблюдать «честь и достоинство», не проводить «ни дня без доброго дела» (здесь хороши были бы самоотчеты, ведение дневников добрых дел, внимание к добру). Я уверен, что такие ассоциации имели бы определенный успех, – добро заразительно. Молодежь, почувствовавшая счастье добра, правды, чести, достоинства, сохранила бы это отношение к жизни на все годы.
Я бы также особенно настаивал на организации различных полезных коллективных занятий для людей пенсионного возраста и просто престарелых. Найти себя в каком-либо полезном для общества занятии – это сделало бы счастливыми тысячи стариков и, смею утверждать, продлило бы им жизнь.
Архивы, музеи, библиотеки
Необходимо объединить руководство всеми архивами (хотя бы в пределах РСФСР). Выработать положение об архивах, соответствующее нынешней эпохе гласности.
Такое положение как будто бы вырабатывается, но будет ли в него включен главный пункт любого из европейских архивных учреждений: точное установление срока давности, после которого все без исключения архивные дела рассекречиваются? Пусть это будет 30–40, даже 50 лет. Иначе появляется повод для произвола архивного «начальства». Архивные дела выдаются одним ученым и не выдаются другим. При такой практике не проверить, когда это необходимо, правильность использования архивного документа.
Вообще следует ввести какие-то правила на уровне законодательных, в силу которых дирекции архивов, музеев и библиотек должны были бы отчитываться перед Верховным Советом за сохранность вверенных народом ценностей. Не могли бы продавать, обменивать, передавать в другие учреждения, отправлять на длительный срок за границу наши национальные ценности. Допустимо ли, что сейчас большинство музеев, архивов и библиотек, а также учреждения, в ведении которых находятся эти хранилища (министерства, академии наук республик или Союза), считают возможным выдавать или не выдавать, посылать за рубеж «в массовом порядке» выставки, тем самым надолго лишая наших граждан возможности удовлетворять свои культурные запросы?
Допустимо ли, чтобы единственный по своим богатствам Всесоюзный музей Пушкина лежал в Ленинграде, в ящиках, многие годы лишенный возможности воспитывать, учить, да и просто познавать нашего величайшего поэта?
Увы, я мог бы привести множество примеров, когда целые разряды произведений культуры остаются недоступными для исследователей и народа.
Культура и религия
Не представляет сомнений, что религия – явление культуры, что многотысячелетняя история человечества в основном развивалась в рамках различных религий. Это касается и морали, и обычаев, и обрядов, а также музыки, архитектуры, изобразительных и прикладных искусств. Поэтому изучение религий как культурных явлений составляет необходимую часть образованности каждого человека. Вспомните, что без знания основных событий Ветхого и Нового завета, житий святых, как и без знания исторических событий и исторических лиц, невозможно посещение любого из музеев изобразительных искусств. Знание религий, а особенно религии своего народа, необходимо для самопознания народа и не обязательно связано с верой. Поэтому учащимся следует давать представление о «мифологии» различных религий хотя бы на уроках истории. Что же касается преподавания вероучений, религиозной проповеди, то они должны вестись в церковных помещениях. Это необходимо еще и в тех случаях, когда проповедничество, милосердие, воспитание нравственности на основе веры входит в основные требования религии (как, например, в христианстве). Верующим различных религий следует предоставить широкие возможности заниматься добрыми делами, организовывать приюты для неразвитых детей, престарелых или безнадежно больных людей.
Преподавателям необходимо воспитывать уважение и терпимость к верованиям и убеждениям человека, разумеется и атеистическим. Эмоциональное (прежде всего связанное с отрицательными эмоциями) отношение к верованиям и убеждениям может обернуться неприятными последствиями, вплоть до национальной вражды.
Очаги культуры
Выше я высказал различные предположения о том, как, по-моему мнению, должна развиваться культура. Какой идеей эти все предположения могут быть объединены? Думаю, что это идея «очагов культуры». Не просто децентрализация культуры, а заботливое отношение к малейшим ее проявлениям. Культура произрастает в незначительном, горит пламенем, а если перестает гореть, от нее остаются пепелища: места, где когда-то жили люди. Огонь культуры – это не пожары, а скорее отдельные очаги и огоньки, освещающие жизнь.
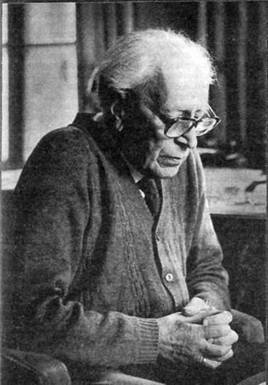
Д.С. Лихачев. Май 1990 г.
Без культуры не может продолжаться жизнь. Была великая культура русского крестьянства: свои трудовые навыки, свое знание природы и земледелия, свое изобразительное искусство, украшавшее быт, свой словесный фольклор, своя музыка – от частушек до церковного пения. Все это делало деревенскую жизнь радостной, притягивало крестьян к земле, на которой они оставались, несмотря на все соблазны городской жизни.
Не одной грамотностью определялась культура человека. Крестьянская культура была очень высокой. Особенно в тех районах, где не существовало крепостного права, где обрабатываемая крестьянином земля была его собственностью, и он знал, что она перейдет к его детям.
Смею утверждать, что своя культура труда и взаимоотношений уже в XIX веке зарождалась у рабочего класса. Я застал еще навыки рабочей морали у старых наборщиков.
И хотя новое должно основываться на добрых традициях старого, все же новое нужно творить в основном из нового же, из новых отношений в обществе. Это новое должно быть разнообразным и многообразным, чтобы каждый нашел в нем свое, чтобы человек вырастал не только свободным, но и на основе свободного выбора того, что больше всего соответствует его натуре. Свобода в культуре – это не произвол, а возможность найти свое в многообразии существующей культуры. Без ее многообразия, без высоких и разнообразных средних школ, отдельных ученых в науке, без многообразия театральной жизни, без свободного университетского распорядка занятий, без различных направлений в искусстве и философской мысли – без всего этого развитие культуры невозможно.
Культура должна быть не просто обращена к человеку. Она должна быть обращена к людям с различными, непредугаданными способностями и талантами, предоставив им возможности для свободного развития.
Известия. 1989. 15/ХI.
ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ
Ощущать себя в истории крайне важно. Этому ощущению в истории помогают памятники культуры и истории. Особую роль играет в этом ощущении исторический облик наших городов, исторический ландшафт, рядовые застройки целых районов.
•
Ощущению себя в истории помогает литература, искусство, традиции, обычаи.
Недаром дети так тянутся к старым обычаям, любят рассказы о старине. Это здоровый и крайне важный инстинкт.
•
Ощущать себя наследником прошлого значит осознавать свою ответственность перед будущим.
•
«Как мало из свершившегося было записано, как мало из записанного сохранено» (Гёте). Но есть еще одна ступень в отношении к прошлому: непонимание его, искажение, создание своего рода мифов, совершенно не соответствующих тому, что было. Даже исторические личности и исторические события полувековой давности превращены в своеобразные «мифологемы». И что интересно – об одном и том же событии или человеке существуют совершенно различные представления, каждое из которых складывается в цельный образ. Пример – образ Сталина (их больше чем два).
•
Мода очень часто бежит за чем-то серьезным, поверхностно отражает какие-то глубинные явления. Сейчас мода на историю: на исторические романы, на мемуары, на Ключевского, Соловьева и Карамзина. Интерес к истории (пусть часто неглубокий) – явление в основе своей очень важное, значительное и нужное для нашего времени. Интерес к истории связан с необходимостью (духовной необходимостью) искать свои корни, ощущать в нашем шатком мире стабильность, прочность, свое место и предназначение. И это же учит уважению к другим народам, другим культурам и одновременно самоуважению. История приучает ценить современность как результат тысячелетних усилий, подвигов, а иногда и мученичества наших предков. История показывает, сколько ошибок было совершено в прошлом «ради счастья подданных». Она воспитывает чувство ответственности перед будущим.
•
Поразительно, как могут ошибаться умнейшие люди. Это надо всегда иметь в виду, ссылаясь на «авторитеты». Владимир Сергеевич Соловьев всерьез писал в книге «Национальный вопрос в России» (СПб., 1888): «Что касается до современных писателей, то при самой доброжелательной оценке все-таки остается несомненным, что Европа никогда не будет читать их произведений» (с. 140). А ведь сейчас в общемировом плане русская литература наиболее читаемая! Далее: «Нужно выставить возрастающих талантов и гениев более значительных, нежели Пушкин, Гоголь или Толстой. Но наши новые литературные поколения, которые имели, однако, время проявить свои силы, не могли произвести ни одного писателя, приблизительно равного старым мастерам. То же самое должно сказать о музыке и об историческое живописи: Глинка и Иванов не имели преемников одинаковой с ними величины. Трудно, кажется, отрицать тот очевидный факт, что литература и искусство в России идут по нисходящей линии...» (с. 140–141). То же Соловьев говорит и о русском «научном творчестве». Предрассудок своего времени? Но сколько еще имеем мы предрассудков, унаследованных от XIX века и выращенных нами самими и о нас самих!
В той же книге Вл. Соловьева есть и такое место (с. 139, примечание): «Только в архитектуре и скульптур нельзя указать ничего значительного, созданного русскими. Древние наши соборы строились иностранными зодчими; иностранцу же принадлежит единственный (курсив мой. – Д. Л.) высокохудожественный памятник, украшающий новую столицу России (статуя Петра Великого)».
•
О. Э. Мандельштам сказал о Ключевском: «Ключевский, добрый гений, домашний дух-покровитель русской культуры, с которым не страшны никакие бедствия, никакие испытания». Это – в заметке о Блоке «Барсучья нора». Это удивительно верно, но почему? Я думаю, что события, какими бы ужасными они ни были, освещаются и освящаются их включением в историю, в осмысленную историю, в историю-повествование, хорошо написанную. Вообще любая гуманитарная концепция, касается ли она истории, искусства, литературы, отдельного произведения или отдельного творца (писателя, скульптора, живописца, архитектора, композитора), делает жизнь «безопасной», оправдывает существование несчастий, сглаживает в них всю их «колючесть».
•
«Настоящее – это последний день прошлого». Для древней Руси так оно и было: «переднее» (начало) и (заднее» (самое последнее во временном ряду). Мы позади, в «обозе» совершавшихся и совершающихся событий. Настоящее – результат, итог прошлого. Поэтому дурное прошлое никогда не может повести к хорошему настоящему, если... если мы не осознаем все ошибки прошлого, устремляясь в будущее, мы сами станем прошлым. Низкие жертвы и разрушения во имя «прекрасного будущего» недействительны и аморальны.
•
Иду с кладбища в Комарове – дорога «не скажу уда» в сосновом лесу. Двое спилили сосну. Неумело пилят дальше – на баланы (по-соловецки – длинные бревна), чтобы можно было увезти сосну домой для топки.
Иду дальше. Дачник везет на финских саночках уже отпиленный балан (той сосны). Навстречу лыжники весело приветствуют пыхтящего саночника:
— «Откуда дровишки?»
«Дачник» (полуответственный работник) мрачно отвечает (не останавливаясь, не задумываясь – буквально «с ходу»):
— «Из лесу, вестимо».
В этой сцене все: и сила русской поэзии (она въелась в сознание, служит языком), и пошлость, тяжесть, грусть нашей жизни. Ведь сцена повторяет Некрасова карикатурно. Там, у Некрасова, – мальчик, живой, нравственный, занятый нравственным делом. А здесь – браконьер, «нарушитель», полуответственный работник, дачник, непривычный к труду, занимающийся физическим трудом ради воровства.
На мальчике-то со временем Россия стоять будет. Он отцу помощник, а потом на могилу отца ходить будет, крестьянином будет, Европу накормит. Или солдатом станет.
А этот? Будущего нет. Настоящее – воровство, «дачный уют». Позади кладбища нет – он на «родные могилки» небось не ходит. Печку топит, и то – плохую, сложенную руками халтурщиков.
•
Р. Г. Скрынников в своей книге о Грозном приводит хорошую цитату из Энгельса, объясняющую настроения Грозного, его страх смерти. Скрынников пишет, что «эпоху террора» нельзя отождествлять с господством людей, внушающих ужас. «Напротив того (здесь начинается цитата из Энгельса), это господство людей, которые сами напуганы. Террор – это большей частью бесполезные жестокости, совершенные для собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх» (Письмо Ф. Энгельса Карлу Марксу от 4 сентября 1870 г. – К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 33, с. 45).
•
Хорошо сказано С. М. Соловьевым: «Прикрепление крестьян – это вопль отчаяния, испущенный государством, находящимся в безвыходном экономическом положении» (С. М. Соловьев. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984, с. 23). Хорошо сказано и дальше: «Прошедшее, настоящее и будущее принадлежит не тем, которые уходят, но тем, которые остаются, остаются на своей земле, при своих братьях, под своим народным знамением» (27).
•
«Россия, нищая Россия». И это совершенно верно. Но какое богатство в дворцах знати, императорской фамилии. Достаточно сравнить пригороды Петербурга с Шенбруннским дворцом Франца-Иосифа под Веной. А богатства монастырей, библиотек! И все-таки Россия – нищая, ибо богатство или нищета – это богатство или нищета народа, общего уровня жизни.
•
А вот неверное, избитое, набившее оскомину, несколько раз с бахвальством повторенное в докладах на общих собраниях Академии наук СССР ее президентом академиком Александровым утверждение: «Наша страна из страны почти сплошной неграмотности при царском правительстве...» Откуда взято это утверждение? Из старых статистических данных? Но тогда записывали в неграмотные всех старообрядцев, отказывавшихся читать книги гражданской печати. А эти «неграмотные» любили книгу, знали свои книги лучше, чем сборщики сведений – свои. И читали больше.
Наши представления об истории и, о прошлом – это по большей части мифы. Один из мифов – «потемкинские деревни». А князь Потемкин населил Новороссию и строил Мариуполь, Николаев и многие другие города как раз там, где он якобы строил свои «деревни».
Тем не менее истина в этом мифе о «потемкинских деревнях» была: в России очень любили строить для «начальственного ока».
•
Для Запада и для нас характерно преувеличение специфичности русской истории. Искать специфичность следует, но только там, где она действительно может быть научно установлена. Все тычут нам в нос Грозным. Однако в то время когда у нас свирепствовал Грозный, герцог Альба кроваво расправлялся со своими врагами в Голландии, а в Париже была Варфоломеевская ночь.
•
Вл. Соловьев сказал, перефразируя Евангелие: «Люби все другие народы как свой собственный». Для развития культуры чрезвычайно важно сочувственное вживание в культуру других народов.
«Бытовая демократия» всегда была более сильна в России, чем на Западе. Несмотря на крепостное право! Помещики, особенно их дети, часто дружили с дворовыми. Были и няньки и дядьки из крестьян – Арины Родионовны, Савельичи. На этом фоне и Лев Толстой не был удивителен.
Англичанин Грахам в книге «Неизвестная Россия» писал: «Русские женщины всегда стоят перед Богом; благодаря им Россия сильна».
•
Рассказывают, что на невольничьих рынках Средиземноморья особенно ценились русские женщины в няньки. И ведь няни из крепостных так и остались у нас самыми сердечными и умными воспитательницами. Помимо Арины Родионовны см.: Шмелев, «Няня из Москвы»; кн. Евгений Трубецкой, «Воспоминания». София, 1921; кн. С. Волконский, «Последний день. Роман-хроника» и пр.
•
У всякого народа есть свои достоинства и свои недостатки. На свои надо обращать внимания больше, чем на чужие. Казалось бы, самая простая истина.
Человек, его личность – в центре изучения гуманитарных наук. Именно поэтому они и гуманитарные. Однако одна из главных гуманитарных наук – историческая наука – отошла от непосредственного изучения человека. История человека оказалась без человека...
Опасаясь преувеличения роли личности в истории, мы сделали наши исторические работы не только безличностными, но и безличными, а в результате малоинтересными. Читательский интерес к истории растет необычайно, растет и историческая литература, но встречи читателей с историками в целом не получается, ибо читателей, естественно, интересует в первую очередь человек и его история.
В результате огромная нужда в проявлении нового направления в исторической науке – истории человеческой личности.
•
Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью.
Образованность живет старым содержанием, интеллигентность – созданием нового и осознанием старого как нового.
Больше того... Лишите человека всех его знаний, образованности, лишите его самой памяти, но если при всем этом он сохранит восприимчивость к интеллектуальным ценностям, любовь к приобретению знаний, интерес к истории, вкус в искусстве, уважение к культуре прошлого, навыки воспитанного человека, ответственность в решении нравственных вопросов и богатство и точность своего языка – разговорного и письменного – вот это и будет интеллигентность.
•
Люди, стоящие на низших уровнях социального и культурного развития, имеют такой же мозг, что и люди, окончившие Оксфорд или Кембридж. Но он «не загружен» полностью. Задача" состоит в том, чтобы дать полную возможность культурного развития всем людям. Не оставлять у людей «незанятого» мозга. Ибо пороки, преступления таятся именно в этой части мозга. И потому еще, что смысл человеческого существования – в культурном творчестве всех.
•
Конечно, образованность нельзя смешивать с интеллигентностью, но для интеллигентности человека огромное значение имеет именно образованность. Чем интеллигентнее человек, тем больше его тяга к образованности. И вот тут обращает на себя внимание одна важная особенность образованности: чем больше знаний у человека, тем легче ему приобретать новые. Новые знания легко «укладываются» в запас старых, запоминаются, находят себе свое место.
Приведу первые пришедшие на память примеры. В двадцатые годы я был знаком с художницей Ксенией Половцевой. Меня поражали ее знакомства со многими известными людьми начала века. Я знал, что Половцевы были богачами, но если бы я чуть больше был знаком с историей этой семьи, с феноменальной историей ее богатства, сколько интересного и важного я мог бы от нее узнать. У меня была бы готовая «упаковка», чтобы узнавать и запоминать.
Или пример того же времени. В 20-е годы у нас была библиотека редчайших книг, принадлежавших И. И. Ионову. Я об этом как-то писал. Сколько новых знаний о книгах я мог бы приобрести, если бы в те времена я знал о книгах хотя бы немного больше.
Чем больше знает человек, тем легче он приобретает новые знания.
Думают, что знания толкутся и круг знаний ограничен какими-то объемами памяти. Совсем напротив: чем больше знаний у человека, тем легче приобретаются новые.
Способность к приобретению знаний – это тоже интеллигентность.
А кроме того, интеллигент – это человек «особой складки»: терпимый, легкий в интеллектуальной сфере общения, не подверженный предрассудкам, в том числе шовинистического характера.
Многие думают, что раз приобретенная интеллигентность затем остается на всю жизнь. Заблуждение! Огонек интеллигентности надо поддерживать. Читать, и читать с выбором: чтение главный, хотя и не единственный, воспитатель интеллигентности и главное ее «топливо». «Не угашайте духа!»
•
Нация, которая не ценит интеллигентности, обречена на гибель.
•
Каждый человек обязан (я подчеркиваю – обязан) заботиться о своем интеллектуальном развитии. Это его обязанность перед обществом, в котором он живет, и перед самим собой.
Основной (но, разумеется, не единственный) способ интеллектуального развития – чтение.
Чтение не должно быть случайным. Это огромный расход времени, а время – величайшая ценность, которую нельзя тратить на пустяки. Читать следует по программе, разумеется, не следуя ей жестко, отходя от нее там, где появляются дополнительные для читающего интересы. Однако при всех отступлениях от первоначальной программы необходимо составлять для себя новую, учитывающую появившиеся новые интересы.
Чтение, для того чтобы быть эффективным, должно интересовать читающего. Интерес к чтению вообще или по определенным отраслям культуры необходимо развивать в себе. Интерес может быть в значительной мере результатом самовоспитания.
Составлять для себя программы чтения нелегко, и это нужно делать, советуясь со знающими людьми, с существующими справочными пособиями разного типа.
Опасность чтения – это развитие (сознательное или бессознательное) в себе склонности к «диагональному» просмотру текстов или к различного вида скоростным методам чтения.
«Скоростное чтение» создает видимость знаний. Его можно допускать лишь в некоторых видах профессий, остерегаясь создания в себе привычки к скоростному чтению, оно ведет к заболеванию внимания.
•
Составитель известного словаря английского языка доктор Самюэль Джонсон утверждал: «Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения». Это изречение имело в английском высшем образовании огромную роль, ибо было признано, что в жизни самое необходимое знание (при наличии хороших библиотек) – второе. Поэтому экзаменационные испытания в Англии проводятся часто в библиотеках с открытым доступом к книгам. Проверяется в письменном виде: 1) насколько хорошо учащийся умеет пользоваться литературой, справочниками, словарями; 2) насколько логично он рассуждает, доказывая свою мысль; 3) насколько хорошо он умеет излагать мысль письменно.
Все англичане умеют хорошо писать письма.
Слова блаженного Августина: «Единственным признаком благородства скоро станет знание литературы!» Сейчас – знание поэзии, во всяком случае.
Перестанет ли существовать книга? Не заменится ли она приборами, демонстрирующими или читающими текст?
Конечно, приборы (аппараты) очень нужны. Было бы прекрасно, если бы геолог мог захватить с собой сто, тысячу справочников в экспедицию в спичечной коробке или зимовщик взять с собой большую библиотеку просто для чтения.
Но заменить собой книгу полностью эти приборы не смогут, как не смог заменить кинематограф театр (а предсказывали), лошадь – автомобиль, живой цветок – искуснейшую подделку.
Книгу можно погладить, любить, возвратиться к прочитанному. Я люблю читать Пушкина, Лермонтова, Гоголя – в тех самых однотомниках, которые мне были подарены родителями в детстве, хоть текст в них и неточный. Стихотворения Блока в тех самых сборниках, которые издавались при его жизни, особые.
Аппарат (прибор) может быть чрезвычайно удобным, но все же книга – живая.
Самое мною любимое в книге – шрифт, которым она напечатана, наборный титул, четкая печать, любовно сделанный переплет.
•
Если книга не породила у вас ни одной самостоятельной мысли, значит, она напрасно прочитана (кроме справочников, но они не читаются подряд).
•
Будьте Колумбами – открывайте хорошие книги в океане незначительных.
•
Книги, по Карлу Попперу, это «третья реальность»; первая – объективно существующая, вторая – субъективная.
•
Читать, но и перечитывать! Если при перечитывании книга позволяет открыть в ней нечто новое, значит, это полезная книга.
•
Некоторые мысли из Изборника 1076 года, предназначавшегося для князей.
«Егда тя оклеветають, разумей: егда есть чьто до тебе вь клевете той; аште ли несть, то мни окы дымъ расхо-дяшту ся клевету».
«Иже слабо живеть, то того не приводи на съветъ».
«Сълнце да не заидеть в гневе вашемь».
«Глаголи к Богу много, а человекомъ мало».
«Лепо есть человеку осужену быти, неже осудити».
•
А вот мысль из великой книги «Четьи-Минеи»: «Подобает бо кормнику {рулевому} с гребцами едину мысль имети, аще ли распрю начнуть имети в себе, то и погрязнет корабль».
•
Один помор сказал Ксении Петровне Гемп: «Над нами одно небо, а под нами одна земля». Иначе: мы все равны под небом и на земле.
Еще вспоминается мне изречение: «Благоразумие – лучшая часть доблести».
У Белинского где-то в письмах, помнится, есть такая мысль: мерзавцы всегда одерживают верх над порядочными людьми потому, что они обращаются с порядочными людьми, как с мерзавцами, а порядочные люди обращаются с мерзавцами, как с порядочными людьми.
•
Мицкевич где-то сказал: «Дьявол трус, он боится одиночества и всегда прячется в толпе». И еще: «Дьявол ищет темноты, и надо от него прятаться в свете».
•
Многие поговорки известны у нас в укороченном виде. Сперва все знали их в полном и потому понимали с начальных слов, а потом поговорка казалась понятной и без продолжения: поговорка – и все тут. Так, например: «Лиха беда начало...» Почему беда? А вот что сказал Петр, по преданию, когда первым в 1702 году стал вбивать свайку в особенно бурной реке, переводя свои фрегаты из Белого моря в Онежское озеро: «Лиха беда первому оленю в гарь кинуться, остальные все там же будут». А вот другая поговорка: «Не выметай из избы сору», полный ее вид: «Не выметай из избы сору к чужому забору».
•
Длинный язык признак короткого ума.
•
Английская поговорка: «Людям, живущим в стеклянном доме, нельзя бросаться камнями».
•
Боснийская народная поговорка: «Никто из людей не знает – в какой вере он умрет».
•
«Вызвонить грех» – отлить колокол, чтобы он своим звоном вымолил у Бога прощение. Или – отлить колокол в чью-либо память. Таков был обычай.
•
Сочиненная мною «под древнерусскую» поговорка: «Не только „днесь"; но и тамо взвесь».
•
Завет Гоголя: «Со словом надо обращаться честно».
•
Никогда нельзя полагаться на сведения одного рода, на одну аргументацию. Это хорошо может быть продемонстрировано на следующем «математическом» анекдоте. С математиком посоветовались: как обезопасить себя от появления террориста с бомбой в самолете. Ответ математика: «Возить с собой бомбу в портфеле, так как по теории вероятности очень мало шансов на то, чтобы в самолете одновременно оказались две бомбы».
•
Там, где нет аргументов, там есть мнения.
•
Ученый не должен становиться пленником своих концепций.
•
Резерфорд сказал: «Научная истина проходит три стадии своего признания: сперва говорят – «это абсурд», потом – «в этом что-то есть» и, наконец, – «это давно известно!». Вся соль здесь в том, что каждое из этих суждений Резерфорд называет «признанием»!
•
Человек не должен всегда быть в мундире своих мнений. Он должен быть внутренне свободным и, если это необходимо, не стыдиться отказываться от своих старых суждений. Пушкин говорил: «Меня упрекают в изменчивости мнений. Может быть: ведь одни глупые не переменяются» (это по П. В. Анненкову – Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984. С. 159, а в пушкинской статье «Александр Радищев» чуть иначе: «Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют»). Сходные мысли высказывал Ф. М. Достоевский. И при этом читатель должен чувствовать в писателе самостоятельность мнений, а не «хорошие манеры» камердинера.
•
Мы свободны в своих движениях. Мы можем идти вперед, назад, влево, вправо, на восток и запад. Куда нам угодно. Но земной шар совершает с неизмеримо большей скоростью свое движение. Так и в истории литературы. Мы свободны писать что вздумаем, и тем не менее незаметно для нас мы движемся с неотвратимостью в одном направлении. Только в одном!
Слышал хороший анекдот: «Чем отличается академик от обычного ученого?» – «Ничем, – только он этого не знает».
•
Предубеждения не должны мешать убеждениям.
Из «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина. Один из параграфов устава «О нестеснении градоначальников законами» гласит: «Ежели чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие, то, сняв оный со стола, положи под себя». Напрасно думают, что это не относится к науке.
•
Я как-то спросил академика А. С. Орлова, как бы он определил сущность некоторых знаменитостей. Он был очень меток и зол на язык. Вот что мне запомнилось:
Блок – тоскуй.
Маяковский – оратор.
Пастернак – гурман.
Екатерина II – мадам Помпадур, добившаяся трона.
Пушкин – солнышко.
Никитин – песнь ямщика.
А других я не называю. Тут шли такие определения: «ярмарочный зазывала», «запевала», «прихлебала». Иных прозвищ, данных им моментально, я и не называю: сразу можно узнать, кому они даны.
•
Льву Толстому, наверное, было скучно наедине со своей «философией». Не могло быть не скучно автору «Двух гусаров»...
Философские системы бывают не только верные или неверные, но интересные, богатые и неинтересные, бедные, скучные. То же религии. К ним может быть и эстетический подход.
•
Даниил Александрович Гранин спросил меня в Доме писателя перед вечером цыганской песни, который должен был вести В. А. Мануйлов, – зачем нужно искусство? Об этом спрашивали его на встрече с молодежью в Берлине, откуда он только что вернулся (разговор был 26 марта 1982 года).
Речь зашла о начале искусства, о пещерных рисунках. Рисуют бизона с таким необыкновенным умением. Как будто и прогресса нет.
Да, умение поразительное, но ведь только бизон, только дикий бык, пещерный медведь... Чтобы изобразить цель охоты? Но тогда почему нет уток, гусей, перепелов? Ведь на них тоже охотились. Почему нет проса, а ведь его сеяли.
Мое предположение: изображалось в пещерах то, чего боялись. Что могло нанести смертельный вред. Человек рисовал то, что страшно. Он нейтрализовал окружающий его мир в том, что несло ему опасность.
Отсюда родилось искусство.
Когда пугало обширное пространство русской равнины, человек ставил на самых высоких местах, на крутых берегах рек и даже среди болот церкви. Церкви населяли обширный мир. Это подавляло страх одиночества. Протяжная песня покоряла пространство. Звон колокола наполнял воздушное пространство. Нос ладьи загибали высоко кверху и вырезали на нем страшилище. Страшное море, страшные волны – надо было и их устрашить.
Боялись смерти, безвестности, исчезновения и насыпали курганы. Курганы труднее всего разрушить. Курганы из земли, они бессмертны, как земля. Чтобы разрушить курган, надо его разнести даже не лопатами, а на носилках. Землю лопатой не размечешь: курганы делались большими, и если разрывать курган лопатами, то рядом вырастет другой курган – на расстоянии броска лопатой. Поэтому курган – символ бессмертия, а египетские пирамиды подражают курганам.
А в последующем искусство борется не со смертью, а с бесформенностью и бессодержательностью мира. Искусство вносит в мир упорядоченность. Эта упорядоченность каждый раз различная. Однообразна в безличностном фольклоре, индивидуальна в индивидуальном творчестве, разнообразна в пределах одного личностного творчества: художник в разных творениях может выражать разные идеи, разные стилистические тенденции.
•
Дега сказал: «Только тогда, когда художник перестает знать, что он делает, он способен создать истинные ценности». А Пикассо говорил: «Тот, кто пытается объяснить картины, как правило, совершенно ошибается». А кто-то из художников ответил на вопрос – работает ли он: «Я цвету».
•
Изобразительное искусство (и живопись, и графика) – это целый мир самых различных искусств. В одни) искусствах – самое главное сюжет, в других – один из видов формы (цвет – решения различные, композиция – различные, рисунки – различные). Необходимо понимать все искусства, не останавливаясь на одном каком-либо «любимом»; тем более нельзя выделять одного «любимого художника».
Я поражался искусству Матисса-рисовальщика, но не мог проникнуть в тайну его мастерства. В чем завораживающая сила его рисунков? Я взял лист тонкой бумаги и стал переводить воспроизведения его рисунков (обводит] линии). И тут я поразился движению руки Матисса – спокойной, уверенной, смелой, абсолютно естественно] (академически естественной).
•
В раннехристианской эстетике особое место занимай: зрительные образы. В послании апостола Павла еврея говорится: «Все открыто перед очами Господа». Поэтов так часты в Священном писании «очи души», «очи сердца Библия – книга не только слов, но и зрительных образов. Иов отдает предпочтение глазам перед ушами. Он говорит Богу: «Я слышал о Тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь» (Иов, 42, 56). И так как «все открыто перед очами Господа», то в стенописях церквей с одинаковой старательностью выписываются даже те детали, которые снизу не видны молящимся, но «видны Богу». Н.Н. Воронин обратил внимание на то, что в Боголюбове рельефный орнамент охватывал храм даже в той его части, которая сразу же скрывалась строительством примыкающей к нему лестничной башни. Никакого обмана, никакой иллюзии, ничего скрытого от глаз Бога.
•
Очень трудно определить механику комического. Им в высокой степени должен обладать режиссер, постановщик комических спектаклей. В постановке Фокиным «Золотого петушка», выдержанной в лубочном стиле, войска Додона, отправляясь в поход, сперва патетически маршируют, а затем внезапно продолжают свой путь вприсядку, уходя со сцены под громовой хохот зрительного зала. Балет был поставлен Фокиным в 1914 году. Шемаханскую царицу исполняла Тамара Карсавина.
•
Народное искусство наиболее близко к человеку, ибо оно хоровое, рабочее (его держит человек в руке), одевающее его, окружающее его (в избе, например), действующее вместе с ним... Оно насквозь прикладное.
•
Народное искусство поражает двумя особенностями (наряду с другими): всеохватностью и единством. «Всеохватность» – это пронизанность всего, что выходит из рук и уст человека, художественным началом. Единство – это прежде всего единство стиля, народного вкуса. В едином стиле и дом, и все, что в доме, и все, что сделано человеком вокруг дома, все, что творится им изустно. Обе эти особенности объясняются тем, что искусство во всех его формах подчинено, как высшему началу, стабильному укладу жизни. Все праздники, все обычаи, все правила поведения создают единое искусство. Каждый предмет, каждая песнь, выхваченная из обряда и быта, теряет наполовину значимость и красоту.
Но столь активный быт, столь единый обиход, командующий искусством, возможен только в обществе, живущем, единой жизнью, то есть в крестьянской среде, где всем в конечном счете владеет природа, устанавливающая годовые праздники, календарный быт.
•
Обычаи и обряды наиболее сильно выражаются в праздниках. Народное искусство связано с обиходом и обрядом. Вот почему оно одновременно и празднично. Фольклор вещевой, словесный и музыкальный — это праздничное обряжение жизни.
•
А. Модильяни на одном из своих рисунков написал: «Жизнь состоит в дарении от немногих многим, от тех, кто Знает и Имеет, тем, кто не Знает и не Имеет». И это верно, и верно то, что написал И. Шкляревский:
Дай мне все! Я не стану богаче. Все возьми! Я не стану бедней.
Это свойство духовных ценностей: они не уменьшаются от раздачи, и ими нельзя обогатить того, кто их уже имеет.
Ренессанс – поразительный по своей культуре – одновременно ведет к образованию тирании. Завоевания в одной области связаны с потерями в другой.
Немногие знают: Карл-Теодор-Казимир Мейерхольд имя Всеволод принял в честь Гаршина! Почему Гаршина? Отец Всеволода Мейерхольда с удовольствием вспоминал «немецкую землю» – свидетельствует Николай Волков в монографии «Мейерхольд» – и держал на письменном столе портрет Бисмарка с личным автографом «железного канцлера». Перешел в русское подданство Мейерхольд, только поступая в университет (это было надо). Немецкое происхождение Мейерхольда не делает его менее русским, не разрывает его связи с русским театром.
•
Володарский, выступая 13 апреля 1918 года перед слушателями Агитаторских курсов в Петрограде, сказал:
«Экзамен на разрушение мы выдержали блестяще, на пять с плюсом. Мы разрушили все. А сейчас перед нами стоит другой вопрос: сумеем ли мы оказаться такими же хорошими строителями, какими были разрушителями».
Вскоре Володарский был убит.
•
Памятники культуры бывают самые неожиданные. Например – дырка от выпавшего кирпича. В Софийском соборе в Вологде такая дырка была, и очень береглась. А дело было так. Иван Грозный любил Вологду и хотел сделать ее новой столицей своего государства, говорит предание. В один из приездов в Вологду из ноги ангела на своде выпал камень и раздробил палец ноги Ивана Грозного. Грозный принял это за дурную примету и больше в Вологду не приезжал. Как же было не радоваться вологжанам и столетиями не беречь то место, откуда выпавший камень спас Вологду?
Традиция сохранять памятники – такая же, как сохранять обычаи. А дырка в фресках могла бы сохранить самые фрески от последующих записей.
•
Разрушенные церкви по берегам Волги «постепенно переходят в ведение природы». Кто-то сказал подобное о развалинах в Афинах.
•
Природа – поразительной одаренности художник. Стоит оставить ее без человеческого вмешательства на десяток лет, и она создает красивый пейзаж. Посаженные в «коробочном» городе деревья быстро его облагораживают.
Спросим себя – в каком же стиле работает этот «художник»? Классицизм? нет! Барокко? нет! Романтизм – это уже ближе. Ландшафтные романтические парки ближе всех к эстетическим устремлениям природы, а природа ближе всего к ландшафтным романтическим паркам.
•
В романтических парках естественнее всего может быть выражена природа разных стран, разных ландшафтных зон природы.
В поэзии для «открытия» природы больше всего сделал романтизм. Романтическая поэзия отчетливее всех других насыщена описаниями природы. Во всем этом многое говорит в пользу романтизма и в пользу его роли в истории литературы и живописи.
•
Для меня загадка в природе – это эстетическая согласованность цветов: например, цвет цветка и его листьев, цвела полевых цветов, растущих на одной поляне, цвет осенних листьев. На кленовом дереве всегда разный, но согласованный. Если цвет – это колебания, ничего общего не имеющие с тем, что видит человеческий глаз, то как рассчитываются цвета цветов на их восприятие человеком?
Там, где природа предоставлена самой себе, краски ее всегда согласованы по оттенкам.
Природа – великий пейзажист.
•
Самые красивые деревья – старые маслины. Поразительные, двухтысячелетние маслины, полные здоровья, я видел в 1964 году в Приморской части Черногории около Будвы и Святого Стефана. В книге Осии в Библии: «...и будет красотою, как красота маслины», то есть выше нет. Маслина сама себя лечит. Она лечит образующиеся в ее стволе дупла, и стволы эти похожи на огромные косточки ее плодов.
•
Старые деревья служат предметом усиленного ухода и почитания в Прибалтике, на Кавказе, на Балканах...
В Черногории двухтысячелетние оливковые деревья – поразительные по красоте (около г. Будвы). В Болгарии распространяются изображения «одного старого дерева», растущего около местечка... забыл какого. Год его «рождения» – 16... Тоже забыл, – ясно помню, XVII века. А у нас в селе Коломенском деревья (дубы) имеют по 500 лет и не пользуются должным почитанием и вниманием. Гибнут. Может быть, это явление вообще типичное для нас, русских, когда старикам не уступают место в транспорте?
Какой контраст с Кавказом! Мы путешествовали в 87-м году по Волге на теплоходе, на котором было много пассажиров-грузин с детьми. Грузинский мальчик лет 13, которого все на теплоходе считали большим шалуном, на каждой пристани выходил одним из первых и помогал у трапа выйти нам с женой и другим пожилым людям!
Один канадец рассказывал мне, что у них старые деревья, именно старые, получаю! медали, и эти медали прикрепляются к ним. Есть деревья-рекордсмены: самые старые в своей местности, самые высокие, самые толстые в стволе. В Эстонии, Латвии все старые деревья на учете.
•
Коран: «Обязательно посади дерево, – даже если завтра придет конец света».
•
Отец (инженер) мне рассказывал. Когда строили в старое время кирпичную фабричную трубу, смотрели, самое главное, за тем, чтобы она была правильно, то есть абсолютно вертикально поставлена. И одним из признаков был следующий: труба должна была чуть-чуть колебаться на ветру. Это означало, что труба поставлена вертикально. Если труба была наклонена хоть немножко – она не колебалась, была совершенно неподвижна, и тогда надо было разбирать ее до основания и начинать все сначала.
Любая организация, чтобы быть прочной, должна быть эластичной, «чуть-чуть колебаться на ветру».
•
Удивительно правильная мысль: «Небольшой шаг для человека – большой шаг для человечества». Можно привести тысячи примеров тому: быть добрым одному человеку ничего не стоит, но стать добрым человечеству невероятно трудно. Исправить человечество нельзя, исправить себя – просто. Накормить ребенка, перевести через улицу старика, уступить место в трамвае, хорошо работать, быть вежливым и обходительным... и т.д., и т.п. – все это просто для человека, но невероятно трудно для всех сразу. Вот почему нужно начинать с себя.
Заметки и наблюдения. Л. 1989.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИКА Д. С. ЛИХАЧЕВА
Дмитрий Сергеевич Лихачев родился 28(15) ноября 1906 г. в С.-Петербурге.
1923 г. Окончил Советскую трудовую школу им. Л. Лентовской в Петрограде.
1923–1928 гг. Студент романо-германской и славяно-русской секций отделения языкознания и литературы факультета общественных наук Ленинградского государственного университета.
1928 г. Окончил Ленинградский государственный университет.
1928 8/II–1932 8 VIII гг. Находился в Соловецком лагере особого назначения, с 1931 г. – на строительстве Беломорско-Балтийского канала. Освобожден без ограничений как ударник ББК.
1932–1933 гг. Литературный редактор Соцэктиза (Ленинград).
1933–1934 гг. Корректор по иностранным языкам в типографии «Коминтерн» (Ленинград).
1934–1938 гг. Ученый корректор, литературный редактор, редактор Отдела общественных наук Ленинградского отделения Издательства Академии наук СССР.
1936 г. Снята судимость постановлением Президиума ЦИК Союза ССР от 27 июля 1936 г.
1938–1954 гг. Младший, с 1941 г. – старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР (ИРЛИ АН СССР).
1941 г. Защитил диссертацию на степень кандидата филологических наук на тему: «Новгородские летописные своды XII века».
1942 г. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».
1946 г. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
1946–1953 гг. Доцент, с 1951 г. профессор Ленинградского государственного университета.
1947 г. Защитил диссертацию на степень доктора филологических наук на тему: «Очерки по истории литературных форм летописания XI– XVI вв.».
1948г.* Член Ученого совета ИРЛИ АН СССР.
1951 г. Утвержден в звании профессора.
1952 г. Присуждена Государственная премия СССР за коллективный научный труд «История культуры Древней Руси. Т. 2»1.
1952 г.* Член, с 1971 г. председатель редколлегии серии АН СССР «Литературные памятники».
1953 г. Избран членом-корреспонденгом Академии наук СССР.
1954 г. Присуждена премия президиума АН СССР за работу «Возникновение русской литературы».
– Награжден медалью «За трудовую доблесть».
1954г.* Заведующий Сектором, с 1986 г. Отделом древнерусской литературы ИРЛИ АН СССР.
1955 г.* Член Бюро Отделения литературы и языка АН СССР.
1956 г.* Член Союза писателей СССР (Секция критики).
– Член, с 1974 г. член Бюро Археографической комиссии АН СССР.
1958г. Командирован в Болгарию для работы в рукописных хранилищах.
– Участвовал в работе IV Международного съезда славистов в Москве, где был председателем подсекции древнеславянских литератур.
1958–1973 гг. Заместитель председателя постоянной Эдиционно-текстологической комиссии Международною комитета славистов.
1959 г. Член Ученого совета Музея древнерусского искусства им. Андрея Рублева.
1960 г. Командирован в Польшу на I Международную конференцию по поэтике.
– Командирован в Болгарию на заседание постоянной Эдиционно-текстологической комиссии Международного комитета славистов.
1960–1966 гг. Заместитель председателя Ленинградского отделения Общества советско-болгарской дружбы.
1960г.* Член Ученою совета Государственного Русского музея.
– Член Советского комитета славистов.
1961 г. Командирован в Польшу на II Международную конференцию по поэтике.
1961–1962 гг. Депутат Ленинградского городскою Совета депутатов трудящихся.
1961 г.* Член редколлегии журнала «Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка».
1962 г. Командирован в Польшу на заседание постоянной Эдиционно-текстологической комиссии Международного комитета славистов.
1963 г. Избран иностранным членом Болгарской академии наук.
– Президиумом Народного Собрания Народной Республики Болгарии награжден орденом Кирилла и Мефодия I степени.
– Командирован в Болгарию на V Международный съезд славистов.
– Командирован в Австрию для чтения лекций.
1963–1969 гг. Член Художественного совета Второго творческого объединения Ленфильма.
1963 г.* Член редколлегии серии АН СССР «Научно-популярная литература».
1964 г. Присуждена степень почетного доктора наук Университета имени Николая Коперника в Торуне (Польша).
– Командирован в Венгрию для чтения докладов в Венгерской академии наук.
– Командирован в Югославию на симпозиум, посвященный изучению творчества Вука Караджича, и для работы в рукописных хранилищах.
1965 г. Командирован в Польшу для чтения лекций и докладов.
– Командирован в Чехословакию на заседание постоянной Эдиционно-текстологической комиссии Международного комитета славистов.
– Командирован в Данию на симпозиум «Юг-Север», организованный ЮНЕСКО
1965–1966 гг. Член Организационного комитета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
1965–1975 гг. Член Комиссии по охране памятников культуры при Союзе художников РСФСР.
1966 г. Награжден орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в развитии советской филологической науки и в связи с 60-летием со дня рождения1.
– Командирован в Болгарию для научной работы.
– Командирован в ГДР на заседание постоянной Эдиционно-текстологической комиссии Международного комитета славистов.
1967 г. Избран почетным доктором Оксфордского университета (Великобритания).
– Командирован в Великобританию для чтения лекций.
– Командирован в Румынию на Генеральную ассамблею и научный симпозиум Совета по истории и философии ЮНЕСКО.
1967 г.* Член Ученого совета Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР.
– Член Совета Ленинградского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
– Член Центрального совета, с 1982 г. член президиума Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
1968 г. Избран членом-корреспондентом Австрийской академии наук.
– Командирован в Чехословакию на VI Международный съезд славистов.
1969 г. Присуждена Государственная премия СССР за научный труд «Поэтика древнерусской литературы»2.
– Командирован в Италию на конференцию по эпической поэзии.
1969 г.* Член, с 1970 г. член бюро Научного совета по комплексной проблеме «История мировой культуры» АН СССР.
1970 г. Избран действительным членом Академии наук СССР.
1971 г. Избран иностранным членом Сербской академии наук и искусств.
– Награжден дипломом I степени Всесоюзного общества «Знание» за книгу «Человек в литературе Древней Руси».
– Присуждена степень почетного доктора наук Эдинбургского университета (Великобритания).
1971–1978 гг. Член редколлегии «Краткой литературной энциклопедии».
1972 г.* Руководитель Археографической группы Ленинградского отделения Архива АН СССР.
1973 г. Награжден дипломом I степени Всесоюзного общества «Знание» за участие в коллективном научном труде «Краткая история СССР. Ч. 1».
– Избран почетным членом историко-литературного школьного общества «Боян» (Ростовская область).
– Избран иностранным членом Венгерской академии наук.
– Командирован в Польшу на VII Международный съезд славистов.
1973–1976 гг. Член Ученого совета Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.
1974 г.* Член, с 1975 г. член Бюро Ленинградского отделения Археографической комиссии АН СССР.
– Член Бюро Археографической комиссии АН СССР.
– Председатель редколлегии ежегодника «Памятники культуры. Новые открытия» Научного совета по комплексной проблеме «История мировой культуры» АН СССР.
1975 г. Награжден медалью «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
– Награжден золотой медалью ВДНХ за монографию «Развитие русской литературы X–XVII вв.».
– Командирован в Венгрию на празднование 150-летия Венгерской академии наук.
– Командирован в Болгарию на симпозиум «МАПРЯЛ» (Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы) по сравнительному литературоведению.
1975 г.* Член редколлегии издания Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР «Вспомогательные исторические дисциплины».
1976 г. Командирован в Болгарию на конференцию «Тырновская школа. Ученики и последователи Евфимия Тырновского».
– Избран членом-корреспондентом Британской академии.
1976 г.* Член редколлегии международного журнала «Palaeobulgarica» (София).
1977 г. Государственным Советом Народной Республики Болгарии награжден орденом Кирилла и Мефодия I степени.
– Президиумом Болгарской академии наук и Академическим советом Софийского университета имени Климента Охридского награжден Кирилло-Мефодиевской премией за труд «Големият свят на руската литература».
1978 г. Награжден грамотой Союза болгарских журналистов и почетным знаком «Золотое перо» за большой творческий вклад в болгарскую журналистику и публицистику.
– Избран почетным членом литературного клуба старшеклассников «Бригантина».
– Командирован в Болгарию для участия в международном симпозиуме «Тырновская художественная школа и славяновизантийское искусство XII— XV вв.» и для чтения лекций в Институте болгарской литературы БАН и Центре болгаристики.
– Командирован в ГДР на заседание постоянной Эдиционно-текстологической комиссии Международного комитета славистов.
1979 г. Государственным Советом Народной Республики Болгарии присвоено почетное звание лауреата Международной премии имени братьев Кирилла и Мефодия за исключительные заслуги в развитии староболгаристики и славистики, за изучение и популяризацию дела братьев Кирилла и Мефодия.
1980 г. Секретариатом Союза писателей Болгарии награжден почетным знаком «Никола Вапцаров».
– Командирован в Болгарию для чтения лекций в Софийском университете.
1981 г. Награжден Почетной грамотой Всесоюзного добровольного общества любителей книги за выдающийся вклад в исследование древнерусской культуры, русской книги, источниковедения.
– Государственным Советом Народной Республики Болгарии присуждена Международная премия имени Евфимия Тырновского.
– Награжден почетным знаком Болгарской академии наук.
– Командирован в Болгарию на конференцию, посвященную 300-летию Болгарского государства.
1981 г.* Член редакционного совета альманаха Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры «Памятники Отечества».
1982 г. Награжден Почетной грамотой издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» в связи с шестидесятилетием издательства.
– Присуждена Почетная грамота и премия журнала «Огонек» за интервью «Память истории священна».
– Избран почетным доктором Университета Бордо (Франция).
– Редколлегией «Литературной газеты» присуждена премия за активное участие в работе «Литературной газеты».
– Командирован в Болгарию для чтения лекций и консультаций по приглашению Болгарской академии наук.
1983 г. Награжден Дипломом почета ВДНХ за создание пособия для учителей «Слово о полку Игореве».
– Избран почетным доктором Цюрихского университета (Швейцария). Член Советского оргкомитета по подготовке и проведению IX Международного съезда славистов (Киев).
1983 г.* Председатель Пушкинской комиссии АН СССР.
1984 г. Имя Д. С. Лихачева присвоено малой планете № 2877,открытой советскими астрономами: (2877) Likhachev-1969 TR21.
– Награжден Почетной грамотой лауреата журнала «Клуб и художественная самодеятельность».
1984 г.* Член Ленинградского научного центра АН СССР.
1985 г. Награжден юбилейной медалью «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941– 1945 гг.».
– Президиумом АН СССР присуждена премия имени В. Г. Белинского за книгу «„Слово о полку Игореве" и культура его времени».
– Редколлегией «Литературной газеты» присвоено звание лауреата «Литературной газеты» за активное сотрудничество в газете.
– Присуждена степень почетного доктора наук Будапештского университета имени Лоранда Этвеша.
– Поездка в Венгрию по приглашению Будапештского университета имени Лоранда Этвеша в связи с 350-летием университета.
– Командирован в Венгрию на Культурный форум государств – участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ); выступил с докладом по теме «Проблемы сохранения и развития фольклора в условиях научно-технической революции».
1986 г. Присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»2.
– Избран почетным председателем Международного общества по изучению творчества Ф. М. Достоевского (IDS).
– Занесен в Книгу почета Всесоюзного общества «Знание» за активную работу по пропаганде художественной культуры и оказание методологической помощи лекторам. – Награжден медалью «Ветеран труда».
– Присвоено звание лауреата «Литературной России» за 1986 г. за лучшее произведение «Что век грядущий нам готовит: диалог с писателем Николаем Самвеляном».
– Избран почетным членом секции книги и графики Ленинградского Дома ученых им. М. Горького.
– Присуждена премия журнала «Огонек».
– Государственным Советом Народной Республики Болгарии награжден орденом Георгия Димитрова.
– Командирован в Италию в составе делегации советских писателей на советско-американо-итальянский симпозиум «Литература: традиция и ценности».
– Командирован в Польшу на конференцию, посвященную «Слову о полку Игореве».
1986 г.* Председатель правления Советского Фонда культуры.
1987 г. Участвовал в работе международного форума «За безъядерный мир, за выживание человечества» (Москва).
– Избран членом Комиссии по литературному наследию Б.Л. Пастернака.
– Награжден медалью и премией «Альманаха библиофила».
– Награжден дипломом за фильм «Поэзия садов» (Лентелефильм, 1985 г.), удостоенный второй премии на V Всесоюзном смотре фильмов по архитектуре и гражданскому строительству.
– Избран иностранным членом Национальной академии Деи Линчей (Италия).
– Командирован во Францию на XVI сессию Постоянной смешанной советско-французской комиссии по культурным и научным связям.
– Командирован в Великобританию по приглашению Британской академии и Университета г. Глазго для чтения лекций и консультаций по истории культуры.
– Командирован в Италию на заседание неформальной инициативной группы по организации фонда «За выживание человечества в ядерной войне».
– Избран депутатом Ленинградского городского Совета народных депутатов.
1987 г.* Член редколлегии журнала «Новый мир».
1988 г. Участвовал в работе международной встречи «Международный фонд за выживание и развитие человечества».
– Избран почетным доктором Софийского университета (Болгария).
– Избран членом-корреспондентом Геттингенской академии наук (ФРГ).
– Командирован в Финляндию Советским Фондом культуры на открытие выставки «Время перемен, 1905–1930 (Русский авангард)».
– Командирован в Данию Советским Фондом культуры на открытие выставки «Русское и советское искусство из личных собраний. 1905–1930 гг.»
– Командирован в Великобританию в связи с выходом первого номера журнала «Наше наследие».
1989 г. Избран народным депутатом СССР.
– Избран членом Комитета Верховного Совета СССР по науке, народному образованию, культуре и воспитанию.
– Лауреат международной журналистской премии Модены.
1990 г. Председатель Всесоюзного Пушкинского общества.
* Положение малой планеты Лихачев и Земли отмечено на момент оппозиции 10 сентября 1985 года.
* См. в бумагах А. Г. Достоевской папку, озаглавленную «Материалы, относящиеся к погребению». ГБЛ, ф. 33, Щ. 5.12, л. 22.
1 В составлении этих заметок большую помощь оказал Е.Ф.Ковтун, которому приношу глубокую благодарность. Им, в частности, сообщены мне основные факты относительно «Дома Мятлевых» и других творческих центров Петербурга, связанных с художественной жизнью.
1 Отсюда выражение: «сыграть в ящик» — умереть.
1 Володя Раков неосторожно послал шутливую телеграмму из Царского Села, где жил, Феде Розенбергу с поздравлением от «папы римского» с годовщиной Космической Академии
1 Вспомнил Борис Николаевич.
1 По-видимому тема «Фауста» в связи с проблемами культуры занимала А. А. Мейера и впоследствии – когда он работал в Дмитровлаге. Во всяком случае, в числе рукописей, сохраненных после его смерти К. А. Половцевой, значится и такая: „«Фауст» (Размышления при чтении «Фауста» Гёте)".
1 Нет, они оказались живы. Они живут в Нью-Йорке. Жура замужем за богачом, ездит по Европе, поет песни собственного сочинения под фамилией Комаро (русская фамилия Комарович ее стесняла). Угрызения совести, Должно быть, незначительны.
1 Расширенный текст выступления в телевизионной передаче «Философские беседы».
1 И. М. Гревс. Монументальный город и исторические экскурсии. Ж. «Экскурсионное дело», Под ред. проф. И. И. Полянского и акад В.М. Шимкевича. Петроград. 1921. С. 21
1 Там же. С. 22- 23.
2 Здесь и ниже все выделения отдельных слов принадлежат И.М. Гревсу.
3 И.М. Гревс. Монументальный город и исторические экскурсии. – «Экскурсионное дело». Под ред. проф. И.И.Полянского и акад. В. М. Шимкевича. Петроград. 1921. С. 24.
1 И. М. Гревс. Монументальный город и исторические экскурсии. «Экскурсионное дело». Под ред. проф. И. И. Полянского и акад. В. М. Шимкевича. Петроград. 1921. С. 27.
1 И. М. Гревс. Указанная работа. С. 27.
1 Там же.
1 И. М. Гревс. Указанная работа. С. 28.
2 Курбатов В. Я. Эстетические и художественно-исторические экскурсии. «Экскурсионное дело». Петербург, 1921. С. 40.
3 И. М. Гревс. Монументальный город и исторические экскурсии. С. 28
4 И. М. Гревс. Указ. работа. С. 28–29.
1И. М. Гревс. Указ. работа. С. 31.
1 Никто из комментаторов «Евгения Онегина» не шел дальше этого обычного понимания, даже Владимир Набоков (Eugene Onegin. A Novel in Verse by Aleksandr Pushkin. Translated from the Russian, with a Commentary, by Vladimir Nabokov. Vol. 3. New York, 1964, P. 129–131).
1 Сад Медичи цел до сих пор (Giardino dei semplisi), но уже без скульптур.
2 Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1979. С. 31
3 Подробно см.: Hunt John Dixon. The Figure in the Landscape: Poetry, Painting and Gardening during the Eighteenth Century. London, 1976.
4 Свиньин П. Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей. СПб. 1817. С. 146.
* По настоящее время.
1 Правда. 1952. 13 марта
1 Ведомости Верхов. Совета СССР. 1966. № 48. С. 926.
2 Правда. 1969. ноября.
1 Minor planet circular. Cambridge Mass. USA, 1984. 13 July. N 8913
2 Правда. 1986. 28 ноября
Внимание! Сайт является помещением библиотеки. Копирование, сохранение (скачать и сохранить) на жестком диске или иной способ сохранения произведений осуществляются пользователями на свой риск. Все книги в электронном варианте, содержащиеся на сайте «Библиотека svitk.ru», принадлежат своим законным владельцам (авторам, переводчикам, издательствам). Все книги и статьи взяты из открытых источников и размещаются здесь только для ознакомительных целей.
Обязательно покупайте бумажные версии книг, этим вы поддерживаете авторов и издательства, тем самым, помогая выходу новых книг.
Публикация данного документа не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Но такие документы способствуют быстрейшему профессиональному и духовному росту читателей и являются рекламой бумажных изданий таких документов.
Все авторские права сохраняются за правообладателем. Если Вы являетесь автором данного документа и хотите дополнить его или изменить, уточнить реквизиты автора, опубликовать другие документы или возможно вы не желаете, чтобы какой-то из ваших материалов находился в библиотеке, пожалуйста, свяжитесь со мной по e-mail: ktivsvitk@yandex.ru