

|
|
|
Фёдоров Юрий Михайлович
Сумма антропологии
Книга 3
Антропологическая историософия
Ответственный редактор
доктор философских наук В.Г.Федотова
Новосибирск
"Наука"
Сибирская издательская фирма РАН
1999
Рецензенты
доктора философских наук В.Н.Сагатовский, В.А.Фриауф
Утверждено к печати
Институтом криосферы Земли СО РАН
В оформлении использованы работы художников Н.М.Брюханова "Размышления о Вечности. Портрет курсанта Ю.Федорова" (1960 г.)
Федоров Юрий Михайлович
Сумма антропологии. Кн.3. Антропологическая историософия. / Ин-т криосферы Земли Сиб. отд-ния РАН. - Новосибирск: "Наука". Сибирская издательская фирма РАН, 1999. - с.
Это третья книга многотомного монографического исследования под общим названием «Сумма антропологии». Ранее вышли: «Кн.1. Расширяющаяся вселенная Абсолюта (1994)» и «Кн.2. Космо-антропо-социо-природогенез Человека (1995)». В книге с позиции субъектоцентристской концепции рассматриваются основные методологические проблемы философии истории в контексте филогенеза Человека. В разрабатываемой автором антропологической историософии субъектом истории выступают не безличные «законы развития», в сам Человек. Предлагается новый способ членения Всемирной Истории, основными «единицами измерения» которого выступают: культ, культура, цивилизация, технология. Показывается, что интенсивная эволюция внешнего объективированного мира осуществляется в режиме перманентной экзистенциальной катастрофы. Конец Истории рассматривается как трансцендентная инверсия ее Начал и мыслится в качестве апокатастасиса (возвращения) в форме апокалипсиса. Лишь возрождением в Духе Человек в состоянии приостановить стремительный свой бег к нижней бездне Бытия.
Книга предназначена для философов, всех, кто стремится постичь сущность Человека.
С Ю.М.Федоров, 1999
С Российская Академия
наук, 1999
Глава 1.
АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ОНТОЛОГИЯ
КАК ИСТОРИОСОФИЯ
1.1.Принципы построения субъектоцентристской
историософемы
|
|
Еще никто не пытался создать но- вую научную дисциплину, которую можно было бы назвать метаисторией. Она соотносима с конкретными историческими науками так же, как физиология с клиникой. Одним из самых любопытных метаисторических исследований явилось бы открытие больших ритмов истории. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? |
С древнейших времен философия и история проявляли друг к другу повышенный взаимный интерес особенно в те эпохи когда возникала острая потребность в разработке целостной концепции становления Человека во всеобщих метаисторических координатах и выяснения человеческого смысла Всемирной Истории. Их взаимодействие становилась особо продуктивным в так называемые переходные эпохи, в связи с острым ощущением «распада времен», вызывавшим страстное желание их восстановить, соединить в единый и целостный кайрос, чтобы прорваться к вечности. Именно в эпохи упадка и безвременья, человек предпринимает отчаянные попытки, чтобы обнаружить свою метаисторическую связь с Абсолютом и метафизическое осмысление истории ему оказывается необходимым, чтобы попытаться реконструировать целостность своей экзистенции на трансцендентальной основе. Переходные эпохи всегда оказываются и эпохами повышенной метафизичности.
На стыке переживаемых тысячелетий, современный человек как никогда ранее начинает остро осознавать свою онтологическую дробность и потребность в преодолении крайней степени безвременья и самоотчуждения. Осознание Бытия в историческом контексте и Истории – в онтологическом становится общей исследовательским проектом для философов и историков. Вновь возрождается интерес к построению историософии, как учении о целостной Истории целостного Человека.
Острое стремление у современного человека сполна ощутить себя полнокровным субъектом своей, а не отчужденной от его становления истории возникает еще и как реакция на то с какой последовательностью и репрессивностью современная идеология стремится трансформировать волю к жизни в волю к выживанию. С этой мирожизненной установкой вряд-ли можно преодолеть тот экзистенциальный вакуум, в который современный человек усилиями технотронной цивилизацией все более погружается. В предчувствие вселенской катастрофы восстановление метаисторического сознания, осознания сопричастности человеческой истории с историей божественной, реконструкция утраченного человеком космического статуса вновь становится вновь должно быть положено в основу всеобъемлющего историософского проекта, реализация которого требуют соединения усилий всех гуманитарно ориентированных мыслителей и прежде всего философов и историков. Историософия должна вновь стать антропологической, а антропология – историософской. «Антропология или, точнее, антропологическое сознание, - писал Н.Бердяев, - предшествует не только онтологии и космологии, но и гносеологии, и самой философии познания, предшествует всякой философии, всякому познанию... Антропологический путь - единственный путь познания вселенной, и путь этот предполагает исключительное человеческое самосознание. Лишь в самосознании и самочувствии человека открываются божественные тайны»[1]. К сожалению, начиная с эпохи бурного восхождения научного сознания, именуемого научно-технической революцией произошла довольно жесткая рационализация и сциентизация всех без исключения форм сознания, в том числе и философии и истории. Интерес к историческому контексту человека и человеческому контексту истории в современных историко-философских исследованиях стал почти реликтовым. Историю как науку начинают занимать пресловутые объективные законы движения мира в их процессуальной обособленности от «потока жизни» вообще и человеческой в особенности. В качестве субъекта человек окончательно «выпал из истории», если его экзистенция и учитывается современной исторической рефлексией, то ни иначе как в качестве составной и довольно производной части от автоэволюционирующей объективной действительности. Начиная с Гегеля принято полагать, что отнюдь не человек состоянием своей духовности предопределяет ход и исход истории, а «хитрый исторический разум» тотально управляющий его законосоразмерным становлением. Философия ХХ века, ставшая позитивистской и сциентистской из трансцендентальной философемы в основном трансформировалась в сциентистскую философему. Она перестала рефлексировать насчет апофатической целостности человекосоразмерного Бытия и онтологическисоразмерного Человека и отдает предпочтение анализу законов внечеловеческого бытия, открываемые наукой, не обладая при этом способности их синтеза в единую картину мира. Пресловутая «научная философия», также как и «научная история» окончательно утратила интерес к человеку как к субъекту истории, ее, в основном, интересует мир в качестве объективной реальности, в которой человек, согласно М.Хайдеггеру, всего лишь временно присутствует. Человек согласно этой объектологической философеме не более чем субъективная производная от объективных исторических процессов, к которым исследователь должен подходить сугубо объектно. Современный позитивистски ориентированный философ полагает, что стоит исследовать диалектику объективного мира, как не составит особого труда апостериори вписать в полученную таким рациональным способом модель мира динамику человеческой экзистенции. Складывается странная ситуация: современный человек рефлексирует по поводу Миро-здания в котором экзистирует как бы не замечая своего в нем явного присутствия, а тем более изначальной экзистенциальной укорененности феноменального мира в своей же собственной трансцендентности. Фундаментальнейшим вопросом для позитивистски ориентированных философов и историков оказывается не вопрос о тайне человеческого существования и его высшего смысла, а всего лишь абстрактная проблема о том, что есть мир до и без человека? Им и в голову не приходит поставить диаметрально противоположный вопрос: что есть человек до и вне мира? Рассматривая историю в как особую разновидности естественного процесса, а естество в качестве составной части исторического процесса («естественно-исторический процесс» – К.Маркс), современный исследователь весьма опасается впасть в так называемый «субъективизм», который якобы с неизбежностью может возникнуть, если он будет исходить из идеи о том, что не только человек укоренен в истории, но и история укоренена в нем. Однако философия и история вновь могут возродить друг к другу свой изначальный интерес, если вернутся к человечески обусловленной Истории и исторически обусловленному Человеку. “Человек как субъект, - писал С.Л.Рубинштейн, - должен быть введен внутрь, в состав сущего, в состав бытия и соответственно определен круг философских категорий»[2]. Именно метаистория как история целостного и универсального человека является той трансцендентной процессуальностью, исходящей из архетипических глубин Бесконечного Субъекта, которая делает взаимодействие философии и истории не только мотивированным, но и весьма продуктивным союзом. Но для того, чтобы историософия состоялось как развернутое учение о человеческой истории, философское и историческое в этом синтезе должно восходить к единому для них модусу – онтологической антропологии. «Вне-антропологическая и под-антропологическая философия, - считал Н.Бердяев, - не может быть названа творческой философией - в ней нет творца, нет творческого преодоления творящим человеком мировой необходимости, в ней человек приведен в состояние абсолютного послушания категориям философского познания, стремящегося упразднить человека и себя поставить на его место. Только тот Логос не истребляет человека, Который Сам - Абсолютный Человек»[3]. Подобного рода выссказывания можно найти и у других представителей русского космизма. Среди представителей западной философии идею последовательной антропологизации философии и истории выдвигали М.Шелер и К.Ясперс. «Если и есть философская задача, решения которой наша эпоха требует как никогда срочно, - писал М.Шелер, -так это задача создания философской антропологии. Я имею в виду фундаментальную науку о сущности и сущностной структуре человека»[4].
В научный оборот термин «философия истории» был введен в ХУШ веке Вольтером, считавшим, что историк должен не просто описывать события в хронологическом последовательности, а философски истолковывать исторический процесс, рефлексировать над его целостностью. Историософия - особая область системы философского знания, делающая своим предметом историю человечества в качестве целостного и универсального процесса, как особой формы становления человека в мире и мира в человеке. Она не занимается исследованием совокупности эмпирических фактов онтологически преходящих реалий человеческой жизни, чем в корне отличается от конкретных исторических дисциплин, в основном ее интересует целостный образ Всемирной Истории. Мировоззренческая функция философии, будучи обращенная на сферу исторического в многомерном человеческом существовании, позволяет конкретным историческим наукам вписывать исследуемые ими эмпирические факты в предельно широкую картину мирожизненных отношений человека, интерпретировать их с позиции априорно принятых метафизических постулатов. «Нет такого мгновенного действия, - пишет Р.Арон, - которое бы не подчинялось отдаленной задаче; нет такого доверенного лица Провидения, которое бы не выжидало единичных случаев. Качества пророка и эмпирика должны быть совместимы»[5].
Пиком в развитии историософских взглядов человечества явилась философия истории, разработанная Гегелем. Мы все находимся под гипнозом единственной построенной в истории человеческой мысли тотальной метафизической концепции Гегеля. Ни до него, ни после него такой всеобъемлющей версии Сущего построено не было. Конечно же были историософемы, которые обосновывали историческое сознание, но не было такой, которая смогла бы схватить весь исторический процесс между его "началом" и "концом". В чем ценность гегелевского прорыва в деле построения всеобъемлющей философемы? Она позволил нам посмотреть на историю как на целостный процесс становления Духа. Им была разработана разветвленная система диалектических категорий, позволяющие объективации Духа переводить в систему целостного и систематизированного историософского знания. И на рубеже тысячелетий исторический разум все еще остается плеником этой завершенной и внутренне непротиворечивой логической системы, описывающей поступательный ход всемирной истории. Даже затяжной и глубинный кризис, испытываемый философской системой и диалектическим методом Гегеля и их марксистского инварианта, совершенно не поколебал веру у широкого научного сообщества в незыблемость таких ключевых основоположений как развитие, эволюция, прогресс. «Вся наша эпоха – считает Мишель Фуко, - с помощью логики или эпистемологии, с помощью Маркса или Ницше - пытается вырваться из пут Гегеля… Но чтобы реально освободиться от Гегеля, нужно точнее оценить, чего стоит это отдаление от него; нужно знать, насколько Гегель, быть может каким-то коварным образом, приблизился к нам; нужно знать, что все еще гегелевского есть в том, что нам позволяет думать против Гегеля, и нужно понять, в чем наш иск к нему является, быть может, только еще одной хитростью, которую он нам противопоставляет и в конце которой он нас ждет, неподвижный и потусторонний»[6]. Даже предощущение возможной гибели человечества в качестве столь страшной платы за его безудержное прогрессирование, совершенно не поколебал почти религиозного пиетета к гегелевскому “историческому разуму”.
Долгие времена гегелевско-марксистская историософема оставалась основным мировоззренческо-методологическим основанием для развертывания собственно научно-исторических концепций динамических процессов, происходящих в Сущем, пока в эпоху позитивизма не возник кризис историцизма, вызванный стремлением преодолеть гегелевскую объективно-идеалистическую так и марксистскую объективно-материалистическую историософемы, однако при этом им не было выдвинуто столь же тотальной историософской системы, т.е. субъектоцентристской историософемы.
К сожалению историософия в ее современном состоянии, в отличие от натурфилософии, гносеологии и других развитых отраслей системы философского знания, все еще находится в процессе своего становления. Историософия так и не сложилась в качестве специализированной формы философского сознания, она все еще остается проекцией господствующих мировоззренческих взглядов на так называемый исторический процесс, под который чаще всего редуцируется к процессу общественного развития. Даже в марксизме так называемый исторический материализм - всего лишь гносеологическая проекция диалектического материализма на сферу общественного развития. Философия истории, видимо, всегда была и еще длительное время будет оставаться неким приложением метафизической схематики к сфере исторического в объективной Действительности или действительности Объекта. “Метафизика истории, - писал С.Н.Булгаков, - конечно, не имеет самостоятельного, независимого характера, она есть лишь часть или отдел общей метафизической системы, частное приложение общих метафизических начал к исторической жизни человечества. Поэтому и по содержанию своему метафизика истории определяется общими метафизическими воззрениями того или другого философа”.[7] Так Гердер в строгом соответствии со своими метафизическими воззрениями называл историю воспитанием человеческого рода, Кант обнаруживал в ней развитие понятия свободы, а Гегель – полагал, что история есть процесс саморазвертывания мирового духа. Каждая философская система строит свою особую историософию, в которой историческое рационализируется под приоритеты в соответствии с принятыми метафизическими априори. Диктат метафизики над историей особо острым становится в эпоху господства позитивизма. И даже тогда, когда историк решительно заявляет о своей мировоззренческой и методологической независимости от “философских спекуляций”, в его подходах к анализируемым фактам истории всегда можно обнаружить некий базис из универсальных категорий и принципов, восходящих к одной из философем. Философская вера (К.Ясперс) весьма живуча. И даже в условиях полного преодоления казавшейся еще не в столь отдаленные времена незыблемой мировоззренческой схематики, ее основные принципы еще долгое время продолжают властвовать над умами. Мировоззренческий потенциал ушедшей на покой философемы, хотя и в неявном виде оседает в методологии конкретных исторических исследований, однако уже не в виде категорических императивов, а в качестве “само собой разумеющейся вещи”, как свидетельства “здравого смысла” и проч. Та или иная историософия всегда была и будет мировоззренчески-методологическим базисом для исторической науки. Если историческая наука и сумеет в обозримом будущем построить свою собственную историософему (позитивистский лозунг: «наука сама себе философия»), то в ней все равно можно будет обнаружить кальку с какой-либо известной или новейшей философемы.
ХХ век так и не создал всеобъемлющей и универсальной историософии не только потому, что в ней не оказалось общественной потребности. Напротив она крайне обострена возможностью всеобщей катастрофы. Дело построения универсалистской историософии осложняется прежде всего тем что историческое самосознание современного человека погружено в объектологическое мировоззрение, в пределах которого возможно построение парадигмальных схем сущего, но отнюдь не его трансрациональной генерализации. Нужна известная смелость чтобы решиться плыть против течения в направлении животворного первоисточника всеобъемлющего мироощущения. В этой связи возрождение субъектоцентристского мировоззрения необходимо рассматривать как непременное условия построения глобальной историософии.
Целостность бытия и процесса его развертывания способна воспроизвести лишь целостная монистическая историософема. Историософема, основные постулаты которой будут восходить не к метафизическим трансформациям абсолютного мифа, а к его трансцендентальной апофатике, которая изначально центрировала Временной Мир на экзистенции Вневременного Субъекта должна составить мировоззренческую альтернативу и гегелевской истории философии и марксистскому историческому материализму как двум модельностям объектологического Историцизма или историцистского Объектологизма. Только отталкиваясь от практики создания этих целостных и монистических историософем, активно преодолевая их объектологизм можно построить целостную субъектоцентристскую историософему, восходящую к первомифу. В России взгляд на Всемирную Историю традиционно был и историософским и субъектным, так как формировался непосредственно в рамках православно-христианского вероучения о Человеке и его Мире. Как пишет в своей «Истории русской философии» В.В.Зеньковский, русская мысль сплошь историософична, она постоянно обращена к вопросам о «смысле» истории, конце истории и т.п.[8] Это обстоятельство значительно «облегчает» задачу построение всеобъемлющей историософемы альтернативной гегелевской и марксистской. Русская религиозно-философская мысль, особенно «русский космизм» содержит в себе важнейшие трансцендентальные интуиции, которым необходимо лишь придать систематический вид.
Хотя основные основоположения субъектоцентристского мировоззрения изложены в предыдущих книгах «Суммы антропологии» постараемся изложить их в качестве принципов, которые могли бы быть положены в основание антропологической историософемы. Естественно, что эти принципы по своему содержанию будут диаметрально противоположными принципам объектоцентристской историософемы.
История построения предельных мировоззренческих систем, претендующих вместить в себя всю тотальность Бытия, связана с абсолютизацией одного из двух альтернативных подходов к Действительности - объектного и субъектного. При всем плюрализме историософских систем, содержащихся в анналах истории философии, все они могут быть сведены к двум полярно противоположным метафизическим концептуализациям, раскрывающим сущность и направленность исторического процесса: объектоцентристской и субъектоцентристской. Однако несмотря на свою альтернативность обе они восходят к абсолютному мифу. Объектоцентристская историософема обращается к первомифу в целях его рационального преодоления, напротив альтернативная ей субъектоцентристская историософема пытается в самом абсолютном мифе обнаружить метаисторическую обусловленность динамики сущего. Методологические проблемы, связанные с реконструкцией субъектоцентристской историософемы, восходящей к абсолютному мифу окажутся предельно акцентуированными, если их вписать в определенную систему принципов мировоззрения, основу которой составляет субъектный подход к миру, в котором экзистирует человек и к человеку, в котором мир обретает свою онтологичность.
Принцип субъектной обусловленности истории. Объектоцентристская метафизическая версия исходит из того, что предвечным и извечным является Объект - некая объективная реальность, которой и принадлежит статус Истории (схема 1), характеризующийся определенными этапами саморазвития и содержанием самоизменений в соответствии с имманентными законами самодвижения.
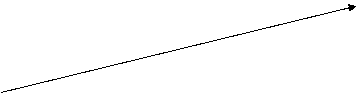
![]()
![]()
![]()
![]()
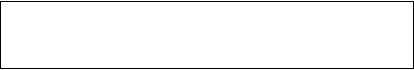
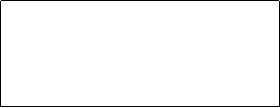
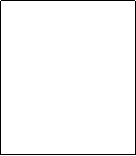 S
S
O
Схема 1. Объектоцентристская схематика автоэволюции Нечто.
Хотя объектоцентризм и предполагает присутствие в истории Субъекта, но лишь в качестве самосубъективации Объекта. Являясь онтологической производной от объективного мира субъект до поры до времени предсуществует в нем в качестве абстрактной возможности. Принимается допущение что объективная реальность обладает свойством схожим с ощущением, которое обозначается понятием отражение («ленинская теория отражения»). Это свойство объекта каким то уж совершенно чудесным образом модифицируется в процесс его самосубъективации на высшей ступени развития, которого и генерализуется в субъект в качестве некоего нестационарного объекта наделенного самосознанием. Ступеньки развития объективной реальности в то же время являются и ступеньками развития и универсализации ее отражательных свойств, генерализующующихся в субъективную реальность, являющуюся эпифеноменом от автоэволюции реальности объективной. Таким образом хотя и косвенно, но признается что постепенно в ходе своей автоэволюции объект субъективируется, а субъект объективируется, но объективируется не иначе как в общем русле автоэволюции Объекта.
Высшей формой субъективации объекта в объектоцентризме выступает человек. Объектоцентристская концепция Сущего конституирует человека не столько как Субъекта, сколько в качестве носителя Сознания, выступающего субъективированной способностью Объекта к Самоотражению. Субъективирует сущее не человек, а его сознание, носителем которого выступает материальный субстрат каким является его мозг. Вот почему объектоцентризм, признавая онтологический статус сознания человека, не распространяет его на всю его целостную экзистенцию. Объектоцентризм по сути своей внеонтологичен, гносеологичен. Бытие человека в нем - всего лишь некий природный орган посредством, которого объективная реальность познает самое себя. Человек объектоцентризмом онтологизируется лишь постольку, поскольку им мир гносеологизируется.
Мировоззренческий объектоцентризм в истории философии представлен двумя формами: материализмом и объективным идеализмом. Как будет показано ниже гносеологически они вполне изоморфны, так как являются всего лишь двумя разновидностями гносеологического онтологизма, исходящего из признания некой над- и внечеловеческой псевдоуниверсалии - «бытие-сознание», различающиеся между собой абсолютизацией одной из сторон этого семантического симбиоза. Если материализм объектоцентричен по своей внутренней сути, по исходным мировоззренческим позициям, а потому как бы логически непротиворечив, то объективный идеализм не только онто-логически, но и гносео-логически а-логичен. Высшей формой объективного идеализма является система Гегеля. Содержащаяся в объективно-идеалистической системе Гегеля историософская доктрина по сути своей есть гносеологизированная модификация объектоцентризма, так как в центр Мироздания ставится некая объективация элементарной духовной субстанции (“объективный дух”). По Гегелю в начале мира лежит Нечто в форме духовной субстанции (?), развертывающейся по ступенькам исторического процесса. Однако тщательный методологический анализ показывает, что ничего субъективного в этой гегелевской духовной субстанции нет, что она обладает всеми атрибутами Объекта, генетически предваряющего возникновение Субъекта, а потому гегелевская историософия и должна быть отнесена к мировоззренческому объектоцентризму. Гегель осуществил метафизическую объективацию христианского субъектоцентризма, придав бытию Абсолютного Духа статус объективной реальности. По сути в известной христианской триаде он выделил и абсолютизировал лишь один из модусов Единого, онтологический - Свободу, и превратил его в своеобразный центр мироздания, в связи с чем метафизический объектоцентризм обрел несвойственную его сущности объективно-идеалистическую оранжировку. В этой метафизической схематике мира первоснову составляет уже не “естественная” телесная субстанция как это принято в последовательном объектоцентризме, а противоестественная духовная субстанция. В результате такой подстановки Мир оказался не столько объективацией Духа, сколько его субъективацией, так как в качестве инобытия Объективного Духа в этой схематике предусматривается появление в ходе Всемирной Истории некоего Генерализованного Субъекта, призванного апробировать идеальные праформы бытия, имманентно содержащиеся в Генеральном Самопроекте Саморазвивающегося Объективного Духа. «Из рассмотрения самой всемирной истории, - писал Гегель, - должно выясниться, что ее ход был разумен, что она являлась разумным, необходимым обнаружением мирового духа»[9]. В гегелевской историософской схематике как и во всех иных классических формах объектоцентризма человек не выступает истинным субъектом исторических деяний и свершений, по сути своей он всего лишь некая метафорическая величина, которой в диалектических исследованих Сущего из-за ее онтологической малости можно и пренебречь. В этой объективно-идеалистической схематике человек онтологичен лишь постольку поскольку своим существованием неукоснительно реализует великие предначертания Объективного Духа. Но даже и Дух в гегелевской историософии оказывается не вполне самодостаточной «субстанцией» ибо полноту своего бытия, свою онтологическую завершенность он обретает лишь в конце Всемирной Истории. Парадоксально, но Абсолют, если следовать духу и букве гегелевской философемы, является некой производной от Всемирной Истории, а не наоборот. «Гегель, - как справедливо утверждает Н.Бердяев, - подчинил истории не только человека, но и Бога, - Бог есть создание истории, существует божественное становление»[10].
Итак, с Высшим Сознанием в объектологизме соотносится отнюдь не человек, а его индивидуальное сознание, которое и конституирует его в качестве относительного Субъекта или субъектной Относительности. Так хайдеггеровский субъект случайно забрасываемый в существующий до него мир и отвечающий на его вызовы своими онтологическими проектами по рациональному его переустройству есть всего лишь гносеологизированная переменная от универсума объективаций. Мир у Хайдеггера как и у Гегеля является не столько субъективированным, сколько гносеологизированным. При этом к миру редуцируется не весь целостный человек, а лишь его сознание. Всемирная История при этом рассматривается в качестве динамики десубъективированного «бытия-сознания», в котором сознание самобытийствует, а бытие самоосознается. Человек онтологизируется лишь постольку, поскольку мир гносеологизируется. Сама же Всемирная История не есть история человечества, а представляет собой динамику десубъективированного «бытия-сознания», в которой бытие приходит к самоосознанию, а сознание еще глубже укореняется в бытии. «Историчность, - пишет М.Хайдеггер, - означает бытийное состояние «становления» бытия-сознания как такового, на основании которого обретает возможность существования все, что является «всемирной историей» и исторически принадлежит ей»[11]. Онтологический статус Человека в любых модификациях объектоцентризма оказывается производным от статуса внешней реальности, под которой может пониматься как объективная телесность (материализм), так и объективная духовность (идеализм). Человек, согласно объектоцентристскому мировоззрению, в какой бы форме оно ни пребывало находится далеко за пределами отнологического центра мироздания.
Противоестественная связь диалектики объективного духа и метафизического объектоцентризма в конечном счете не могла не породить диалектико-материалистической версии всемирно-исторического процесса. Методологический изоморфизм объективного идеализма и объективного материализма дал возможность К.Марксу “поставить гегелевскую диалектику с головы на ноги”. Он это блестяще осуществил, убрав из онтологического основания мироздания Объективный Дух и подставив вместо него Объективную Материю.
Системный кризис, охвативший современную западную цивилизацию многие мыслители ищут в сбившемся с пути рационализме, основная суть которого состоит в объектном подходе исторического субъекта не только к миру, но и к самому себе. По мнению Гуссерля рационализм возникший в далекой древности уже в своей начальной стадии впал в состояние наивности. Эту мировоззренческую наивность в самом общем смысле Гуссерль обозначает понятием объективизм, выражающийся в различных типах натурализации духа. При господстве объективистской установки и ориентации на овнешненный окружающий мир все духовное оказывается основанным на физической телесности. Уже с Сократа человек начинает тематизироваться как личность, погруженная во внешнюю жизнь. Для Платона и Аристотеля человек оказывается встроенным в объективный мир.
Именно с этого момента в истории рационализма возникает довольно странное раздвоение: с одной стороны, человек принадлежит к универсуму объективных фактов, но, с другой стороны, у людей как личностей, как Я, есть цели, у них есть нормы традиции, нормы истинности - вечные нормы. Будучи основан на телесности, дух начинает интерпретироваться как нечто реально и объективно присутствующее в мире. При таком подходе интерпретация мира сразу же принимает дуалистическую форму. Этот объективизм, несмотря на свою кажущуюся самоочевидность, является наивной односторонностью, которая однако до сих пор еще не осознана в качестве таковой. На самом деле, считает Гуссерль, окружающий мир - понятие, принадлежащее исключительно духовной сфере. Натурализация и объективация Духа в метафизике ХХ века явление не случайное, оно есть всего лишь отражение предельно объективированной жизни современного человека. «Мир-как-история, - писал Шпенглер, - понятый, увиденный, оформленный из своей противоположности, мира-как-природы, - вот новый аспект человеческого бытия на этой планете»[12]. В рамках объектоцентризма невозможно построить ни онтологическую антропологию, ни антропологическую онтологию. Если и возможно появление в ее недрах некоего подобия философской антропологии, то лишь биологически и рационально ориентированной.

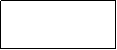 S
S
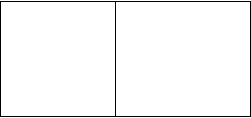 |
O
 |
![]()
![]()
Схема 2. Субъектоцентристская схематика
автоэманации Ничто
При субъектном подходе (схема 2) центром мироздания выступает не какая-либо конечная объективация, а Бесконечный Субъект. “Чтобы высшая жизнь стала нам доступна, - учил Плотин, - надо, чтобы она завладела центром нашего существа. - Но как? Ведь мы находимся также и на уровне выше центра? - Да, но нужно, чтобы мы это осознавали. Ибо мы не всегда можем использовать то, что нам даровано. Но если мы ориентируем центр нашей души на высшие либо низшие проявления, - то, что было лишь возможностью действия или способностью к нему, становится реальной деятельностью”.[13] Тысячелетиями Человек трансрациональным способом центрировал свою экзистенцию на самой целостной и универсальной форме существования - онтологии абсолютностных первоначал, которая всегда «позади». Первичным является не некая объективно существующая субстанция, а абсолютная и универсальная несубстантивная целостность - Пустота, Ничто, в которой в свернутом виде предсуществует весь еще неразвернутый континуум форм Полноты, Нечто. Дух изначально целостен и на всем метаисторическом континууме продолжает оставаться самотождественной целостностью так как одновременно объемлет собой всю бесконечность потенцированных праформ и их актуализированных форм, не случайно апофатически Бога определяют в качестве «формы всех форм». Метаистория при таком апофатическом определении Абсолюта может пониматься как перманентный процесс такой феноменализации трансцендентного в результате которого изначальная синкретическая целостность трансценденции удваивается в гомоморфной ей структурированной целостности экзистенции.
Трансрациональным основанием субъектоцентризма выступает теоцентризм, ибо в центр мироздания поставлен Бог, одним из триединых модусов которого и является абсолютная и бесконечная субъектность. Свою субъектность Бог обретает с началом создания Человека. Вся иерархия субъективаций и их объективированных, обмирщвленных и овремененных объективаций центрируется вокруг абсолютного субъективного начала. “Лишь души богов, - учил Плотин, - всегда находятся в таком положении, что и делает их богами, ибо чья душа стоит всегда в тесной связи с началом, тот бог, а чья значительно отдалилась, тот обычный человек или зверь. Так вот, этот центр, около которого движется душа, не то ли начало, которое мы ищем, или же надо допустить другое начало, в котором сходятся все центры?”[14] Бог и Человек составляют собой трансцендентное единство Первосуществования Субъекта. Как Образ и Подобие Бога Человек в своем с ним трансцендентном единстве выступает Его соавтором не только по перманентной креации развертывающейся Вселенной Духа, но и по своей самокреации, самопорождению в качестве особого трансцендентально-феноменального Субъекта. “Для того чтобы драма миротворения не превратилась в комедию, в лишенную смысла игру Бога с самим собой, - пишет Н.Бердяев, - нужно допустить, как пограничную идею, идею несотворенной свободы. Тогда можно допустить, как допускает о. С.Булгаков, что человек выразил согласие на его сотворение, иначе это ничего не значит”.[15] В отличие от объектоцентризма, утверждающего эпифеноменальную зависимость человека от объективной реальности, чуть ли не тотальную детерминированность его жизнедеятельности законами объективной необходимости, мировоззренческий субъектоцентризм рассматривает человека в качестве свободного существа, самодетерминирующее начало исторической процессуальности, свободного креатора и самокреатора на котором лежит величайшая ответственность за состояние мира в целом. Не случайно во всех без исключения теогониях и антропогониях вина за то, что “мир во зле лежит” снимается с Бога и приписывается греховной сути Человека. Это Человек как субъект своей истории таким образом распорядился несотворенной свободой, а потому и должен найти в себе силы для покаяния и очищения, с тем чтобы попытаться вновь войти в изначальный Образ и Подобие Бога и реконструировать им же извращенный мир на сакральных началах.
В ХХ веке наиболее близко к построению субъектоцентристской историософии подошел Гуссерль, в позднем своем творчестве пытавшийся преодолеть мировоззренческий феноменологизм построением трансцендентальной феноменологии. Дух и только дух, страстно утверждал Гуссерль, есть бытие в себе и для себя; только он автономен и доступен истинно рациональному изучению. Лишь Дух по своей сущности способен осуществлять самопознание. Вот почему по считает он борьба наук о духе за равные права с науками о природе совершенно излишня. В той мере, в какой первые соглашаются из объективности последних выводить их автономность, они сами становятся жертвами объективизма. Науки о Духе должны обрести абсолютную, действительную рациональность, обеспеченную духовным подходом к миру. Отсутствие этой истинной рациональности и является источником той уже невыносимой непроясненности, какую испытывает человек по отношению к своему собственному существованию и его бесконечным задачам. Эти задачи могут быть прояснены, если дух вернется от наивного овнешнения к самому себе, лишь пребывая при себе и только при себе, он сможет стать самодостаточным. При такой установке вполне возможно построить абсолютно автономную науку о духе в форме последовательного самопонимания в понимании своего мира как продукта духа. Дух не рассматривается здесь как часть природы или как нечто параллельное ей; напротив, сама природа вдвигается в сферу духа. Универсальность абсолютного духа охватывает все сущее рамками абсолютной историчности, куда попадает и природа как продукт духа.
Дух в состоянии объективироваться, однако универсум объективаций не есть его изначальная Целостность, он есть не что иное как самая низшая и самая проявленная во времени ниша иерархического Бытия.
Наиболее последовательно субъектоцентристской ориентации в метафизике придерживался Н.Бердяев. В своих работах он неизменно подчеркивал, что Дух не может быть объективным, не может быть некой внечеловеческой субстанцией, Дух всегда субъективен. “Дух есть в-себе-бытие, - писал Н.Бердяев, - и самое трансцендирование, с которым связана духовная жизнь, не есть выбрасывание вовне. Нет объективного духа, а есть лишь объективация духа, нет коллективного духа, а есть лишь социализация духа. Этот процесс внедрения духа вовне означает внутренний момент духовного пути, означает лишь состояние духовности. С этим связана проблема отношения духа и истории”.[16]
Построение современной историософии невозможно без опоры на предельно универсалистскую мировоззренческую схематику многомерного человеческого существования. Николай Гартман считал, что если метафизика истории будет начинать анализ проблемной ситуации сразу же с вопросов детерминации, телеологии или разума в истории, сокращая или даже перескакивая через этап предварительного разбора методологических вопросов, то она с самого начала обрекает себя на заведомый провал. Конечно, можно легко создать образы истории - и оптимистические и пессимистические, - но дискутировать о них бессмысленно, это - пустые спекуляции, карточные домики.[17] Главной историософской темой которую призван разрабатывать историк рассматривающий проблемную ситуацию, насколько Человек и История в ней трансцендентно изоморфны. Если принимается версия что человеческая история не может быть понята вне сущностного понимания человека, то историософия не может не быть антропологической. “Определить человека нелегко; - писал Ортега-и-Гассет, - диапазон его различий огромен; чем полнее и шире будет концепция человека, с которой историк начинает свою работу, тем глубже и точнее окажется его труд”.[18]
Метаистория есть процесс перманентного инверсирования Абсолюта, онтологическую основу которого составляет перманентная объективация субъекта (развертывание латентных структур ментальной пустоты, их экстериоризация в объективированные формы) и субъективация объекта (свертывание объективированных форм и их интериоризация в явные структуры ментальной полноты). «Многого достигает тот, - писал Николай Кузанский, - кто обращается с вниманием к свертываниям и их развертываниям, а особенно к тому, что свертывания являются образами свернутости бесконечной пустоты, - не разверываниями ее, а именно образами, - они находятся в сфере сложной необходимости”.[19] Метаистория есть двусторонний процесс достраивания высшей праментальной формы, каковой является Бесконечный Субъект, через целую иерархию субличностей, субсубъектностей до ее самой низшей формы - до Конечного Субъекта и соответственно вытягивания низшей праонтологической формы, какой является Конечный Объект по иерархическим онтологическим «ступенькам», «слоям» к самой высшей его форме - Бесконечного Объекта. По мере нарастания процесса объективации сущего субъект становится все более овнешненным и овремененным. В процессе же субъективации сущего, объект оказывается все более овнутренным и вневременным. Все овнешненное вновь интроецируется в пустотную праментальность и в форме бессознательного становится частью человеческой субъективности. В рамках этого двуединого процесса существуют различные континуальные онтолого-семантико-ментальные пределы в которых мир и человек в мире расширенно воспроизводятся строго определенными практиками.
В субъектоцентристски ориентированной метафизике Субъект метаисторичен постольку, поскольку его экзистенция сопричастна Духу, только одухотворенное бытие является метаисторичным. Изменения, которые происходят с течением времени во внешнем мире Субъекта, в универсуме самообъективаций подготавливаются в сфере Духа, который своими интенциями=инверсиями творит внешний мир посредством самоизменений в мире внутреннем. “Человек, - утверждал Ясперс, - историчен только как духовное существо, но не как природное”.[20] Субъект не имеет своей особой от Абсолюта истории прежде всего потому, что процесс перманентного образования его иерархической структуры есть процесс саморазвертывания ментальных потенциальностей не во вне, а во внутрь. Расширяющийся в ходе человеческого филогенеза универсум самообъективаций есть всего лишь средство перевода неявных структур ментальной пустоты в явные структуры ментальной полноты и выступает эпифеноменом внутреннего духовного процесса, процесса нисхождения Духа в «пределах» своей собственной изначальной абсолютности и бесконечности.
Метаистория считал С.Булгаков есть ни что иное как “ноуменальная сторона того универсального процесса, который одной стороной из своих сторон открывается для нас как история”[21]. История, полагал С.Булгаков, человекосообразна лишь в том смысле, что она дает простор человеческой активности и телеологии, и в этом смысле история делается людьми, точнее сказать, при их участии, которое становится таким образом космическим фактором, входит в общий космический миропорядок. Но при этом и личная воля отдельного лица, и совокупное творчество человечества находят внешнюю границу в объективно детерминированном, по существу своему таинственном и иррациональном ходе вещей[22]. В ходе становлении Абсолюта последовательно одна метаисторическая эпоха переходит в другую, порождая новые типы Универсума, новые онтологические ниши Мироздания. Однако при этом Человек не выступает простым коммивояжером Абсолютной Идеи, а подлинным Субъектом своей собственной Истории.
Субъектная предопределенность хода и исхода Истории восходит к той трансцендентной свободе, обладая которой человек не только прокладывает широкую столбовую дорогу истории, но довольно часто оказывается в исторических тупиках. На наш взгдяд к основным принципам построения антропологической историософии[23] относятся:
Принцип целостности истории. Конституирование исторического процесса в качестве динамической целостности является важнейшим основоположением, лежащим в аксиоматическом основании как объектоцентристской, так и субъектоцентристской историософии. Существенное различие заключается в том, что первая утверждает, что свою целостность история обретает лишь в конце всеобщего становления, когда бытие достигает своей предельной онтологической полноты, вторая, напротив, стоит на том, что всеобщая история является изначально целостной и лишь по мере нарастания процесса объективации субъекта обретает развитую структуру из элементов, слоев, компонентов и проч. Таким образом, если при объектном подходе к метаистории предполагается, что часть как бы предшествует своей целостности, то при субъектном – целое всегда предшествует своим частям. «В здешнем мире…, - пишет Плотин в «Эннеадах», - каждая часть есть только часть, там же (в идеальном мире, т.е. в том, что мы называем реальностью) все отдельное истекает всегда из целого и есть одновременно и часть, и целое; оно предносится как часть, но обнаруживается как целое острому взору…; там часть представляет целое, и все близко друг другу и неотделимо одно от другого, и ничто не становится только «иным», отчужденным от всего остального»[24]. От того, какая разновидность метафизического принципа целостности разделяется историком во многом зависит, каким образом он теоретически реконструирует в своих исследованиях направленность и содержание эмпирически наблюдаемого ряда исторических событий.
В рамках объектного подхода за основу принимается не образ целостного мира, а фиксированная установка на один из его элементов, обладающий способностью содержать в себе все потенции грядущей универсальной и целостной мировой системы. Имманентно развиваясь, первоэлемент порождает все более сложные структуры бытия, перманентно преодолевающие своим экзистенциальным содержанием его первичную бессодержательность. При объектном подходе к истории возникает широкий простор для появления огромного количества частных и релятивных схемок динамики Сущего, различающихся между собой лишь тем, что именно, какая форма именитствующего Не-что в историческом процессе конституируется ими в качестве перманентно самоотрицающего первоэлемента, к которому редуцируется становящееся целое.
Предельной степени понимания целого как конечного итога процесса становления первоэлемента присущ сциентизму. Так называемая научная история, как составная часть системы научного сознания стоит на принципе примата элемента над системой, части над целым как в генезисе, так и в перманентно становящемся бытии. Первоформы такого сциентистского подхода к процессу становления сущего обнаруживаются уже в древнейших мифологемах. Объектный подход впервые оформляется в мировоззренческую систематику на завершающем этапе истории мифологии, когда мифологема начинает активно вытесняться из самосознания человека философемой, а последняя – все более довлеть к идеологеме. Постепенно взгляд человека с целостности мира все более перемещается на его частности, возникает искус редукции живого универсума к обезжизненной системе, а части целостного универсума к элементу нецелостной системы. Именно в этой аберрации исторического сознания и необходимо отыскивать древнейшие корни современного рационализма и сциентизма. Разрыв в целостном мировоззрении человека в конце концов обусловил собой возникновение метафизики, в которой элементы природного мира начинают интерпретироваться не в качестве развертывания изначальной синкретичной целостности, а развития некоего первоэлемента. Становящееся целое не только редуцируется к первоэлементу, но онтологическая роль последнего в становлении мира предельно фетишизируется. Первым абстрактным фетишем дробного элемента мира из которого начинают выводиться любые исторические формы целостного бытия явился атом – первичная и неделимая часть любой сложно построенной органической системы. Проторациональным сознанием наиэлементарнейшая форма бытия начинает конституироваться в качестве единой первоосновы мира.
Первоэлемент является первоначалом становящейся целостности не только в материализме, но и в объективном идеализме. Самым уязвимым моментом в гегелевской историософеме является неявно конституируемый ею примат части над целым во Всемирной Истории. Если следовать гегелевской диалектике, то придется принять тезис о том, что изначально Дух был некой мельчайшей духовной субстанцией, с таким же примерно онтологическим статусом, каким Демокрит наделял атом в качестве мельчайшего и исходного первоэлемента субстанции материальной. Впервые на подмостках Всемирной Истории Дух, согласно гегелевской диалектической историософии, появляется в качестве мельчайшей духовной субстанции. Именно эта мельчайшая субстанция Духа в процессе истории каким-то уж совершенно фантастическим образом начинает самоусложняться во все более целостный и универсальный Дух, пока наконец-то не обретает статуса Абсолютного Духа, в котором снимаются все этапы онтологического становления первосубъективации. Метаистория, по Гегелю, и есть перманентный процесс обретения Духом своей предельной Целостности и Универсальности. Лишь в конце истории Дух становится Бесконечным Субъектом, представляющим собой целый универсум снятий с перманентного процесса самостановления первосубъективации (элементарнейшей формы субъективности). Абсолют оказывается снятием всех снятий, а не эманацией всех эманаций. Первосущим оказывается не самоподождающий, а самоотрицающий Дух. Не потому ли, будучи обращенным на исторический процесс, он у Гегеля оборачивается Хитрым Разумом? Диалектический материализм К.Маркса, собственно говоря, имеет ту же внутреннюю логику построения историософии, что и у Гегеля, только первичная субъективация в ней заменена на первичную объективацию, а грядущая идеальная метаисторическая целостность Абсолютного Духа замещена Абсолютным Миром. То что часть онтологически и генетически предшествует целому в современном гиперрациональном сознании стало важнейшим принципом секуляризованной формы веры имя которому сциентизм. «Сколько бы мы не пытались ухватить целое, - пишет Ф.И.Гиренок, - мы будем на основе научного опыта располагать его в правильной последовательности частей. Для того, чтобы прийти к связности целого, нужно выйти за пределы последовательности»[25]. Однако чтобы выйти за пределы последовательности, необходимо прежде всего попытаться выйти за пределы объектного подхода к действительности.
Объектный подход к целостности мира и его истории несет в себе ряд антиномий, содержащихся во внутренней логике исторического разума. К первой из них можно отнести следующий парадокс: если мир своим становлением обязан первоэлементу, то почему же последнему отводится лишь инструментальная роль, роль некоего онтологического средства достижения целей становления некоего надэлементарного целого, в котором первичный элемент продолжает существовать со все более понижающимся онтологическим статусом? При объектном подходе целостное представление о мире оказывается связанным не с фиксацией потенциального состояния первоэлемента, а с построением модели грядущего состояния универсума, в котором первоэлемент и вся иерархия последующих компонентов мира, оказываются вмонтированными в незавершенную целостность мира в качестве онтической снятости. Парадоксом объектоцентризма таким образом оказывается последовательный перенос первоосновы мира на все более поздние ее исторические объективации. Свое «подлинное» основание бытие обретает не в начале, а в конце истории, в своей конечной, а не в первичной форме. Человек при этом присутствует и не в начале и не в конце мира, а лишь в мире становящемся и незавершенном, основы которого все время задвигаются за горизонт его актуального существования.
С понижением уровня влияния гегелевской, а затем и марксовой историософемы, историческая наука окончательно утратила целостный образ всеобщей человеческой истории. «Каждая целостность, - пишет в своей «Философии истории» Р.Арон, - расцветает в соответствии со своим собственным бытием подобно растению, обреченному на увядание на следующий день после своего цветения. Неотразимая история без цели и без глобального единства, но с отдельными блоками – такова догматическая философия плюрализма, которая оказывает давление на наше историческое сознание. Больше нет единой целостности, так же как и смысла целого»[26].
Если в качестве метафизического основоположения принимается примат части над целым, то весьма проблематичным оказывается построение субглобальной, всеохватной историософемы. Место универсалистских схем истории начинают занимать по преимуществу разнообразные реконструкции прошлого, имеющие своей целью интерпретацию корней современной кризисной ситуации. “В наши дни, - писал К.Ясперс,- преодолевается то отношение к истории, которое видело в ней обозримое целое. Нет такого завершенного целостного понимания истории, в которое вошли бы и мы. Мы находимся внутри не завершенной, а лишь возможной, постоянно распадающейся обители исторической целостности”.[27] Таким образом квазирациональным историческим сознанием основания мира обнаруживаются уже не позади, а впереди спонтанно движущегося мира. Первоэлемент ставший квазицелостностью окончательно вытесняется из поля зрения рационального исторического сознания, которое всегда обращего в будущее, а не в прошлое, а потому редукция целого к первоэлементу заменяется редукцией исторически актуализированной целостности, а вместе с ней и первоэлемента, к которой она генетически восходит к грядущей квазицелостности, которая и реифицируется историческим сознанием в качестве истинного основания перманентно становящегося бытия. Парадокс при такой гиперредукции настоящего не к прошлому, а к будущему заключается в том, что первоэлемент утрачивает свойства первичности и этим свойством наделяется конечная форма целостности. Именно из такого рода объектной редукции возникает представление об идеальном бытии которое всегда впереди. Самоусложнение онтологической системы оказывается неким универсальным принципом самоизменяющейся сущности, неким подвижным ее основанием, перманентно перемещающимся вдоль горизонтальной исторической оси. Идеальный образ объекта в объектоцентризме - это желаемое его состояние с точки зрения гносеологического субъекта прозревающего грядущее состояние объективной реальности, в котором если прошлое и настоящее и будет присутствовать, то лишь в форме снятий, которыми в историческом исследовании можно и пренебречь. Отнюдь не онтологический, бытийствующий Субъект, а лишь его гносис или познающий разум пытается своей рационализирующей деятельностью подвести объект к своей идеальной форме таким образом, чтобы окончательно исчезли в нем внутренние антиномии становления, а с ними и антиномии исторического сознания. Человек, придерживающийся секуляризованной формы веры, предполагает, что рай впереди, а не позади его исторического бытования и связан он с достижением идеальной Целостности или целостной Идеальности, которую должна обрести Объективная Реальность.
В объектоцентризме часть, предшествующая целому лишь в качестве диалектического снятия входит в его состав, наряду с качественно иными нежели она сама компонентами развивающегося универсума объективаций, образуя вместе с ними противоречивое, порой антогонистическое единство становящегося Сущего. Хотя часть генетически предваряет своим существованием более универсальное и сложное целое, однако будучи в снятом виде заключенной в ее морфологическую структуру затем от этой целостности начинает функционально зависеть. Это еще один из нескольких гносеологических парадоксов объектоцентризма.
Первоэлемент мира, согласно субъектному подходу к действительности, есть ни что иное, как фантом объективистского сознания, разукорененного в Духе и укорененного в Рацио, всегда довлеющий к частностям и подробностям, не к синтезу, а к анализу дурной бесконечности элементов сущего, на которую распадается изначальное синкретичное Целое.
Возрождение интереса у современного человека к тотально-монистической историософии возникает прежде всего потому что историческое сознание, оказавшееся изрядно подпорченной позитивистской мировоззренческой ориентацией перестало, воспроизводить целостную динамику экзистенциальной множественности, современная историческая наука распалась на множество частных историй, в которых если и предполагается присутствие человека, то лишь некоторыми своими инструментальными свойствами, способствующими так называемому историческому процессу следовать своим имманентным законам самодвижения.
Если объектоцентризм от первоэлемента восходит к целостному и универсальному миру, то субъектоцентризм, напротив, от первоцелостности мира нисходит к его далеко не первичным в онтологическом плане элементам. Если при объектном подходе у гносеологического субъекта появляется необходимость в первоэлементе, который затем в ходе исторического становления совершенно чудесным образом обретает все более высокие уровни целостности и универсальности, то при субъектном подходе у трансцендентального субъекта возникает необходимость сознания первоцелостности, которая в ходе становления структурируется на все более дробные элементы-объективации. “Всякое целое, - писал Прокл, - [состоящее] из частей, причастно цельности, предшествующей частям... некий вид цельности существует до целого, [состоящего] из частей, и этот вид есть не то, что приобрело свойства целого, а цельность-в-себе, из которой образуется и цельность из частей”.[28] Субъективированное целое и универсальное в своем трансцендентном синкретизме генетически предшествует своим еще непроявленным объективированным частям. Такую точку зрения последовательно проводил Гете, что существенно отличало его философскую систему от гегелевской. «Он (Гете - Ю.Ф.), - пишет Зиммель, - повсюду видит связь, сопричастность и согласованность. Целостность бытия восходит не к концу, а к началу Всемирной Истории и обязана своим возникновением не автоэволюции, а первичному креативному акту. Выявить целостную обусловленность современного плюрального мира, считал Юнг, возможно лишь трансрациональным переживанием первоакта, но отнюдь не в ходе рационального анализа объективированного исторического ряда, воспринимаемого эмпирически. В субъектоцентризме Целое не только предшествует своим частям, но и на протяжении всего своего исторического становления сохраняет экзистенциальный примат над ними, даже тогда, когда те обретают свойства относительной целостности и универсальности. Согласно Проклу, “всякое целое, содержащееся в части, есть часть целого, состоящего из частей”.[29] Каждый из универсумов в качестве органических частей единого экзистенциального целого есть особая тотальность, стремящаяся из потенциальной экзистенциальной формы превратиться в форму актуализированную, однако актуализированная универсальность не утрачивает при этом своей связи с трансцендентной универсальностью, оставаясь частью ее целостности. В экзистенциальной ситуации единства сотрудничества становлений, изначальная синкретическая целостность в процессе развертывания свернутостей не распадается на все более обособляющиеся друг от друга части, а перманентно восходит ко все более расширяющейся целостности, составные части которой согласованно развиваются в специализированные органы единой экзистенциальной Множественности или множественной экзистенции Единого.
Субъектоцентристская историософия исходит из того, что целостным и универсальным может быть только Субъект, а потому в начале истории не может лежать ни его дробная субъективация, ни тем более мельчайшая самообъективация. «Объектом» субъектоцентристской историософии выступает целостная и универсальная метаистория. Историософия пытается осознать метаисторический процесс ни иначе как в его изначальной субъективной целостности, даже если в поле зрения все чаще появляются конкретно-исторические ее объективации. Она призвана исследовать не только целостный континуум самоизменений Абсолюта, но и отдельные континуальные этапы его развертываний и свертываний в качестве особых монад, т.е. особых динамических целостностей, трансцендентно восходящих к Абсолюту как к Первомонаде. Любой элемент развернутого Множества историософия призвана органически вписывать в целостную тотальность метаистории. Этим она существенно отличается от современной объектоцентристски ориентированной исторической науки, если и связывающей наблюдаемые исторические факты в некую гносеологическую целостность, то лишь на довольно низком парадигмальном уровне.
Принцип слоистости истории. В объектоцентризме принято членить всемирную историю на последовательный ряд этапов, фаз развития. У Маркса они называются «общественно-экономическими формациями», у У.Росстоу «стадиями роста» и т.д. Выделяются эти этапы по частным, а не по всеобщим онтологическим критериям, в основном экономическим показателям и связаны с редукцией Всемирной Истории к истории становления и развития «прибавочного продукта».
В субъектоцентристски ориентированной историософеме акцент скорее всего делается не на этапах, а на слоях Всемирной Истории, так как при появлении все более низших ярусов Бытия, продолжают свою историю порождающие их высшие онтологические ярусы. Идея об онтологической слоистости Всемирной Истории оказывается вполне конструктивной в связи с тем, что Иерархический Субъект одновременно укоренен в различные «уровни», «ниши», «слои» перманентно развертывающегося Ничто. В одну и ту же эпоху, всегда можно обнаружить наличие онтологически разноуровневых временных потоков, лежащих в осовании разнородных историй, единство которым придает Метаистория, имманентная не Времени, но Вечности. Слои истории различаются между собой как по интенсивности так и по плотности имманентных им временных потоков. Каждому слою истории соответствует свой особый поток времени, так как онтология овременяется, а время онтологизируется. Чем более низким является уровень бытия, выплывающего из апофатических глубин Ничто, тем более бурным оказывается соответствующий ему поток времени и степень событийности исторического ряда.
Впервые наиболее явно и вполне обоснованно идею о слоистом характере не только человеческого бытия, но и его истории предложил Н.Гартман. «История, - писал он, - подобна миру тем, что имеет многослойное строение. Она суть процесс, в котором действуют факторы всех слоев бытия; таким образом, процесс, который - и вообще и в каждом отдельном случае - может быть понят только как совокупная результирующая гетерогенных сил, длительное время сталкивающихся между собой»[30]. Обобщенные выводы Н.Гартмана на счет слоистого характера истории суть следующие:
1. Многослойность исторического бытия обнаруживает такое же фундаментальное отношение, как и в мире, в котором оно разворачивается. Его составляют те же самые слои. Таким образом, категориальная закономерность зависимости должна быть в принципе той же самой, хотя у нее и могут быть свои особенности. Низшие слои должны быть и здесь «носящими», высшие – «несомыми», но в то же время и автономными по отношению к ним. Из этого следует, что особые факторы каждого слоя в их своеобразии невыводимы и могут быть извлечены только из соответствующего круга феноменов.
2. Полная структура или форма исторического процесса должна быть, соответственно, комплексной. В принципе в нее может войти все, что составляет бытийное многообразие мира. И поскольку оно в нее входит, постольку все эти моменты суть существенные и самостоятельные факторы.
3. Задача, которая отсюда вырастает, необозрима и во всяком случае невыполнима в пределах человеческих возможностей. Основная философско-историческая проблема разделяет тем самым характер и судьбу большинства фундаментальных философских проблем: она не разрешима полностью, содержит в себе иррациональный остаток, и постольку есть подлинно метафизическая проблема.
4. В то же время сама постановка вопроса направляется тем самым в другое русло. Идеалистическая метафизика истории пыталась дать всеохватывающую конструкцию процесса; она включала в нее настоящее и предсказывала будущее (Фихте). Для этого требовалось знание конечной цели, истолкование происходящего как телеологически определенного осуществления и исполнения смысла. После этого опыта для философии истории не так-то легко вновь думать о том, чтобы спроектировать течение процесса. Тем самым она отступается от вопроса о развитии во времени и подходит к предварительному вопросу, расположенному в другом измерении. Это измерение лежит поперек временности, отношения, которые в нем господствуют, - это категориальные отношения. И поскольку это отношения, которые связывают различные бытийные слои исторического многообразия, то речь идет об особых формах взаимопроникновения гетерогенных категорий. Исследование, которое здесь необходимо, - это онтологическое исследование.
5. С этим связан вопрос о носителе истории, точнее, о структуре того образования, которое «имеет историю». Таковым мог бы быть просто человек или нечто, лежащее вне его: сообщество, народ, человечество, дух и его формы. Этот вопрос имеет то преимущество, что по существу его можно рассматривать феноменологически.[31]
В русской философии идею Н.Гартмана о слоистости человеческого бытия и его истории активно поддержал В.П.Вышеславцев. “Человек, - писал он, - содержит в себе много ступеней бытия: он есть механическая природа (физико-химическое бытие), биологическая природа: но, может быть, он есть не только “природа”, а еще нечто большее и высшее: цивилизация и культура?”[32] Подобных взглядов на слоистый характер истории придерживается и Фернан Бродель считающий, что в исторических исследованиях наблюдается использование разнообразных временных форм. Он полагает, что особую ценность представляет собой длительные хронологические единицы. Форма времени, которую он условно обозначает термином «большой длительностью» течет настолько медленно, что может казаться почти неподвижной. Но если историк им овладеет, то это позволит ему вырваться из плена событий, на которые он привык взирать, учитывая лишь кратковременные временные циклы. «Во всяком случае, - пишет Бродель, - историю в целом можно понять только при сопоставлении ее с этим необозримым пространством медленной истории. Только так можно выявить действительный фундамент исторических событий. И тогда все этажи общей истории, все множество ее этажей, все взрывы исторического времени предстанут перед нами вырастающими из этой полунеподвижной глубины, центра притяжения, вокруг которого вращается все».[33] Любая «современность», полагает Бродель, включает в себя различные движения, различные ритмы: «сегодня» началось одновременно вчера, позавчера и «некогда». Историк иногда уж слишком легко извлекает из прошлого то, что ему представляется существенным для данного периода. При этом он, естественно, с трудом обнаруживает в прошлом то, что отсутствует в настоящем. Он считает, что иллюзией воображения историка является не время и его течение, а те отрезки, на которые он его делит. Как только он завершает свою работу, они сливаются в единое целое. Длительный период, период средней длительности, единичное событие соразмерны друг другу, так как они замерены в одном и том же масштабе. Вступить мысленно в одну из временных исторических перспектив – значит одновременно вступить в каждую из них[34].
В чем преимущества концепции слоистости истории перед концепцией этапов, формаций и проч.? Прежде всего в том, что она дает возможность историку все время акцентировать свое внимание на целостном характере истории, а не редуцировать к новейшей и онтологически более обедненной ее стадии всю многослойность и многомерность динамики сущего.
Принцип онтологического понижения истории. В объектоцентристски ориентированной историософеме под становлением сущего понимается перманентное повышение онтологического статуса у первичного объекта. Всемирная история осуществляет свое последовательное восхождение, в ходе которого Мир (или Дух) все более универсализируется. Каждая новая ступень становления объективной реальности в снятом виде содержит предыдущие и сама снимается более новейшей и более универсальной. История осуществляет свое восхождение по ступенькам снятий. Становление объективной реальности оказывается линеарным и, если и ведет к неким первоначалам, закручивая восходящую линию истории в известную диалектическую спираль, то лишь гносеологически, но отнюдь не онтологически.
В связи с тем, что Гегель в своей истории философии исходил из идеи становления Мира от низших форм к высшим, он не мог не придать ей характера всеобщей диалектической закономерности. В своем перманентном становлении Объективный Дух, а в месте с ним и его инобытие – Объективная Действительность последовательно повышает свой онтологический и гносеологический статусы, т.е. Дух и Мир восходят к своим все более совершенным формам, пока в не обретут свои идеальные и абсолютные воплощения. Это историософема восходящего Духа. Выбор в умственной рефлексии в ту пору шел между не вполне явной и недостаточно развернутой, однако обладавшей огромным эвристическим потенциалом, метафорической модели Сущего, предложенной Гете, согласно которой мир выворачивался из собственных же праформ, при этом постоянно сохраняя свою изначальную целостность и диалектической моделью мира, детально разработанной Гегелем, в которой изначально элементарный и дробный мир находился в состоянии перманентного восхождения к своей более универсальной целостности. Выбор в пользу примата части над целым в гносеологии не только существенно потеснил из философской рефлексии онтологию но и привел к абсолютизации принципа восхождения, хорошо работающий лишь в пределах динамики объективированного мира. Будучи перенесенным на Мировую Историю в целом, он несомненно делал любые исторические прогнозы весьма оптимистичными, однако этот оптимизм всегда оплачивался человеческими жертвами и именно в тех масштабах, которые соответствовали крутизне исторического восхождения.
Выстраивая диалектическую концепцию, Гегель в основание философемы поставил не Целостный Дух, а всего лишь, как мы подчеркивали выше, его элементарнейшую субъективацию - Идею, которой в процессе восхождения в конце истории предстояло стать Абсолютной Идеей. При этом он явно нарушил трансцендентальные основания бытия, которые были прописаны в абсолютном мифе, в качестве нерационализируемых априори. К.Маркс, изменив в гегелевской историософеме субъектную предопределенность становления на объектную, вместо метафизики восходящего Духа, получил метафизику восходящего Мира. Таким образом его сугубо объектоцентристская историософия стала вполне корреспондировать с принципами сциентизма, в рамках которой и обрела свою объективную логику или логику объекта. В историософеме К.Маркса принцип восхождения применен к динамике внешнего объективированного мира. Человечество по К.Марксу в своей истории последовательно восходит по ступенькам «общественно-экономическим формациям» к наивысшей форме социального бытия – коммунизму. Коммунизм есть не только высшая форма всей череды предшествующих снятий, но именно такое Абсолютное Снятие, которое не содержит в себе свое иное, а потому и есть вечное царство Свободы. Если по Гегелю история есть развитие идеи свободы, то по Марксу она представлена как идея развития необходимости, так как человечество в своем онтологическом продвижении восходит из царства необходимости в царство свободы. Так как К.Маркс совершил редукцию субъективного к объективному, духовного к рациональному, человеческое к внечеловеческому то у него и получилась модель динамики лишь объективированного мира. В нее невозможно вписать космодинамику Духа. Это отнюдь не модель развертывания Духа, а модель развития объективаций субъективного. Но ведь в истории существуют два взаимосвязанных процесса: объективации субъекта и субъективации объекта. Таким образом, хотя марксистская философема и претендует на статус тотального отражения действительности, однако ей по силам определенным образом выразить тотальность внешнего объективированного мира, она ничего не может сказать тотальности Трансцендентного или трансцендентной Тотальности, частичной объективацией которой и выступает тотальность объективированного мира.
Согласно мировоззренческому субъектоцентризму, целостный и универсальный Дух осуществляет не восхождение, а нисхождение, т.е. определенным образом «регрессирует», вектор развертывания направлен не вверх, а вниз. Если человеческая история как некий модус самоизменений и изменений и возможна, то лишь в сфере Духа, да и то в форме возвратно-поступательного движения, связанного с перманентным самовозвращением человека к своим абсолютным первоначалам, “вниз по лестнице ведущей вверх”. Теодор Лессинг подчеркивает, что “в античной философии, как на стадии ее высшего развития, так и в период ее упадка, постоянно бытовало представление, что развитие ведет вниз и что (цитирую слова Сенеки) "в далекие времена, мир, еще неисчерпавший своих сил в процессе творения, давал более сильные создания".[35]
Принцип онтологического нисхождения истории был одним из ведущих принципов имплицитно содержавшихся в наидревнейших мифологемах. В древнеиндийской мифологии ступенями понижения истории являются юги, махаюги, кальпы. Космографическая традиция индусов насчитывала четыре юги – мировых периода: 1) критаюга – «золотой век»; 2) третаюга – «серебряный» век; 3) двапараюнга – «медный» век и 4) калиюга – «железный» век. Все четыре юги образовывают одну великую югу – махаюгу, а две тысячи таких махаюг, т.е. 8.640.000.000 земных лет составляют кальпу. Конец каждой кальпы сопровождается космической катастрофой, уничтожающей все миры, которые возрождаются затем в новой кальпе.[36] Принцип онтологического понижения Мировой истории содержится и в космогонии Гесиода, изложенной им в поэме «Труды и дни». Выдвинутая им концепция пятичленной истории, явно восходит к древнейшей восточной мифологеме. По Гесиоду в «золотой век» люди жили под властью Кроноса без забот и трудов, и счастливая жизнь оканчивалась смертью-засыпанием, после чего они превращались в демонов и в качестве стражей Зевса наблюдали за делами и образом жизни людей, распределяли богатства, благословляли добродетельных. Люди «серебряного» века, жившие сначала как дети счастливо и беззаботно, стали со временем заносчиво обращаться друг с другом и перестали почитать богов, поэтому Зевс отверг их. Но они также сделались блаженными жителями подземного мира и пользовались почестями, хотя и меньшими, чем демоны предшествовавшего поколения. Затем наступил «медный» век: люди стали страшны и воинственны, они питались животной пищей, истребляли друг друга в битвах и в заключении бесславно отправились в Аид. Четвертое поколение («героический» век) было поколением героев и сыновей богов, которые приобрели славу под Фивами и Троей. Они там погибли, но Зевс поместил их на далеких Островах Блаженных, где течет Океан. Самый ужасный век – «железный». Это век, который Гесиод считал современным себе, отличался большим эгоизмом, всеобщим насилием и завистью, всеобщим озлоблением между родственниками и между чужими людьми, всякими болезнями, не говоря уже о тяжкий трудах. «В поэме Гесиода, - пишет В.Э.Лебедев, - внимание сосредоточивается не просто на человеческой истории, но дается ее периодизация и направление движения по нисходящей линии. Гесиодовская концепция исторического регресса свидетельствовала об историософском уровне произведения, но она не могла еще претендовать на подлинную истоиософию, поскольку в поэме оставались невыясненными причины перехода людей из одного века в другой, от первоначального блаженства и беззаботности к полной горя и страданий жизни»[37]. Принцип последовательного онтологического понижения не только экзистенции, но и ее истории был одним из ведущих в неоплатонизме. История есть не что иное как последовательно убывающий онтологический ряд, каждый из членов которого отличается от предыдущено меньшей целостностью и универсальностью. «Во всяком божественном разряде первичное в большей мере изъято из того, что расположено непосредственно под ним, чем это последнее - из последующего; и вторичное более зависит от расположенного непосредственно выше него, чем от него - то, что после него... чем слабее что-то по потенции, тем более оно соприродно с тем, что после него»[38]. Принцип онтологического нисхождения человеческой истории продолжал быть господствующим в историософии вплоть до эпохи Реформации и Возрождения. Буквально накануне Великой францизской революции Жан-Жак-Руссо выдвинул весьма романтичный лозунг: «Назад к Природе», он основывался все на том же принципе нисхождения человеческой истории, результатом которой явилось системное самоотчуждение человека. В новейшее время этот принцип органически вошел в метафизические априори русского космизма. «Дух, - писал Н.Бердяев, - организует материю, и по нисходящим ступеням от духа к материи происходит ущербление его свободы»[39]. Такой взгляд на направленность Всемирной Истории можно встретить и у современных философов, переболевших позитивизмом и активно преодолевающих постнеклассическую метафизику. «Человеческая история, - пишет В.А.Фриауф, - есть не восходящее линейное движение и не круговое вращение в колесе времен, но некий двуединый процесс. А именно – в потоке времени идет своеобразная игра на онтологическое понижение в иерархии бытия – от “золотого века” к “железному веку” и т.д., и в то же время совершается обратный процесс, то есть процесс возвращение-подъема к Первоистоку, к первозданному состоянию”[40].
Ступени расширяющейся вселенной Духа есть ни что иное, как ступени его объективации в качестве Бесконечного Субъекта, т.е. ступени «объективации субъективного». Вот эти то этапы объективации субъекта и выступают ступеньками онтологического восхождения, но отнюдь не Субъекта, а Объекта. Именно эту аберрацию мирово-зрения и гипостазирует объектоцентризм. Это «восхождение» является экзистенциально фиктивным и компенсируется возвратным движением человеческой метаистории к своим трансцендентным первоистокам.
Итак, в своей истории Субъект нисходит к своим все более низшим экзистенциальным формам, а Объект в качестве универсума объективаций субъективного восходит к своим более развитым онтологическим формам. И эти два потока - нисходящий и восходящий своей динамикой образуют то, что называется Историей. Это два модуса движения единой Экзистенции или экзистенции Единого. Главное здесь не допустить редукции субъективного к объективному.
У неоплатоников история состоит из эманационных ступений, по которым Единый нисходит во Множественное - во все более проявленные и объективированные формы бытия, субъектом порождения которых Единый и является. В отличие от Гегеля у неоплатоников история - это дорога, ведущая вниз, а не вверх. Вернее, она ведет и вверх, если по этой дороге субъект возвращается вспять - к Единому. У неоплатоников возврат к прошлому, а следовательно и более целостному состоянию Универсума, возможен по тем же эманационным ступенькам, которые вели вниз, так как они не «снимаются» последующими ступеньками становления, как это предустанавливается гегелевской и марксовой диалектиками. Возвратное движение, или точнее, восхождение к первоначалам мотивируется тем, что лишь в перманентном Генезисе осуществляет Абсолют свое Бытие. Не случайно слова генезис и бытие являются синонимами. Чтобы субъекту центрировать свою экзистенцию в эпицентре абсолютного бытия и генезиса, его история должна обладать возвратно-поступательным движением. Одно плоское восхождение истории может лишь привести к дивергенции «концов» от «начал» в сущем.
Согласно мировоззренческому субъектоцентризму, Первоначала человеческого бытия были абсолютны и пустотны. Этот постулат означает, что первичная форма существования человека (по принятой нами терминологии, - “астрального субъекта”) была и остается на протяжении всей его последующей метаистории самой высшей и предельной формой экзистенции. Это в метаисторическом плане вечная, а в историческом - изначальная жизнь человека в Духе или духовная жизнь. Пустотность его первобытия (“онтологический вакуум”) означает, что в нем в свернутом виде предсуществовали все последующие формы экзистенции, которым в процессе перманентной автоэманации Субъекта предстояло развернуться в некий последовательно нисходящий метаисторический экзистенциальный со-бытийный ряд. Так, согласно разрабатываемой нами мировоззренческой схематике, в первобытии человека, обозначенном понятием культ, в неразвернутом, “нераспакованном” виде содержались трансцендентальные праформы культуры, цивилизации и технологии. В рамках всеобщего креативно-эманационного процесса последовательно культура выделяется из культа, цивилизация из культуры, а технология из цивилизации в качестве относительно самостоятельных универсумов, соподчиненных между собой иерархическим принципом. В принципе процесс вырабатывания любой внутренней, субъективной тотальности и превращения содержащихся в ней абстрактных потенциальностей по убывающей прогрессии - процесс вечный и бесконечный. Такова закономерность любого становящегося бытия, вовлеченного в трансцендентный процесс расширения Вселенной Абсолюта. Такой подход к построению многоуровневой модели мира вполне согласовывается не только с неоплатонистской традицией, но и с основополагающими принципами синергетики, разделяемыми большинством современного научного сообщества.
Принцип онтологического расширения истории. Основным принципом движения Всемирной Истории в объектоцентристской историософеме является принцип развития. Так как непреложным постулатом в ней выступает восхождение части к целому, то и система изменений, происходящих в объекте, понимается как его перманентное развитие. По мере того, как человеческое существование исторически все более объективируется, принцип развития в самосознании из сугубо сциентистского постулата постепенно превращается в принцип секуляризованной веры в то, что любое становление есть ни что иное как производная от всеобщей имманентной автоэволюции объективной действительности, высшей формой которой выступает прогресс. Фантом-реификация абстрактной диалектики, какой является понятие «развитие», превращается таким образом в философскую универсалию, претендующую охватить собой всю тотальность изменений, перманентно происходящих как во внешнем, так и во внутреннем мире человека.
В современную эпоху не только в Науке, но и в обыденном Сознании или сознании Обыденности принцип развития и прогресса является тем априори, которые не подвергается сомнению, даже если человек эпрически и явно наблюдает застой и деградацию в высших сферах своего бытия. Если говорят «история», то прежде всего подразумевают «развитие» и наоборот («историческое развитие», «развитие истории». Связанные с историческим прогрессом негативизм и деструкция в человеческой экзистенции вполне преодолимы на более высоких витках автоэволюции объективной действительности, последний же виток истории непременно несет с собой установление идеальных условий существования. Мажорная утопия, а не минорная мифология властвует над умами современных людей, подталкивающих власть предержащих к выбору стратегии прогрессирующего развития, реализация которой оказывается эффективной лишь в режиме катастрофы.
В своей мифологеме=философеме Гегель сугубо рациональным образом соединил между собой в принципе несоединимые трансцендентальную веру в Абсолют и феноменальную веру в Развитие. Преобразование Гегелем абсолютного мифа на диалектической основе не могло не привести к абсолютизации Развития и релятивизации Абсолюта, в перманентном становлении Сущего абсолютным оказалось лишь Развитие. В пределах диалектической историософемы Трансрациональный Миф оказался модифицированным в Рационализированную Утопию. По Гегелю, перманентно развивающийся Абсолют и абсолютизирующееся Развитие оказываются двумя взаимосвязанными сторонами Всемирной Истории. Гегелевская универсалия: «развивающийся Дух» вошла в явное противоречие с трансцендентальной интуицией, составляющей основу не только христианской, но и любой другой монотеистической религии. Если Дух одновременно есть «все в Едином» и «все во Всем», то он не может развиваться, ибо идея развития может быть конструктивной только там и тогда, где и когда происходят изменения от низшего к высшему, от менее целостного к более целостному в Сущем. Но что может быть «выше» и «целостнее» Абсолюта? Абсолют как Предсущее изначально содержит в себе всю тотальность еще неразвернутых праформ Сущего. По Гегелю же, История как Развитие позволяет Абсолюту восходить от себя «минимального» к Себе «Максимальному». Идея «мини-макса», почерпнутая из математического анализа, становится исходной для построения всеобщей диалектики становления Абсолюта.
Абсолют как Предсущее изначально содержит в себе всю тотальность еще неразвернутых праформ Сущего. По Гегелю же получается, что Абсолют своим Становлением не столько предваряет, сколько завершает Всемирную Историю, последовательно обретая в ней по ее ступенькам развития предельную абсолютность. Всемирная История согласно букве и духу гегелевской концепции развития фактически превращается в процесс преодоления Абсолютом своей изначальной неполноценности и релятивности. Развитие оказывается не столько средством, сколько целью столь странного трансцендентного самопреодоления Абсолюта. При таком характере восхождения нижние ступени развития навсегда отпадают, а потому и возврат к трансцендентным первоистокам оказывается невозможным. Таким образом Всемирная История начинает пониматься не в качестве перманентного возвращения Бога к Самому Себе, а неким онтологическим Его бегством от Себя Самого. Такое совершенно некорректное включение диалектического принципа развития в предельные и даже запредельные основания философии Гегель осуществил не столько по своей прихоти, сколько в связи с тем, что идея развития и прогресса буквально «витала в воздухе» в эпоху «бури и натиска», в которой жил и творил.
Эту странную «метафизическую подстановку» блестяще ликвидировал К.Маркс, поставивший Гегеля «с головы на ноги». Да, действительно, «развитие», «прогресс» существуют, но не в Духе, а в универсуме его объективаций - в объективированном мире. К.Маркс, «устранив Бога» из диалектической историософии, вполне обошелся всего лишь одной философской универсалией - Развитием. Однако выведя Абсолют за пределы философской веры, он вынужден был заменить его весьма релятивной и метафорической «Объективной Действительностью». От низших форм к высшим, по К.Марксу, эволюционирует не субъективная, а объективная субстанция. Марксистская диалектика и есть модель автоэволюционирующего Объекта. Она есть ни что иное, как рациональная схематика восхождения объекта к своим все более целостным и универсальным формам, а в Пределе Всемирной Истории - к появлению Абсолютного Объекта, т.е. такого состояния объективной действительности (коммунизм) при котором развитие станет средством свободы, а свобода – целью универсального и гармонического развития.
Итак, будучи перенесенным с универсума объектов на мироздание в целом, весьма плодотворный в науке принцип развития превращается в секуляризованный принцип веры, но уже не веры в Ноумен, а в один из Феноменов, будь это вера в науку, в технику, в цивилизацию и проч., лишь бы поступательное движение в этих сферах, согласно чаяниям идеологов, в недалекой перспективе позволило бы человеку обрести утраченую им райскую жизнь. Н.Бердяев считал, что идея прогресса хочет дать смысл мировой истории, но иллюзия ее в том, что она дает имманентный смысл истории, в то время как смысл ее трансцендентный. Диалектика Гегеля, а затем и ее марксистский инвариант спровоцировали революцию экзистенциальных ожиданий человека а с ними и беспредельный рост его по-требностей, который и лег в основу разветвленной системы требований по их насыщению, растабуировавший пределы роста, на протяжении тысячелетий предохранявшие человечества от искуса потребительства, чреватого вселенской катастрофой.
Любопытно, что и в диалектике Гегеля и в диалектике Маркса, Человек есть отнюдь не субъект, а лишь объект Исторического Развития. В этих динамических моделях Сущего человек всего лишь исторически преходящий “компонент” мира, а потому к его экзистенции идея развития приложима лишь в той мере в какой человек и скорее всего не как свободный субъект, а как как зависимый объект оказывается вовлеченным в общий поток автоэволюционирующей реальности. Так как эволюция и прогресс являются абсолютными механизмами преодоления релятивного в сущем, то и человек осознавший их роковую значимость для своей экзистенции должен полностью отдаться им во власть и тогда вместе с автоэволюцией объективного мира он взойдет на высший онтологический пьедестал. Для того, чтобы достичь абсолютных и универсальных форм бытия ему необходимо максимально способствовать процессу всеобщего развития – историческому процессу - и тогда он с неизбежностью окажется вынесенным волной прогресса из царства необходимости в царство свободы. К.Маркс в своей историософеме взглянул на «преходящего человека» с позиции «вечного мира» и обнаружил его присутствие в мире лишь на завершающей стадии его автоэволюции. Однако если посмотреть на «преходящий мир» с позиции «вечного человека», то напрашивается прямо противоположная метафизическая схематика сущего, в которой мир появляется вместе с автоэманацией Бесконечного Субъекта. К сожалению такой всеобъемлющей субъектоцентристской модели мира в истории философии так создано и не было, хотя отдельные принципы ее построения можно найти у многих выдающихся мыслителей. В основном эту тончайшую работу мысли проделали мистики, в неявную же философему она была оформлена неоплатониками.
Н.Бердяев считал что со времени Кондорсэ и Гегеля идея прогресса была и продолжает оставаться секуляризованной формой христианской идеи движения к Царству Божьему как основная тема истории. Идея прогресса хочет дать смысл мировой истории, но иллюзия ее в том, что она дает имманентный смысл истории, в то время как смысл ее трансцендентный.[41]
На связь теории прогресса с секуляризованной формой веры указывал и С.Булгаков. Прогрессизм он называл «хилиастической ориентировкой в истории». В своей работе «Апокалиптика и социализм» С.Булгаков подчеркивал, что хилиастическая теория прогресса для многих играет роль имманентной религии. Для таких людей вопрос исчерпывается той или иной наукообразной теорией прогресса. При таком восприятии истории вместо целого постоянно и сознательно подставляется только часть, вместо недоступного Ноумена - доступные феномены. Однако, если мы попытаемся последовательно продумать этот порядок идей, навязываемый для нас практическим отношением к истории, нашим практическим историческим разумом, мы убедимся без труда, что горизонт есть лишь необходимая оптическая иллюзия и потому недостижим, а прогресс разрешается лишь в бесконечное движение, в дурную бесконечность. Нужно впасть в самоослепляющийся иллюзионизм, примириться с дурной бесконечностью, уверовать в реальность горизонта, чтобы совершенно успокоиться на теории прогресса, впасть в исторический гармонизм и, притупив свои чувства для иных идей и восприятий, утвердиться на условном как на безусловном. При этом
С.Булгаков с горечью признавал, что от формально-хилиастического восприятия исторического горизонта, т.е. от фактической веры в достижимость идеалов прогресса, современное человечество освободиться не может. [42] Секуляризованная вера в прогресс считал он является всего лишь следствием утраты человечеством веры в свои собственные духовные силы. “Никакое развитие знаний и блеск материальной культуры, пишет он в статье “Основные проблемы теории прогресса”,- не может возместить упадка веры; можно допустить, что человечество лишится своей науки, своей цивилизации, как оно и жило без них в течение веков. Но полная потеря веры в добро означала бы нравственную смерть, от которой не спасли бы никакие силы науки, никакие ухищрения цивилизации”.[43] Из экзистенциального тупика в который втягивает человеческую историю мировоззренческий прогрессизм есть только один исход – исход апокалиптический.
Абсолютной значимостью в субъектоцентризме выступает не прогрессивное развитие Объекта, а «прогресс» в становлении Субъекта.
Согласно христианскому мировоззрению, Дух не субстантивен, а потому к Нему и не приложима идея развития, эволюции.Однако позитивное становление Человека и его Мира возможны лишь за пределами поступательного дивергирования от Первоначал, лишь в процессе перманентного возвратного движения Истории к Метаистории, последовательного возвращения человеческой экзистенции к абсолютным своим праформам. Лишь в ситуации преобладания процесса «светывания развернутостей» над процессом «развертывания свернутостей», инволюции над эволюцией, становление человеческой экзистенции может осуществляться по трансцендентной норме. Если же эти приоритеты оказываются перевернутыми и эволюция (плоская эволюция) преобладает над инволюцией человеческая экзистенция развертывается в форме феноменальной патологии и это далеко не случайно, что современное общество почти тотального потребления все чаще называют больным обществом. Принципу эволюции и развития в объектоцентристской историософии соответствует принцип “развертывания свернутостей” в историософском субъектоцентризме. “Эволюция есть то же, что и развертывание”[44] - утверждал Николай Кузанский. Однако эволюцию и развертывание нельзя рассматривать в качестве синонимов, так как в пределах мировоззренческого субъектоцентризма у них совершенно противоположные экзистенциальные содержания и онтологические статусы.
Идея эволюции и прогресса субъектоцентризмом не отбрасывается столь зряшно, как это имеет место с идеей креации и эманации в объектоцентризме. Однако их объяснительные функции простираются только на универсум объективаций и лишь частично используются в анализе целостного процесса самоизменений в высших универсумах, осуществляющихся на основе перманентной трансценденции. Низшее должно эволюционировать не разрушая высшее, что возможно в довольно узких онтологических пределах и при условии, что это развитие осуществляется за счет своих имманентных энергетических ресурсов. За пределами объективированного мира «поступательное развитие» превращается в плоский эволюционизм и прогрессизм, разрушающий целостность тех онтологических ниш, в которых человеческая экзистенция укоренена своей надрациональной и надтелесной формами. “Прогресс, - писал Карл Ясперс, - действительно приводит к единству в области знания, но не к единству человечества... Такой прогресс ведет к единству в области рассудка. Он объединяет людей в сфере рассудочного мышления таким образом, что они могут вести рациональную дискуссию, но могут и уничтожить друг друга одинаковым оружием, созданным их техникой... Вера в прогресс игнорировала тот факт, что прогресс ограничен рамками науки и техники и что он не может, выйдя за их пределы, охватить все человеческое существование в целом. В наши дни стало совершенно ясно, что имеют в виду, говоря о демонизме”.[45]
Мы полагаем, что базовой универсалией в историософии должно быть не развитие, а расширение. Перманентное расширение истории осуществляется за счет выдвижения все более низших онтологий из онтологий высших, в которых они до поры до времени предсуществуют в качестве праонтологий, или согласно Гете, в качестве прафеноменов. Еще неразвернутые во-вне феномены содержатся в качестве прафеноменов в более высокой феноменальной целостности, которые как «матрешки в матрешке» предвечно предсуществуют в Предсущем - абсолютной Реальности или реальности Абсолюта. Константин Леонтьев сформулировал «закон возникновения, существования и гибели», который он считал «триединым» и различал в нем три основные фазы: 1) фаза первоначальной простоты, 2) фаза «цветущей сложности», расцвета данного «тела», благодаря дифференциации и усложнению, и, наконец, 3) фаза вторичной простоты – уравнения и внутреннего смешения элементов, ранее бывших различными[46]. На наш взгляд категория «развертывание» должна стать в антропологической историософии одной из центральных, причем в качестве ее узкой версии можно рассматривать понятие «развитие» и еще уже – «прогресс». Категория «развертывание» включает в себя момент развития сущего лишь в качестве производной от момента креации (эманации). В понятиях развития и прогресса можно описывать лишь тот событийный ряд, который располагается на горизонтальной линии истории, метаисторическая вертикаль, связанная с перманентным генезисом сущего может быть осмыслена лишь в категориях креации и эманации.
Принцип отпадения низших экзистенциалов ярусов бытия от высших. В объектоцентристски ориентированной историософеме существует явное логическое противоречие, которому она не в состоянии найти рациональное объяснение. Это противоречие между «прогрессом» внешнего и «регрессом» внутреннего мира человека, фиксируемое понятием «отчуждение». На вопрос о том, каковы истоки и природа человеческого самоотчуждения объектоцентристская историософема ответить не в состоянии. Действительно, как может самоотчуждение человека быть эпифеноменом тотального исторического прогресса? Вернее было бы полагать, что безудержный прогресс должен сопровождаться столь же бурным процессом самоосвоения. Мир по мере прогресса должен не закрываться человеку как нечто все более чуждое ему, а открываться, как все более свое. Но ведь анализ хода Всемирной Истории как раз и показывает обратное - по мере того, как объективная реальность прогрессирует, субъективная реальность все более от нее отчуждается и платой за развитие в режиме отчуждения оказывается регресс и духовное вырождение личности. Все более универсальная целостность мира достигается ни иначе, как на пути перманентного дробления изначальной целостности человеческой экзистенции. «Мы имеем потребность цельности, нося в себе образ абсолютного, - писал С.Н.Булгаков, -но, оставаясь в оковах временности, вмещаем эту абсолютность, эту цельную жизнь только по частям. Не цельность, а разорванность, постоянное движение во времени составляют наш удел… Исторический ряд всегда дифференцируется, но никогда не интегрируется»[47]. Не логично ли предположить, следуя внутренней логике самого объектоцентризма, что ступеньки перманентного снятия и есть ступеньки человеческого самоотчуждения в пользу «автоэволюционирующей» объективной реальности. «Ступеньки самоотчуждения» Субъекта, хитроумно выстраемые не только хитрым, но и коварным Историческим Разумом, и есть «ступеньки прогресса» по которым объективная Действительность, или действительность Объекта восходит к своей вне- и античеловеческой псевдоуниверсальности и псевдоцелостности.
Антагонистическое противоречие между прогрессом и отчуждением в историческом процессе было подмечено в рамках самой объектоцентристской историософемы Гегелем и Марксом. Для того, чтобы преодолеть это внутреннее противоречие объектоцентристского мировоззрения, Маркс объявил весь процесс становления человека предваряющий появление коммунистического общества, в котором будут преодолены все формы отчуждения и самоотчуждения предысторией человечества. Таким образом Всемирная история, согласно историческому материализму распадается на три основных этапа: праисторию (первобытный коммунизм), предысторию и собственно историю (собственно коммунизм), первая и последняя из которых свободны от любых форм человеческого самоотчуждения. Формальная диалектика, диалектика понятий и здесь оказалась незаменимым средством снятия базового противоречия объектоцентриской историософемы.
Маркс прекрасно чувствовал историческую обусловленность и даже предопределенность перманентного человеческого самоотчуждения, однако не пытался ее отыскивать в онтологически противоречивой человеческой экзистенции. Так как по его мнению человек есть объект истории, то прежде всего необходимо преобразовать саму историю, чтобы освободить человека от накопившихся в ней форм самоотчуждения. Однако как показывает практика «строительства коммунизма» релятивные формы отчуждения преодолевались средствами тотального отчуждения. Этот вселенский эксперимент с человеческой истории лишний раз показывает, что сама история человека есть всего лишь производная от его экзистенции и что именно в последней необходимо отыскивать онтологические корни самоотчуждения. Согласно формальной диалектике историческое развитие осуществляется по ступенькам снятий. На более высокой ступени истории все ценное из предшествующих этапов становления содержится в снятом и преобразованном виде, что и обусловливает онтологическую преемственность в историческом процессе. Но именно в механизме «снятия», действующий в диалектике объективной реальности и содержится имплицитно механизм человеческого «отчуждения», однако в пределах объектоцентристского мировоззрения генетическая связь этих экзистенциальных механизмов как раз и не обнаруживается. И связано это прежде всего с тем, что человеческая экзистенция оказалась выведенной за скобки прогрессирующей истории.
В субъектоцентристской историософеме если и существует внутреннее логическое противоречие между принципом перманентного нисхождения Духа и эмпирически наблюдаемыми явлениями самоотчуждения человека, то лишь в пределах классического неоплатонизма. Действительно, весьма трудно объяснить почему «мир во зле лежит», если исходить лишь из идеи плавно расширяющейся и множащейся вселенной Единого. Единое, постепенно инверсируя во Множественное не может нести с собой в плюральный мир субъектного самоотчуждения. Согласно неоплатонизму, Единое и Множественное трансцендентно изоморфны, а эманационные ступеньки ведут не только вниз, по этим ступенькам человек в состоянии осуществлять перманентное восхождение к своим в принципе неотчуждаемым Первоначалам. Все величие христианского учения заключается именно в том, что в самом человеке оно обнаруживает источник экзистенциального самоотчуждения. Однако, чтобы источник перманентной деструкции был явно представлен «внутреннму зрению», необходимо было в идеальную неоплатонистскую схематику ввести существенную поправку, выстраданную историческим христианством. Всемирная История - это такая лестница, ведущая вниз, в которой каждая новая и более низкая ступень «отпадает» от предшествующих, ведущих вверх. И «выламывает» эти ступеньки, ведущие к Богу не кто иной как сам Человек. Идея трансцендентного грехо-падения, от-падения Человека от Бога, будучи положенной в основание модели катастрофического нисхождения Духа, выводит рефлексию на истинный источник самоотчуждения. Проблема самоотчуждения религиозным сознанием поднимается прежде всего как проблема духовная. Не внешний мир своей тотальной детерминированностью отчуждает от себя человека, а изначально свободный человек отчуждает себя от мира своим беспринципным подчинением необходимости являющейся по Н.Бердяеву «падшей свободой». Реальная история человека и есть «бегство от внутренней свободы» во все более тотальную зависимость от внешней необходимости. «Диалектические снятия», посредством которых внешний объективированный мир «прогрессирует», осуществляются ни иначе, как за счет все более усиливающегося самоотчуждения и самонасилия Человека.
В связи с тем, что в субъектоцентристской историософеме за первоначало принимается целостный дух, эволюционизм в ней не является универсальным механизмом развертывания трансцендентных потенциальностей в актуализированные формы сущего.
Принцип катастрофического характера истории. Включением в систему своих априори принципа отпадения субъектоцентристская историософема позволяет объяснить субъектную предопределенность человеческого самоотчуждения в истории. Идея развития и прогресса, будучи включенный в субъектоцентристский анализ сущего позволяют скорее всего вскрыть динамику стремительной дивиргенции универсума объективаций и самого человека в качестве самообъективации прочь от центра мироздания каким является пустотный и покоящийся Дух. Ступени бытия являются не столько ступенями нисхождения, сколько ступенями отпадения низших экзистенциалов от высших, порождаемых общим отпадением экзистенции от трансценденции. Низшие экзистенциалы отпадают от высших не только для того, чтобы добиться онтологгической автономии и независимости от них, но прежде всего чтобы превзойти породивших их и занять их место на Олимпе Жизни. Менее универсальные и целостные онтологические, ментальные и семантические формы, отпадая от породивших их праформ, имеют тенденцию к плоской и гипертрофированной эволюции за счет вытеснения высших из сущего. Снятие становится «зряшным» и предстает либо в форме уничтожения, либо в форме инкорпорирования. Это придает метаистории характер вселенской драмы. В Реальном Сущем по мере отпадения истории от метаистории помимо истинных экзистенциальных форм начинает «развиваться» определенная совокупность ложных и репрессивных экзистенциальных форм, которые и выступают основным средством самоотчуждения во имя прогресса. Эклектическая структура Сущего в состоянии удерживаться в качестве относительно устойчивой псевдоцелостности лишь за счет перманентного насилия человека над самим собой, которое и ведет к его экзистенциальному самовытеснению из им же самим созидаемого мира.
Когда мы анализируем целостные онтологические переходы, используя понятие снятия как отпадения, то катастрофический характер нисхождения Абсолюта предстает как подлинная трагедия исторического человека. При субъектном подходе понятие «снятие» фиксирует внимание на трагедийном характере хода и исхода Всемирной Истории, конец которой необходим отнюдь не для того, чтобы преодолеть предысторию вхождением в подлинную историю, а в связи с потребностью окончательно покончить с историей, являющейся по утверждению Н.Бердяева, «великой неудачей человека».
Согласно С.Булгакову в истории возможен «прогресс», рост цивилизации, материального благополучия, и, однако, внутренний итог истории есть все-таки не гармония, но трагедия, окончательное обособление духовного добра и зла и в нем последнее обострение мировой трагедии. Такого рода отношением к «прогрессу», во всяком случае, устраняются мечты о земном эвдемонизме, потому что борьба добра и зла и в личной, и в исторической жизни переживается как трагедия. И в конце истории метафизическое зло получает свое высшее выражение - не политическое или социальное, но духовное личное воплощение в Антихристе, скрывающем его подлинную природу под личиною добра. [48]
Если эволюционирует лишь какая то часть целого, то не иначе как за счет его деградации. Своим интенсивным развитием часть как бы “выедает” энергетику целого, предназначенная для коэволюции - взаимосогласованного развития всех составных частей целого. Внутренним источником трагедийного характера истории развертывания онтологической целостности выступает гиперинтенсивное и к тому же плоское развитие так называемой «восходящей части», которую обычно принимают за «главное звено в цепи становлений, ухватившись за которую можно вытянуть всю цепь». Спекулируя на идее прогресса объектоцентристская историософилософема требует от человека таким образом изменять исторические обстоятельства, чтобы они давали простор новому, даже если это новое несет с собой регресс и даже деградацию его собственной субъектности. При этом прагматически ориентированные деятели совершенно не осознают, что эта цепь становлений заякорена в апофатических глубинах Абсолютного Покоя и что любая форма исторического развития, будучи снятой с этого трансцендентального якоря, с неизбежностью исчерпав инерцию движения, бесславно завершит свой стремительный бег. У метаистории нет конца потому, что она никогда не дивергирует от своего начала, к которому всегда возвращается. Потому-то метаистория Начал является скорее всего «Божественной комедией», история же Конца представляет собой «Человеческую трагедию». Реальный исторический процесс более всего похож на фарс, так как человеку присуще «ломать комедию» в самые трагедийный минуты своей жизни.
Экзистенциальную катастрофу человек в состоянии преодолеть лишь перманентным восхождением к своим сакральным Первоначалам. Принципиально, согласно субъектоцентристской историософии, существует два исхода человеческой истории, отпавшей от метаистории Абсолюта. При положительном исходе конец и начало истории как бы меняются местами, происходит «свертывание всех развернутостей» в изначальное Ничто. В соответствии с учением неоплатоников, восхождение человека к своим абсолютным первоистокам вполне возможно в связи с тем, что то, что эманирует в состоянии вернуться по ступенькам эманации в исходную точку Метаистории. Второй исход связан со всемирной катастрофой - Апокалипсисом. В этом случае преобладающие в экзистенции ложные семантические, онтологические и ментальные структуры свертываются не в Ничто, а в Ничтожество или Мировое Зло, которое способно аннигилировать лишь в пламени Апокалипсиса. В обоих случаях «конец истории» рассматривается как экзистенциальная реинверсия Абсолюта из Нечто в Ничто, а метаистория – дорогой, по которой Бог возвращается к самому Себе, призывая Человека на этом тяжком пути самовозвращения вновь обрести Его Образ и Подобие.
Человек метаисторичен постольку, поскольку трансцендентно связан с Богом, Абсолютом, ибо метаисторическое характеризует мистерию Духа и все что связано с его инверсированием в мир сей. Единая метаистория Человека есть трансцендетная производная от теогонического процесса, процесса его перманентного самопорождения в качестве становящегося Абсолюта, процесса его эманирования и инверсирования экзистенциальными праформами.
Правильность выбора пути из целого веера возможных альтернатив дальнейшего исторического продвижения во многом зависит от степени истинности получаемых ответов на вопросы, которые ставятся самой жизнью. Но истинный выбор из исторически обусловленных альтернатив движения в состоянии сделать лишь человек наделенный истинным мировоззрением, эмпирическая жизнь, человеческая практика, как показывает анализ исторических зигзагов ХХ столетия, далеко не всегда являются критерием истинности осознанно планируемых и внедряемых в жизнь “свершений”. Истинно ли то мировоззрение к которому привык современный человек? Ведь его эмпирической жизнедеятельности вполне согласованной с императивами исторически господствующего мировоззрения имманентно присущи, бесчеловечные войны, экологические катастрофы и проч. Замкнутая мировоззренческая схематика всегда изнутри воспринимается в качестве непротиворечивой. Любое высказывание согласованное с ее внутренней логикой конституируется самосознанием в качестве истинного суждения. Но истинным это суждение может быть лишь в рамках определенной мировоззренческой схематики. В рамках же другого мировоззрения, подчиняющегося иной логике это же самое высказывание заведомо, априори конституируется как ложное. Вопрос Пилата к Ешуа “Что есть истина?”, был поставлен человеком искавшим на него ответ в рамках замкнутого мировоззрения, чуждого позитивному процессу миро-творения. Оно было замкнуто на волю к власти над тварным миром и противостояло воле к творческому созиданию мира. Ответ, который Пилату дал Бого-человек, всей своей жизнью погруженный в эпицентр творческого миро-творения показался Пилату весьма темным, непроясненным, а потому он на всякий случай “умыл руки”, т.е. самоустранился в решении судьбы человека, взиравшего на мир с позиции, исходившей не от мира сего. В отличие от Пилата современный человек редко сомневается, в принимаемых им очередных судьбоносных исторических решениях, так как они никогда не противоречат его, как ему кажется, истинному мировоззрению. Однако вновь зададимся сакраментальным вопросом, почему же из-за исторического горизонта так и не выплывает столь вожделенный земной рай, а напротив уже явно видны кровавые всполохи рукотворного вселенского пожара. Вопросы о высших смыслах жизни современный человек формулирует в рамках привычной ему исторической формы мировоззрения и те ответы, которые он в нем обнаруживает и следует им еще туже затягивают узел экзистенциальных проблем, который со временем не удастся разрубить даже топором - тотальным самонасилием.
Попытаться существенно изменить качество и направленность исторического движения, чтобы преодолеть деструктивные и кризисные явления в нем можно лишь изменив мировоззрение современного человека, а вернее, реконструировав его изначальную форму, то есть достроив мировоззрение и историческое самосознание нашего первопращура до истинного ощущения мира, таким каким он должен был бы стать, если бы постоянно сохранялись условия его нормального саморазвертывания. Необходимо закрытое мировоззрение современного человека сделать максимально открытым, вмещающим в себя не только последнюю и новейшую обусловленную исторической практикой картину мира, но всю мировоззренческую ретроспекцию всех без исключения поколений людей выступавших в свое время субъектами исторических свершений. Это позволит выяснить на каком же этапе истории человечество свернуло со столбовой дороги метаистории. Лишь метаисторическое самосознание в состоянии формулировать те вопросы, которые не желает ставить исторический разум, а если и ставит, то находит такие ответы, которые не противоречат господствующей идеологеме. От Рацио давно отпавшего от трансцендентального Логоса на животрепещущие мировоззренческие вопросы, вставшие перед современным человечеством, можно получить лишь ложные ответы, которые конечно же будут восприниматься истинными в пределах его внесубъектной рациональной логики.
Итак, как мы подчеркивали выше, любая всеобъемлющая философская система, содержит в себе, в качестве особого гносеологического модуса историософию или философию истории. Не является исключением и разрабатываемая нами онтологическая антропология, или антропологическая онтология; своей мировоззренческой проекцией на всемирную историю она порождает еще одну историософскую версию становящегося Сущего. Субъектоцентристская философская система о целостном универсуме человеко-мирных отношений, как двуликий Янус, одной своей стороной обращена к истории становления Человека, а потому является философией филогенеза Человека, другой же стороной - к истории становления Мира, выступая философией исторического процесса, или историософией.
В первых двух книгах "Суммы антропологии" изложены трансцендентные как горизонтальные, так и вертикальные срезы филогенеза Человека, его метаистории. По сути в них была представлена онтологическая процессуальность человеческого становления как предметность “онтологической Антропологии”. Онтология в них рассматривалась, в основном, как экзистенциальная подстилающая структура целостного филогенеза Человека, т.е. акцент делался не на онтологическом, а на антропологическом аспекте перехода Единого во Множественное. Собственно говоря можно было бы поставить и точку в этом исследовании, так как основные принципы построения субъектоцентристской мировоззренческой модели Сущего предельно обнажены, хотя методологически еще и не вполне обоснованы. Выявлена иерархия универсалий и понятий составляющая основу онтологической антропологии. Предложена иерархия онтологических Пределов и Приоритетов и применяемых человеком мировоспроизводящих практик, следование которым позволяет если уж не достичь гомеостазиса в совокупной экзистенции, то хотя бы существенно снизить уровень деструктивности в ней. Все остальное можно уже домыслить за автора. Однако, на наш вгляд, эту точку ставить еще преждевременно, необходимо с мировоззренческих позиций онтологической антропологии осуществить конструктивную фальсификацию теорий и теоретизмов, объясняющих сущность исторического становления проявленных форм Сущего с прямо противоположной миропонимающей концептуальной позиции. В связи с тем, что разрабатываемая нами концепция строится на метафорических, трансрациональных основоположениях (“ученое незнание” - Николай Кузанский) интенционально исходящих от целостного Логоса, то прежде всего этой фальсификации по основным экзистенциальным проблемам должны подвергнуться основопологающие свидетельства и утверждения нецелостного Рацио, которые в эпоху научно-технической революции превратились в принципиальную основу разветвленной системы “ученого знания”, претендующей быть единственно истинным мировоззрением.
В этой книге мы постараемся осуществить кардинальную переакцентировку и таким образом чтобы уже концептуализация филогенеза Человека оказалась подстилающей структурой концепции всемирного процесса развертывания целостной иерархии форм Бытия, что и должно стать предметностью для “антропологической Онтологии”. Изменение ракурса во взгляде на единый антропо-онтологический поток Становления, взгляд на Все-Мирную историю становящегося бытия сквозь призму знаний об этапах филогенеза Все-Человека позволит, как мы надеемся, получить некое приращение к уже систематизированным знаниям о Человеке, Мире и человеко-мирных отношениях.
В своих попытках дать апофатические, отрицательные определения “онтологической антропологии” или “антропологической онтологии” мы уже подчеркивали, что она, по крайней мере, не есть историцизм, особенно в его крайней объективистской форме.[49] В то же время субъектоцентристская мифологема претендует на историософскую функцию, а потому нам и предстоит выяснить действие тех онтологических причин и механизмов, которые лежат в основании противостояния исторически оформленной экзистенции человека и его изначальной самотрансценденции. Вряд-ли в одной книге удастся выйти на целостный категориальный ряд субъектоцентристской историософии, центральной проблемой книги скорее всего будет выявление метафизических, метаисторических причин изначальной человеческой деструктивности, достигшей на стыке тысячелетий вселенского масштаба. По мере развертывания базовых понятий антропологической онтологии, позволяющих выявить поистине дьявольскую природу “летального гена”, содержащегося в человеческой экзистенции, придающего мирожизненным процессам явно трагедийный характер, будет предпринята и критика исторического разума, немотивированный оптимизм которого зачастую оказывается ни чем иным как провокацией к самораспаду целостного человеческого бытия во имя процветания и плоской эволюции самых низших и репрессивных его форм. Ведь именно исторический разум, своими категорическими предписаниями на протяжении одного лишь ХХ столетия уже не единожды заводил человечество в такие онтологические тупики из которых каждый раз оно выбиралось с трудом и с огромными для себя потерями.
Принятие современным человеком универсалистской историософии, основанной на субъектном подходе, осложняется прежде всего тем, что он по прихоти историцистского разума оказался вынесенным за пределы всеобщего потока жизни. Уже со всей очевидностью становится ясным, что волна «объективного исторического прогресса», которую человек «оседлал» выносит на противоположный берег имя которому Небытие. Однако, зависнув над «нижней бездной бытия», так называемое «прогрессивное человечество» непременно востребует мировоззренческую альтернативу своему тупиковому продвижению. И тогда возрождение субъектоцентристского мировоззрения и имплицитной ему историософии станет насущнейшей задачей преодоления системного экзистенциального кризиса – в этом нет никакого сомнения.
1.2. Неиное и Иное в Сущем
|
|
Ничто - есть само бытие, истина которого только в том случае усваивается человеком, если он преодолевает себя как субъект, а это означает, что он уже не представляет сущее в качестве объекта. М.Хайдеггер. Бытие и время.
|
При субъектном подходе к реалиям Бытия, мы должны заглянуть в его трансцендентно-потаенное, в свидетельства духовного Откровения или откровения Духа. Конечно же при построении метафизической картины мира философ не может «использовать» откровения и пророчества в их метафорической, полисемантической форме, однако содержащиеся в них глубинные интенции Бесконечного Субъекта, в превращенной метафизической форме в состоянии стать трансцендентным основанием философемы.
Наиболее важным онтологическим соотношением в абсолютной мифологии является соотношение Единого, Множественного и его Частей. «Единое, - учил Псевдо-Дионисий Ареопагит – это Первоначало всего сущего, и, поскольку каждого из объединяемых оно соединяет с собою согласно предустановленному образу единения, оно и называется «Единое», и если бы не было Единого, не было бы ни частей, ни целого, ни вообще чего-либо сущего, ибо Единое единообразно объемлет и содержит в себе все сущее прежде его воплощения в бытии»[50].При построении всеобъемлющей мировоззренческой концептуализации путем нисхождения от целостного образа Мироздания к его эмпирически наблюдаемым объективациям, особо важным является отбор необходимых и достаточных основоположений, которые, с одной стороны, своей взаимодополнительностью в качестве трансцендентальных модусов Единого дают возможность выстроить идеальную модель Множественного, в которое Единое метаисторически развертывается, а с другой стороны, избранные основоположения не должны быть излишне избыточными с тем, чтобы их не срезала «бритва Оккама», если они собой будут лишь умножать сущности. Когда за основу принимается один из непроявленных первофеноменов Единого, и лишь его гносеологизированная проекция на экзистенцию Множественного конституируется философемой в качестве единственно истинного учения о становящемся Сущем, то всегда возникает вопрос - почему именно эта первоклеточка, а не какая-либо иная избрана в качестве порождающего мир первоначала. Более того, в Едином нет и быть не может первоклеточек Сущего, а если они и содержатся неявно в его пустотной и бесконечной экзистенции, то находятся не иначе как в трансцендентной тождественности друг к другу, а потому каждая из них, как при клонировании, способна породить Мир в его экзистенциальной самотождественности. Целостность множественного мира концептуализируется лишь при условии, если сама концептуализация основывается на признании целостности первомира, пра-мира, о чем свидетельствует абсолютный перво-миф. «Логика, - пишет В.Н.Сагатовский, - приводит мыслителей к тому, что в основе мира должно быть цельное, самодостаточное начало, задающее целостность и всему остальному миру. Но сказать что-либо об этой первоцелостности, охарактеризовать через положительные признаки (предикаты) - если не сводить ее к всезнающему, всемогущему и всеблагому Богу, построенному по аналогии с человеком, - не удается»[51]. Естественно, рациональной логике не дано восходить к трансценденции, а потому она и пытается вопреки своим собственным утверждениям в приверженности к целостному подходу редуцировать изначальную целостность мира к одной из его наиболее проявленных ходом истории частей. При конструировании субъектоцентристской модели мира, мы избежали гносеологического искуса “выращивать мир из первоклеточки”, так как за первооснование Мира нами взята не некая первичная и существенная связь проявленного Нечто, а целостное, хотя и не-существенное Ничто, не-сущее в себе в свернутом виде всю иерархию сущностных связей и отношений еще неразвернутого во-вне Мироздания. Трансценденталия «Ничто» остается центральной и для субъектоцентристской историософемы. «Когда человек (а это как раз входит в его сущность, есть сам акт становления человека), - писал Шелер, - однажды выделяется из всей природы, делает ее своим «предметом», то он как бы озирается в трепете и вопрошает: «Где же нахожусь я сам? Каково мое место?» Он, собственно, больше не может сказать: «Я часть мира, замкнут в нем», ибо актуальное бытие этого «мира» в пространстве и времени. И так он всматривается в этой ситуации как бы в ничто. Этот взгляд открывает ему как бы возможность «абсолютного ничто», что влечет его к дальнейшему вопросу: «Почему вообще есть мир, почему и каким образом вообще есмь «я»?»[52] Метаистория как и генезис Человека восходит к трансцендентному Ничто, Началом исторического процесса является первичный акт творения Нечто из Ничто.
Однако зададимся вопросом: откуда “берется” это Ничто и почему, превращаясь в Нечто, оно порождает не только идеальную Гармонию мировой жизни, но и ее экзистенциальный эпифеномен - Порядок, имеющий тенденцию не только перманентно понижать уровень организации реально Сущего, но в конце концов и переходить в свою противоположность, в Беспорядок, Хаос, чреватый всемирной катастрофой? Этот вопрос тысячелетиями оставался одним из центральных в мифологическом сознании человека, пока не нашел своего определенного “разрешения” в монотеизме, особенно в христианской мистике.
Согласно античной мифологии, не-сущей (одновременно выступающей и несущей и несущественной, т.е не содержащей в себе в явном виде иерархию сущностных сил) транс-трансцендентной основой Бытия выступает первичный Хаос. В качестве полумистической, полуфилософской трансценденталии=универсалии Хаос является одним из важнейших объяснительных принципов не только в метафизике, но и в современной физике. Как известно, сциентизированная его модификация органично вплетена в аксиоматику современной синергетики.
Хаос как одна из первичных трансценденталий=универсалий, сформированных интенциями древнейшей мифологии, нам крайне необходима для того, чтобы корректно переформулировать проблему становления Сущего в рамках метафизического субъектоцентризма, сделать ее имманентной принципиальным основоположениям историософемы, которую предстоит категориально оформить. При этом, естественно, в наше “переопределение” Хаоса войдет лишь та незначительная часть интуиций мифологемы, субъектом которой является метаисторическое человечество. Мы включим в свою философему лишь те из интенций, которые позволят “построить” метафизический образ целостной метаисторической мистерии Духа. В этих целях попытаемся несколько “упорядочить” содержащиеся в мифологическом сознаниии представления о крайне неупорядоченной “предонтологии” Бытия - Хаосе, обладающем довольно широким спектром не только метафизических, но и сугубо физических значений.
Хаос генетически предшествует Сущему, выступая его Небытием. Натурфилософски ориентированная мифологема исходит из того, что Хаос предшествует любым формам Бытия. Согласно одному из древнекитайских мифов о происхождении мира, до начала мира существовал хаос, из которого возникли два божества Ян и Инь. Они разделили хаос на небо и землю, создали из грубых частиц животных, из легких - людей. Гесиод утверждал, что “Прежде всего возник Хаос, а уж затем Гея широкогрудая”. В своей “Физике” Аристотель закрепляет эту древнейшую мифологическую интуицию в качестве одного из принципов натурфилософии, подчеркнув что “Гесиод правильно говорит, делая первым хаос”.[53]
По сути натурфилософия или философия природы, какой она сложилась в Древней Греции, исходила из того, что Сущее в состоянии пребывать лишь в двух основных онтологических формах, какими являются Небытие и Бытие. Природе как Бытию предшествует Хаос как Небытие. Натурфилософии вполне было достаточно дихотомии Хаоса и Порядка, чтобы не только метафизически, но и физически обосновать первоначала Мира. Хаос является началом и концом всех форм Бытия, трансцендентной первоосновой Сущего. “Субъектом”, переводящим Мир из небытия в бытие, из состояния хаоса в состояние порядка, оказывается сама Природа, наделяемая духовной силой.
Хаос есть пространство, которое вмещает в себя все вещи, является их “вместилищем”. В древнейшем мифологическом сознании основным атрибутом Хаоса выступает его пустотная Бесконечность, или бесконечная Пустотность. Хаос есть пустотное “вместилище” всей совокупности мест предметов, в которых до поры до времени пребывают распавшиеся элементы некогда существовавших онтологических целостностей, способных вновь упорядочиваться в структуры Сущего. Аристотель утверждал, что первичность Хаоса в космогонии Гесиода обусловлена тем, что “существующим /вещам/ надлежало сначала предоставить пространство, ибо он (Гесиод - Ю.Ф.) как, и большинство /людей/, считал, что все /предметы/ находятся где-нибудь и в /каком-нибудь/ месте. Если дело обстоит таким образом, то сила места будет /поистине/ удивительной и первой из всех /прочих сил/, ибо то, без чего не существует ничего другого, а оно без другого существует, необходимо должно быть первым: ведь место не исчезает, когда находящиеся в нем /вещи/ гибнут”. [54] Таким образом, если вещи преходящи, то их места вечно пребывают в пространстве Хаоса. Хаос как совокупность мест реальных вещей дает возможность этим вещам расширенно воспроизводиться, так как после их гибели им на замену из Хаоса возникают такие же как они. Их онтологическое тождество предопределяется тем, что все они, говоря современным новоязом, являются вольноотпущенниками из “мест предварительного заключения”, т.е. из единого для них Небытия=Хаоса. Хаос - есть Вместилище всей совокупности стационарных мест элементов целостного Бытия, в котором эти элементы обретают онтологическую связанность и динамику. “Хаос есть место, - пишет Секст Эмпирик в своем труде “Против ученых” (Х 11-12), - вмещающее в себя целое. Именно, если бы он не лежал в основании, то ни земля, ни вода, ни прочие элементы, ни весь космос не могли бы возникнуть. Даже если мы по примышлению устраним все, то остается, содержа три измерения: длину, глубину и ширину, не считая сопротивления”. Мифологическим сознанием Хаос наделяется не только пространственными, но и временными характеристиками, так как в нем не только располагаются присутственные места еще не возникших вещей, но, что самое главное, именно в Хаосе они обретают свои вечные праформы, инобытийствуют при Вечности. Так Марком Аврелием Хаос мыслится как бесконечная протяженность, однако не пространства, а в качестве особого рода Вечности. “Обрати внимание, - пишет Марк Аврелий (1V 3), - на то, как быстро все предается забвению, на Хаос времени, беспредельного в ту и другую сторону”. Анализируя сущность античного Хаоса, А.Ф.Лосев подчеркивал, что тот всемогущ и безлик, все собой оформляет, но сам бесформен. Он - мировое чудовище, сущность которого есть пустота и ничто. Но это такое ничто, которое стало мировым чудовищем, это - бесконечность и нуль одновременно. Все элементы слиты в одно нераздельное целое, в этом и заключается разгадка одного из самых оригинальных образов античного мифологически-философского мышления.[55] Как мы видим, согласно мифологическому сознанию, Ничто (Пустота) есть пространственно-временная характеристика Хаоса, втягивающая в себя элементы распадающегося множественного мира и вновь их порождающая. Отсюда уже сам собою напрашивается вывод, что Ничто как трансценденталия монотеистической мистики вобрало в себя многие интуиции по поводу Хаоса, содержащиеся в мифологическом сознании.
Хаос - всеобщее креативное, порождающее начало. Хаос является трансцендентно самодостаточным в качестве первоначала, творящего Природу. В большинстве космогоний космос не столько самопроизвольно возникает из хаоса в качестве первичной проявленной онтологии, сколько порождается им как его собственная онтологическая упорядоченность.
Досократики Акусилай и Ферекид считали хаос началом всякого бытия. У Аристофана (“Птицы”) хаос понимается как одно из первых порождающих начал, он порождает мировую жизнь. У Симпликия в Комментарии на “Физику” Аристотеля говорится: “Ясно, однако что это - не пространство, но беспредельная и изобильная причина всех богов, которую Орфей назвал страшной бездной”. Симпликий развил мысль о том, что Эфир и Хаос являются теми тезисом и антитезисом, из слияния которых образуется все бытие: из Эфира - эманации богов, а из Бездны-Хаоса возникает вся беспредельность.
Хаос - это небытие элементов Мира, а Мир - это консолидированная совокупность элементов первичного Хаоса. Казалось бы навсегда “канувшие в Лету” первокирпичики Миро-Здания вновь удивительным образом упорядочиваются в некую онтологическую целостность. Так, основными этапами космогонии, по Вл.Соловьеву, выступают: собирание хаоса в первичное единство силою всемирного тяготения, которому он, следуя теологическим идеям Ньютона, приписывает мистический характер, - это первая “материализация” мировой души, затем гармоничное расчленение и более интимное воссоединение вселенского тела; возникновение жизни как органического единства; и, наконец, появление человека. Таким образом, ряд “повышений бытия” есть вместе с тем ряд вех собирания Вселенной, ее приближения к всеединству. С.Н.Булгаков, считал что своим генезисом и становлением космос обязан первичному хаосу. “Умопостигаемый Космос, - пишет он, - смотрится в первозданный Хаос, делается его внутренней потенцией, и Хаос зачинает Космос, становится хао-космосом... Хаос в мире идей никогда не обнаруживает себя как таковой, ибо до конца и без остатка разрешается в космос, но вместе с тем он совершенно реален: хаос существует лишь для того, чтобы был возможен реальный космос”.[56] Таким образом, космос - это всего лишь упорядоченный хаос, а хаос - неупорядоченный космос, причем своей “упорядоченностью” или “неупорядоченностью” Мир обязан не космосу как Сущему, а не-Сущему, т.е. Хаосу, так как именно последнему принадлежит активная роль как в созидании, так и разрушении порядка, строя мировой жизни.
Согласно мифологическому сознанию, мир своим становлением обязан только Хаосу, боги же призваны лишь регулировать механизмы космодинамики, имманентные Хаосу как онтологической целостности. Учение о совпадении начал и концов в Хаосе для античной мифологии - один из центральных сюжетов космогонической драмы. В поздем мифологическом сознании Хаос выступает принципом непрерывного и бесконечного становления, пифагорейцы и орфики называли его диадой, без которой невозможно существование ни богов, ни мира, ни людей, ни божественно-мировой жизни вообще. Хаос - это перманентный процесс самоупорядочивающейся неупорядоченности Пра-Жизни. Процесс становления космоса есть ни что иное, как мучительные роды первозданного Хаоса. Из чрева Хаоса исторгается упорядоченная Мировая Жизнь, “повивальной бабкой” которой выступает “на-сильственная” и “бес-смертная” Смерть. Сила и Смерть не только онтологически предваряют Слабость и Жизнь, но и следуют за Ними. Упорядочивая хаотическое и хаотизируя упорядоченное, они тем самым дают возможность Хаосу “методом проб и ошибок” конструировать все более универсальные обмирщвленные самообъективации. “Хаос, - пишет А.Ф.Лосев, - представляется как величественный, трагический образ космического первоединства, где расплавлено все бытие, из которого оно появляется и в котором оно погибает; поэтому Хаос есть универсальный принцип сплошного и непрерывного, бесконечного и беспредельного становления. Античный Хаос есть предельное разряжение и распыление материи, и потому он - вечная смерть для всего живого. Но он является и предельным сгущением всякой материи. Он - континуум, лишенный всяких разрывов, всяких пустых промежутков и даже вообще всяких различий. И потому он - принцип и источник всякого становления, вечно творящее живое лоно для всех жизненных оформлений”.[57]
Наивный натуралистический теоретизм о взаимопревращениях Хаоса и Природы как самодостаточном механизме процесса автоэволюционирующего Бытия в той или иной степени присущ любым сциентистским воззрениям на мир как на некую объективную реальность, не нуждающуюся в каком-либо субъекте-демиурге. Этот теоретизированный натурализм легко обнаруживается в аксиоматике, лежащей в основании синергетики, согласно которой Хаос, беспорядок, случайности необходимы для рождения нового. Хаос есть конструктивное начало, основа для процесса развития. Беспорядки, случайности крайне необходимы для рождения нового и преодоления старого в саморазвивающейся системе.
Хаосу противостоит Порядок, который есть ни что иное как “структурированный хаос”. Из Хаоса вырастает Порядок, который затем вновь распадается на несвязанные элементы Хаоса. Досократики Эмпедокл, Анаксагор и поэт Аполлоний Родосский под хаосом понимали первозданную беспорядочную смесь материальных стихий. Но уже у Овидия мироздание прямо начинается с хаоса и вещей, и сам хаос трактуется как “нерасчлененная и грубая глыба”, хотя и с животворными функциями. Синергетика утверждает, что порядок может родиться только из беспорядка. Инициирующим началом самоструктурирования хаоса является малая флуктуация, одна из того фона флуктуаций, которым сопровождается любой процесс. Механизмы образования и разрушения структур, механизмы перехода от хаоса к порядку и обратно не зависят от конкретной природы элементов или подсистем. Они присущи не только миру природных, но и социо-культурных и технологических процессов.
Высшей формой Порядка выступает Гармония. Вл.Соловьев в своем основном сочинении по эстетике “Красота в природе” рассматривает хаос как реальную основу и необходимый фон всякой земной красоты. Хаос - косное стихийное начало, однако этапы космической эволюции - это ряд усложняющихся художественных оформлений хаотической материи воплощаемой продуктивной идеей. Причем на более высоких ступенях хаотическое начало все сильнее выказывает безмерность своего сопротивления, чем объясняются срывы и конфликты художественной эволюции в природе, резкие рецидивы безобразия. Природная, земная красота - только “покрывало”, наброшенное на шевелящийся под ним хаос, на “злую жизнь”, совершающуюся в потоке времени по закону разобщенности и взаимоуничтожения. Герберт Маркузе считает, что в основе эстетических форм лежит вытесненная гармония чувственности и разума – вечный протест против жизни, организованной логикой господства[58].
Хаос есть мрачная бездна Бытия, разверстое пространство, втягивающее в себя все то, что подлежит тлену и уничтожению. В Хаосе содержатся не только все начала, но и все концы Бытия. Метаистория начинается и заканчивается Хаосом. Слово “хаос” древнегреческого происхождения и содержит в себе корень cha, отсюда chaino, chasko, “зеваю”, “разеваю”, означающее прежде всего “зев”, “зевание”, “зияние”, “разверстое пространство”, “пустое протяжение”. В римской литературе хаос либо очень близко связывается с аидом, либо прямо отождествляется с ним. Хаос есть та бездна, в которой разрушается все оформленное и превращается в некоторого рода сплошное и неразличимое становление, в ту “ужасную бездну”, где коренятся только первоначальные истоки жизни, но не сама жизнь. У Сенеки Хаос - общемировая бездна, в которой все разрушается и тонет. В некоторых своих текстах он отождествляет его с аидом. Вл.Соловьев называл хаос “сумрачным лоном”, “темным корнем бытия”. Однако Хаос оказывается онтологически положительным даже в своей деструктивности, так как, разрушая складывающиеся формы бытия, он тем самым способствует возникновению более сложных и универсальных систем. Так в синергетике деструктивная функция Хаоса рассматривается в качестве весьма конструктивного начала, ведущего к диссипации. Для того, чтобы нелинейная среда начала сама себя выстраивать, организовывать, необходим хаос (случайности) для инициирования, начального спускового механизма этого процесса. Своеобразным средством инновирования упорядоченного процесса выступает "детерминированный хаос", являющийся необходимым условием для вывода системы на аттрактор, на собственную устойчивую тенденцию ее развития.
Хаос порождает не только природу, но и богов. Хаос творит не только объективную Природу, но и ее субъективный модус Бога-Пана. Боги являются всего лишь духами-персонификациями стихийных сил природы. Бог в пантеизме ни что иное, как внутренний дух стихии, определенная ее субъективация. Пантеон Богов необходим, чтобы способствовать первичному Хаосу упорядочивать свои элементы в мировую Гармонию. Бог-Пан - это одухотворенная природа, порождающая все компоненты Сущего и связывающая их в целостную систему Жизни.
Политеизм и пантеизм - это две стороны единого мифологического сознания. Поздний политеизм ведет не только к метафизической реконструкции пантеизма - наделению природы статусом Абсолюта, но и к атеистической его редукции, к которой генетически восходит современный сциентистский натурализм. Реликты пантеистического сознания можно обнаружить в наисовременнейших естественно-научных картинах мира.
Хаос в поздней мифологии есть инобытие не только Богов, но и всех субъективных форм, в том числе и человеческой субъективности. Так у орфиков Хаос и Эфир в качестве мифологических существ совместно порождают из себя некоего Андрогина, муже-женское начало, являвшееся началом всех вещей. Андрогин - субъект, упорядочивающий элементы хаоса, придающий им экзистенциальную форму. Позднее стоики предельно субъективируют это положение орфиков, утверждая что всякие потребности заслуживают презрения, если они входят в противоречие с призванием человека гармонизировать хаос. Мудрец может оказаться запутанным против своей воли в хаосе жизненных отношений, однако если он не может разумно упорядочить этот хаос, то должен покончить с собой, т.к. этот решительный шаг вырвет его из неразумного хаоса жизни и приобщит к идеальной разумности мирового целого. По преданию, Зенон и Клеанф кончили жизнь самоубийством именно по этим мотивам, есть свидетельства, что такой конец избирали для себя и многие другие стоики древности.
Субъектный подход во взглядах на Хаос характерен и для многих более поздних мистиков и религиозных философов. Так, согласно П.Флоренскому, космос есть арена борьбы двух принципов - энтропии, всеобщего уравнивания (хаос) и эктропии (логос), особые организующие силы логоса он видел в культуре. Н.Бердяев считал, что лишь в творческом акте происходит самосозидание человека, причем активной его стороной выступает борьба с деструктивными силами хаоса, которые, интериоризуясь в личности человека, присутствуют в его ментальности в качестве ложных Я. “В человеке , - писал он, - хаос шевелится, он связан с хаосом, скрытым за космосом. Из хаоса этого рождаются призрачные, ложные "я". Каждая страсть, которой одержим человек, может создавать "я", которое не есть настоящее "я", которое есть Es. В борьбе за личность, за подлинное, за глубинное "я" происходит процесс распадения - это есть вечно подстерегающая опасность - и процесс синтеза, интеграции. Человек более нуждается в психосинтезе, чем психоанализе, который сам по себе может привести к разложению и распаду личности”.[59]
Любопытно, что если в раннем мифотворчестве Хаос порождал не только универсум объектов, но и их субъективации, т.е. в нем, помимо объектного, содержался и субъектный подход к реалиям Сущего, то современная сциентистская мифологема оказывается абсолютно внесубъектной, объектологичной. Так, в синергетической модели динамических процессов в системе хотя и воспроизводятся основополагающие трансценденталии пантеизма, однако при этом на объект переносится вся совокупность “непредикативных свойств” субъектов-божеств, по сути здесь мы имеем дело с объектной реификацией Сущего, редукцией того, что конституировалось пантеизмом в качестве его духа, к неким имманентным объективным законам само-движения, само-развития. Самость редуцируется к объективным законам, к которым относятся как к “священным коровам”. Предельная форма сциентизма есть в то же время и предельная десакрализация пантеизма, вытеснение в нем всего субъектного и наделение его свойствами “объективной реальности”, которая оказывается всего лишь упорядоченным хаосом. Синергетика осуществила полный перенос сакрального статуса Бесконечного Субъекта на Конечный Объект. По своей мировоззренческой сути синергетика - всего лишь новоявленный пантеизм, но уже без его Пана. Судьба любой мифологемы, завернутой в сциентистскую обёртку, всегда бывает печальной. К мифам прибегают в особо кризисные для науки периоды, нанося непоправимый ущерб архетипическим структурам культуры.
В качестве трансценденталии мифологического сознания Хаос является весьма продуктивной мировоззренческой интенцией, которая, несомненно, своей определенной интерпретацией должна войти в корпус основоположений современной субъектоцентристской философемы. Однако Хаос в ней отнюдь не может рассматриваться в качестве “задающей” универсалии. Философский субъектоцентристский монизм восходит не к пантеизму и даже не к политеизму, а к монотеизму. А потому центральной универсалией субъектоцентристского мировоззрения должен стать Абсолют, Бог как Бесконечный Субъект. Почти все катафатически сформулированные атрибуты, приписанные поздней мифологией хаосу принадлежат отнюдь не ему, а Абсолюту. В отличие от пантеизма, монотеизм исходит из того, что Первосущим является Бог, и Ему не может что либо предшествовать, а тем более его порождать. Хаос не может рассматриваться инобытием Абсолюта, а Абсолют - инобытием Хаоса. Они собой не составляют дихотомию некой Квази-Хао-Абсолютной Реальности. Бог “одновременно” является и самопорождающимся и порождающим Мир Первоначалом. Именно эта интенция является наиболее продуктивной для метафизики, пытающейся моделировать мир с монистических оснований. Монистическая философема восходит не к пантеистическим, а к монотеистическим интенциям о Первосущем.
Хаос не есть Сущее, тем более Первосущее, он находится за пределами онтологии Абсолюта, выступая “верхней” и “нижней” безднами Его Бытия. Но и сами эти “бездны” возникают ни иначе, как эпифеномены абсолютной Реальности или реальности Абсолюта, эпифеномен не может предшествовать феномену, тем более ноумену. Абсолют не только Вечен, но и Предвечен, так как в нем содержатся все начала и концы проявленных форм Бытия. Против утверждения пантеизма об онтологической первичности Хаоса и вторичности Бога решительно выступает не только монотеизм, но и неоплатонистская традиция в метафизике. “Недоуменные вопросы, - писал Плотин, - относительно верховного существа возникают у нас, как правило, из-за того, что мы представляем, как первое и всему предшествующее, место, похожее на хаос, и потому уже вводим туда первое начало, воображаемое нами или действительно существующее. Введя его сюда, мы тут же начинаем спрашивать, откуда оно пришло и как оно тут оказалось; осмысливая его как пришельца, вынырнувшего из бездны или ниспавшего свыше, мы любопытствуем узнать, для чего оно сюда явилось, что оно есть, какое оно. Чтобы раз и навсегда устранить подобные вопросы, мы должны изъять из понятия верховного начала всякий намек на пространство, не помещать его ни во что другое, не представлять его ни извечно покоящимся и утверждающимся на самом себе, ни откуда бы то ни было появляющимся; довольно для нас знать лишь то, что оно существует”.[60]
Итак метаисторически вторичен не Абсолют, а хаос, являющийся некой трансфеноменальной производной от процесса развертывания всех свернутостей, изначально и неявно содержащихся в Великой Пустоте, Ничто. Хаос может рассматриваться лишь в качестве последствий некой вселенской деструкции, которая с самого первого акта творения сопровождает процесс перманентного перехода Ничто в Нечто. А потому взятый сам по себе вне животворящего Духа, хаос не может рассматриваться в качестве креативного, порождающего Мир начала. Более того, в субъектоцентризме он конституируется как негативный процесс гиперобъективации Духа, которому и обязаны своим существованием ложные ментальные, онтологические и семантические структуры эмпирически существующего человека. Хаос - злой гений Сущего, он и есть тот самый псевдо-Субъект, который придает истории человечества драматический характер.
То, что в центр мироздания необходимо поставить не “животворный” Хаос, а трансцендентный Абсолют, порождающий Сущее, особо остро чувствовал И.Кант в своих стремлениях построить мифологему на сугубо рациональных основаниях, на признании за человеческим разумом абсолютного онтологического статуса. Разрушив все имевшиеся до него доказательства бытия Бога, в конце концов он вынужден был сконструировать свое собственное “логическое свидетельство”. После долгих размышлений И.Кант приходит к выводу, что ни Хаос, ни Природа не являются онтологически самодостаточными универсалиями, из которых можно выстроить целостную метафизическую схематику Бытия, необходим Бог в качестве “трансцендентального преобразователя” Не-Сущего в Сущее, косного Хаоса в живую Гармонию. Именно то обстоятельство, что Природа не в состоянии самооформляться в онтологическую целостность из распыленных элементов и есть основное свидетельство, подтверждающее извечное существование Бога как творящего начала. И.Кант делает вывод: причиной мира должен быть только Бог. “Если слепая механика сил природы, - пишет он, - способна развиваться из хаоса до такого великолепия и сама собой достигает такого совершенства, то доказательства бытия бога, основанное на созерцании красоты мироздания, теряет всякую силу, природа оказывается самодовлеющей, божественное управление ненужным... причиной должен быть бог уже по одному тому, что природа даже в состоянии хаоса может действовать только правильно и слаженно”. [61] Ни Хаос, ни Природа не могут быть самодовлеющими онтологиями уже потому, что не в состоянии вместить в себя всю целостность бытия, тем более тот самый пресловутый “субъективный остаток”, который в рамках объектного подхода оказывается “онтологически избыточным”. В монистическом субъектоцентризме Дух, Субъект выступает абсолютной праформой бытия Сущего, объективация которого в конечном счете приводит к Природе, а квазиобъективация - к Хаосу. “Бог абсолютно самодовлеющ, - пишет И.Кант. - Все, что есть, будь то возможное или действительное, есть нечто, лишь поскольку оно дано через него. На человеческом языке бесконечное могло бы сказать себе так: я существую от вечности к вечности, помимо меня нет ничего, и все, что есть, только через меня есть нечто”.[62] Именно этот довод в пользу бытия Бога, по мнению И.Канта, оказывается неотразимым для любых ухищрений логической силлогистики (“хитрый разум”). По И.Канту Абсолют как первоначало выступает не только мощнейшей трансцендентальной интуицией, но и вполне прагматическим допущением в открытой логической системе, вне которого разрушается любая, принятая чистым разумом, сциентистская аксиоматика.
Однако почему же в дошедших до нас мифологических теогониях в центре мира оказывается не Абсолют - абсолютно положительное и порождающее начало, а Хаос - весьма неоднозначный для мира по своим онтологическим функциям? Шеллинг объясняет этот фантом мифологического сознания тем, что до нас дошел отнюдь не первомиф, который восходил к изначальному монотеизму первочеловека, а более поздние его пантеистические интерпретации, отражавшие сдвиг вероучений отпадавшего от Абсолюта человечества в сторону политеизма, многобожия. Первичный монотеизм был вытеснен поздним мифологическим сознанием, создавшим целый пантеон богов, каждый из которых выступал персонифицированным образом далеко не целостной и универсальной Сверхжизни, а всего лишь отдельных стихий («стихиалий» – Д.Андреев) Природы. В рамках натурфилософской рефлексии выделить из сонма божеств одного из них в качестве Абсолюта представлялось невозможным. Но их необходимо было вывести из некоего единого для всех них начала, вот почему в центре вселенной оказался не Бог, а Хаос. Это позволило завершающей свою историю мифологии представить Мир в качестве определенной самоизменяющейся, саморегулирующейся онтологической целостности, все начала и концы которой погружены в свое иное - в инобытие, под которым и подразумевался Хаос. “Хаос - писал Шеллинг, - позднейшие объясняют его как пустоту или даже как грубую смесь материальных стихий - это чисто умозрительное понятие, но не порождение философии, которая следует за мифологией, стремится постичь ее и потому выходит за ее пределы. Лишь пришедшая к концу и обозревающая с этого конца свои начала мифология, стремящаяся объять и постичь себя с конца, только она могла поставить хаос в начало”.[63] Такой мировоззренческий хаоцентризм просуществовал вплоть до возрождения монотеистических религий на новой основе, на основе интуиций=интенций Откровения Бога. Интуиция монотеистического сознания о Боге как первоначале Мира потребовала существенного пересмотра основных трансценденталий, оформленных поздним мифотворчеством, и прежде всего тех из них, которые касались соотношения Хаоса и Бытия.
Мы не будем вдаваться в историю становления монотеистических трансценденталий при построении метафизически изоморфных им универсалий субъектоцентристской философемы, так как это уведет нас в сторону от решения собственно философских обоснований первоначал Сущего, которые лежат по эту сторону проявленного Бытия и выступают прерогативой философской рефлексии. Однако мы будем, в той мере, в какой это окажется крайне необходимым, обращаться и к мистико-религиозному опыту человечества, в котором посредством трансценденталий дан целостный образ проявленного бытия с позиции “не от мира сего”.
Вернемся к континууму онтологических отношений Бытия (схема 3), который анализировался нами ранее[64], чтобы в уже имеющийся ряд универсалий дополнительно интегрировать новые, которые в состоянии достроить трансцендентную динамику филогенеза Человека до общей динамики метаистории и тем самым представить их в качестве единой предметности историософии, развивающейся в рамках субъектоцентристской философской антропологии.
Хаос как Хаос как
предонтология О Н Т О Л О Г И Я постонтология
Абсолюта А Б С О Л Ю Т А Абсолюта
(Иное) ( Ничто - Нечто = Неиное ) (Иное)
.......O S S - S S - O O - O O.......
Космический Человеческий Социальный Природный
универсум универсум универсум универсум
Схема 3. Континуум экзистенциальных отношений
Бытия и противо-Бытия
Если причиной всему является Бог, то мир не может самопроизвольно возникнуть из Хаоса - таково одно из важнейших положений монотеизма. Бог не только Един, но и является единственной формой абсолютного Бытия. А если это так, то в христианской картине мира Хаос уже не мог выступать самодостаточным креативным началом, по большому счету он не мог быть принят не только в качестве Инобытия, но и Небытия Сущего, он мог конституироваться монотеизмом лишь как его Противобытие, онтологический статус которого требовал своей тщательной мистической проработке. Если в пантеизме Ничто выступает неким модусом Хаоса, его транс-трансцендентальным атрибутом, вместилищем раздробленных форм бытия, своей упорядочивающей деятельностью порождающей и богов и природу, то в монотеизме, напротив, именно Ничто является вместилищем идеальных праформ бытия, порождаемых Абсолютом в актах перманентной креации (христианство) или эманации (неоплатонизм). Апостол Иоанн проповедовал, что Бог сотворил Мир из Ничто, а Мейстер Экхардт считал, что Бог и есть Ничто. Такой же точки зрения придерживался т Эриугена. “Бог, - писал он, - не знает о себе, что он есть, ибо он не есть никакое “что”.[65] Николай Кузанский катафатически “определил” Бога как “свернутость всех свернутостей и развернутость всех развернутостей”. Ничто - это не просто отсутствие Бытия, его нетость, а его Инобытие, т.е. его непроявленное, неовремененное, необмирщвленное, неовнешненное Существование. Бог творит Мир не из элементов Хаоса, он создает его из Ничто (Пустоты), в котором Мир в качестве гармонического экзистенциального ряда изначально свернут. Абсолютная Пустота, Ничто есть континуум свернутых экзистенциальных форм и их неявных, непроявленных во-вне онтологических, ментальных и семантических инфраструктур. Пустота - это неявное и синкретичное присутствие экзистенциальных праформ (эйдосов) в Вечности и Бесконечности Абсолюта.
Инобытием Абсолюта в качестве Ничто (Пустоты) - “свернутости всех свернутостей”, оказывается его собственная “развернутость всех развернутостей” - Нечто=Полнота Бытия, стремящаяся воплотиться в Абсолютную Экзистенциальную Полноту. «Откуда берется это «нечто», к какому роду бытия оно принадлежит, к какой категориальной форме оно присутствует в душе творца. – задавался вопросом С.Л.Франк и сам же отвечал на этот сакраментальный вопрос, - Это «нечто», не будучи уже готовым, оформленным бытием, очевидно, не принадлежит к составу объективному действительности. Оно отмечено чертами, присущими реальности в ее отличии от объективной действительности – и притом реальности с той ее стороны, с которой… она есть сущая потенциальность – бытие в форме назревания, самотворчества»[66]. По С.Л.Франку Нечто принадлежит не действительности, а тому трансцендентному Началу, которому действительность обязана своим генезисом и становлением. Согласно Хайдеггеру Нечто есть некий «просвет бытия» внутри инверсирующего Ничто. Нечто можно рассматривать как то, что обусловливает взаимопереходы одной трансцендентной формы Ничто в другую. «Как соответствуют друг другу противоречивые требования постоянства и новизны между ничто, которого уже хватит, и ничто, которого пока нет?»[67] – задается вопросом Р.Арон. Этот вопрос может быть правильно поставлен и определенным образом разрешен, если допустить, что теогония как внутренний динамический процесс Духа осуществляется от Ничто к Нечто, а от него вновь к Ничто.
Ничто и Нечто трансцендентно самотождественны, т.е. выступают двумя сторонами имманентной самотождественности Абсолюта. Не только Мир как становящееся Нечто есть экзистенциальное инобытие Ничто, но и Ничто вполне корректно конституировать в качестве инобытия Нечто, все зависит от того, какую позицию при этом занимает “наблюдатель”. Однако с какой бы позиции ни велось это наблюдение, мы имеем дело с одним и тем же абсолютным Бытием, или бытием Абсолюта, в двух его экзистенциальных формах: трансцендентном и феноменальном, являющиеся абсолютно гомоморфными, причем Ничто есть потенциальное абсолютное Бытие Единого (“все в едином”), то Нечто - актуальное абсолютное Бытие Множественного (“все во всем”), но и Единое и Множественное в трансцендентальном плане - суть Абсолют.
«Одновременно» Абсолют как Единое или Ничто пребывает в “покое”, а как Множественное или Нечто в “движении”. Трансцендентное единство покоя и движения создают собой динамическую основу метаистории. Неявная трансцендентная (Ничто) и явная (Нечто) формы существования Абсолюта, в качестве исходных трансценденталий являются вполне достаточными для того, чтобы «понять» динамику покоящегося первоначала, механизмами которой выступают креационистско-эманационные развертывания и свертывания феноменальных структур Сущего. «Эта первооснова (или первооснование), - писал С.Л.Франк, - есть средоточие, в котором все сходится, конвергирует и из которого все исходит; по отношению к ней все остальное есть лишь периферия, нечто само по себе безосновное, беспочвенное, несостоятельное, что должно было бы сокрушиться, рухнуть, если бы оно именно не стояло в связи с первоосновой, не заимствовало из нее свое бытие, свою прочность и значимость, - если бы первооснова не творила, не сохраняла и не обосновывало его… первооснова есть всеединство и всеединое»[68]. Мир является изначально свернутым в сингулярное пространство Духа - в Ничто, в Великую Пустоту, но затем посредством перманентной креации и эманации Абсолюта оказывается развернутым по ступенькам метаистории во вне - в Нечто, в Великую Полноту.
Развернутая во вне мировая Гармония, или гармония Мира, в качестве экзистенциальной иерархии инобытийствует не в Хаосе, а в Ничто. Пифагор говорил о музыкально-числовой гармонии космоса, а не хаоса, то есть о гармонии уже нечто ставшего. Развивая идею Пифагора, Лейбниц вводит “принцип предустановленной гармонии” мира, заданной Богом. Множество независимых друг от друга субстанций, взаимодействующих в этом мире, образуют нечто гармоничное, требующее принятия допущения об их принадлежности к высшей несубстантивной сверхцелостности. Абсолют творит Сущее из своих собственных пустотных и бесконечных глубин, а Хаос является всего лишь Его верхней и нижней безднами, между которыми Ничто развертывается в Нечто. Хаос всегда оказывается лежащим за экзистенциальными “беспредельными пределами” Абсолюта, не являясь частью Предсущего, он все же противобытийствует в Сущем.
Перманентный акт творения мира можно осмыслить как процесс вытягивания Бесконечным Субъектом мировой гармонии за нижние пределы становящегося Бытия, “одновременно” посредством трансценденции во-внутрь и трансценденции во-вне, являющихся метаисторической дихотомией Самотрансценденции. Становящийся Бог - это Абсолют, перманентно само-трансцендирующий собственную же имманентность. В своем само-становлении в качестве Предсущего, Абсолют оказывается и первопричиной метаисторического становления Сущего. “Абсолютное, - писал С.Н.Булгаков, - в сотворении мира или, лучше сказать, самым актом этого сотворения порождает и Бога. Бог рождается с миром и в мире, incipit religio. Отсюда начинается возможность определений Бога как имманентно-трансцендентного, выступившего из своей трансцендентности и абсолютности своей в имманентность и некий дуализм. Здесь начинается возможность богопознания и богообщения; открывается область "положительного богословия"; появляется необходимость догмата и мифа; наконец, возникает, как религиозно-философская проблема, критическое установление понятия Бога”.[69]
Если не из Хаоса, а из Абсолюта развертывается и вновь в Него же свертывается предустановленная Им гармония Сущего, то тогда Хаос должен рассматриваться несколько в иной трансцендентально-экзистенциальной плоскости, нежели онтология Абсолюта и ни иначе, как некий “побочный продукт” перманентного процесса креации и эманации Абсолюта, как “негативный опыт”, связанный с трансцендированием во-вне экзистенции, т.е. с трансценденцией феноменального в экзистенциальной множественности, с изменениями уже ставшего в перманентно становящемся мире.
Христианская идея творения Мира не из неких распыленных элементов, якобы Предвечно предсуществующих в Хаосе, как утверждал пантеизм, а из Ничто, в котором элементы мира предсуществуют в свернутом виде далеко не случайная, она “логически” вытекает из признания Абсолюта “одновременно” и Единственным и Множественным. Если Абсолют одновременно есть “все в едином” и “все во всем”, и ему не не может предшествовать Нечто, хотя бы в качестве бесформенного Хаоса, то монотеистическому сознанию остается лишь одно - конституировать Ничто в качестве непроявленного, неявного универсума абсолютных праформ (по Гете “прафеноменов”) всех еще непорожденных Абсолютом форм Бытия. Но ведь Ничто в пантеистически ориентированной мифологии выступает пространственной формой, понимаемой как пустотное вместилище раздробленных форм Бытия. Можно лишь предположить, что при возрождении монотеизма на основе Откровения абсолютная Пустотность как атрибут Первоначала, приписанный поздней мифологией Хаосу, вновь переносится на Абсолют, и с возникновением мировых религий Пустота, Ничто, начинает входить в катафатическое Его определение. В религиозном сознании произошла, может быть, самая важная реинверсия исходной трансценденталии, которая существовала до начала мифологической эпохи человечества, когда Человек познавал Бога в непосредственном с ним глубинном общении, а не на основании Его Откровения. Принципиальная разница между плюральной мифологемой и монистической теологемой заключается в том, что уже не Хаос, а Сам Пустотный, Вечный и Бесконечный Абсолют оказывается вместилищем всей тотальности еще неразвернутых форм Бытия. “Все вещи, - писал Плотин, - существовали в Боге (до появления в чувственной форме) от вечности и всегда, хотя, конечно, позднее (после появления их в телесной форме) можно уже говорить о них, что одна следует после другой, потому что когда они оттуда истекают и тут как бы распространяются, одна из них показывается после другой, а пока они находятся вместе, они составляют один целостный универсум, то есть такое бытие, которое в самом себе содержит свою причину”.[70] Ничто - первичная и неявная форма экзистирования Вечного и Бесконечного Абсолюта, не обладающая какими-либо атрибутами. Абсолют пустотен, бесконечен и вечен, чем принципиально отличается от своих релятивных порождений, которые всегда характеризуются определенной экзистенциальной полнотой, конечностью своих форм и временностью своего существования. Прафеномены в абсолютной Пустотности, или пустотном Абсолюте, предсуществуют вечно, однако в акте порождения утрачивают свою трансцендентность и, будучи развернутыми во вне в качестве феноменов внешнего мира, оказываются компонентами становящейся Полноты, или Нечто.
Использование Ничто в качестве философской универсалии затрудняется тем, что христианской мистикой оно в качестве сакральной трансценденталии трактуется весьма неоднозначно, особенно связь Ничто с Абсолютом. По крайней мере в христианской мистике можно обнаружить две диаметрально противоположных интерпретации соотношения Бога и Ничто. Первая версия исходит из трансцендентной тождественности Абсолюта и Ничто. При этом возникает известный экзистенциальный парадокс, требующей построения теодицеи, его снимающей. Если Сущее есть Ничто, развернувшееся в Нечто, то почему же “мир во зле лежит”? Ведь в Ничто, как и в Нечто, не должно содержаться ложных, отрицательных, деструктивных форм Бытия. Для того, чтобы выявить первопричину вселенского зла, которое принципиально не может содержаться в Абсолюте как в Неином, поздняя христианская мистика пытается интерпретировать Ничто как “безосновную основу Бытия” таким образом, чтобы обнаружить именно в ней генезис дихотомии Добра и Зла, составляющей аксиологическое содержание Сущего.
Согласно противоположной мистической интерпретации первооснов Бытия, Бог и Ничто составляют собой некий трансцендентальный параллелизм в Предсущем, причем Ничто есть некая нейтральная протосубстанция, которая обладает способностью со временем раздваиваться как на положительное, так и на отрицательное Бытие. Ничто не есть Бог, а лишь некое Небытие, из которого Бог творит явные формы Бытия. Мир потому “во зле лежит”, что Бог вынужден его творить из далеко не абсолютного и весьма противоречивого в экзистенциальном плане Ничто.
Если Экхарт в своих мистических построениях исходит из отождествления Бога и Ничто, что позволяло представить множественный Мир в качестве всеобъемлющего Бытия (“все во всем”), изначально содержавшегося в Едином (“все в едином”), то согласно противоположной интерпретации (Беме), Бог и Ничто конституируются в качестве совершенно разных духовных “субстанций”. Ничто не есть Бог, а лишь некое Небытие из которого Бог творит явные формы Бытия. Хотя Бог и сотворил Человека и его Мир из Ничто, но Он не составляет с Ничто трансцендентального тождества. Человек ничтожен именно потому, что создан из Ничто, которое по ходу истории оборачиватся Ничтожеством. При таком подходе уже совершенно не требуется разветвленных и сильных теодицей, можно обойтись самой слабой ее версией, согласно которой за все свое ничтожество ответственна лишь тварь, а не творящее Начало, хотя какая же за ней может быть вина, если она создана из потенциального Ничтожества? Такое противопоставление Абсолюта и Ничто в тех или иных его формах можно обнаружить у Бёме, С.Кьеркегора, Льва Шестова, Вл.Соловьева, о.Булгакова, и др. Однако при таком подходе к анализу первооснов Сущего с неизбежностью, хотя и неявно, воспроизводятся основоположения деизма и пантеизма. Если в самом начале человеческой метаистории параллельно существуют и Абсолют и Ничто, которое к тому же имеет тенденцию из нейтрального пра-бытия инверсировать не только в бытие положительное, но и отрицательное, остается лишь признать, что в основании Мира изначально лежат два начала.
Для того, чтобы хоть как-то разрешить эту трасцендентальную антиномию, Вл.Соловьев вводит в оборот понятие “положительное Ничто”, из которого Бог и творит все позитивное в Мире. Но этим он осуществляет неправомочную аксиологизацию трансценденталии, наделяет важнейший символ веры ценностным значением и тем самым существенно понижает уровень его сакрального статуса. Абсолютное первоначало Вл.Соловьев определяет как нечто обладающее положительной силой бытия, свободное от всякого бытия и в то же время заключающее в себе известным образом всякое бытие в его положительной силе или производящем начале. При этом свобода от всякого бытия, по его мнению, есть ни что иное как положительное ничто, предполагающее обладание всяким бытием.[71] “Абсолютное, - пишет Вл.Соловьев, - есть ничто и все: ничто - поскольку оно есть что-нибудь. Это сводится к одному и тому же, ибо все, не будучи чем-нибудь, есть ничто, и, с другой стороны, ничто, которое есть (положительное ничто), может быть только всем”.[72] Однако, если исходить из признания существования положительного ничто, то необходимо быть последовательным и признать наличие его трансцендентного антипода - отрицательного ничто, находящегося в зависимости от противобытия, или хаоса. Но тогда “отрицательное Ничто” должно конституироваться религиозным сознанием ни иначе как еще одно порождающее Начало, из которого исторгаются ложные, отрицательные, деструктивные формы Бытия. Но такое именно аксиологическое раздвоение Ничто на положительное и отрицательное, вмещающее в себя и потенцированное бытие и потенцированный хаос, с известными вариациями воспроизводит преодоленную монотеизмом пантеистическую мифологему Хаоса как Предсущего.
Если принять тезис Вл.Соловьева о двух формах Ничто, то с неизбежностью возникает не только формальное, но и принципиальное противоречие между двумя катафатическими определениями Абсолюта. Если изначально все потенциально не содержится в Едином, то каким же образом, Единое может присутствовать во всем, т.е. во Множественном? И еще: если Бог предшествует и Бытию и Инобытию Сущего, то откуда же на момент творения Мира берется это изначальное Ничто, содержащее в себе, как утверждают приверженцы такой трактовки, не только положительные, но и отрицательные праформы Бытия. Не является ли такого рода интерпретация важнейшего положения Откровения всего лишь реликтом пантеистического сознания, а следовательно, и неосознанного отождествления Ничто с пустотным Хаосом, или хаотичной Пустотой, которую Бог-Пан призван всего лишь упорядочивать? Не умаляется ли при этом значимость Бога в качестве Субъекта, творящего Мир? При таком раздвоении Ничто, Бог и дьявол становятся двумя изначальными центрами Мироздания. Но такую аберрацию не позволял себе даже деизм, скорее всего здесь мы имеем дело с реликтом пантеистического сознания, в котором первооснову Мира составляет Хаос, одухотворенной упорядоченностью которой и оказывается Божество.
Однако эта интерпретация является весьма эффективной для построения идеальной, внутренне непротиворечивой теодицеи, так как согласно этой версии миросозидания, тварный и множественный мир “во зле лежит” потому, что Бог вынужден его творить из далеко не абсолютного и весьма противоречивого в экзистенциальном плане Ничто. Именно такое разведение Абсолюта и Ничто дает возможность выявить “причину” того, почему на определенном этапе своего существования тварные существа отпадают от Бога - их Творца. Они отпадают от Него в связи с их инаковостью Ему, связанной с их принадлежностью к Ничто. Так как Богом они создаются не из Его собственных апофатических глубин, а из Ничто, то все тварное со временем и вырождается в Ничтожество. В некоторых мистических и религиозно-философских построениях Ничто и Ничтожество оказываются экзистенциально неразличимыми трансценденталиями. Ничто, развернутому в Нечто, приписывается, в основном, деструктивная функция в тео-антропогонии. “Между Богом и тварью, Абсолютным и относительным, - пишет С.Н.Булгаков, - легло ничто. Ничтожество - вот основа твари, край бытия, предел, за которым лежит глухое, бездонное небытие, "кромешная тьма", чуждая всякого света. Это чувство погруженности в ничто, сознание онтологического своего ничтожества, жутко и мучительно, - бездонная пропасть внушает”.[73] Человек ничтожен потому, что создан из Ничто - таков главный антропологический вывод, напрашивающийся из такого рода версии тео- и космогенеза Сущего, внутреннее противоречие которого своим генезисом восходит к весьма противоречивым Первоначалам, в которых Бог-Демиург не волен в выборе исходного материала для строющегося им Миро-Здания.
Упорядоченный универсум отрицательных форм бытия и есть Ничтожество, однако своим генезисом оно восходит не к Ничто, а представляет собой объективацию сил хаоса, нарастающих в процессе перманентного отпадения твари от Творца, а потому Ничтожество не предшествует Миру, а возникает вместе с его расширением, т.е. сопутствует миротворению в качестве “издержек творчества” и как следствие деструкции со стороны сверхупорядоченных структур Сущего.
Если встать на сторону тех, кто проводит существенное различие между Богом и Ничто, то все “издержки миротворения” можно списать на это положительно-отрицательное Ничто, которое, по мере развертывания из него Множественного Мира, все более явно оборачивается Ничтожеством. При этом, естественно, умаляется Бог и возвышается Хаос, и верующий человек со своими вопрошениями (“глас вопиющего в Пустыне”) вновь оказывается в одной из экзистенциальных ловушек, расставляемых пантеистическим сознанием, и ему ничего не остается, как “кануть в Лету”, навсегда распростившись со всеми своими надеждами на вечную жизнь в Духе.
Согласно интуиции, отождествляющей Абсолют и Ничто, Бог как Ничто не может превратиться в свою противоположность - в Ничтожество. При первом осмыслении этой интерпретации напрашивается крамольный вывод, что если мир есть творение Божие, то единственным виновником такого его столь плачевного состояния может быть лишь он Сам. Если первая интерпретация не нуждается в построении развернутой теодицеи, так как причину вселенской деструкции можно объяснить аксилогической неоднозначностью Ничто, то при второй версии теодицея - оправдание Бога - оказывается одной из центральных и трудно решаемых проблем катафатической теологии.
Необходимо исходить из того, что Ничто не может быть ни отрицательным, ни положительным, так как эти атрибуты являются не трансцендентальными, символическими, а аксиологическими, ценностными, применяемыми в феноменологической антропологии для различения Добра и Зла. Ничто есть состояние свободного Духа, в котором может содержаться лишь трансцендентная форма Добра или абсолютного Добра, которое лишь в процессе объективации в феноменальное Добро, в пределах человеческого универсума, обретает свою противоположность - столь же феноменальное Зло.
Ничто как абсолютная и непроявленная онтология бытия не может в себе содержать ни положительных, ни отрицательных тенденций по отношению к единому становящемуся Абсолюту, этими модусами обладает лишь противоречивая онтология реально существующего Мира. А потому Ничто никакого отношения не может иметь к Ничтожеству, которое появляется лишь с возникновением сил Зла, изначально не содержавшихся как и сил Добра, в свободе Духа или духовной Свободе. Но тогда Ничто никакого отношения не может иметь и к Хаосу, так как Хаос генетически не предшествует Ничто, а следует за Ним. В этой связи в катафатической теологии с неизбежностью возникает проблема разведения Ничто и Ничтожества в качестве трансценденталий, фиксирующих собой диаметрально противоположные экзистенциальные феномены Сущего.
Чтобы развести Ничто и Ничтожество, необходимо предварительно осуществить синтез сакрально тождественных трансценденталий Ничто и Нечто в некую объединяющую их сверхтрансценденталию. Предвечно оставаясь в качестве Ничто - Идеальным Проектом Сущего, Он в то же “время” тотально пребывает в Своих собственных метаисторических Воплощениях. Если Абсолют как Трансценденция, или Ничто и Становящийся Абсолют как Экзистенция, или Нечто, сохраняют свою тождественность в пределах Сущего, то соответствующее катафатическое определение Единого, должно «синтезировать» эти два Его состояния: до-мирское и об-мирщвленное.
С этой сверхсложной задачей христианской мистики блестяще справляется Николай Кузанский. Он «определил» Абсолют и как покоящееся начало и как становящуюся экзистенциальную целостность посредством транс-универсалии – Неиное. Самая «яркая», но одновременно и самая «темная» из работ Николая Кузанского “О неином”[74], посвящена проблеме проблеме трансцендентального синтеза потенциального и актуализированного Бытия в абсолютную онтологическую целостность. В своем собственном “ученом незнании” Николай Кузанский мучительно ищет ответ на вопрос о трансцендентных пределах бытия Абсолюта или абсолютного Бытия. “До ничто, которое есть не что иное как ничто, - пишет он, - есть неиное, от которого ничто дальше, чем от актуального и потенциального бытия. Ничто представляется уму совершенно неупорядоченным хаосом, который, однако, может быть охвачен в целях определения силою бесконечной мощи, то есть неиным”. Неиное и есть Абсолют, “одновременно” присутствующий и в Ничто и в Нечто, т.е. и в своей идеальной праформе и в воплощенной форме целостной и универсальной Экзистенции. Метаистория при этом конституируется в качестве перманентного процесса трансформации Ничто в Нечто и охватывает собой все стадии становления Абсолюта как Неиного. Абсолют в своей потенциальности в качестве трансцендентного Ничто, и Он же в своем становлении в качестве саморазвертывающегося трансцендентно-феноменального Нечто не содержит в Себе ничего Иного, что изначально не пребывало бы в Ничто, а потому в качестве самотрансцендентной Тождественности или самотождественной Трансцендентности Абсолют и есть Неиное не только в Предсущем, но и в Сущем. Развертывая трансэкзистенциальные потенции Ничто в экзистенциальные формы Нечто и вновь их свертывая в свою собственную изначальную Пустотность и Бесконечность, на всех этапах метаистории Абсолют остается абсолютно самотождественным, т.е. Неиным.
Абсолют обретает катафатическую форму Неиного с переходом из Ничто в Нечто, с началом творения Сущего. В экзистенциальных структурах Нечто не содержится ничего такого, что извечно не инобытийствовало бы в Ничто. Само же Сущее есть трансцендентно-экзистенциальный синтез Ничто и Нечто и не может в себе содержать ничего того, чтобы не содержалось в его основе, т.е. в не-сущем. Не-Сущее и Сущее – это всего лишь две формы существования Абсолюта и соотносятся между собой как неявная «трансцендентная экзистенция» и явленная «экзистенциальная трансценденция».
К сожалению до сих пор мало кто обратил внимания на то, что мистическая интуиция Николая Кузанского, воплощенная в учении об Абсолюте как Неином позволила блестяще разрешить спор, который имеет многовековую историю о месте Ничто и Нечто в теогоническом процессе, Субъектом которого является Абсолют как Неиное. Более того учение Николая Кузанского об Абсолюте как Неином так и оказалось невостребованным не только современной теологией, но и философией. Трансценденталии Ничто, Нечто, Неиное, будучи трансформированными в философские универсалии, позволяют создать в метафизике особый универсальный Образ или образ Универсума, позволяющий представить Мир изначально укорененным в Человека, а Человека - в Мир. Утрачивая при этом возможность трансцендировать имманентное, философия обретает способность феноменологизировать трансцендентальное. Философема как феноменально преобразованная мифологема обретает устойчивые основания для перманентной рефлексии по поводу актуального состояния этого далеко неустойчивого Мира.
Идея Николая Кузанского в более поздних мистических построениях воплотилась в формировании трансценденталии “Бого-человек”, в которой и Бог и Человек представлены как единая ноуменально-феноменальная экзистенциальная целостность. В качестве Ничто Бог содержит в Себе Человека как Свой Образ и Подобие. В Ничто Человек предсуществует лишь потенциально, в качестве Идеального Проекта, которому предстоит метаисторически воплотиться в Антропоса-Феномена, обладающего своей особой Сутью. Бог осуществляет реализацию Идеального Проекта Человека в акте своей креации, и человеческая экзистенция начинает существовать уже одновременно в двух онтологических планах, актуально - в качестве Нечто и продолжает присутствовать в Ничто в качестве Образа и Подобия Бога. “В каком-то отношении, - пишет Прокл, - и производимое остается в производящем, так как целиком эманирующее не содержало бы в себе ничего тождественного с тем, что остается пребывающим, но было бы совершенно раздельным... поскольку производимое содержит что-то тождественное с производящим, оно в каком-то отношении и тождественно с производящим, и отлично от него. Значит, оно в одно и то же время и остается [в нем] и эманирует; и одно не обособленно от другого”.[75] Одновременно пребывая и в Ничто и в Нечто, Человек при этом не несет в себе некоего экзистенциального противоречия, то есть не содержит в своем актуальном существовании ничего Иного, чего бы не содержалось до его явленности Миру. Эти два его экзистенциальных состояния содержат в себе то, что предвечно существовало в Боге в качестве потенции. В трансцендентальном аспекте нет принципиальной разницы между ноуменальным Человеком и Человеком феноменальным, так как последний не содержит в себе инаковости. Отсутствие инаковости между Творцом и тварью как раз и схватывается транс-трансценденталией “Неиное”. “Одновременно” пребывая в Ничто и в Нечто, Богочеловек и есть Неиное, т.е. не содержащее в Себе ничего Иного, чего бы не присутствовало в Нем до акта самовоплощения в Существо, одновременно присутствующее и в идеальном Образе и реальном Бытии.
Однако такой классический переход от абсолютной апофатики Ничто к его катафатическому определению посредством Неиного с неизбежностью воспроизводит ранее анализировавшуюся антиномию, хотя и в новой гносеологической форме. Она может быть «преодолена» лишь в пределах религиозного сознания, если строго придерживаться принципа веры, в пределах же философской рефлексии эта антиномия не может быть «снята» даже самыми изощренными диалектическими приемами. Если Сущее есть некий транс-феноменологический синтез Ничто и Нечто, схватываемый универсалией Неиное, то почему же все-таки «мир во зле лежит», почему в нем помимо Неиного присутствует и Иное?
Итак, одной лишь дихотомией Ничто и Нечто, схватываемой транс-трансценденталией Неиное невозможно объяснить почему же в ходе перманентных свертываний и развертываний Первосущего возникают не только положительные и истинные экзистенциальные формы, но и формы отрицательные и ложные. В связи с этим, трансценденталии Неиное должно противополагаться нечто ей противоположное, а именно - Иное.
При классическом (неоплатоническом) переходе от апофатики к катафатике требуется развитая и сильная версия теодицеи – развернутой системы оправданий Бога. В рамках некоторых крайних теодицей Богу даже «разрешается» творить зло в ситуациях, когда необходимо интенсифицировать процесс миротворения. Так, например, Н.О.Лосский признает конструктивную силу зла для целей восхождения к еще более высшим формам добродеяния. Тейяр де Шарден в своей работе «Христос эволюции» фактически подчинил Бога целям прогресса и эволюции и тем самым снял с Него «вину» за несовершенство тварного мира. Макс Шелер приходит к выводу, что Бог должен был смириться со вселенским злом и самоосуществляться в узком онтологическом коридоре, которое Ему как Неиному предоставляет Иное. «Взаимное проникновение, - пишет Шелер, - изначально бессильного духа и изначально демонического, т.е. слепого ко всем духовным идеям и ценностям порыва, благодаря становящейся идеации и одухотворению…– есть цель и предел конечного бытия и процесса».[76] Как мы видим, Иное конституируется в качестве некоего средства достижения Неиным своих «конечных целей», причем в той мере, в какой это позволяет Иное. Однако это уже довольно опасная натяжка. При подобной интерпретации абсолютного мифа недалеко и до известного новояза «свобода – это рабство» или еще того хуже «Неиное – это Иное», так как здесь мы имеем дело с редукцией сакральной свободы к антропному добру, чреватому злом, а символов культа к ценностям культуры, чреватой культом бездуховности. Приходит же Борхес в одном из своих парадоксальных рассказов к выводу о том, что Богочеловеком был не Христос, а Иуда, так как лишь впав в Ничтожество, в свое Иное, Бог мог стать Человеком.
Для того чтобы кардинально преодолеть антиномию Неиного и Иного в Сущем, мистико-философское сознание начинает разрабатывать еще одну интерпретацию абсолютного мифа. В связи с аксиологической неоднозначностью Сущего, возникает проблема разведения Ничто и Ничтожество в качестве транс-трансценденталий, фиксирующих диаметрально противоположные экзистенциальные прафеномены. Дихотомией Ничто и Нечто оказывается невозможным объяснить почему же в ходе перманентных свертываний и развертываний Сущего возникают не только положительные и истинные экзистенциальные формы, но и формы отрицательные и ложные. Возникает необходимость рассматривать Сущее в качестве некоего экзистенциального синтеза Неиного и Иного. Иным по отношению к Неиному выступает все то, что изначально не содержится в Ничто, а потому и не может пребывать в Нечто. В становящемся Бытии помимо абсолютного в релятивном, являющимся Неиным, присутствует еще и Иное, которое с неизбежностью возникает в связи с тем, что в мир сей вторгаются силы Хаоса. Однако откуда в Сущем может появиться Хаос, если он не является наряду с Абсолютом еще одним порождающим Началом?
Итак, если согласно христианскому вероучению Бог есть Первосущее и Ему как Неиному не может предшествовать Иное, то тогда как же решить антиномию Неиного-Иного? Это разрешение мы находим в самом христианском учении. Иное появляется в Сущем в момент грехо-падения, отпадения Человека от Бога, низших экзистенциальных форм от высших. Эта важнейшая интуиция религиозного сознания должна быть так же взята на веру и в качестве важнейшего основоположения быть включенной в трансцендентальные априори субъектоцентристской философемы. Как только учение о грехопадении оказывается органично включенной в метафизическую аксиоматику, так сразу же тождество Абсолюта и Ничто перестает восприниматься в качестве теологической антиномии. При такой интерпретации первичного мифа, Иное не может предшествовать Неиному, а оказывается как бы эпифеноменальным процессом сопровождающим переход Ничто в Нечто и наоборот. Иное есть совокупность «издержек» Становления Единого во Множественное и рамками его псевдосуществования являются пределы истории и в той мере в какой история отпадает от божественной метаистории. Иное – не есть порождение Бога и никакого отношения к Ничто не имеет, оно есть продукт историцистского относительного мифотворчества. Человек как Микротеос гармонизирует Мир, однако как Гиперфеномен его упорядочивает, что даем возможность утверждать что не порядок возникает их хаоса, а хаос в качестве Иного возникает в связи с перманентным распадом порядка. «"Мир", - писал Н.Бердяев, - и есть затвердение и уплотнение известного рода опыта»[77].
Наиболее интенсивно Иное развивается в Сущем, тогда когда в нем начинает осуществляется насильственная реформация, преследующая цели упорядочения его структур таким образом, чтобы низшие экзистенциальные формы могли ускоренно «прогрессировать». «Прогресс» в нижних ярусах бытия возможен лишь за счет «регресса» в его высших нишах, при этом Иное в Сущем устанавливаемым порядком (Ordnung) вытесняет из него гармонию Неиного, выступая таким образом как бы внешним фактором, способствующим свертываться развертутостям в изначальное Ничто.
Иным в Сущем выступает все то, что изначально не содержалось в Ничто, а потому и не может содержаться в Нечто, но таковым может быть только Хаос и его упорядоченные структуры. Иное и есть упорядоченный Хаос в качестве системы сверхобъективаций Сущего, противостоящей Неиному в его переходе от Ничто к Нечто. “Последствием зла, - писал Н.Бердяев, - всегда является распад бытия, взаимное отчуждение распавшихся частей бытия и насилие одной части над другой. Мир атомизируется, все становится чуждым и потому насилующим. Свободным может быть лишь бытие, соединенное в любви, в котором устанавливается родство в Боге”.[78] Иное есть тот Хаос, который возникает в связи с тем отчуждением, которое складывается между порождающими и порождаемыми субъектами. Чем с более низким онтологическим статусом оказывается исторический субъект, тем более охотно он его делегирует своим собственным овнешненным экзистенциальным проекциям - внешнему миру, в связи с чем историей начинают формироваться такие псевдосубъекты, как сверхчеловечество, сверхцивилизация, сверхтехнология и проч., которые во все более широких масштабах воспроизводят особые порядки, вплетающиеся в метаисторическую гармонию и своим перманентным самораспадом хаотизируют проявленные формы человеческой экзистенции. Феноменальный порядок постепенно начинает вытеснять трансцендентную гармонию в Ничто, замещая метаисторический ряд противоестественным, искусственным, событийным рядом, основанном на насилии, способствуя Ничтожеству обретать все более тоталитарную власть над тварным Миром и составлять своими квазиобъективациями большую часть экзистенциальных структур Сущего. Если Гармония обусловлена «волей к жизни», то Порядок – «волей к власти». Порядок есть тот «инструмент», посредством которого Ничтожество распространяет свою власть над Сущим, не потому ли Мир, в основном, рассматривается в качестве вотчины «князя мира сего». В христианской мистике Неиное и Иное различается как Бог и сатана, последний же рассматривается как падший ангел, созданный самим Богом. Сатана олицетворяет собой силы хаоса, посредством которых ему удается упорядочивать элементы универсума в ложные экзистенциальные формы, репрессивно противостоящие Неиному в Сущем. Сатана и есть Всемирное Ничтожество, противостоящее Внемирному Ничто. Сверхупорядочение низших форм бытия всегда осуществляется лишь за счет разрушения высших экзистенциальных форм.
В изначальное Ничто свертываются субъективации, а не объективации, объективации свертываются в Ничтожество, которому в Конце Истории уготован очистительный огонь Апокалипсиса. В акте Апокалипсиса=Метаинверсии онтологически отрицательное Иное нейтрализуется, а затем инверсируется в Ничто, чем и преодолевается его Инаковость в Сущем. В Конце Истории происходит то, что на сциентистском языке обозначается термином аннигиляция. Иное аннигилирует в Ничто и вновь возникает в качестве эпифеномена процесса очередного метаисторического развертывания Ничто в Нечто как экзистенциальный антипод Абсолюта- Неиного.
Итак, Сущее всегда есть некая экзистенциальная эклектика (и в этом его абсурдность) из Неиного и Иного, из гармонии Свободы и порядка Необходимости (И.Кант, как известно, различал два порядка в Сущем: порядок свободы и порядок необходимости), метаисторического Ничто и исторических форм Ничтожества. Несмотря на то, что современный мир есть в некотором роде квинтэссенция Ничтожества, от полного его распада все же удерживает Нечто, восходящее к Неиному. «Ничтожество, трагическое бессилие, обреченность человека вне Бога, - писал С.Л.Франк, - сочетается с величием и спасенностью человека, осуществляющего свою высшую и подлинную природу через свою подчиненность Богу, свою связь с Богом, свою внутреннюю пронизанность Богом – через свою богочеловечность»[79].
В эклектическом Сущем отрицательные, отчужденные формы бытия имеют тенденцию расширенно воспроизводиться. Неиное в Сущем представлено гармоническим рядом со-бытий Бога и Человека, а Иное – упорядоченным рядом противо-бытия Человека, бытия противостоящей трансценденции и «противного» ей. В этой связи провоцирующе выглядит лозунг необходимости принимать действительность такой какой она есть и максимально адаптировать к ней свою уникальную экзистенцию. Следование этому лозунгу ведет к еще большей провокации распада Сущего. Если переиначить вывод Гегеля, то в Сущем истинно действительным является то, что не от Разума, а от Логоса, от Неиного, а не от Иного, то есть все то, что восходит к Трансцендентному. При таком понимании трагического в метаистории Сущего можно вполне развести универсалии Ничто и Ничтожество. Если предустановленная Гармония Неиного вновь свертывается в Ничто, то упорядоченному Хаосу такой возможности не представляется, его разрозненные квазиобъективации способны свернуться лишь в Ничтожество, которое согласно абсолютному мифу будет предано очистительному огню Апокалипсиса. Конец истории и есть ни что иное как трансцендентная реинверсия Нечто в Ничто и полная «аннигиляция» Ничтожества
Дихотомия трасценденталий Неиное и Иное позволяет развести между собой такие метафизические универсалии=категории как гармония и порядок. Мировая гармония, или “развернутость всех свернутостей”, и есть креационистско-эманационный ряд экзистенциальных форм, составляющих трансцендентное существо Нечто. Мировая гармония может рассматриваться в качестве абсолютной проявленности Абсолюта. Принцип гармонии мира согласуется с принципом его единства и универсальности. Как утверждал В.П.Вышеславцев, идея универсализма не есть абстракция, а подлинная действительность. Нет изолированных гармонических систем, существует единая универсальная гармония.[80] Гармоническое Нечто вполне соответствует катафатическому определению Бога как “все во всем”. В конце метаистории гармония вновь свертывается в изначальное и предвечное Ничто, пребывая в Нем вплоть до нового витка своего развертывания в Нечто. У Гераклита “мировая гармония, стремящаяся назад, подобно рогам лиры или лука”[81], выступает ритмической основой космодинамики Неизменного. Гармония как “свернутость всех развернутостей” подпадает уже под другое катафатическое определение Бога: “все в едином”.
Если Гармония творится из Ничто, то Порядок вырастает из Хаоса. Все то, что лежит за пределами Гармонии, связывающей между собой прафеномены Ничто и феномены Нечто в единый ритмический ряд, оказывается Порядком, искусственно устанавливаемым Иным=Ничтожеством. Упорядоченный хаос лишь внешне напоминает гармонию, он искусно мимикрирует под нее ритмически организованным рядом объективаций. Порядок, который привносится в мир Иным вытесняет гармонию в Ничто, служит как бы «внешним фактором» свертывания развернутостей. Это хорошо понимал З.Фрейд, когда на реальность смотрел как на средство вытеснения из сферы сознания в бессознательное всего того, что приходит в онтологическое несоответствие с ним. Вся экзистенциальная иерархия в универсуме упорядочивается под приоритеты развития низших форм. Предельно упорядоченный мир, лишенный внутренней гармонии – это идеал, к которому стремится Иное. Если гармония Неиного вновь сворачивается в Ничто, то перманентно распадающийся порядок Иного в состоянии сворачиваться лишь в Ничтожество, подлежащее уничтожению в пламени Апокалипсиса.
Любая онтология, возникающая как некая объективированная часть предустановленной гармонии, по мере упорядочения, с неизбежностью гибнет, так как редукция гармонии к порядку, ведет последний к распаду и переходу в хаос. Порядок выстраивается из распадающихся объективаций субъективного и может скрепляться в некую псевдоцелостную Систему лишь внешним насилием, тогда как гармонический ряд из субъективаций держится на внутреннем согласии иерархически взаимообусловленных сущностных сил Субъекта. Становящаяся гармония основывается на духовной спонтанности Субъекта, напротив, любой объективированный процесс возможен, если он внешне организован и упорядочен. Универсум - это гармоничная система, а Система - упорядоченный универсум. «Если постигать жизненность в ее истине, - писал Гегель, - то она есть единый принцип, единая органическая жизнь Универсума, единая живая система... Универсум - это не нагромождение множества равнозначных акциденций, но живая, жизненная система»[82]. Такое соотношение универсума и системы было бы верным, если бы они принадлежали к единой экзистенции Субъекта. В отличие от универсума, который есть онтологическое проявление целостной и универсальной жизни Субъекта, система, скорее всего, онтологически репрезентирует собой псевдосуществование Объекта. Если в процессе автокреации (автоэманации) Субъекта гармония перманентно, а главное - естественным образом порождается, то порядок противоестественно и искусственно устанавливается. Гармония есть внутренний строй универсума субъективаций, его “непредикативный предикат”, Порядок же выступает атрибутом организованных онтологических форм, подчиненных “объективным” законам Необходимости, как падшей Свободы (Н.Бердяев). Если гармония спонтанно возникает из внутренней свободы Духа, то порядок организуется, устанавливается под воздействием категорических императивов, исходящих из внутренней несвободы (необходимости) Тела.
Итак, гармония творится Субъектом, а порядок устанавливается Объектом. Творение предполагает авторство, которое принадлежит субъекту. Из объекта гармония не может возникнуть самопроизвольно, вероятность ее появления эволюционным, внеэманационным, внекреативным путем нулевая. Порядок не может само-произвольно возникнуть из предельно объективированной онтологии. Его устанавливает некая отрицательная, ложная Самость. Само-произвольность порядка в субъектоцентристской философеме может пониматься лишь как произвол, произволение самости, субъективности, точнее, квазисубъективности = ложной субъективности. Порядок своим временным существованием обязан не свободной спонтанности и произвольности творящего Субъекта, а насилию и произволу Квазисубъекта, прикрывающего свой произвол якобы непреложными требованиями законов объективной Необходимости или необходимости Объекта. Хотя порядок и имманентен Объекту, но он не им самим (?) устанавливается, а той квазисубъективностью, которая в нем находит свое псевдоонтологическое укоренение. Таким образом, Порядок, как и Гармония, есть следствие эманации, но уже эманации отрицательной, исходящей от квазисубъекта, злого духа, или “князя мира сего”.
Своим становлением и существованием целостные Универсумы обязаны саморазвертывающейся гармонии. В качестве онтологических монад они являются компонентами единой Мировой гармонии, тогда как искусственно упорядоченные квазионтологии образуют собой Системы, перманентно вытесняющие друг друга из “жизненного пространства”, при этом, как правило, “побеждает сильнейший”, но уже своей победой обреченный на столь же неизбежное поражение со стороны своего собственного детища, оказывающегося в момент его рождения еще более упорядоченным хаосом.
Гармония онтологически самодостаточна и неуничтожима как определенный последовательный метаисторический ряд экзистенциальных форм Неиного в Сущем. Порядок - всего лишь временное состояние упорядоченного Хаоса, он лишь на определенное время группирует распадающиеся части псевдоцелостности в некую искусственную систему, а потому в нем всегда господствует энтропия, требующая перманентного пополнения экзистенциальной энергетики извне. Ложные и отрицательные формы бытия энергетически подпитываются силовым полем хаоса, перманентно расширяющим свою псевдоонтологию за счет систематического насильственного инкорпорирования, присвоения “энергетических ресурсов”, принадлежащих истинным, положительным формам Бытия. Любая организованная Система или систематизированная Организация, как сверхупорядоченная часть хаоса, в состоянии эффективно функционировать лишь до тех пор, пока извне подпитывается энергетикой Субъекта, особенно это заметно в способе существования современных искусственных информационно-технологических систем. Напротив, гармоническое развертывание онтологических потенций Ничто в универсум актуальностей Нечто осуществляется за счет имманентных энергетических ресурсов Духа. Гармония в экзистенциальном плане является абсолютно конструктивной, так как эманирует “в режиме согласия”, тогда как Порядок, в основном, деструктивен, так как в состоянии эволюционировать лишь “в режиме катастрофы”.
Если гармония есть некий экзистенциальный ряд, образующийся при переходе становящегося Абсолюта из Ничто в Нечто и Его возвращения к самому Себе из Нечто в Ничто, то порядок - это некий квазиэкзистенциальный ряд, возникающий между Хаосом как онтологической неупорядоченностью и Хаосом в качестве Ничтожества, являющегося ни чем иным, как упорядоченностью отрицательных форм бытия. Ничтожество генетически связано не с Ничто, а с Хаосом. Все поломки Бытия, сопровождающие процесс спонтанного развертывания гармонии жизни, свертываются в Ничтожество. При этом Хаос оказывается неким эпифеноменом спонтанного процесса развертывания изначальной экзистенциальной гармонии Духа.
Религия объясняет появление отрицательных экзистенциальных форм грехо-падением Человека. Возникшие вслед за первородным грехом универсумы своими отпадениями от предшествовавших и порождавших их универсумов, вопреки общей Гармонии, восходящей к Ничто, начинают устанавливать свои особые Порядки, делающие их обособленное от Абсолюта бытование на некоторое историческое время вполне “устойчивым”. Порядок можно рассматривать в качестве псевдогармонии, вырастающей не из трансцендентного Неиного, а из обособившихся и квазифеноменальных структур Иного. Сверхупорядочивая свою экзистенцию, низший универсум на некоторое время обретает необходимую системную сверхцелостность, дающую ему возможность навязывать свои порядки высшим универсумам. Наиболее явно это проявляется в насильственной онтологической редукции высших форм субъективности (культ, культура) к низшим и проявленным их квазиобъективациям (социум, технология). Низшее всегда онтологически сильнее высшего, а потому не только от него отпадает, но и своим насилием над ним стремится упорядочить его экзистенцию под свое квазифеноменальное целеполагание. Ничто не может оборачиваться Ничтожеством уже хотя бы потому, что Оно есть форма предвечно существующей гармонии жизни, тогда как Ничтожество есть ни что иное, как ее исторически преходящая сверхупорядоченность, явно тяготеющая к самораспаду.
Внешним способом Гармония неуничтожима, так как является трансцендентно самодостаточной внутренней ритмической основой Неиного. Однако в связи с тем, что она есть состояние трансцендентальной слабости Субъекта (в феноменальном плане субъект “слаб”, потому что свою экзистенцию развертывает спонтанно, не прибегая к насилию, тогда как объект в состоянии экзистировать, лишь используя организованное насилие над субъектом, являясь при этом всего лишь отчужденной от него объективацией), гармония вполне может быть вытеснена порядком, основанным на квазирациональной силе, которая впоследствии и становится источником его само-разрушения. Вытесняя гармонию из Сущего в Ничто, Порядок лишает его животворной связи с Неиным, а потому квазиэкзистенциальная форма Иного со временем самораспадается, самоуничтожается. В этих словах в который уж раз явно присутствует само-, самость, видимо, строго определенный порядок не только возникает, но и исчезает с появлением и исчезновением определенной формы ложной субъективности, эманирующий имманентными ей ложными онтологическими формы - гиперфеноменами. Порядок как структурированный Хаос, вторгаясь в экзистенциальное пространство Человека и вытесняя из него предустановленную гармонию в изначальное Ничто, тем самым неявно “способствует” Абсолюту осуществлять свертывание своих развернутостей. Если Гармония есть ритмическая основа неявных структур Бессознательного, то Порядок, устанавливается Сознанием, вытесняя Гармонию в Бессознательное и тем самым предает Забвению все позитивное в Сущем, сохраняя его для Вечности, однако онтологически позитивный опыт возвращается Человеку “мудростью молчания”, выступающей апофатической основой Откровения. «И хотя принципом реальности гармония была вытеснена в утопию, - пишет Маркузе, - фантазия настаивает на ее превращении в реальность»[83]. Сколь бы дисгармоничным ни был внешний эмпирический мир современного человека, его трансцендентное Я продолжает содержать в себе предустановленную и извечную гармонию существования в Духе. Сам того не осознавая человек порой совершает поступки, входящие в явное противоречие с требованиями объективной действительности, именно они оказываются мотивированными высшими смыслами бытия, вне которых не в состоянии воспроизводиться собственно человеческое существование. «Как бы велики ни были его (человека – Ю.Ф.) заботы и разочарования, какие бы удары ни наносила ему судьба, как бы тяжко ни было его горе, как бы безысходны ни были муки его собственной совести, - писал С.Л.Франк, - в последней глубине своего духа он незыблемо прочно укоренен в Боге и через эту связь находится во внутренней гармонии, в радостно-любовной солидарности со всем сущим. Муки раздора и покой гармонии живут одновременно в его душе; более того, сам раздор и трагизм его бытия, сама дисгармония, проистекая из превосходства его существа над миром, из его привилегированного, аристократического состояния как сына Божия… есть свидетельство его ненарушимой обеспеченности в лоне Божьей святости и Божьего всемогущества»[84].
Если Неиное со своим гармоническим рядом со-бытий метаисторичен, то Иное со своим упорядоченным рядом явлений есть принадлежность ложной форме истории - историцизму. Гармония своим становлением обязана бесхитростному Логосу, творящему Метаисторию, тогда как, согласно Гегелю, историческая форма Порядка, или упорядоченная форма Истории, замышляется и устанавливается коварным Рацио (“хитрость разума”), на заре истории отпавшим от Логоса. Знаменитое пушкинское выражение “гений и злодейство - две вещи несовместные” справедливо лишь по отношению к доброму гению, творящему гармонию, и совершенно неприложимо к злому гению, устанавливающему порядок. Чем более преуспевает гений в установлении чуждого универсуму порядка, тем большим злодеем он оказывается. Гений и злодейство - две вещи вполне совместные, если искусственно устанавливаемый порядок, вытесняет предустановленную Абсолютом гармонию Жизни.
Эмпирически Порядок, как мы подчеркивали выше, трудно отличить от Гармонии в связи с тем, что он под нее мимикрирует. Однако вера в предвечную Жизнь, позволяет человеку внутренне прочувствовать восходит ли переживаемая им экзистенция к свободной и вечной гармонии Бесконечного Субъекта или к преходящей упорядоченности Конечного Объекта. Исторические эпохи существенным образом различаются по тем соотношениям субъективированной Гармонии и объективированного Порядка, которые складываются в целостной человеческой экзистенции. Так, если эллинский мир и эпоха Возрождения своими творческими интенциями, в основном, тяготели к гармонизированному универсуму, то современный век социального и научно-технического прогресса явно предпочитает квазиупорядоченную систему онтологических связей и отношений. И далеко не случайно, что именно в конце ХХ века практика по почти тотальному квазиупорядочению в системе человеко-мирных отношений достигла почти предельных значений. Эпохе научно-технической революции, как известно, предшествовала эпоха “бури и натиска”, основу которой составлял целенаправленный процесс по упорядочению (ordnung) отношений между индивидами - этими “социальными вещами” (Э.Дюркгейм) массового Общества или общества Масс.
Онтологическую эклектичность Сущего в буддизме реальную определяют понятием «майя», скрывающей под своим покровом истинные экзистенциальные праформы жизни. Своей положительной бесконечностью реальность восходит к Ничто, а отрицательной бесконечностью (“дурная бесконечность”) - к Ничтожеству. Чем более реальность насыщается объективациями субъективного, тем более Иное насильственно преобладает над Неиным в ней. При этом, мир становится все более дробным и внутренне разобщенным, катастрофически утрачивающим свою изначальную целостность. В объективном мире в изначальную пустотность свертываются лишь инобытийствующие в нем субъективации. В христианстве - это бессмертные души, которые с распадом их телесной оболочки вновь возвращаются в обитель Духа. Апокалипсис с неизбежностью выступает в качестве “средства” инверсии внутриобъектных отношений Ничтожества во внутрисубъектные отношения Ничто, он ставит предел существованию не только Иному, но и Неиному, так как свертывает Нечто в Ничто.
Ранее мы обозначали Хаос, основу которого составляют внутриобъектные отношения в качестве пред- и постонтологии Абсолюта. Бесконечный Объект и есть упорядоченный Хаос, окончательно складывающийся в квазионтологическую систему внутриобъектных отношений на завершающей фазе вытеснения гармонии Духа из окончательно падшего Мира в качестве его ложной экзистенциальной альтернативы Неиному. Однако как только гармония Духа, Абсолютного Субъекта вновь свертывается в Ничто, Бесконечный Объект в качестве упорядоченного Хаоса вновь распадается на дурную бесконечность, несвязанных между собой принудительными “законами необходимости”, квазиобъективаций. Апокалипсис переводит Хаос из состояния квазионтологической упорядоченности в состояние онтологической неупорядоченности. Неупорядоченный Хаос, лишенный своей предельной объектности инверсирующим Абсолютом, вновь субъективируется в изначальное Ничто. Именно в этом плане и можно говорить, что неструктурированный Хаос как бы предшествует Абсолюту, так как выступает неким “энергетическим источником”, который используется для вновь развертывающейся гармонии Духа. Хаос, как это было показано выше, в принципе не может предшествовать Абсолюту, так как возникает с началом саморазвертывания и разрушается с концом самосвертывания мировой гармонии. Существование Хаоса в качестве Иного ограничено началом и концом метаистории, содержанием которой является мистерия Духа.
Согласно монотеизму Хаос является не результатом помыслов Бога, а только делом рук человеческих. И это потому, прежде всего, что Человек не является марионеткой Объективного Духа, каким представлен в диалектике Гегеля. Человек, являясь трансцендентным порождением Субъективного Духа свободно творит мир, в котором феноменально существует. Дух не объективен, а субъективен и человек есть его свободное воплощение. Но в качестве воплощенного Образа и Подобия Бога, он не владеет своим собственным метаисторическим Самопроектом, являющимся “тайной за семью печатями”. И как тварное существо с ускорением бега своей истории все более творит мир по своим феноменальным, человеческим меркам, замещая самотрансценденцию Ничто гиперактуализацией Нечто. Именно это обстоятельство и является причиной перманентной хаотизации мира, перманентного скатывания человеческой экзистенции с высот Неиного к низменности Иного в Сущем.
Метаисторию можно определить как трансцендентный процесс развертывания гармонии мира или мировой гармонии из Ничто в Нечто в кайросе - совокупности мгновений Вечности.
Если метаистория есть история Абсолютного Субъекта как Неиного, то историцизм - история Абсолютного Объекта как Иного или “структурированного Хаоса”. Историцизм есть хронологический процесс развертывания онтологических структур Иного в Сущем. С расширением Вселенной Абсолюта, внутренние и внешние “границы” становящегося Сущего перманентно передвигаются в пределы Хаоса. В Комментарии к “Государству” Платона (П 138, 19-24) Прокл говорит об “умопостигаемом хаосе” как об исходном пункте всех эманаций и как о той конечной точке, к которой возвращаются все эманации (ср. о нисхождении и восхождении душ из Хаоса и в Хаос - П 141, 21-28). С точки зрения последовательного субъектоцентризма “точнее” было бы говорить, что Хаос есть некая распавшаяся онтология, в которой оказываются погребенными начала и концы не метаистории Духа, а истории отчужденной от Него системы квазиобъективаций. “Начало” и “конец” метаистории весьма относительные категории, так как покоящийся Абсолют находится в состоянии Вечного и Бесконечного Становления. Напротив, конец истории понятие весьма определенное, так как фиксируется трансцендентным кайросом - инверсией Иного в Неиное.
За понятием история, видимо, целесообразно сохранить процесс эмпирического развертывания Существования в Сущее, который всегда экзистенциально эклектичен. История - это область преходящего, область неоднозначных изменений в становлении многомерного человеческого существования, в ней всегда ощущается внутренняя напряженность Духа. Резкое рассогласование в человеческой истории между сущим и должным предельно драматизирует человеческую экзистенцию. Особо драматичной она становится тогда, когда впадая в циничный по своей жестокости историцизм она начинает активно противостоять метаистории.
Экзистенциальная противоречивость Сущего и есть “предметность” для историософской рефлексии. Если философия есть рефлексия по поводу предельных оснований Бытия, то историософия - есть рефлексия по поводу динамики развертывания предустановленной гармонии в “пределах” беспредельной экзистенции Субъекта. В отличие от мистики, которая занимается трансцендированием предельных оснований бытия, выхождением за пределы Сущего в Ничто в целях овладения абсолютной истиной, философия, не покидая пределов Нечто, феноменологизирует то, что дается Откровением. Однако как только, поддавшись искусу присвоить истину, которая принадлежит “мудрости молчания”, философия начинает гиперрационализировать мир, то явно или неявно она начинает служить экзистенциальному Ничтожеству - князю мира сего. Философия не может не изучать Порядок в качестве “структурированного Хаоса”, однако не для того, чтобы позволять силам Ничтожества окончательно покорить Мир, а для того, чтобы Человек постоянно настраивал свою экзистенцию, страдающую “онтологической аритмией” на трансцендентную ритмику Мировой Гармонии.
1.3. Метаисторичность Неиного
|
|
Отсутствие и потребность в философии истории тоже являются характерной чертой нашего времени. Человечество осознает, что оно вовлечено в авантюру, где ставит на карту и свою душу, и свое существование. Оно больше не сможет предаваться иллюзорным богам прогресса. Не сожаление об удобных схемах, уничтоженных успехами науки, вызывает его ностальгию. Оно согласно на терпеливый и медленный, в сущности незавершимый анализ. Оно не мирится с тем, чтобы больше не думать, больше не желать будущего. Арон Р. Философия истории.
|
Гармония и Порядок различаются по формам временных потоков, в которых первая спонтанно предустанавливается Неиным, а второй насильственно устанавливается Иным в Сущем. В структуре временных потоков греки раличали “формальное время”, которое обозначали словом хронос и “истинное время” как момент, исполненный высшего содержания и смысла, обозначавшегося словом кайрос.
Эманация сущего, осуществляемая Абсолютом на переломных этапах метаистории происходит во временной форме кайроса. Одним из этимологических значений «кайроса» является «снурок», посредством которого нить прикрепляется к ткацкому станку. В переносном смысле кайрос есть нить, связывающее феноменальное с трансцендентным, Нечто с Ничто. Кайрос - это момент полноты времени, непосредственно восходящий к пустотной бесконечности Вечности. Кайросом можно назвать каждое из событий поворотного характера в истории, как исключительные моменты во временном процессе, когда вечное врывается во временное, потрясая и преображая его и производя кризис в глубине человеческого существования. “Мое время, - учил Иисус, - еще не настало (Иоан. 7,6)”. Кайрос - это такое “качество” времени, которое содержит в себе высокую динамику творчества, чреватую интенсивной актуализацией трансцендентных потенциальностей, великие мгновения инверсии неявных структур Ничто в экзистенциальные структуры Нечто. Под воздействием кайроса «человек создает основные системы, принцип которых будет оставаться в других тысячелетиях»[85].
Вечность распадается не на времена, а на мгновения. Кайрос – это мгновения, которыми вечность пронизывает времена. Такой метафизической версии тео-динамики Сущего придерживались те из мыслителей, которые стремились понять сакральную суть исторического процесса. “Только в мгновении начинается история..., - писал С.Кьеркегор, - Мгновение - это та двузначность, в которой время и вечность касаются друг друга, и вместе с этим полагается понятие временности, в которой время снова и снова разделяет вечность, а вечность снова и снова пронизывает собою время. Только теперь разделение, о котором мы говорили, получает наконец свой смысл: настоящее время, прошедшее время, будущее время”.[86] Кайрос есть та совокупность мгновений, которая иррелевантна Вечности, а потому сопровождает собой все свертывания и развертывания Неиного.
Если хронос – есть горизонтальная линия движения сущего, то кайрос – его поперечный срезы, восходящие к Вечности. Способ попадания в мгновения Вечности, выхода их хроноса в кайрос – есть по Н.Бердяеву творчество. В онтологическом аспекте кайрос есть некое сгущение Вечности в перманентном акте креации, акте творческой самотрансценденции человека. Земной смысл истории, по мнению Ладрьера, предполагает признание неабсолютности законов истории, индетерминизм, такое осуществление гармонии теоретического и практического разума, когда царствует “кайрос”, “благовремение”, сопрягающее индивидуальную и коллективную судьбы. Как известно, в противовес “хроносу”, символизировавшему в греческой мысли количественную сторону временной длительности, периодичность, “кайрос” означает необходимость рождения события во времени. Термин “кайрос” употребляется в греческом варианте Ветхого завета, в предсказаниях пророков, где историческое развитие рассматривается в перспективе кризиса, суда. Через тему “кайроса” Ладрьер выходит к проблеме связи земного и трансцендентного смысла истории, ибо, только признавая их единение, можно прийти к пониманию “открытости” смыслового содержания общественного развития. “Горизонтальное отношение, связывающее меня с историей, - пишет Ладрьер, - всегда неотрывно от вертикального, ведущего к трансценденции, так сказать, к Надмирскому”[87]. Переходные периоды в метаистории, в которых кайрос наиболее интенсивно пронизывает собой хронос, К.Ясперс обозначил понятием “осевое время”. “Сгущениями времени” или “эонами мировой истории” называл Н.Бердяев пиковые значения во всеобщем процессе миротворения.“Существуют, - пишет он, - эпохи откровения, существуют эоны мировой истории. Существует одухотворение в восприятии откровения, существует его очеловечение в смысле высшей человечности, которая и есть богочеловечность”.[88]
В осевое время или в эонах откровения осуществляется великий прорыв в еще неизведанные возможности, трансцендентная тайна становится открытой для посвященных народов. Осевое время, принятое за отправную точку, определяет постановку мировоззренческих вопросов и масштабы миротворения, прилагаемые ко всему предшествующему и последующему развитию. Осевое время ассимилирует все то, что до него существовало в еще недостаточно связанном виде и мировая история обретает структуру и единство, способные сохраниться во времени[89]. Кайрос в осевое время метаистории является как бы “пусковым механизмом”, посредством которого Вечность “запускает” новую форму хроноса и тем самым открывает новую страницу в Мировой истории. Если кайрос, особенно в осевое время, есть проявление целостной метаистории, то хронос, в основном, господствует между осевыми временами, давая возможность истории воспользоваться открывшейся тайной о ранее неизвестных экзистенциальных возможностях трансценденции и воплотить их преходящие формы сущего.
Почему переходное время называется «осевым»? Потому, что наступает время нового витка гармонии, которое и обеспечивается кайросом. Кайрос пронизывает собой толщу хроноса и тогда творчество выводит человека на новый виток осмысления своей истории. Онтологические ступени по которым Дух нисходит, субъект объективируется, отделяются друг от друга соответствующими формами «осевого времени», задающими новые суперпарадигмы исторического движения, которые ранее были неявными и не главными, однако на новой степени развертывания структур Неиного в Сущем становящиеся явными и главными.
Осевое время – это время между временами, оно отделяет одну онтологическую форму истории со своим особым временем от другой с иной формой временного потока. Осевое время, в связи с тем, что оно обеспечивает переход от одной исторической формы к другой в условиях отпадения последней, несет в себе не только конструктивную, но и деструктивную функцию. В нем трагизм истории ощущается наиболее остро. Апокалиптика становится формой постижения трагической сущности человеческого существования. Кайрос как мгновения Откровения необходим для того, чтобы новая онтология выдвинулась из апофатических глубин прежней и процесс расширения вселенной Духа воплотился в еще одну экзистенциальную форму.
Кайрос, в отличие от хроноса имеет отношение к динамике целого, а не плоской эволюции его частей. В перманентно строящемся Миро-Здании “новые” онтологические этажи, как бы выдвигаются из внутреннего мира в мир внешний. Новыми они являются лишь в качестве компонентов внешнего мира, понятие “новое” неприменимо к внутреннему миру изначально не-сущее в себе в потенциальной форме актуальности сущего. Мир как бы изливается из божественной пустоты, как считает немецкий историк античной философии Эдуард Целлер по "закону убывающего совершенства". “Каждое вновь произведенное бытие, - писал Плотин, - с одной стороны, менее совершенно, а с другой, сохраняет подобие его в такой степени, в какой сохраняет связь с ним и подчиняется ему”.[90]
Метаисторический процесс протекает, если можно так выразиться”, в режиме экзистенциального сотрудничества и взаимопомощи между суб-субъективностями, суб-личностями, укорененными в соответствующую иерархию своих собственных онтологических проекций - универсумов, вместе с которыми они и составляют синкретическую экзистенциальную целостность, которую Лейбниц называл монадами. «Каждая простая субстанция, - писал он, - посредством своих смутных восприятий или ощущений содержит универсум и что последовательность этих восприятий регулируется особой природой этой субстанции, но так, что всегда выражает всю природу универсума»[91]. Говоря современным языком, здесь имеет место “устойчивое развитие”, а точнее устойчивое становление, заключающееся в том, что становление частей подчинено интересам становления целого.
Ментальность иерархического человека и ее внешние экстериоризованные формы имеют тенденцию к расширению. В экзистенциальном плане это расширение выглядит как постепенное и последовательное развертывание астрального субъекта в субъекта иерархически завершенного, т.е. в астрально-антропно-социально-телесного субъекта. Ментальные ипостаси онтологических субъектов (астрально-культовая, антропно-культурная, социально-цивилизационная, телесно-технологическая) перманентно автоэволюционируя, в своем сущностном плане остаются самотождественными, неизменяемыми, то есть ментальными формами Неиного. С той или иной степенью выраженностью они присутствуют в каждом из онтологических субъектов и эволюционируют скорее под воздействием внутренних, нежели внешних экзистенциальных факторов. Внешние воздействия могут лишь несколько изменять интенсивность и направленность внутренней экзистенциальной автоэволюции или до известных пределов ее искажать, деформировать.
Под консолидированным субъектом мы будем понимать такую форму ментальной полноты, в которой ее структура представляет собой совокупность “вложенных Я”, т.е. когда низшие Я трансцендентно подчинены высшим и все они вместе образуют собой единый внутренний мир субъекта. Это оказывается возможным лишь при условии, если внешний мир субъекта является столь же иерархически упорядоченным, как и его мир внутренний, когда во внешнем мире низшие формы бытия являются вложенными универсумами высших и выступают их онтологической опорой, что позволяет субличностям естественным образом укореняться в свои собственные онтологические проекции.
Для того, чтобы модельно воспроизвести всемирную историю развертывания Множественного из Единого, понимаемого в качестве бесконечного, абсолютного субъектного Начала, вполне достаточно двух базисных категорий “субъективация” и “объективация”. Однако в историософском аспекте, к сожалению, лишь категория “объективация” является обстоятельно проработанной, противоположная же ей категория “субъективация” все еще остается довольно бедным в содержательном и смысловом планах, термином. Объединим эти два понятия во взаимодополнительную категориальную пару, с тем чтобы их использовать в качестве предельных значений при построении метаисторического континуума этапов нисхождения Субъекта и восхождения Объекта в Сущее.
Категория “объективация” фиксирует такую онтологическую метаморфозу с субъектом, в результате которой его внутренний мир превращается в мир внешний, оказывающийся объектом его собственного восприятия. «Субъект, - писал Шеллинг, - поскольку он еще мыслится в своей чистой субстанциальности, еще свободен от всякого бытия и есть хотя не ничто, но тем не менее как ничто. Не ничто, ибо он все-таки субъект; как ничто, ибо он - не объект, не сущий в предметном бытии. Однако он не может остаться в этой абстракции, для него как бы естественно желать самого себя как нечто бесконечное самополагание, т.е., становясь объектом, он перестает быть субъектом... Начало, конечно, состоит прежде всего в том, чтобы сделать себя чем-то, стать объективным, ибо тем самым вследствие бесконечности субъекта, в соответствии с которой за каждой объективацией непосредственно следует также более высокая потенция субъективности, - вследствие этого вместе с первой объективацией была положена основа всего последующего возвышения, а тем самым и самого движения... как ничто; это как выражает всегда нечто добавочное, выходящее за пределы сущности, и тем самым относится к предметному, выходящему за пределы сущности бытию»[92]. Самообъективация есть трансцендентный механизм перехода Ничто в Нечто. В самом широком смысле объективация есть процесс перевода внутреннего мира субъекта в его иное - в мир овнешненный и овещненный. Динамика внешнего мира перманентный процесс самообъективации Субъекта, в которую он своей экзистенциальной процессуальностью вплетается, хотя порой и не осознает того, что выступает самостью, своими интенциями атрибутирующая динамику мира свойствами само-изменения, само-движения. Изменения во внутреннем состоянии Субъекта овещняясь и овнешняясь отливаются в соответствующие онтологические формы “объективной реальности”, выступающие как бы застывшей архитектурой внутренней архитектоники души, надстраивающейся над ее архетипами. Стороннему наблюдателю, т.е. наблюдателю занимающему стороннюю, внешнюю позицию процесс само-движения может показаться перманентным развертыванием имманентных законов объекта, такого рода аберрация восприятия и представлена в объектоцентристском гносеологизме. С позиции же внутренней, этот процесс, воспринимается как процесс последовательного вырабатывания неявных ментальных структур Субъекта, их последовательного преобразования во внешние онтологические структуры, генерализируемые усилиями Субъекта в многомерную Самообъективацию. Наблюдатель, занимающий внешнюю позицию непременно Самообъективацию примет за Объект, и, напротив, наблюдатель, занимающий внутреннюю позицию будет рассматривать Объект в качестве онтологического инобытия Субъекта. “Мы принимаем за реальность, идущую от объектов, - писал Н.А.Бердяев, - то, что есть конструкция субъекта, объективация продуктов мысли”.[93] Исследователь, который порой доверяется своей глубинной интуиции вопреки свидетельствам так называемого здравого смысла, способен выйти на позицию внутреннего зрения и в самом себе обнаружить присутствие еще неразвернутого внешнего мира.
В этой связи весьма интересным является высказывание К.Маркса, совершенно не вписывающееся в его последовательное диалектико-материалистическое мировоззрение.“Человек..., - пишет он, - находится в абсолютном движении становления... - это полное вырабатывание внутреннего человека”.[94] Если предельно расширить смысл этого высказывания, то получается, что внешний объективированный мир в своем метаисторическом становлении есть ни что иное как “вырабатывание” непроявленных, неявных онтологических прафеноменов внутреннего мира Субъекта. Но ведь это положение напрямую восходит к общему принципу построения субъектоцентристской концептуализации Сущего, утверждающему, что внешний мир в качестве континуума потенциальных объективаций изначально составляет трансцендентную и неявную структуру Абсолютной Пустоты, которая в процессе перманентной автокреации, автоэманации Абсолюта становится Абсолютной Полнотой Сущего. Авто-становление Абсолютного Субъекта и целесообразно обозначать понятием, метаисторией, метаисторическим процессом.
В отличие от Субъекта Объект не только не метаисторичен, но и не имеет своей отдельной от него истории. Объект историчен, но не в качестве нечто онтологически внеположного Субъекту, а как его объективация. “Вся история мира, - писал Н.Бердяев. - есть история моего духа, в духе нет внеположности моей истории и истории мира”.[95] В своей метаистории Субъект последовательно обретает опору в универсуме самообъективаций, целой иерархией своих субличностей укореняется в онтологические ниши бытия, являющиеся его же собственными порождениями. Внутреннее в Экзистирующем Субъекте не только экстериоризуется во внешнее, но и посредством внешнего в качестве универсума своих собственных самообъективаций, обретает полноту своего духовного содержания, переводит потенциальные и неявные ментальные структуры в структуры актуализированные и явные. Объективная реальность есть ни что иное, как объективация субъективной реальности, она в состоянии существовать лишь как экзистенциальная проекция Субъекта. Степень историчности объективаций субъективного обусловлена степенью выработанности в ней внутреннего человека. Так называемые “объективные исторические законы” являются объективными лишь постольку, поскольку выступают обмирщвленным инобытием субъективной креативности и эманационности - этими объективациями перманентной интенциональности Субъекта. Лишь своей укорененностью в соответствующую нишу бытия, субъект придает ее отношениям внутреннюю стабильность и устойчивость извне выглядящие как некая объективная законосообразность. “Следует попытаться, - писал Н.Гартман, - помимо всего прочего, внести ясность в то, что заключено в объективациях духа, которые в "произведениях", словно в капсулах, проносят и сохраняют духовные ценности через все изменения исторического духа. Их способ бытия и закономерности, очевидно, иные, нежели у живого, меняющегося исторического духа”.[96] История объективаций может мыслиться только как субъектосообразный, человекосообразный процесс становления мира, внутренние законы движения которого имманентны не объекту, а субъекту в нем инобытийствующего.
В субъектоцентризме дихотомичность категориальной пары “субъективация-объективация” весьма условная, субъективация изначальна, тогда как объективация - ее довольно поздняя онтологическая производная. Понятие “субъективация” обладает предельно широким экзистенциальным смыслом. Под “субъективацией” мы будем понимать всю совокупность внутренних процессов, относящихся к авто-становлению, авторскому, творческому становлению Субъекта в его нисхождении из Единого во Множественное. В самом широком смысле субъективация есть процесс тотального вырабатывания “ментальной пустоты” в “ментальную полноту”, позволяющая Бесконечному Субъекту постоянно оставаться вечно Неиным в перманентно овременяющемся Сущем. Высшей формой субъективации является самосубъективация Субъекта. Ее крайней противоположностью выступает самообъективация Объекта - “высшая” форма внесубъектных процессов в Сущем. Метаисторический континуум миротворения, вмещающий в себя всю совокупность взаимообусловленных процессов онтологического нисхождения Неиного в Сущее, будет выглядеть следующим образом (схема 4):
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Само- Субъективация Объективация Объективация Само-
субъективация субъективного субъективного объективного объективация
![]()
![]() S
O
S
O
Космический Человеческий Социальный Природный Хаос
универсум универсум универсум универсум
Схема 4. Континуум метаисторических этапов
онтологического нисхождения Неиного в Сущее.
Метаисторический континуум нисхождения Неиного в Сущее содержит в себе последовательные этапы “развертывания свернутостей” и “свертывание развернутостей”, осуществляющиеся в режиме иерархического соподчинения низших, порождаемых универсумов, высшим, порождающим универсумам, и их согласованного коэманирования в Единую Множественность Сущего. Рассмотрим основные формы субъективаций и объективаций, имманентные экзистенциальным интервалам целостного континуума нисхождения Неиного в Сущее.
Самосубъективация Субъекта. Начальный этап Становления метаисторичен и проходит внутри самого Бесконечного Субъекта, а потому не обнаруживается в каких-либо объективациях или даже субъективацих субъективного. Это абсолютный нуль истории («нулевой историзм»), в который трансцендентно свернута вся иерархия историй, которым еще предстоит развернуться и актуализироваться в динамике Неиного в Сущем. “Движение, - учил Николай Кузанский, - есть развертывание покоя, поскольку в движении нет ничего, кроме покоя... движение и есть переход от покоя к покою, так что оно оказывается не чем иным, как упорядоченным покоем, или состояниями покоя, последовательно упорядоченными”.[97] Так как онтологическим модусом Абсолюта является Свобода (Где дух Господень, там и свобода (2 Кор. 15, 28)), то она в плане феноменальном может быть осмыслена в качестве вечного и бесконечного перехода от покоя к покою через целый континуум форм движения. Абсолютная субъективность предстает в качестве покоящегося начала лишь для стороннего наблюдателя, она чревата интенциональными всплесками, начала и концы которых поглощается бесконечной Вечностью или вечной Бесконечностью. Не случайно абсолютно покоящееся Начало «атрибутируется» способностью к самодвижению и самоинверсии. На стыке трансцендентного и феноменального в экзистенции Креатор воспринимается как инверсирующий Абсолют. Метаисторическое пространство даосизме представлено как Дао-Универсум. Центром Дао выступает «абсолютная пустота», вселенная которого имеет диаметр «размером» в бесконечность. Дао-Универсум представляет собой пульсирующую Вселенную, то сокращаяся до точки, то вновь расширящаяся до бесконечности. Хорхе Борхес в одном из своих рассказов предположил, что вся история культуры - это история нескольких ключевых метафор. И в качестве примера он проследил историческую эволюцию в культурах разного типа известной философской метафоры - Бог как круг, центр которого везде, а окружность нигде.
Когда говорят, что Вечность распадается не на времена, а на мгновения, то прежде всего имеют в виду “продолжительность жизни” самосубъективаций, существующих в вечной Одномоментности и одномоментной Вечности. Всякий раз когда Экхарту не хватало слов, чтобы вербально оформить свою интуицию о неявной динамике трансцендентно покоящегося Абсолюта, он успокаивал своих читателей утверждением, что здесь мы сталкиваемся с нечто рационально не выразимым, а потому и в рациональном понимании его нет не только возможности, но и необходимости. Интуиция о невыразимом в трансценденции никогда не покидает сферу бессознательного, и сознанию открывается лишь предощущение тайны, но не сама тайна. Потому и приходится принимать на веру не столько сами трансцендентные суждения, сколько неявные их интенциональные праформы. Самые глубинные интуиции невыразимы или выразимы лишь посредством особо напряженного умолчания о Предсущем, то есть о том, что предваряет Сущее. Сошлемся лишь на блестящую поэтическую аналогию, позволяющую если уж не поведать о том, что находится в предощущении “динамики покоя”, то хотя бы подвести к его понимающему непониманию или как любил повторять Николай Кузанский к ученому незнанию. У Мандельштама есть удивительная строчка: “Я слово позабыл, что я хотел сказать и мысль бесплотная в чертог теней вернется”. Самосубъективация - это чрева-тость смыслами, никогда не покидающими Архетипического Чрева Смыслов, каким является Великая Пустота, Ничто. «Не может быть единого (одного) смысла. – писал М.М.Бахтин. - Поэтому не может быть ни первого, ни последнего смысла, он всегда между смыслами, звено в смысловой цепи, которая только одна в своем целом может быть реальной. В исторической жизни эта цепь растет бесконечно, и потому каждое отдельное звено ее снова и снова обновляется, как бы рождается заново»[98]. И все же Пустотная Мысле-Основа, или Чертог Теней экзистенциальных смыслов и есть трансцендентный центр из которого на стадии первичной самокреации Субъекта как бы изнутри вовнутрь устремляются эманационные потоки, составляющие собой внутрисубъектный метаисторический процесс, метафорически обозначаемый божественной историей. Вся мифологическая История или история Мифологии может быть обозначена эпохой нулевой истории. «Нулевой историзм» мифов объясняется прежде всего тем, что космологическое прасознание земную историю как бы растворяет в небесной метаистории, в сакральном измерении сущего. Осмысливая историю в универсалиях космогонии, человек особо не фиксировал свое внимание на событийном ряде эмпирически переживаемой жействительности. Не случайно наш первопращур чаще всего называется микрокосмом, лишь в рамках своей космической миссии он в состоянии был осмысливать свое земное бытие. Когда в самосознании человека метаистория оказывается представленной столь тотально и абсолютно, историческое сознание не может не находиться на нулевой отметке. «Космологическая сущность «нулевого историзма» мифов, - считает В.Э.Лебедев, - проявлялась также и в том, что они (мифы) соприкасались со сферой эзотерического»[99]. Первичная форма монотеизма основывалась на прямом диалоге Человека с Богом, естественно, на уровне символического бессознательного. Для символической фиксации целостности мира человеку не требовалость обилие слов, потому что единое и целостное Слово и было Богом, человек ничего не зная в деталях, как бы “знал” мироздание в целом. Не через понятия и категории, а через свою духовную встроенность в Него, он ощущал себя не частью Мира, а духовным “репрезентантом” его Целостности. Видимо в этом и состоит метаисторическая суть самосубъективации.
Самосубъективация тесно связана с самотрансценденцией Субъекта. Если самотрансценденция есть перманентный выход Бесконечного Субъекта за свои “пределы” в предонтологию Абсолюта - в неструктурированный Хаос в “целях” перманентного самопорождения в качестве Великой Пустоты, Ничто, то самосубъективация представляет собой “процесс” структурирования Мировой Гармонии, которая есть ни что иное как “свернутость всех свернутостей”, которой в ходе Всемирной истории предстоит стать (становление) “развернутостью всех развернутостей”. “Бесконечное единство, - учил Николай Кузанский, - есть свернутость (complicatio) всего... Способ осуществления свертывания и развертывания остается тебе совершенно непонятным, а известно только, что ты его не знаешь, хоть знаешь все-таки, что бог свертывает и развертывает все вещи, и поскольку свертывает, все они суть в нем он сам, а поскольку развертывает, он в каждой вещи есть все то, что она есть, как истина в изображении”.[100] Таким образом самосубъективация может «пониматься» в качестве внутренней перманентной инверсии Абсолюта результатом которой является полный цикл развертывания и свертывания Гармонии в беспредельных пределах Ничто, трансцендентной ситуации когда Абсолют еще не «трансформируется» в Неиное и ему как Предсущее не под-лежит Сущее, в котором содержится Иное. Можно сделать еще одно предположение: самосубъективацией в Ничто идеальная или чистая потенциальность переводится в абсолютную или чистую актуальность идеально предшествующую любым объективированным во вне формам актуализации. Как утверждает известный теолог Пауль Тиллих, «должна существовать чистая актуальность, так как движение от потенциальности к актуальности зависит от актуальности; поэтому должна существовать актуальность, предшествующая любому движению»[101].
Мы ранее уже высказывали интуицию о том, что Хаос одновременно есть и Пост-, и Пред-онтологией Абсолюта, которые между собой транс-трансцендентно изоморфны и переходят одна в другую в акте самоинверсии Абсолюта, когда “конец истории” и “начало истории” меняются своими “местами” в очередном круговороте Метаистории Духа, подготавливая таким образом новый Акт ее внутренней мистерии и порождения очередного экзистенциального Эона. Здесь нужны туманные поэтические образы, а не пробивающиеся к первосмыслам трансрациональные прозаизмы. Но другого выхода нет, приходится как-то фиксировать предельные интуиции, которые вряд-ли рационально придумываются автором, они сверх-авторские и если прорываются из Бессознательного, то их необходимо попытаться “передать” чисто символически, прибегая порой к грубым аналогиям хотя и самому порой не понять всего того, что пишется на пределе интеллектуальных возможностей. Восхождение к духовному истоку по силам отнюдь не философу, а мистику, т.е. не человеку переживающему абсолютное в релятивном, а человеку его экзистенциально проживающему. Первомиф - это самоинтерпретирующаяся трансрациональная метафора, интерпретировать которую с позиции изменяющегося Мира и призвана философия, так как она выступает Миро-Воззрением, а не Миро-Воспроизведением каким является мистика. На пределе философской рефлексии можно лишь предположить, что самосубъективации принадлежат внутренней стороне метаистории, стороне, обращенной во-внутрь Духа и связаны они с трансцендентным процессом свертывания онтологических свернутостей в единую пустотную “безосновную основу” - Свободу, в качестве неявного онтологического континуума, развертывание которого в иерархию универсумов и составляет содержание всемирной Истории или истории Всемира, ибо “множество есть лишь развертывание ее единства”.[102] Философия в предельной гностической ситуации стремится достичь слоя Бытия, который Ясперс называет Исток (Ursprung), однако для этого необходимо пройти через соответствующий “субъективный” внутренний акт непосредственного творческого переживания или “Истока”. Самосубъективация никакого отношения к внешнему миру не имеет, а если и имеет, то лишь в той мере в какой мир оказывается одухотворенным. «Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога (1 Кор 2, 12)». Посредством самосубъективации человек осуществляет духовное подвижничество, как бы воспроизводит в своей душе то, что осуществляется в глубинах Духа и тем самым оказывается субъектом Мистерии, внешняя сторона которой выглядит как Метаистория. «Дух, - писал Н.Бердяев, - и есть реальность, раскрывающаяся в экзистенциальном субъекте и через него, реальность, идущая изнутри, а не извне, не от объективированного мира»[103].
Субъективация субъективного. В пределах человеческого универсума берет свое начало новый этап метаистории, и зарождается собственно история феноменального человечества. Переход от метаистории к истории Шеллинг обосновывает стремлением субъекта перестать быть трансцендентно самотождественным, «чистым субъектом» и воплотиться всей своей экзистенциальной потенциальностью в поток жизни, быть не только ментальным Ничто, но и представлять собой Нечто, способное идеировать Жизнь. «Сам по себе и до себя он, - писал Шеллинг, - был сущностью (т.е. свободой от бытия), но не как сущность, ибо ему еще предстоял тот, если можно так сказать, роковой акт привлечения самого себя. Он еще стоял у той пропасти, уйти от которой он заставить себя не может. Ведь он либо остановится (останется таким, как он есть, т.е. чистым субъектом) - тогда нет жизни и он сам есть как ничто; либо он хочет самого себя - тогда он становится другим, нетождественным самому себе... более высокое всегда необходимым образом есть одновременно постигающее и познающее более низкое, что и непосредственно очевидно. Абсолютный субъект, который есть как ничто, делает себя нечто, связанным, ограниченным, стесненным бытием. Но он есть бесконечный субъект, т.е. субъект, который никогда и ни в чем не может исчезнуть; поэтому, поскольку он есть нечто, он есть также непосредственно и выходящий за пределы самого себя, следовательно, постигающий, познающий самого себя в этом бытии нечто. Как нечто сущее, он есть реальное, как постигающий его - идеальное, следовательно, здесь и эти два понятия (реального и идеального) впервые попадают в сферу нашего рассмотрения»[104]. Бесконечный Субъект превращается в Множественного Субъекта – в некую совокупность субъектов, каждый из которых одновременно представляет собой и абсолютное Ничто и воплощенное Нечто. В качестве Нечто субъект представлен в качестве такой ментальной тотальности, чей статус оказывается на онтологический порядок ниже по сравнению с Бесконечным Субъектом, в связи с тем, что Антропный Субъект есть уже не Единый Субъект, а представляет собой антропное множенство субъективных индивидуальностей, каждая из которых в себе не содержит всей тотальности непроявленной экзистенции, а является лишь одним из модусов антропной формы существования, одной из субличностей целостного Менталитета. В.С.Соловьев считал, что абсолютное во всей вечности различается на два полюса или два центра: первый - начало безусловного единства или единичности как такой, начало свободы от всяких форм, от всякого проявления и, следовательно, от всякого бытия; второй - начало или производящая сила бытия, то есть множественности форм. С одной стороны, абсолютное выше всякого бытия, есть безусловное единое, положительное ничто; с другой стороны, оно есть непосредственная потенция бытия[105]. Однако понижение онтологического статуса здесь еще не приводит к образованию некоего объекта, объективной реальности, а связано с развертыванием целостной субъективности в ее экзистенциальную множественность, т.е в некую развернутую субъективную реальность, реальность Иерархического Субъекта.
С понижением онтологического статуса Субъекта, субъективная реальность из трансцендентной, превращается в феноменальную, существенно расширившуюся за счет межсубъектных отношений. К сожалению объектоцентристское мировоззрение, ставшее доминирующим в век научно-технической революции закрепил в сознании современного человека в качестве абсолютно положительного и конструктивного понятие «объективной реальности», при этом если порой речь и заходит о «субъективной реальности», то не иначе как в негативно-деструктивном плане, как о такой сфере сознания, в которой укоренены всевозможные иллюзии, заблуждения и проч. Более того, если «объективная реальность» предельно онтологизируется, то «субъективная реальность», в основном, психологизируется. Именно такое положение «субъективной реальности» в современной картине мира, как реальности производной, вторичной и, в основном, онтологически ущербной делает ее включение в понятийный аппарат антропологической историософии крайне затруднительной. С подобного рода трудностями сталкивались те философы, которые мир рассматривали не иначе как сквозь призму реальности человеческого существования. К таким мыслителям прежде всего необходимо отнести С.Л.Франка и Г.С.Батищева. «Бытие самого субъекта, - писал С.Л.Франк, - не «субъективно»; не принадлежа к составу объективной действительности, оно остается подлинной, в известном смысле самодовлеющей, прочно утвержденной первичной реальностью. Эта реальность гораздо более полновесна и значительна, чем объективная действительность. Ибо я могу в известностной мере «закрыть глаза» на объективную действительность, уйти, отстраниться, отрешиться от нее, потерять связь с нею; но я никак и никуда не могу уйти от реальности внутренней, от реальности моего собственного «я»; она есть и остается во мне, она есть само существо моего бытия, живая, конкретная его глубина и полнота, сущая во мне, даже когда я ее не замечаю. Именно в этом смысле и религия, и философия всех времен учат, что собственная «душа» или жизнь есть достояние более важное и нужное человеку, чем все богатства и царства мира. Ибо все внешнее и объективное существует для меня, доступно мне и имеет для меня значение лишь в его отношении к этому первичному непосредственному бытию меня самого. Не внутреннее бытие, а именно внешний мир есть если не безразличный, то все же относительно второстепенный спутник нашего подлинного бытия, раскрывающегося в описанной первичной, непосредственной реальности внутренней жизни личности. Где отсутствует всякое сознание этой интимной реальности, там мы имеем дело уже с обезличением личности, ее духовным умиранием или параличем – явлением, характерным для нашей суетной эпохи»[106]. В то же время С.Л.Франк понимает, что ему будет весьма трудно утвердиться своим мнением о первичном характере «субъективной реальности» в самосознании современного человека, изрядно подпорченного объектоцентристским мировоззрением, а потому он предлагает развести понятия субъектное и субъективное, придав первому понятию положительное аксиологическое значение, а второму – негативное. Когда какое-нибудь представление, утверждает С.Л.Франк, ошибочно принимается за знак или удостоверение явления, относящегося к внешнему объективному миру, мы называем его «субъективным» в смысле его иллюзорности. В отличие от иллюзий субъективности, утверждает он, «субъектное» бытие не менее реально, чем бытие внешнеобъективное. Уже в наше время, видимо независимо от С.Л.Франка такое искусственное разделение понятий «субъективное» и «субъектное» предпринимает Г.С.Батищев. Это довольно искусственное разделение семантических близнецов лишний раз свидетельствует, как неимоверно трудно оставаясь в рамках объектоцентризма осуществлять субъектный подход к реалиям человеческого существования. В рамках субъектоцентризма в такой методологической хирургии нет особой необходимости. Непротив возникает прямо противоположная задача, задача вписывания «объективной реальности» в субъективную Реальность или реальность Субъекта.
Когда мы анализируем онтологическую специфику человеческого универсума и сводим ее к перманентно расширяющейся субъективной реальности это совершенно не означает, что на этой метаисторической фазе совершенно отсутствует так называемая объективная Реальность или реальность Объекта, просто Объект на этой фазе еще не противостоит Субъекту в качестве его независимой от него онтологии – онтологии универсума объективаций. В родовом, человеческом универсуме субъекту противостоит не объект, а другой субъект, единый антропный статус Субъекта как бы делится пополам и человеческий универсум свою онтологическую целостность и универсальность обретает лишь тогда, когда субъекты своими индивидуальными экзистенциями вступают в отношения субъектной взаимодополнительности, в субъектно-субъектные отношения общения, в процессе которого складывается и функционирует единое антропное со-Бытие, совместное Бытие. В связи с тем что онтологическую основу человеческого универсума составляют субъектно-субъектные отношения или отношения между антропными субъектами, господствущим экзистенциальным механизмом развертывания собственно человеческих качеств и способностей оказывается уже не самосубъективация, а субъективация субъективного.
Субъективация субъективного есть метаисторический способ развертывания Бесконечного Субъекта в бесконечную множественность антропных субъективаций. Здесь каждый субъект для другого субъекта выступает как бы объектом для персонифицированной, личностной самоактуализации. Один внутренний мир по отношению к другому внутреннему миру, выступает его, объектно неопосредованным внешним миром. “Субъект есть в его чистой существенности, - писал Шеллинг, - как ничто - полное отсутствие каких бы то ни было свойств, есть до настоящего момента лишь он сам и поэтому - полная свобода от всякого бытия и по отношению ко всякому бытию. Однако он неизбежно должен привлечь к себе самого себя, ибо он лишь для того субъект, чтобы стать самому себе объектом, поскольку предполагается, что вне его нет ничего, что могло бы стать для него объектом. Но, привлекая к себе самого себя, он уже есть не как ничто, а как нечто, в этом самопривлечении он превращает себя в нечто; следовательно, в самопривлечении заключено происхождение бытия чем-то или объективного, предметного бытия вообще. Однако в качестве того, что он есть, субъект никогда не может владеть собой, ибо именно в привлечении себя он становится другим; это - основное противоречие, можно сказать, несчастье, присущее всякому бытию; субъект либо оставляет себя, тогда он есть как ничто, либо сам себя привлекает - тогда он уже другой, нетождественный самому себе - уже не стесненный бытием, как раньше, а стеснивший себя бытием; он сам воспринимает это бытие как привлеченное и тем самым случайное”.[107] Привлеченным субъектом становится та часть его Я, которая обращена к Ты как к своей внешней ментальной проекции.
Субъективация субъективного есть форма перевода антропных потенциальностей Ты в актуализированные ментальные формы Я, и, напротив, антропная потенциальность Я в состоянии актуализироваться лишь в ментальных структурах Ты. Процесс субъективации субъективного в самом широком плане есть некий бесконечный континуум взаимопереходов Я в Ты и Ты в Я, результатом которого выступает перманентно расширяющийся человеческий универсум - Мы. На континууме субъектных взаимопревращений Я-Ты происходит становление Человечества в качестве особого Феномена. Индивид, включаясь в бесконечный поток метаисторических субъективаций субъективного, достраивает себя до Человечества, выступая при этом связующим звеном между мирами ноуменальным и феноменальным. “Мы, - писал Ф.Ницше, - нечто большее, чем индивид: мы сверх того вся цепь, вместе с задачами всех этапов будущего этой цепи”.[108] В этой цепи субъективаций субъективного каждый из индивидов, оказывается уникальным Микрочеловечеством, а человечество - Макроиндивидом. Антропное Я, антропная субличность в ментальности человека сформировано огромным числом субъективаций субъективного, в конце концов обретшая свою “конечную” форму субъективности в рамках конкретной личностной определенности.
Объективация субъективного. Каждая ступень перманентного автоэманирования Первосущего - это довольно сложный синтез объективного и субъективного, где субъект постепенно понижает свой онтологический статус, а объект в той же мере его повышает. Вектор развертывания потенций Первосущего направлен не вверх, а вниз. В процессе своего нисхождения Дух воплощается во все более конечные и релятивные формы бытия, оставаясь при этом трансцендентно самотождественным. Абсолютное и субъективное все более нисходит в релятивное и объективированное, инобытийствуя в них. Объективация - это процесс воплощения субъективных свойств и способностей Человека в процессы, явления, вещи, которые составляют онтологическую основу его внешнего мира. Мир объектов в экзистенциальном плане есть процесс овнешнения, овещнения, обмирщвления Субъекта. Все это вмещается в понятие «объективация субъективного», в процессе которого внутренний мир оказывается воплощенным во внешнем мире Субъекта. В субъектоцентризме, во всех мировоззренческих схемах, в которых основанием служит Бог как Абсолютный Субъект понятие объективация является одним из ключевых. Субъект в процессе своей жизнедеятельности объективируется, то есть воплощается в определенных внешних формах бытия. Определенная часть субъективной реальности удваивает себя в объективной реальности, которая творится ею в целях обретения «онтологической тверди», отталкиваясь которой Субъект обретает способность более интенсивно восходить к своим трансцендентным Началам. Весь мир окружающий субъекта есть ни что иное как универсум его объективаций, совокупность его актуализированных потенциальностей, экстериоризированных его внутренних качеств и способностей. В объективациях в воплощенной форме присутствует та часть субъективного, которая способна экстериоризироваться не в другого субъекта, а в Вещь, не в Ты, а в Оно. «Овещнение, - считает Г.С.Батищев, - есть такой социально-исторический процесс и в то же время такое социально-историческое отношение, в сфере действия которого происходит практическое низведение всякой действительности до уровня объектно-вещного бытия»[109].
Мир как некая онтологическая целостность есть результат, итог метаисторической объективации субъективного начала. Так для А.Шопенгауэра мир есть творение волевого начала, кристаллизирующегося в различных объективациях.[110] Объективация в качестве относительно самостоятельного онтологического феномена появляется лишь тогда, когда мировоспроизводящей практикой становится деятельность, господствующая в пределах социального универсума. Происходит существенное понижение онтологического статуса субъекта, в иерархической ментальности человека появляется социальная субличность, социальное Я, в качестве нецелостного, частичного элемента социальной Тотальности или тотальности Социума, который в качестве социальной реальности и оказывается первой, вполне целостной и универсальной формой внешнего и объективного мира. На общем контуре деятельности субъекту противостоит уже не другой субъект, а объект, как некая объективация и его Я и его не-Я, т.е. Ты. Социальная Вещь или социальное Оно есть ни что иное как результат взаимной объективации взаимо-действия Я и Ты. Объект в его социальной форме представляет собой совокупность объективаций субъективностей, участвующих в едином для них всеобщем деятельностном процессе.
Объективация субъективного есть способ каким осуществляется социальное становление человека на пути его нисхождения в мир объектов. И это вполне позитивный онтологический механизм, посредством которого Миро-Здание достраивается до своего социального этажа, а человеческая ментальность в своей многоуровневой структуре обретает еще одну субличность, укореняющуюся во внешнюю социальную действительность. Впервые человек начинает воспринимать свой внешний мир как некую внесубъектную, деперсонифицированную реальность, к которой необходимо адаптироваться посредством подчинения внешним же нормам социального долженствования. Однако в связи с тем, что социальное Я иерархически подчинено антропному и трансцендентному Я, наделенному высшими, надсоциальными онтологическими статусами, то в целом во взаимоотношениях Человека и Общества, последнее все же оказывается под экзистенциальным воздействием со стороны первого. “Ничто объективное, ставшее объектом, - писал Н.Бердяев, - не имеет внутреннего существования. Внутреннее существование имеет лишь субъект, внутреннее существование имею "я" и имеешь "ты", имеем "мы". Поскольку мы признаем реальность "мы", оно не мыслится как объект. Объективного духа не существует, существует лишь объективация духа”.[111] Не общество экзистирует как нечто внеположное субъекту, а субъект организует свою общественную жизнь таким образом, чтобы она стала некой социальной твердью, опираясь на которую иерархическому человеку можно более эффективно развертывать свои феноменальные и ноуменальные потенциальности.
Общество, в пределах его гармонии с человеком, оказывается всего лишь превращенной и объективированной формой многоуровневой экзистенции, а потому и саму объективацию субъективного можно рассматривать в качестве онтологической вложенности в субъективацию субъективного и самосубъективацию. Социальная метаисторичность есть бесконечный ряд объективаций субъективного и субъективаций объективного в результате которых социальный субъект и его овнешненный мир социальных объективаций оказываются в отношении взаимодополнительности, придающей единой Экзистенции или экзистенции Единого дополнительную онтологическую устойчивость, столь необходимую для процесса перманентного самостановления Неиного, нисходящего во все более плотные слои Сущего.
С возникновением социального универсума впервые за всю историю человечества единый мир человека раздваивается на субъективную и объективную реальность, причем механизмом такого рассечения мира и становится практика объективации субъективного. «Анализируя формы духа, - писал Э. Кассирер, - мы не можем начать с констатации догматического разграничения субъективного и объективного, но что их разграничение и определение их сферы впервые происходит лишь с помощью самих этих форм»[112]. Возникшая в процессе социализации человека объективная социальная реальность становится той самой онтологической формой, которая начинает активно противостоять не только внутреннему субъективному миру, но и всему целостному существованию Человека. Лишь будучи иерархически соподчиненной субъективной реальности объективная реальность имеет положительное онтологическое значение для целостного Мирозания. В противном случае она оказывается онтологической твердью не для Неиного, а Иного. «Не «объект» – не то, что предстоит нашей мысли, - считал С.Л.Франк, - а, напротив, сам «субъект», в его непосредственной данности самому себе, есть откровение подлинного существа реальности. Как бы много спорного, смутного и неверного ни было в систематических построениях Канта и его преемников, возникших на основе этой первичной интуиции, навсегда ценным остается общий итог того поворота сознания – говоря словами Платона, «поворота глаз души» – извне вовнутрь, в силу которого существо реальности открывается не так, как она извне предстоит в качестве «объективной действительности», а так, как она есть и обнаруживается в живых глубинах самосознания»[113]. Лишь генетическая связь «объективной действительности» с действенной действительностью Человека в состоянии конституировать ее в качестве одной из форм истинной реальности, в которой Неиное обретает свое объектное инобытие.
Объективация объективного. Объективация в чистом ее виде в многомерной человеческой экзистенции возникает тогда, когда расширяющаяся Вселенная Абсолюта втягивается в Природу как универсум объектов. Если Природа, в ее узком понимании, есть универсум естественных объектов, то Технология - это совокупность превращенных искусственных объектов. Природа - есть естественная Технология, а Технология - искусственная Природа (“вторая природа”). Природа имеет свою особую метаисторию постольку, поскольку втягивается в иерархию метаисторий посредством объективации объективного, восходящей через ряд промежуточных вложенностей (объективация субъективного, субъективация субъективного) в самосубъективацию Абсолюта.
Основу природно-технологического универсума составляют объектно-объектные отношения, в которые вступают отелесненные Субъекты или субъективированные Тела (персонифицированные объективации). Происходит еще большее понижение онтологического стуатуса Субъекта и предельное его повышение у Объекта. В ментальности иерархического человека возникает телесная (рациональная) субличность, укорененная в универсум объективаций.
В самом общем виде объективацию объективного можно определить в качестве механизма, позволяющего многомерной человеческой экзистенции наконец-то окончательно опуститься на онтологическую твердь, какой является объективная реальность (как говорится “опуститься с неба на землю”). Возникает самая низшая, обмирщвленная, овремененная и объективированная ниша многоярусного человеческого бытия экзистенциально иррелевантная телесно-рациональному Я. В “конце” метаистории несубстантивный Бесконечный Субъект обретает абсолютно субстанциальный мир, в качестве тверди, над которой возвышаются высшие этажи Миро-Здания, являющиеся покоями Духа. Как подчеркивал Г.С.Батищев, “такой онтологический Абсолютно Низкий Центр, такое подо-всем-лежащее и называется в субстанциализме Субстанцией”.[114] Отталкиваясь от онтологической тверди, Консолидированный Иерархический Субъект начинает свое возвратное восхождение по метаисторическим ступенькам к экзистенциальным истокам, в апофатические глубины Духа. Процессом, противоположным объективации, выступает творчество, дающее субъекту возможность перманентного духовного восхождения. “Творчеству, - писал Г.С.Батищев, - сродни лишь атмосфера субъектного созидательства, атмосфера нескончаемого созидательного восхождения человека ко все большему совершенству”.[115] В процессе самотрансцендирования, онтологический статус Субъекта от ступеньки к ступеньке все более повышается, и, напротив, он понижается у “внешних миров”, чем и преодолевается отчужденность «внешнего человека» от «внутреннего человека». Иерархически сопряженные между собой трансцендирование, актуализация, социализация и рационализация - есть определенные ступени негэнтропии человеческой активности. Будучи взаимообусловленными они дают человеку возможность в каждой точке метаистории проявлять свои интенции имманентным образом, то есть внутренне соответствовать перманентному процессу распаковывания Пустоты в Полноту. В то же время эти ступеньки возвращения в лоно Трансцендентного выступают ступеньками духовного творчества – единственной лестницы по которым человек в состоянии выбираться из плена отчужденных самообъективаций. «Подлинная духовность, - считал Н.Бердяев, - есть процесс, обратный отчуждению и объективации»[116]. Без перманетного возвращения в лоно Духа, считал Н.Бердяев, творчество может объективироваться, ослабевать и охлаждаться, и тогда его результаты могут представляться объективным бытием.
"Механизм мировоспроизведения", наряду с формой времени является важнейшей категориией историософии, позволяющая вскрыть таинство определенного этапа метаистории. Каждый "слой", "уровень" бытия и соответствующая ему форма человеческого Я обладают особым экзистенциальным "механизмом мировоспроизведения", рассмотренные нами выше. Если Вселенная Абсолюта расширяется по «трансцендентной норме» и Сущеее представляет собой лишь воплощенное Неиное, самосубъективация, субъективация субъективного, субъективация объективного и объективация объективного составляют собой целостную иерархическую систему механизмов мировоспроизведения.
Креация Общение Деятельность Познание
Трансценденция Актуализация Социализация Рационализация
![]()
![]() S
O
S
O
Само- Субъективация Объективация Объективация
субъективация субъективного субъективного объективного
Схема 5. Континуум метаисторических способов, практик
и механизмов миротворения.
В первой книге «Суммы антропологии» мы осуществили анализ иерархии способов мировоспроизведения (креация, общение, деятельность и познание) и соответствующих ей иерархии мировоспроизводящих практик ( трансцендирование, актуализация, социализация и рационализация), построением иррелевантной им иерархией механизмов мировоспроизведения мы как бы достраиваем картину миро-творения до само-творения (схема 5), до структуры творческих способностей Субъекта, посреством которых внешний мир начинает восприниматься как вполне субъективно мотивированное, обладающим собственно человеческими смыслами. Это позволяет несколько прояснить смысл истории, который есть ни что иное как воплощенный смысл самого многомерного человеческого существования. «Религиозный смысл мирового процесса, - писал Н.Бердяев, - в том и заключается, что свобода побеждает необходимость, благодать побеждает закон, мир сверхприродный побеждает мир природный. Победу эту нельзя мыслить механически и внешне, она совершается внутренне и органически, осуществляется таинственно и для непосвященных непостижимо»[117]. Субъектом своей истории является Человек, а не «объективный исторический процесс» и если его история идет по нисходящей линии, то в этом есть высшая целе-трансцендентность, позволяющая Субъекту своей перманентной самообъективацией достраивать имманентную ему «субъективную реальность» до самых низших объективированных форм.
Сформулируем ряд основоположений, составляющих суть субъектоцентристски ориентированного метаисторического сознания:
Во-первых, важнейшим положением метаисторического сознания является признание того, что изначально Единый Субъект затем развертывается во Множественного Субъекта с целой иерархией субличностей. “Всякое множество, - писал Прокл, - будучи ближе к единому, количественно меньше, чем более удаленное от единого, но по потенции больше... менее умноженное более сродно единому, способное производить большее более сродно причине всего и обладает большей потенцией. Из этого ясно, что телесных природ больше, чем душ, а душ больше, чем умов, умов же больше, чем божественных единичностей. И это рассуждение применимо ко всему”.[118] Абсолют порождает субъекты, а не объекты, однако порожденные им субъекты овнешняясь и объективируясь создают “внешний” и “объективный” мир. Таким образом метаистория есть процесс последовательной объективации субъектов результатом которой и выступает Миро-Здание.
Во-вторых метаистория есть проявление мистерии, разыгрываемой в глубинах Духа. Абсолют явно “играет” на понижение онтологического статуса Субъекта и на повышение статуса Объекта, что позволяет Ему нисходить во все более объективированные слои Им же Самим сооружаемого Мироздания. “Всякая причина, дающая начало каждому ряду; - учил Прокл, - уделяет данному ряду свое отличительное свойство. И то, что она есть первично, данный ряд есть ослабление”.[119] Метаистория есть трансцендентный процесс становления Абсолюта в качестве Неиного, в результате которого Ничто полностью “вырабатывает” свои латентные, непроявленные структуры в явные и проявленные структуры Нечто. История расширяющейся вселенной Абсолюта есть как бы внешняя сторона его космо-антропо-социо-природогенеза как Бесконечного Субъекта.
Во-третьих, метаистория есть история вселенских циклов становления Сущего, основу которых составляет перманентный процесс порождения кайросом все более интенсивных форм хроноса. Как считает Пауль Тиллих, история исходит из периода теономии и движется в направлении к периоду теономии, когда обусловленное открыто безусловному, не объявляя безусловным самое себя. Теономия соединяет абсолютный и относительный моменты в интерпретации истории, объединяя требование, чтобы все относительное стало выражением абсолютного, с пониманием того, что ничто относительное само никогда не может стать абсолютным... согласно учению о кайросе, в историческом процессе нет логической, физической или экономической необходимости. Он движим тем единством свободы и судьбы, которое отличает историю от природы.[120]
Ритмическую основу развертывания экзистенциальных свернутостей составляет мировая гармония. Креационистски-эманационные ступеньки метаистории есть ни что иное как единый экзистенциальный гармонический ряд вытягиваемый кайросом из Вечности. “Вечное - учил Николай Кузанский, - не иное ни для чего из всего становящегося, хоть оно само и не становится. Тем самым оно начало и конец возможности стать; становлению вечного, возможность стать миром явно отсылает к миру-архетипу в вечном уме бога”.[121]
В-четвертых, гармонический ряд универсумов, порождаемых метаисторией восходит к внутренней гармонии Духа. Предустанавливаемая Абсолютом мировая гармония в состоянии развертываться, если своей многоуровневой экзистенцией Иерархический Человек созвучен ей, входит с ней в унисон. Человеческая история лишь тогда оказывается экзистенциально конструктивной, если развертывается во всеобщих метаисторических координатах.
В-пятых, как начало так и конец человеческого существования метаисторичны и от того насколько динамика его экзистенции соответствует теогоническому процессу зависит форма его исхода из данного метаисторического эона. Будет ли этот исход перманентным возвращением к своим первоначалам или же он будет происходить в форме Апокалипсиса. Не только от Бога, но и от Человека зависит способ его восхождения от Конца Истории к ее Началу.
С позиции философского субъектоцентризма в единой Метаистории или метаистории Единого как трансцендентного процесса Его развертывания во Множественное можно выделить метаистории астрального, антропного, социального и телесного субъектов, иррелевантные космо-антропо-социо-природогенезу (схема 6). Это последовательно убывающий ряд экзистенциальных монад, “экзистенциальных сгущений” между собой иерархически соподчиненных, в котором низшие экзистенциалы генетически и функционально обусловлены высшими. Низшее не существует в снятом виде в высшем как нечто преодоленное им, а неявно предсуществует в нем как нечто еще метаисторией не порожденное, не развернутое во вне.
Метаистория Метаистория Метаистория Метаистория
астрального антропного социального телесного
субъекта субъекта субъекта субъекта
![]()
![]()
![]()
![]() S
O
S
O
![]() Само- Субъективация Объективация Объективация
Само- Субъективация Объективация Объективация
субъективация субъективного субъективного объективного
Схема 6. Континуум метаисторий Иерархического Человека
Метаистория астрального субъекта. Этот первичный вид метаистории связан с процессом эманирования Абсолютом первичными, а потому и базисными праформами человеческой экзистенции, трансцендентным переводом сакрального в космологическое в праментальном пространстве первозданной Пустоты, Ничто. Астральная метаистория охватывает переход теогонии в космогонию и развертывание последней в космогенез человека, обладающего уже некими признаками историчности, то есть свойствами характеризующими относительную автономию экзистирования астрального субъекта от породившего его Абсолюта за пределами его вечного и бесконечного существования, то есть в первично овремененных и овнешненных онтологических структурах космического универсума, перманентно развертывающихся и свертывающихся в систему внутрисубъектных отношений Микро- и Макрокосма.
Мишель Фуко считает, что новая форма дискурса обусловлена поведением так называемых основопологающих субъектов, появляющихся на изломах исторических эпох. «Основополагающему субъекту, - пишет он, - вменяется в обязанность непосредственно своими намерениями вдыхать жизнь в пустотные формы языка; именно он, пробиваясь сквозь плотность и инертность пустых вещей, вновь обретает – в интуиции – тот смысл, который был, оказывается в них заложен; именно он опять же, по ту сторону времени, создает горизонты значений, которые истории в дальнейшем придется лишь эксплицировать, и где высказывания, науки, дедуктивные ансамбли найдут, в конечном счете, свое основание. По отношению к смыслу основополагающий субъект располагает знаками, метками, следами, буквами, но для того, чтобы их обнаруживать, ему нет нужды проходить через особую реальность дискурса»[122]. Астральный субъект как не только основополагающий, но в плане собственно человеческой экзистенции изначальный, появляется на стыке теогонии и антропогонии.
Начало становления космического универсума приходится на так называемый “переходный период” в метаистории, который можно обозначить сакрально-астральным осевым временем. Пик этого времени насыщенного кайросом, К.Ясперс относит к историческому периоду между 800 и 200 гг. до н.э. Это были времена великих пророков, мудрецов и философов. Именно в этот период были заложены основные теологические и метафизические принципы отношений формировавшегося родового человечества на основе трансцендентного в экзистенции, Неиного в Сущем. В это осевое время возникает некий трансцендентный синтез человеческой метаистории, в результате которого впервые наиболее четко формулируются приоритеты сакрального над человеческим в расширившейся человеческой экзистенции, приоритеты целостного и универсального существования в Духе над родовой формой бытия. Что же возникло нового в мироощущении? Человек начинает остро осознавать бытие в целом, самого себя и свои границы.
В это осевое время у многих мыслителей прорываются интенции об изначальной гармонии духовного космоса. Гераклит утверждал, что “скрытая гармония лучше явной”, разумея под скрытой гармонией такую гармонию, в которой под действием божественной силы находятся в неявном состоянии все различия и моменты инобытия. Первые теологи и философы древности изображали богов с музыкальными инструментами в руках для того, чтобы показать, что гармония и созвучие являются достойнейшими атрибутами богов. Идеальные числовые соотношения считались проявлением гармонии и внутреннего единства мировой души.[123] С реликтовыми всплесками сакрально-астральной формы кайроса связано возникновение великих монотеистических религий.
Итак, человек начинает осознавать не только свою сопричастность с космосом, но и свое родовое именитство, свои общечеловеческие интересы. В то же время он начинает остро осознавать трагическую рассогласованность между сакральной и собственно человеческой формами существования. К.Ясперс делает вывод, что именно в осевое время перед человеком открылся весь ужас мира и собственная беспомощность. Стоя над пропастью, человек ставит радикальные вопросы бытия, требует своего освобождения и спасения от мира. Ощущение исключительности осевого времени ведет к осознанию того, что данному настоящему предшествовало бесконечное прошлое, что ныне человек живет в период глубокого духовного упадка. Люди ощущают близость катастрофы, преодолеть которую пытаются путем реформ. Именно в это осевое время мудрецы, пророки и философы сумели написать такие тексты, в которых отражался завет, договор Бога с человеком о приоритетности сакрального над человеческим, родовым в его эмпирическом существовании.
Содержанием метаистории астрального субъекта выступает космогенез человека, процесс субъективации Образа и Подобия Бога в Существо, субъектность которого обладает уже не абсолютным, а космическим онтологическим статусом, т.е. статусом не Микротеоса, а Микрокосма. Человек-Микрокосм не имеет своей истории, так как являясь образом и подобием Бога в процессе своего космогенеза всего лишь субъективирует эти образ и подобие в некую протоментальную целостность, хотя и отличную от пустотной и бессодержательной абсолютной Ментальности или ментальности Абсолюта. Существо, праментальность которого перманентно развертывается в полноту Космического Разума, Космологического Самосознания, будучи при этом трансцендентно и органично связанным с Теосом, продолжает выступать и Микро-Теосом. Его следовало бы называть Микро-Тео-Космом или Бого-Человеком, причем человеческое в этом существе еще не обладает феноменально-антропологическими свойствами. Скорее всего - это Бог, обретший космологическую субъектность на пути перманентного самостановления в качестве Человека. Это существо, которое еще не стало Человеком, но уже перестало быть только Богом. Астральный субъект с одной стороны может рассматриваться как ментальная внемирная праформа Человека и обмирщвленная постформа Бога. В трансцендетном своем генезисе Микрокосм и Микротеос выступают в качестве свободных соавторов самокреации. “Для того чтобы драма миротворения не превратилась в комедию, в лишенную смысла игру Бога с самим собой, - писал Н.Бердяев, - нужно допустить, как пограничную идею, идею несотворенной свободы. Тогда можно допустить, как допускает о.С.Булгаков, что человек выразил согласие на его сотворение, иначе это ничего не значит”.[124] В этой связи можно говорить лишь о метаисторичности нашего первопращура, связывавшей между собой перманентный акт самопорождения Человека в вечности в Образе и Подобии Бога и во времени в качестве Существа наделенного космическим статусом, призванным активно участвовать в космогенезе Сущего. Наш первопращур несомненно обладал всей полнотой своей собственной, еще свободной и от него неотчужденной экзистенцией. Это вынужден был признать и сам основоположник диалектического материализма. “На более ранних ступенях развития, - писал К.Маркс,- отдельный индивид выступает более полным именно потому, что он еще не выработал всю полноту своих отношений и не противопоставил их себе в качестве независимых от него общественных сил и отношений”.[125]
Космогенез как внутреннего, так и внешнего миров Человека является Сущностью его Существования само-осуществлявшегося уже как бы за пределами “внутренней” Онтологии Первосущего во “внешних” пределах Космического Универсума, основу которого составляют его собственные “экстериоризованные” внутрисубъектные отношения. При переходе от теогонии к космогонии «внутреннее» и «внешнее» в экзистенции весьма условны, они неприменимы в качестве порождений рационального дискурса к универсуму внутрисубъектных отношений, в которых Бог и Человек образуют собой единую протоментальную целостность – Богочеловек. «Категории «вне» и «внутри» – писал С.Л.Франк, - не только в наглядно-пространственном, но и в общелогическом их смысле, - категории, конституирующие все частные содержания мысли и отношения между нами, - по существу неприменимы к Богу. Бог не есть частное содержание, - Он есть всеобъемлющее и всеопределяющее единство. Сами категориальные моменты «вне» и «внутри» не определяют Его, а определены Им. Поэтому «вне» (как и всякое «внутри») полагается самим Богом, есть само момент Его всеопределяющей бесконечной полноты»[126]. Отношения между Богом и Человеком мы обозначили как «внутрисубъектные» исходя из того, что на последующих этапах метаистории человек вступает с самим собой и с миром и в принципиально иные отношения, порой объектно относясь не только к миру, но и к самому себе. На заключительном этапе человек и мир настолько дивиргируют друг от друга, что «внутреннее» и «внешнее» становятся абсолютно противополагающими сторонами относительно единого экзистенциального тождества.
Начало человеческой метаистории уходит в апофатические глубины Духа, а потому и должно рассматриваться в качестве генезиса особого духовного процесса, связанного со становлением человека в качестве Микрокосма. Это Начало, растянутое на тысячелетия есть ни что иное как процесс духовного становления человечества, накопленный в начальный период метаистории духовный опыт является тем трансцендентным базисом, который в ходе истории лишь «расходуется», послепенно аннигилируя в ходе перманентного нисхождения Неиного в Сущее. “В начале истории, - писал К.Ясперс, - обнаруживается некий как бы накопленный в доисторическую эпоху капитал человеческого бытия, являющий собой не наследуемую биологически, а историческую субстанцию, которая может быть увеличена или растрачена. Это - нечто, действительно существующее до всякого мышления, что не может быть сделано или преднамеренно создано. Значение этой субстанции раскрывается посредством совершающегося в истории духовного процесса. В ходе этого процесса она претерпевает изменения”.[127]
В ходе метаисторического космогенеза Человека, в его праментальность трансцендентно свертываются неявные исторические структуры, которым предстоит развернуться во-вне, в перманентном акте миротворения. Более того содержание этой непроявленной “исторической текстуальности”, фиксируемой структурами потенциального бессознательного обретают и свой особый именной контекст. Человек - это именитствующий Бог, а Бог - безымянный Человек. Безымянный Самопроект становящегося Бого-человека, на стадии космогенеза обретает свою именную форму. Это делает процесс развертывания свернутостей в абсолютной пустотности космологически вариабельным, хотя и рационально непредсказуемым.
Культ посредством символов фиксирует в плазме человеческой души сакральное, святое, связанное не только с сохранением, но и развертыванием изначальной пустотности и бесконечности бытия. Человек, как становящийся Бог, одержим стремлением вырваться за пределы исторических обстоятельств для достраивания себя до метаисторической целостности и универсальности. Бог как Дух не «вне» и даже не «внутри» человеческой души, здесь мы имеет отношение с двумя модусами Неиного – сакрального и человеческого. Все монотеистические религии в своем первозданном виде побуждают лишь к одному - к служению Богу, а по сути к Его Образу и Подобию, что имманентно принадлежит трансцендентному в Человеке. Монотеистические религии стараются направить всю совокупность духовных процессов на слияние человека с беспредельным мирозданием, на достижение адекватности его жизнедеятельности животворному Началу. Именно здесь лежит разгадка духовной природы человеческого творчества. Творчество и есть проникновение в глубинные, непроявленные слои символической реальности, интенционально - изнутри вовне идет поток творческих преобразований наличной действительности. В пределах логики нельзя нечто со-творить, открыть. В научном познании все запрограммировано господствующей парадигмой. В творчестве же человек является самотрансцендирующим существом, он прерывает свою тождественность этому миру и выходит на его более целостное и универсальное понимание.
На значительно продвинутом этапе космогенеза, когда космогенез начинает постепенно замещаться антропогенезом, единое человеческое именитство распадается на совокупность именных экзистенциальных форм, космологически между собой взаимосвязанных. Этнос есть уже не трансцендентально абстрактная, а космологически конкретная по своей проявленности форма человеческого Именитства или имениствующего Человечества. От этноса к этносу передается эстафета, связанная с перманентным самораспаковыванием человеком своей "ментальной пустотности" в проявленный континуум личностных форм. Идет трансляция опыта означивания сущего от менее проявленных космологических этносов-именитств ко все более проявленным - народам. Рациональной основой этого опыта служат неявные формы знания (трансцендентные, эвалюативные, прескриптивные). Каждая из этих неявных рациональностей выступает семантическим основанием для более детального означивания Сущего. Утрачивая "внутреннюю логику" чуждого знания мифология продвинутого этноса обрастает само-бытными “превращенными знаниями”, истинные истоки которых затем забываются. Обретшие свою онтологическую неопределенность "чужие свои знания" обретают необходимую для символизации характер семантической неопределенности и текучести, содержащей в себе алгоритм дальнейшего ментального самораспаковывания. В пределах космоэволюции человека складывается интерэтническая символика, выступающая общим экзистенциальным кодом для семантического генофонда всего человечества.
Метастория человечества в предельно широком онтологическом контексте - это прежде всего история перманентного вхождения прачеловека в глобальную автоэволюцию с пустотным субъектом. Но это и история развертывания все более проявленных его именных форм, подготавливающий собой генезис атропоса или собственно человека, обладающего своей особой метаисторией. Реинтеграция новых этносов в трансцендентное прачеловечество на довольно поздних этапах космогенеза Человека, видимо, осуществлялось не иначе как путем кайро-логической инверсии в общей семантической структуре Менталитета. Новые этносы в своем само-бытном генезисе скорее всего наследовали не целостную семантическую систему, а лишь определеные ее модальности, которые сами в дальнейшем конституировались родовым самосознанием в качестве "самобытной" и "органичной" семантической системы. Видимо, наиболее полно генерализация конкретной семантической модальности находила свое символическое выражение в самоназвании нового этноса. Протоэтнос, не обладая своей собственной письменностью, но утрачивая прамифологическое обоснование своей именитствующей самости, посредством самоназвания несомненно осуществлял ретрансляцию каких то исходных метафизических смыслов, постепенно превращавшихся в тайный код его собственной Судьбы. “Народ, - писал Шеллинг, - обретает мифологию не в истории, напротив, мифология определяет его историю, или, лучше сказать, она не определяет историю, а есть его судьба (как характер человека - это его судьба); мифология - это с самого начала выпавший ему жребий”.[128]
Этносы физические и этносы метафизические отнюдь не тождественны друг другу, хотя порой обладают одним и тем же само-названием, как например древние и современные греки. В метафи-зических этносах символически и феноменально продолжает присутствовать все предыдущее человечество, вплоть до ветхозаветного Адама. В ментальности даже самого "молодого" этноса присутствует вся иерархия модифицированных символов, вплоть до самой его новейшей модификации, содержащейся в последней редакции "самоназвания", "самообозначения". И в те исторические ситуации когда тот или иной народ в свои роковые годины ощущает прилив сил, то эти силы сугубо трансцендентного, метаисторического порядка, они исходят из общей для всех этносов символической первоосновы, содержащейся в коллективном бессознательном. Этнос в метафизической ретроспекции и есть самоназвание, самоименитство человека, находящегося на определенном этапе своего ментального самопроявления, самораспаковывания. Вопрос заключается лишь в том, каким образом символизация придает импульс к автоэволюции этноса и каковы метафизические пределы его физического существования.
Космологическая метаистория человека заканчивается на том, что создается именная форма его исторического экзистирования, которая и составляет основное содержание протоантропной формы бессознательного, открытого для внешнего самоанализа в виде имени, которое по определению Лосева есть не что иное как развернутый во-вне миф.
Метаистория антропного субъекта. Антропная метаистория или метаистория антропоса связана с процессом перехода космогенеза в антропогенез. Это сверхистория о том, как из Бого-Человека выделялся и обосабливался Человек, постепенно обретая свою феноменальную определенность. “Человек призван, - писал Г.С.Батищев, - уважать и чтить превыше всего только то, что и на самом деле есть абсолютное Начало и Итог. Он может и должен жить в предстоянии лицом к лицу с самим этим абсолютным Началом-Итогом, и именно это уготовляет ему место среди всех существ чрезвычайно высокое, полифонически со-творческое. Поистине велика такая честь![129]” Однако на этапе антропогенеза в богочеловеческом синкретизме человеческое в человеке начинает все более феноменализироваться, а божественное – трансфеноменализироваться, т.е. человек все более начинает осознавать свою родовую сущность, ее особое отличие от сакральной сверхсущности. При явном расширении форм человеческого присутствия в мироздании за счет перманентно расширяющегося именитства, его ставшая иерархической экзистенция в идеале соответствовала столь же перманентно расширившемуся Неиному в Сущем.
Переход космогенеза в антропогенез мог быть обусловлен лишь переходом тео-космогонии в антропогонию. Сущность антропогенеза невозможно понять в категориях так называемой естественной истории, вне соответствующих метаисторических изменений, происшедших в сфере Духа. Переход от Ноумена к Феномену и последующее его укоренение во внеший феноменальный мир, первичной формой которого стал Человеческий Универсум связан с перманентным креативным процессом, а не с процессом естественно-историческим, как это принято полагать в объектоцентризме. Отдельной метаистории антропного субъекта, как и метаистории астрального субъекта быть не может это все трансцендентные этапы единой метаистории Духа, череда креативно-эманационных актов Мистерии Бесконечного Субъекта. Здесь Неиное представлено двумя Абсолютами, Богом и Человеком как становящимся Абсолютом. “Точнее” было бы космо-антропогенез человека обозначить метаисторией астрально-антропного субъекта, в процессе которой осуществляется развертывание свернутостей двух неявных структур Бесконечного Субъекта как ментальной пустоты в явную сложно-построенную ментальную форму, наделенную помимо космического еще и антропным статусом. Человек наделенный именем имеет уже и именную форму бытия, он именитствующий субъект, у него есть свое родовое имение. Оно замышлялось Богом в качестве онтологической “смотровой площадки” с которой Он в состоянии обозревать создаваемое им мироздание. Почти во всех религиях человеческая душа рассматривается как обитель Бога. Пока существовал один Адам человек был лишь объективацией Образа и Подобия Бога, с появлением же Евы произошло раздвоение единой человеческой “субстанции” на две половинки, единство которым придавала их родовая, феноменальная общность. Продолжая быть Образом и Подобием Бога, Человеку предоставилась возможность уподоблять уже своему человеческому образу бесконечный ряд индивидуализированных существ. Именно таким способом начинает формироваться его родовое имение, в которое он постепенно втягивает элементы космоса, давая им обозначения, содержащие в себе значения, закрепляющие за ними соответствующие функции в его особом феноменальном существовании. Эти ценностные значения начинают распространяться затем и на мир объективаций, вторичным творцом которого человек становится. Человек стал ценностно перевоссоздавать безымянный мир, который выплывал навстречу его творческим интенциям из пустотного и бесконечного прабытия.
Завершение становления космического в основном и начало становления человеческого универсума приходится на так называемый второй “переходный период” метаистории, который можно обозначить астрально-антропным осевым временем. В это время творили великие деятели культуры и искусства, открывшие гармонию в самом человеке и в его образе жизни. Особую метаисторическую миссию в гуманизации и эстетизации форм человеческого существования внесла Эллада, именно к ней восходят более поздние гуманистические идеи и идеалы, сформулированные эпохой Возрождения, которая была всего-навсего реликтовым всплеском астрально-антропной формы кайроса. Сфера Неиного в Сущем значительно расширилась за счет культуротворческого процесса, позволившего человеческому универсуму достичь определенной целостности и завершенности. Именно в этот период культура и искусство достигают предельной гармоничности, воспроизвести которую в последующие времена так и не удалось. Однако при этом из поля зрения основопологающего субъекта этой поры навсегда уходит образ целостного и трансцендентного бытия. «История, - пишет М.Фуко, - давно уже не пытается понять события при помощи игры причин и следствий внутри бесформенного целого некоего великого становления, безразлично; неопределенно гомогенного или жестко иерархизированного»[130].
Исследования метаисторической процессуальности становления человека как антропоса немыслимы без опоры на фундаментальное философско-антропологическое учение. Метаистория антропоса и его филогенез по сути своей есть две стороны антропогенеза человека. В пределах этого познавательного пространства антропология должна стать метаисторическим, а история метаантропологическим учением. В этой связи представляет особый интерес работа А.Игнатова “Антропологическая философия истории”, посвященая анализу истории в координатах антропологии. В полемике с социологическим и постмодернистским отрицанием истории А.Игнатов замышляет теорию поворота к “антропологической метафизике истории”. Логику своего исследования он выстраивает следующим образом: проблему познаваемости истории сменяет вопрос об ее онтологическом статусе (или “что” истории); затем - “как” истории (вопрос о механизмах ее функционирования) “сколько” (вопрос единства или множества историй) и “где” и “когда” истории (вопрос ее пространственно-временной определенности). История, считает А.Игнатов, это отношения между структурами сознания людей, принимающих участие в историческом процессе, или между отдельными индивидуальными носителями духа. Это онтологически нейтральная равнодействующая перекрещивающихся стремлений отдельных индивидов. Онтологическим же фундаментом истории является человеческий род. История - это Мы-бытие. Ведь “мы” невозможно без “я”. А “я” - это не часть “мы”, но скорее включает его в себя. То есть это и составляет “не-персональное в себе множественное измерение персонального духа”. Оно и составляет субстанцию истории. [131]
Истинность метаистории антропного человека определяется ее вложенностью в метаисторию астрального человека, восходящую к мистерии Духа. Лишь ощущая свою сопричастность к мистерии Духа, человек в состоянии осознать свою особую метаисторическую миссию. Лишь интегрируясь в целостность Духа, он в состоянии выстраивать последовательный ряд событий иррелевантных перманентному креативному процессу. “Если тебе удастся мысленно погрузиться в единое всеобъемлющее сущее и очутиться в его лоне, - учил Плотин, - не ищи ничего сверх этого, а иначе ты удалишься от него и, обратив внимание на что-либо постороннее, утратишь сознание его присутствия в себе. Не желая ничего более, ты почувствуешь в себе присутствие не какой-либо его части, а всего его; в этом состоянии ты даже самого себя не будешь сознавать и представлять как такое-то (индивидуальное Я), потому что погрузишься в то всеобъемлющее сущее и сам как бы станешь таковым. Каждый из нас изначально был таким, но к изначальной природе присоединилось нечто другое, что сделало нас худшими, потому что это другое имеет начало не в том всеобъемлющем сущем, которое уже не допускает увеличения, а в ему противоположном. Каждый из нас, становясь индивидуумом вследствие присоединения не-сущего, тем самым выделяется из области универсального бытия, и наоборот, по мере того, как отрешается от не-сущего, он как бы увеличивает, расширяет свое бытие. Но только когда мы всецело отрешаемся от всего прочего, в нас вселяется истинно-сущее, а иначе не является нам. Впрочем когда оно нам присуще, это не значит, что оно пришло, приблизилось к нам; равно и когда оно нам не присуще, это потому, что мы от него удаляемся. Строго говоря, мы даже не удаляемся от него, так как оно всегда и везде близко к нам, а только отвращаемся от него, направляя себя на что-либо иное или даже ему противоположное”.[132] Метаистория человеческого универсума не только обусловливается метаисторией космического универсума, но и является ее проекцией на антроподинамику, динамику межчеловеческих отношений. Истинной в экзистенциальном плане она оказывается лишь в том случае, если всем своим содержанием соответствует трансцендентным целям космодинамики Духа. Э.Трёльч писал: «Символы даруются эпохе только как счастливая случайность и появляются обычно только в ее конце. Надо действовать и без них»[133]. Да, действительно, символы даруются свыше, однако не в конце, а в самом начале метаистории трансцендентного человечества. Что же касается ценностей, которые предопределяют ход и исход феноменального человечества, хотя они и появляются в осевое время, отделяющего антропогонию от космогонию их осознание действительно происходит на завершающем этапе антропогенеза. Антропный этап метаистории, как и все последующие происходит за счет вырабатывания основополагающей формы Неиного, и, прежде всего ее семантической доминанты. На этом этапе такой доминантой являются Ценности, проживаемые неосознанно и лишь рационально переживаемые, как только они «угасают» в Культуре. Человек осуществляет свою человеческую историю лишь неосознанно действуя по ценности, однако как только она начинает осознанно «орудовать» ценностями, он с неизбежностью выпадает из своей собственной родовой истории.
Метаистория социального субъекта. Метаисторическое становление социального субъекта начинается с завершением формирования в основном антропного субъекта и этому третьему по счету “переходному времени” в метаистории соответствует антропно-социальное осевое время. Если первое осевое время связано с деятельностью пророков, мудрецов и философов, а второе с деятельностью культуртреггеров и художников, то третье осевое время - с активностью государственных деятелей и полководцев, то есть с теми кто контролирует силовые структуры общества. Это время великих социальных реформаций и революций, заложивших основы современного массового общества. Процесс формирования великих империй требовало великих деятелей с ярко выраженной волей к власти. По аналогии с заветом, заключенным между Богом и Человеком, должен был возникнуть и соответствующий, как утверждал Жан-Жак Руссо “общественный договор”, договор человека с обществом, основу которого должен был составлять приоритет общечеловеческого над социальным. Он был крайне необходим для того, чтобы сохранить целостность и уникальность личности от ее дробления на дурную бесконечность социальных качеств и диспозиций, способного подорвать ее культурный генофонд и превратить личность человека лишь в средство развития безличного общества. Люди должны жить в обществе, но при этом оставаться автономными от него в своих собственно человеческих проявлениях. Это осевое время, в основном, охватывает период между двумя Великими революциями - французской и русской и вовлекшие в социальную форму кайроса народы Европы и Америки. В этот период были заложены основные принципы построения собственно цивилизованных форм человеческого существования.
Социальный субъект метаисторичен лишь в той степени, в какой он является составной частью астрально-антропно-социального субъекта, т.е. выступает одной из ментальных вложенностей Бесконечного Субъекта. Социальным статусом Иерархический Человек наделяется свыше, и в метаисторическом плане социальная субличность выступает необходимым Субъектом трансцендентного процесса развертывания социальных свернутостей Ничто. В этой метаисторической ситуации Человек оказывается наделенным не только астральным и антропным статусами, но и статусом социальным. У отдельно взятого “социального Я” нет и быть не может своей отдельной метаистории, хотя объектоцентризм конституирует Человека лишь в качестве самодостаточного Социального Феномена, обладающего особой социальной историей.
Укореняясь в Социальном универсуме, в качестве своих собственных экстериоризованных и объективированных сущностных сил, Человек тем самым участвует и в расширении онтологии Абсолюта до пределов социального Универсума. Этот процессуальный акт всеобщей мистерии Духа вполне можно обозначить термином социогония. Переход антропогонии в социогонию и дальнейшее становление человека как социального существа и составляет содержание данного этапа всеобщей метаистории. Исторические исследования, касающиеся становления человека и как социального субъекта, несомненно, должны опираться на его целостную метаисторическую концептуализацию, отталкиваясь от которой возможно построение историософски ориентированной социальной антропологии.
Метаистория телесного субъекта. То восхождение на онтологический олимп, который в прежние осевые времена осуществили культура и цивилизация на протяжении жизни двух-трех последних поколений начинает совершать уже технология. На заключительном этапе развертывания свернутостей субъектной пустотности, социогония переходит в природогонию, основным “агентом” которой выступает телесный субъект. Его метаистория есть составная часть метаистории астрально-антропно-социально-телесного субъекта, завершающейся созданием Абсолютно Консолидированного Иерархического Человека. В нем изначальная ментальная пустота завершает свой метаисторический переход в ментальную полноту.
Начало становления универсума рационально-технологических объективаций, приходится на четвертый “переходный период” метаистории, который целесообразно обозначить социально-технологическим осевым временем. Это уже эпоха науки, техники и информатики. Знание становится силой, направленной на преобразование вещественного мира. Современное человечество экзистенциально проживает и переживает именно социально-технологическую форму кайроса, за которым, видимо, последует история информационно-технологической “цивилизации”. Мы взяли слово цивилизация в кавычки, так как оно не совсем точно обозначает складывающийся универсум объектно-объектных отношений. Не случайно ХХ век вошел в историю человечества как век научно-технической революции. Основными персонажами этой эпохи являются ученые и технологи. Видимо пик рационально-технологического кайроса еще впереди, но уже те тайны природы, которые наука открыла, а технология обективировала в предметном мире дают основание говорить о новой вехе в метаистории человеческого существования.
Итак, метаистория завершается созданием Иерархического Человека, обладающего завершенной структурой онтологических статусов. В субъектном плане внутренняя гармония Ничто оказывается полностью инверсированным в гармонический ряд Нечто. Абсолютный Иерархический Субъект и есть Неиное трансцендентно тождественное Абсолюту в Его абсолютной развернутости. Укореняясь в универсум естественных и искусственных объективаций в качестве экстериоризации своих особых сущностных сил телесный субъект всей своей жизнедеятельностью завершает достраивание онтологии Абсолюта до самых явных и проявленных форм Сущего. От того насколько природный статус Иерархического Субъекта оказывается соподчиненным с его социальным, антропным и астральным статусами зависит степень его экзистенциальной консолидированности. От степени же консолидированности Субъекта зависит и вся дальнейшая судьба тео-космо-антропо-социо-природогонии.
Историческая наука не может не опираться в своих исследованиях на историософию, в которой человек представлен как трансцендентально-феноменальная субъективная тотальность. “Стало абсолютно ясно, - писал О.Шпенглер,- что ни один фрагмент истории не может быть действительно освещен, пока не будет выяснена тайна всемирной истории вообще, точнее, тайна истории высшего человеческого типа как органического единства, наделенного вполне правильной структурой. А как раз это до сих пор не было еще сделано”.[134] Мы попытались “тайное сделать явным”, но это “явное” соответствует лишь тем историософским принципам, которые лежат в основании субъектоцентристской философемы. Приходится лишь надеяться, что это “явное” хоть как то соответствует рационально непознаваемому “тайному” во всемирной метаистории. В истории философии существует множество объектоцентристски ориентированных метаисторий сущего, которые навязывались человечеству средствами идеологического насилия. Вряд-ли “навредит” человечеству разрабатываемая нами субъектоцентристская версия его метаистории, ведь оно уже давно прислушивается не к трансцендентным интенциям Духа, а к рациональным доводам Рацио. Но может быть предлагаемая нами историософская альтернатива позволит взглянуть современному Человеку на свою историю уж если и не сверху, то хотя бы со стороны и тогда, как мы надеемся, он несколько переформулирует свои собственные экзистенциальные проблемы, острота которых на рубеже столетий достигла критической стадии, стадии метаисторического перерождения человечества.
Однако вполне возможен вопрос, почему же на более ранних исторических стадиях не было создано всеобъемлющей историософии, позволяющей не только целостно представить метаисторический процесс, но и выявить в нем исторические целостности? На этот резонный вопрос в свое время дал столь же резонный ответ Зиммель. “Если принять то, что события истории связаны рядами причинных связей, - писал он, - то лишь с достижением тотальности всего происходившего образуется группа, в которой пониманию доступна любая частность”.[135] Человечество настолько близко приблизилось к концу своей истории, что именно сейчас, когда оно переживает глубинный духовный кризис, вполне открывается для философской рефлексии вся ретроспектива его метаистории. Однако было бы несправедливым полагать, что ранее не создавалось всеобъемлющих историософий, достаточно вспомнить хотя бы философию истории Гегеля или ее диалектико-материалистический инвариант, разработанный в марксизме. Человечество и сейчас еще в своем “самодвижении” придерживается мировоззренческих установок, выработанных этими ставшими классическими историософемами. Необходимо лишь иметь в виду, что именно эти объективистские установки все еще продолжают нацеливать на силовой прорыв в “светлое будущее”. Предлагаемая субъектоцентристская историософия, как нетрудно догадаться, является по исходным мировоззренческим основоположениям противоположной именно гегелевской философии истории, однако более подробно об ее принципиальных отличиях речь пойдет в завершающей пятой книге «Суммы антропологии», рабочее название которой - “Введение в онтологическую антропологию”, при условии, естественно, что автор успеет до конца реализовать свой исследовательский проект.
1.4. Историчность Сущего
|
|
При избытке истории человек перестает быть человеком, а без избытка неисторического он никогда не начал бы и не отважился быть человеком. Ф.Ницше. Воля к власти.
|
Признание за человеческим бытием таких свойств как целостность, универсальность, гармоничность и тотальность с неизбежностью ведет к конституированию этих характеристик и за его историей. Однако как с позиции индивида, в основном, укорененного своей экзистенцией лишь в определенную онтологическую нишу многомерного бытия, совершенно не проглядываются общие контуры мироздания, так и с позиции конкретного эмпирически наблюдаемого мирожизненного процесса невозможно охватить всю тотальность исторического становления сущего, ничтожной составляющей которого этот процесс является. Взгляд эмпирического человека на целостный процесс филогенеза как внутреннего так и внешнего мира существенно ограничивает исторический горизонт. По мере удаления человеческой экзистенции от своих первоистоков историческим горизонтом «окружается» все меньшая часть настоящего («окружающая реальность». Однако если мы оказываемся в состоянии понять современность сквозь толщу истории, то тогда возникнет весьма обоснованное чувство трепетного отношения к жизни всей череды предшествовавших поколений. Современность должна быть вписана во всеобщие координаты истории, а не наоборот, когда предшествующую историю учитывают лишь в качестве момента снятия современностью. Необходимо отойти от внутренней рефлексии, которая кумулируется современностью и посмотреть на современность глазами всех предшествовавших поколений, со стороны интенционального субъекта, погребенного в ночи бессознательного. Если в гносеологии не исходить из интенции трансцендентально-интенционального субъекта, содержащейся в интуиции мы не поймем почему феноменальный мир именно такой, а не какой-то иной. Феноменология должна быть трансцендентальной, только тогда можно мыслить метаисторически и историософски.
В жизненные пределы эмпирического субъекта вмещается лишь та часть событийного ряда целостной и универсальной истории, которая входит в онтологическую ретроспективу обыденной повседневности. В этой связи можно говорить о соотношении частичной и тотальной историй в человеческом становлении. Частные исторические дисциплины исследуют частичные, локализованные истории, тотальная история - предметность историософии. История может иметь множество смыслов, об “объективности” содержания которых нельзя говорить однозначно вне единого метаисторического контекста. Единая история при эмпирическом подходе к ее объективациям как бы “рассыпается” на множество противоречащих друг другу “историй”. Нибур полагает, что выбраться из этого методологического тупика оказывается возможным только через обращения к единству “сакрального” смысла истории. “Смысловая рамка, задваваемая библейской верой, - пишет он, - придает значение как индивидуальной, так и коллективной исторической драме”[136]. Если Нибур предельно сакрализирует смысл человеческой истории, то Хайдеггер индивидуализирует, обнаруживая в ней потаенные смыслы единой человеческой экзистенции. Он считает, что “подлинная” и “первичная” история являет собою историю индивидуального существования и вершится она благодаря изначальной временности человеческого бытия. В этой связи всемирная история должна пониматься в качестве “вторичной” и производной от индивидуального жизненного пути человека. “Первоначально историчным, как мы полагаем, - писал Хайдеггер, - является бытие-сознание. Вторично историчным, однако, выступает встречающееся в мире, не только сеть сподручного в широком смысле, но и окружающая природа как исторический фон. Мы именуем неиндивидуально-человеческое сущее, становящееся историчным благодаря своей принадлежности к миру, мировой историей”[137]. Как считает Хайдеггер, принадлежность человека к мировой истории, включенность в ход ее событий делает задачу обретения им подлинного, неовеществленного существования особенно сложной. Несмотря на существенные различия в подходах Нибура и Хайдеггера, общее в их взглядах на Всемирную историю заключается в том, что ее истоки необходимо искать за пределами эмпирически наблюдаемой исторической процессуальности, которые Нибур склонен отыскивать в трансцендентных, а Хайдеггер в экзистенциальных слоях Сверхсущего.
Развертывание тотальности человеческого бытия в его перманентном становлении, органически в плетенном в перманентный переход Единого во Множественное и есть открытая Тотальная История, которая может быть целостно представлена лишь в рамках в столь же открытой, универсальной, целостной и монистической историософии. “Тотальность истории - писал К.Ясперс, - открытое целое. Перед лицом этой тотальности эмпирическое знание осознает всю незначительность своих фактических сведений и всегда готова к восприятию новых фактов: философская точка зрения допускает крушение каждой тотальности в абсолютной имманентности мира. В том случае, если эмпирические науки и философия будут служить опорой друг другу, перед мыслящим человеком откроется сфера возможностей и тем самым свобода. Открытая целостность не имеет для него ни начала, ни конца. Он не может охватить взором историю в ее завершенности”. [138] Понимание истории в ее целостности, полагает К.Ясперс, выводит нас за пределы истории, в надысторическое. Подобного рода взгляд на соотношение истории и сверхистории можно найти и в работах Э.Трёльча. «Надысторическое, - писал он, - окружает историю на каждом шагу, и его воздействие может быть сдержано лишь очень строгим и всегда несколько произвольным самоограничением»[139]. При таком широком взгляде на процесс становления история перестает осознаваться локальным феноменом сущего. Чтобы достичь предельной рефлексии над историей, необходимо вознестись над ее эмпирико-фактологической данностью и достигнуть трансцендентальной основы того единства, посредством которого история и становится целостностью. Исторический разум осознает историческое как процессуальную целостность лишь на границах метаистории, так как феномен истории как и любой внутренне детерминированный феномен, зависит от трансисторического прафеномена и подчиняется законам необходимости лишь на границах Свободы. “Граница свободы как мощи, - писал С.Н.Булгаков, - есть необходимость. Объект, как выражение необходимости, есть враждебное субъекту, носителю свободы, и чуждое ему инобытие. Но благодаря существованию этой границы свобода и сознается в самобытности своей, лишь в своей противоположности необходимости она становится сознательной и рефлективной, вступая с нею в открытую борьбу”.[140] Соотношение метаисторического и исторического иррелевантно соотношению свободы и необходимости в развертывающейся человеческой экзистенции. Если, по утверждению Н.Бердяева, необходимость есть падшая свобода, то прояснить сущность актуализированных и локализированных форм исторического процесса и реконструировать его трансцендентные праформы, можно лишь на границе с метаисторией - историей духовной Свободы или свободы Духа.
Соотношение “метаисторического” и “исторического” в субъектоцентристской философеме коррелирует с соотношением “ноуменального” и “феноменального” в человеческой экзистенции. В своей работе “Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого” Н.А.Бердяев следующим образом соотносит между собой эти понятия. Метаисторическое и историческое - это два плана одного и того же мира, один из которых ноуменальный, а другой - феноменальный. Между этими планами нет абсолютного разрыва, ноуменальные события прорываются и вступают в мир феноменальный, метаисторическое прорывается и вступает в мир исторический. Лишь благодаря внедрению метаисторического в историю историческое получает смысл. Метаисторическое есть ни что иное как составная часть духовного откровения. Историческое же откровение есть символизация в феноменальном историческом мире событий, происходящих в ноуменальном метаисторическом мире. Духовный опыт выразим лишь в символах, а не в понятиях, а потому философская критика должна понять символический характер языка религиозной метафизики. Самый важный вопрос критики откровения есть вопрос не метафизики, а метаистории. По глубочайшему убеждению Н.А.Бердяева, лишь мессианское сознание конструирует историческое и делает возможным раскрытие смысла истории. [141]
Метоисторичны Абсолют и все абсолютное в этом множественном релятивном мире, т.е. Неиное в его неявном и явленном видах. Метаистория держится “гармонией свободы” Духа, а не “порядком необходимости”, господствующем в историческом пространстве становящегося Бытия. “Актуальность Бога в мире, делающая реальным время и устанавливающая времена и сроки мировых свершений, - писал Булгаков, - полагает основу истории. Она же устраняет возможность детерминистического понимания мира как механизма, в котором все автоматически наперед предопределено. Напротив, как непрестанно совершающееся творение Божие, как живая риза Божества, мир незакономерен - в смысле механического детерминизма. Мировая закономерность, устанавливаемая наукой, имеет прагматическое и схематическое значение лишь для данного отрезка времени”.[142] С.Н.Булгаков утверждал, что если мы признаем, что история есть раскрытие абсолюта, то тем самым уверуем, что в истории не царит одна лишь мертвая закономерность причинной связи. Причинная закономерность истории в этом смысле получит значение служебного средства для целей абсолюта. С другой стороны, тем самым мы принимем, что в истории действует живая и разумная сила, идущая дальше наших намерений и их направляющая. И наши свободные стремления и поступки в известном смысле оказываются средством для целей Абсолюта.[143]
В отличие от метаистории, которая в качестве мистерии разыг-рывается в непроявленных, апофатических и пустотных глубинах Единого, история есть ее репрезентация в проявленной, овремененной и обмирщвленной экзистенциальной Множественности. Метаисторически обусловленная единая история есть Все-мирная История или история Все-мира. Если принять идею Вл.Соловьева о Всечеловеке и Всеединстве его Мира, то его История должна быть и Все-человеческой и Все-мирной. Как утверждал К.Ясперс, мировая история в целом движется от одного полюса к другому и происходит это таким образом, что все, доступное нам, заключено именно между этими полюсами. Между ними и происходит становление все новых и новых форм единства развертывающегося во вне первичной целостности Бытия. Историчным остается движение между началом и концом, которое никогда не приходит к тому, что оно, по существу, означает, но всегда содержит его в себе.[144] Подобый вывод делает и Э.Трёльч: история возвращается на своих границах к мистической основе всей жизни и без этого невозможна была бы даже самостоятельность ее логики и метода. Она превратилась бы в непонятный парадокс в узком смысле этого слова.[145] Метаисторическое нельзя целиком сводить к историческому, но и историческое столь же неправомерно редуцировать к метаисторическому. Метаисторическое, которое всегда движется и обнаруживается по вертикали, а не по горизонтали, для исторической науки раскрывается как историческое движение по горизонтали. Историческая наука видит не первичный прорыв ноуменального мира в этот, феноменальный мир, а уже вторичную объективацию.[146] Исторический горизонт просветляется лишь в судьбоносные для человечества мгновения и тогда высоко над узкой завесой обыденной реальности в космологических простанствах своей собственной души человек начинает обнаруживать знамения, позволяющие ему остро переживать свою метаисторическую сопричастность с бытием Абсолюта или с абсолютным Бытием. “Мы окружены историческим горизонтом, - пишет С.Н.Булгаков, - на котором с большей или меньшей яркостью проецируются те или иные цели, предначертывается того или иного содержания хилиазм”.[147] История не оторвана от метаистории и в конечном счете выступает ее обратной проекцией, проекцией свободного Духа на движущийся во времени и пространстве универсум объективаций сущего.
В отличие от внеисторического Субъекта (“субъективная реальность” Объект (“объективная реальность”) историчен, ибо процесс последовательного образования универсума объективаций происходит во времени, имеет свою протяженность, длительность и интенсивность. Этот процесс историчен еще и потому, что хотя и обязан своим происхождением эманации свободного Духа, подчиняется законам необходимости, силовые структуры которых и придают движению объективированного мира детерминированный, обусловленный характер. “Человек, - писал Н.Гартман, - духовное существо, единственное в этом роде, какое мы знаем. Конечно, он не "только" духовное существо, но все-таки "также" и в сущности именно духовное существо. И как таковой, он - историческое существо. Бездуховное бытие не имеет истории”.[148] Бытие исторично настольно, насколько оно оказывается внутренне одухотворенным. Если природа в субъектоцентризме не имеет своей истории, то будучи одухотворенной, будучи втянутой во всеобщий духовный процесс субъективации объективного, она обретает историчность. Степень историчности экзистенциального процесса, если можно так выразиться, прямо пропорциональна степени объективации субъекта, степени овнешнения его внутреннего мира и обратно пропорциональна степени его внутренней духовной свободы. И, напротив, степень метаисторичности человеческого существования зависит от того, насколько он духовно раскрепощен, насколько он сохраняет автономию от детерминации внешнего объективированного мира и своей духовной свободой в состоянии позитивно воздействовать на ход и исход истории.
В субъектоцентризме становление мира принимается как процесс перманентной автокреации, автоэманации Абсолютного Субъекта, на общем континууме его становления, “пределами” которого выступают Бесконечная и Конечная онтологические формы Субъекта, последняя своей самообъективацией и представляет собой Объект, эволюционирующий и развивающийся в рамках общей самодетерминации становящегося Субъекта, в связи с чем в этой форме мировоззрения столь однозначно высокая значимость придается как онтологизму так и антропологизму.
Одни и те же события можно интерпретировать как с позиции метаистории так и с позиции истории. Первая позиция традиционно опирается на веру, вторая - на знание. Научное сознание, в основном исторично, религиозное - метаисторично. Однако и строго научное дескриптивное знание через неявные прескриптивные, эвалюативные и трансцендентные формы знаний, с которыми она связана трансгенетически, восходит к вере, а потому непреодоленным “гносеогическим атавизмом” в рациональном историческом дискурсе всегда выступает некое априори, доопытная гипотеза, основывающаяся на трансрационально мотивированной вере в принимаемую им парадигмальную аксиоматику, в рамках которой исследователем формулируется гипотеза, под тем лишь предлогом, что она не противоречит суждениям так называемого “здравого смысла” и системе эмпирически наблюдаемых фактов. “Вся наука является не чем иным, как усовершенствованием повседневного мышления”[149] - утверждал Альберт Эйнштейн - создатель теории относительности, запредельной для самого здравого смысла. Суждения здравого смысла довольно часто порождаются “патологическим бытием” (так Э.Фромм своими основными работами показал, что современный человек живет в «больном обществе») и будучи положенными в основание исторической парадигмы вполне могут привести не к его выздоровлению, а к “летальному исходу”. Дескриптивные знания есть не что иное как секуляризированные верования в “здравый смысл”, порой корреспонидирующие с “экзистенциальной бессмыслицей”, а не с так называемыми «смысловыми сгущениями» – законами исторического становления. Они могут быть порождениями Иного и содержать в себе явно дьявольские намерения, противостоящие подлинному смыслу метаисторического Неиного. Как иизвестно, историческое сознание в состоянии лишь парадигмально оформляться, а потому способно конструировать лишь некую замкнутую картину мира, в рамках которой, как правило, гипостазируется один из фрагментов движения многоуровневой человеческой экзистенции. Напротив, метаисторическое сознание, основу которого составляет символизация сущего, продуцирует предельно широкую панораму процесса обмирщвления целостного Духа, так как опирается на неявные трансцендентные знания, прорывающиеся в сферу осознания в минуты божественного откровения. "Только в вере, - писал С.Кьеркегор, - синтез вечен и возможен в каждое мгновение".[150] Метаистория рационально непостижима, иерархией дискурса постигаются лишь ее исторические объективации. Отношение же между историей и метаисторией рационально необъяснимо, как с трудом объяснимо отношение между феноменом и ноуменом.
Метаисторическое и историческое в ментальном плане соотносятся как бессознательное и сознание в человеческой экзистенции. В первой книге “Суммы” мы уже рассмотрели это соотношение в онтологическом его аспекте. Не только философствующие антропологи, но и философски ориентированные историки, признают что метаистория - это, в основном то, что принадлежит сфере бессознательного, так как именно при его посредничестве интенциональные всплески метаисторического Духа достигают сферы исторического разума. Понятие общего духа, считает Э.Трёльч, возможно только при обращении за помощью к другому основопологающему историческому понятию, к понятию бессознательного. Слагающийся из тысяч индивидуальных действий и в свою очередь определяющий их посредством традиций и наследия, в своих начатках вообще едва различимый дух предполагает сознание вне актуального сознания индивида, подобно тому как и сам индивид предполагает в чуде памяти внеактуальное сознание. При этом Э.Трёльч особо подчеркивает, что момент бессознательного в деятельности историка имеет очень мало общего с психологией. Это отнюдь не сложное психологическое понятие бессознательного, а тысячекратно подтверждаемый историей факт, что в наших чувствах, действиях, инстинктах, устремлениях и решениях заключено значительно больше предпосылок, чем мы знаем, и что они имеют для целого и для его продолжительности значительно большее или совсем иное значение, чем мы сознаем. Это не бессознательность, а выход содержания за пределы актуально осознанного и отступление осознанного в неведомые глубины, которые лишь приближенно открываются обозревающему все совершающееся историку и ставят перед ним все новые вопросы. Там, где подобные постановки вопросов стали возможны, с полным правом говорят, что эпоха стала “исторической” и в этом случае можно будет обозреть предстающее в отдельном случае отношение между индивидами и тотальностью. Если психология хочет заниматься подобными проблемами, ей надлежит пройти обучение у истории, а не наоборот, считает Трёльч.[151]
Во временном аспекте метаисторическое и историческое соотносятся как кайрос и хронос. Метаистория есть эманационная пульсация Вечности, а потому ей присущ кайрос как совокупность креативных мгновений, определяющих форму времени как хроноса, его интенсивность и плотность, в рамках которого будет осуществляться процесс актуализации потенциальностей соответствующего метаисторического субъекта. Исторический процесс как некая движущаяся в иерархии временных потоков иерархически оформленное Бытие есть некая совокупность историй становлений и развертываний проявленных форм человеческой экзистенции. Историческое время многослойно. Его формы онтологичны, строго имманентны определенным слоям человеческого бытия. Фиксировать и интерпретировать так называемые эмпирически наблюдаемые исторические факты необходимо не в рамках какого-то тотального Времени, а в пределах его онтологических модификаций. Каждая онтологическая ниша Мироздания - это целый универсум “исторических фактов”, специфичность которых детерминируется степенью и уровнем субъективности с какой человек в ней укоренен. Так, факты (арте-факты) культуры есть нечто существенно иное нежели факты социальной реальности. Первые относятся к бытованию человека в качестве родовой, феноменальной целостности, а вторые - в качестве онтологии частичного, нецелостного субъекта, носителя свойств деперсонифицированной социальной целостности. В этих онтологических рядах факты являются несопоставимыми в связи с их историко-временной нерелевантностью и ассинхронностью. Совершенно несопоставимыми с этими двумя классами "исторических фактов" являются факты истории развития технологии, субъектом которой выступает так называемый "телесный субъект", чей гносеологический статус стремится к бесконечности ("гносеологический субъект"), а онтологический - к нулю. Эта система исторических фактов свидетельствует лишь об историческом прогрессе науки и техники. Онтологическая значимость субъекта здесь столь ничтожна, что даже трудно утверждать, что он может иметь свою собственную индивидуализированную историю. Факты истории индустриализма, в основном, требуют объектной интерпретации, позволяющей выявить поступательный ход "прогрессивных изменений".
Весьма опасным для технократически ориентированной исто-рической рефлексии является субъектный подход к анализу того, чем поступается человек во имя такого рода прогресса. Прежде всего он поступается своей Свободой во имя прогрессирующей Необходимости или необходимого Прогресса. «То, что называется «развитием»…, - писал Н.Бердяев, - уже стояло под знаком необходимости, а не свободы»[152]. В рамках гуманитарной рефлексии, прогрессирующий ряд внешних со-бытий, интерпретируются ни иначе как свидетельства регресса в собственно человеческом экзистировании, как факты истории дробления человеческой уникальности на дурную бесконечность когнитивных и физиологических актов, которые объективистски ориентированными историками чаще всего рассматриваются как весьма субъективные и исторически недостоверные.
Разноуровневые временные потоки, потоки исторических становлений отдельных частей целостного бытия невозможно генерализовать в единую картину становящегося Сущего лишь средствами рациональной гносеологии. И не потому только, что временные потоки существенно различаются как по плотности, так и по интенсивности протекания, что осложняет их трансцендентную “корреляцию” с Вечностью. Процесс построения историософской картины мира осложняется еще и тем, что само человечество, в качестве основного субъекта метаистории еще не сложилось в единую экзистенциальную целостность. Единой истории человечества в принципе быть не может так как еще нет самого человечества - к такому неутешительному выводу приходят многие выдающиеся мыслители, пытающиеся утвердить в самосознании человека метаисторический взгляд на историческую действительность. “Нет единого человечества, - писал С.Н.Булгаков, - а потому нет и истории человечества, цивилизации человечества, прогресса человечества и т.д., это все абстракции и условности”.[153] Ему вторит Поппер: “Не существует истории человечества, а есть лишь неисчислимое количество историй различных аспектов человеческой жизни”.[154] Однако, если единая общечеловеческая история невозможна в качестве незавершенного объекта для рациональной исторической рефлексии, то она вполне в состоянии быть осмыслена на основе трансрациональных интенций Откровения. Онтологическое единство, присущее историческим формам существования Человека необходимо отыскивать не в самой его истории, а в сверхисториии, метаистории. Да, человечество как историческая категория, все еще находится в своем становлении, однако как метаисторическая трансцеденталия в качестве Божественного Проекта человечество обрело свою целостность уже в самом своем Генезисе. А потому, если невозможно построить модель истории человечества, в связи с ее феноменальной незавершенностью, то необходимо обратиться к ее метаисторической праформе, изначально присутствующей в структуре глубинных архетипах прасоздания. Более того, в связи с тем, что леденящее дыхание Конца Истории уже явно ощущается эмпирическим человечеством, вполне возможно и построение всеобъемлющей модели исторического процесса на основе экзистенциальной ретроспекции и эта модель будет тем более «достоверной», чем более имманентной Началу Истории окажется ее аксиоматика. При этом аксиоматика модели Всеобщей Истории должна задаваться исходными трансценталиями метаистории, а не основываться на исторически преходящих парадигмах, предлагаемых так называемым историческим разумом.
Итак, метаистория согласно субъектоцентристскому мировоззрению есть процесс перманентного становления Изначального и Бесконечного Субъекта, его нисхождения ко все более проявленным, обмирщвленным, овещненным, овнешненным, овремененным самосубъективациям вплоть до конечной субъективации, объективацией которой и выступает объект в качестве конечной онтологической ниши иерархически построенного Миро-здания, некоего многомерного При-сут-ственного Места, в котором Иерархический Субъект способен осуществлять свое При-сутствие при своей многоуровневой Сути, Сущности.
Иерархически связанные между собой слои бытия составляют целостный онтологический гармонический ряд. Гармоничным может быть только субъект, объект может быть только упорядоченным. Полностью гармоничным может быть лишь предельно консолидированный субъект, в ментальности которого присутствует вся иерархия онтологических субличностей. «Подлинная многоуровневость, - пишет Г.С.Батищев, - включает в себя признание и готовность встретить в субъекте также и инаковые ярусы, сколь угодно неожиданные и парадоксально не похожие на те, которые проявляли себя раньше»[155]. В связи с тем, что онтологический статус субъекта с развертыванием мира имеет тенденцию к перманентному понижению, то и мировая гармония, связанная с последовательным укоренением субъекта в иерархически связанные между собой ниши Бытия, представляет собой “нисходящий”, “затухающий” ряд субъективаций, тогда как ряд квазиобъективаций исторически выстраивается в “восходящий” онтологический ряд. Гармонический ряд по мере своего “затухания” свертывается в свою изначальную “пустотную обитель” Абсолюта. Напротив, на пике своего восхождения онтологическая квазиупорядоченность распадается на несвязанные между собой объективации - превращается и структурированный Хаос (Ничтожество) вновь оказывается неструктурированным посредством Апокалипсиса инверсирующим в пустотную Онтологию или онтологию Пустоты. Гармоническому ряду форм бытия соответствует гармонический ряд временных потоков.
Мы не претендуем на полное раскрытие тайны онтологической структуры Всемирной Истории, она трансцендентна, а потому и рационально непостижима. Онако в пределах разрабатываемой нами субъектоцентристской миропонимающей концепции континуум соотношения метаистории Субъекта с иерархией историй Универсумов, в которых он укоренен своими самообъективациями, выстраивается следующим образом (схема 7).
Метаистория Метаистория Метаистория Метаистория
астрального антропного социального телесного
субъекта субъекта субъекта субъекта
![]() S
O
S
O
История История История История
космического человеческого социального природного
универсума универсума универсума универсума
Схема7. Континуум метаисторий внутреннего и историй
внешнего миров Иерархического Человека
История космического универсума. Свое “метафорическое” начало она берет с так называемого “Большого взрыва”, в результате которого в беспредельном и вечном процессе теогонии возникает космогония. Космический универсум - первопроявленная объективация Бесконечного Субъекта ставшая “внешней” онтологией Микрокосма. “Порядок универсума, - писал Николай Кузанский, - тоже первый и точнейший образ вечной и нерушимой премудрости, благодаря которой вся машина мира сохраняется в красоте и согласии. Как прекрасно она поместила связующее звено универсума - человека, этот микрокосм, - на верхней ступени чувственной и на нижней ступени умопостигаемой природы, соединив в нем как в посреднике нижнее временное и верхнее вечное. Она дала ему место на горизонте времени и вечности, как того требовал совершенный порядок”.[156]
В отличие от метаисторического Микрокосма, Макрокосм или Космический универсум как “внешняя” его онтология, как субъективация, экстериоризация его внутрисубъектных отношений уже вполне историчен. Историчен он в связи с тем, что перманентная субъективация внутрисубъектных отношений Духа, каким является Микрокосм, есть уже некий трансцендентно-феноменальный процесс во времени, отмеченный со-бытийным Рядом или рядом События, к которому вполне возможно прилагать космологические мерки, осуществлять космическое измерение изменений во “внешнем мире” и самоизменений во “внутреннем мире” Первочеловека. “Все происходит так, - говорит Бергсон об эволюции, - как будто неопределенное и расплывающееся существо, которое можно назвать по желанию человеком или сверхчеловеком, стремилось принять реальные формы... Организованный мир в целом является как бы черноземом, на котором должен был произрасти или человек, или существо, которое походило бы на него”.[157]
Хотя первочеловек (перво-бытный человек) и жил “по законам” астрального времени, но он его не осознавал, так как своими прасимволическими формами бессознательного был погружен в Вечность. “Для первобытного человека, - писал О.Шпенглер,- слово "время" лишено значения. Он живет, не испытывая в этом слове нужды для противопоставления его чему-то другому. Он имеет время, но ничего о нем не знает”.[158] Космологическими мерками событийного ряда первобытного человека, как известно, выступает миф, с его разветвленной символической семантикой, спрессовывающей первичную форму времени в некий процессуальный прафеномен Вечности - кайрос. В нем удивительнейшим образом отражен первичный двуединый трансцендентный трансфер субъективации вечности во временные прафеномены и суб-субъективации времени во вневременные ноумены. Так как мифологическое сознание скорее всего фиксирует распад времени не на временные потоки, а на мгновения, которые ему трансцендентно иррелевантны, то и экзистенция астрального человека не только гносеологически, но и онтологически принадлежит вечности, хотя и “протекает” на континууме его овремененных мгновений.
Астральный субъект это перманентно самопорождающийся субъект, некая пульсация жизни и смерти, позволяющая ему экзистировать и одно-временно и одно-вечно. Хотя фактом своего рождения он и оказывается у времени в плену, но это скорее добровольное, нежели вынужденное заточение. Само-присутствие при смерти воспринимается им лишь как непременное условие столь же перманентного самовозвращения в обитель Духа. Смерть здесь всего лишь онтологический механизм самовоскрешения Жизни, посредством которой Жизнь перманентно обновляет свои трансцендентные формы, последовательно обретая еще большую устойчивость в своем противостоянии слепым и губительным силам Хаоса.
История космического универсума прежде всего есть история культа мифологически оформленная интенциями=интуициями Перво-Бытного Человека. Прежде всего она есть история развертывания и формирования символической реальности - Универсума Первознаков и Первозначений, являющегося и до сей поры семантической основой человеческого существования в его целостности и универсальности, позволяющей удерживать в архитепических глубинах бессознательного целостный Образ и Подобие Абсолюта, несмотря на перманентно возникающие и вытесняющие друг друга все менее целостные парадигмы о все более объективирующемся и овнешняющемся мире.
История космического универсума одновременно есть и история последовательного распаковывания Свободы и объективации ее в последовательный онтологический ряд, в котором от одной исторической ступеньке к другой по «онтологической нисходящей» все более возрастают силы Необходимости, перманентно понижающие уровень внутренней самодерминированности Микрокосма и повышающие степень его детерминированности “внешним” Макрокосмом. Однако все эти изменения в пределах Космического Универсума все еще не выходят за рамки внутренней, духовной свободы, а внутренняя детерминированность экзистенции здесь обусловлена тем, что человек выполняет свою функцию в космогенезе уже в качестве “вторичного творца”, вынужденного творить элементы сущего не из “ничто”, а из элементов “нечто”, ранее порожденных первичным Креатором - Ноуменом. В этой связи история космического универсума является не столько историей творения, сколько историей творчества, реликты которого и сейчас можно наблюдать в продуктивной деятельности детей и гениальных представителей культуры и искусства.
История космического универсума есть одновременно и история формирования астрального Я, как некоего относительно обособленного от трансцендентного Я структурного образования в человеческой протоментальности. Хотя человек и метаисторичен, однако отдельные его ментальные структуры проходят свои особые этапы исторического становления.
История космического универсума является высшей формой исторического в многослойной человеческой экзистенции, так как ее субъектом выступал Человек-Микрокосм, истинный соавтор Бога по устроению Перво-Бытия в космологических масштабах. «В этом добротно и благородно оформленном бытии человека, в бого-соосуществлении через человека, - с момента творения и по сей день, по мнению Шелера, - завершается всякая историческая деятельность»[159]. В своей Перво-Истории человек богосоосуществлением закладывал основные прафеномены сущего, которые более поздние поколения призваны были лишь феноменологизировать своей все более релятивной экзистенцией. В этой связи постоянная рефлексия над Перво-Историей человека выступает важнейшим моментом рефлексии над особенностью современного этапа Всемирной Истории, а не наоборот. Разгадка алгоритма мировой истории находится в ее Начале, а не в Конце, так как в те времена человек в состоянии был вполне достоверно пророчествовать на счет будущих времен, в связи с тем, что одновременно своей целостной экзистенцией охватывал всю совокупность еще неявных времен и соответствующих им предстоящих историй. Шлегель заявлял, что историк – это пророк, обращенный к прошлому. По всей вероятности носитель истинного исторического сознания никогда не может быть нашим современником, скорее всего он всего лишь персонификация пророческого начала, погребенное в космическом-бессознательном современного человека. Перво-История и Современная История трансцендентно между собой взаимосвязаны, а потому для того, чтобы осознать грядущую историческую перспективу, необходимо осуществить символическую ретроспективу Всемирной Истори, попытаться войти в самые глубинные ее слои и в них обрести целостный образ возможного Будущего. «Картина всемирной истории и осознание ситуации в настоящем определяют друг друга. – писал Ясперс, - Так же, как я вижу целостность прошлого, я познаю и настоящее. Чем более глубоких пластов я достигаю в прошлом, тем интенсивнее я участвую в ходе событий настоящего»[160]. Не простая экстраполяция процессов настоящего может дать обобщенную картину будущего, такой плоский объектный подход к исторической динамике не раз подводил футурологов, а лишь трансрациональная проекция всей исторической ретроспективы на столь же «трансцендентный экран будущего» может позволить о нем пророчествовать столь же достоверно сколь это удавалось в рамках мифологического сознания осуществлять нашему общему первопращуру.
История человеческого (родового) универсума. По своему характеру и содержанию эта история носит уже не символический, а ценностный характер. Это история становления ценностного мира человека. “Предмет истории, - считает Э.Трёльч, - конституируется посредством принятия индивидуальной тотальности, и определить ее можно только посредством понятия имманентной ценности или смысла”.[161] Историческим номинализмом все культурные феномены, явления рассматриваются как неповторимые, не редуцируемые не только к телесному, но и к духовному основанию человеческой многомерной экзистенции. У универсума культурных ценностей своя особая история, существенно отличающаяся от истории феноменов космического универсума. Подобного рода постулаты мы можем обнаружить в построениях неокантианцев В.Виндельбанда, Г.Риккерта и др.
По Г.Риккерту культурная ценность есть "общее" истории, но отнюдь не общий естественный закон или общее понятие, для которого все особое есть лишь один частный случай наряду с множеством других. Культурная ценность необходимо связана с единичным и индивидуальным, в котором она постепенно развивается, иначе говоря, сочетается с действительностью, превращая ее тем самым в культурное благо. Культурная ценность определяет выбор исторически существенного. Лишь по установлению через отнесение к ценности того, что вообще существенно для истории, становится возможным, смотря назад, спрашивать о причинах, или же, смотря вперед, о действиях, и затем изображать то, что, благодаря своей особенности, вызвало появление исторически существенного события.[162]
"Пульсация жизни", заявлял Шпенглер, приводит к появлению отдельных локальных замкнутых культур, претерпевающих стадии зарождения, развития и падения. Единая история становится, таким образом, невозможной. Так экстремальная сознательность истории Западной Европы противостоит почти грезящей бессознательности индийской истории. Но если уж так трудно составить себе точное представление о природе, о каузально устроенном окружающем мире других людей, хотя здесь все специфически познаваемое сведено в открытую систему, то уж и подавно невозможно до конца вникнуть силами собственной души в исторический аспект мира чужих культур, в картину становления, сложившуюся из совершенно иначе предрасположенных душ. Здесь всегда остается какой-то недоступный остаток, тем более значительный, чем ничтожнее собственный исторический инстинкт, физиогномический такт, собственное знание людей. И все-таки, подчеркивал Шпенглер, решение этой задачи есть предпосылка всякого более глубокого миропонимания. Историческая окружающая среда других людей составляет часть их существа, и нельзя понять кого-либо, не зная его чувства времени, его идеи судьбы, стиля и степени сознательности его внутренней жизни. То, что не обнаруживается здесь в непосредственных признаниях, мы должны взять из символики внешней культуры. Только так непонятное само по себе делается доступным, и это придает историческому стилю культуры и относящимся сюда великим символам времени их несоизмеримую ни с чем ценность.[163]
Итак, в отличие от истории космического универсума, в котором алгоритмом миротворения во всеобщих космологических координатах выступают символы, история человеческого универсума в ее собственно антропологических измерениях осуществляется по ценности. Это их существенное различие прежде всего делает онтологически неправомерной теоретическую редукцию трансцендентно пульсирующего символического мира к движению ценностного мира. С позиции трансцендентального историзма можно вполне понять каким образом ценностный мир человека перманентно развертывается в особый со-бытийный ряд. Прямо противоположный подход, рассмотрение Всеобщей Истории с позиции собственно человеческих ценностей, с позиции его культурной экспансии в сферу символического Духа с неизбежностью ведет к ложной картине космодинамики Неиного. Критикуя неокантианцев за применяемый ими повсеместно метод отбора исторических фактов, основывающийся на редукции сложного к простому, Р.Арон справедливо замечает что релятивными ценностями нелья измерять абсолютное в сущем. «Как же проводится отбор, без которого исследование продолжалось бы до бесконечности, так и не исчерпав минимального фрагмента действительности и ничтожно малого момента времени? – задается вопросом Р.Арон, имея в виду господствующий в современных исторических исследованиях метод познания, - Кантианская критика ответила на вопрос, использовав термин “ценность”. Историческое познание занимается теми событиями, которые относятся к ценностям, подтверждаемым актерами или зрителями истории… ценности или интересы, на которые ссылается историческое познание, не имеют универсальной значимости. Они меняются вместе с эпохами»[164].
История социального универсума. С возникновением общества появляется еще одна форма явной истории - история социального универсума. Социальная история носит уже и не символический и ценностный, а нормативный характер. Ее сущностью является становление социального мира, основывающегося на нормативах внешнего долженствования. Предметом социальной истории выступает уже не индивидуальная тотальность, а тотальность общественная, в которой индивид укоренен лишь своим частичным социальным Я. У универсума социальных норм совершенно иная история, нежели у универсума культурных ценностей и культовых символов. Методологические контуры этой особой социальной истории хорошо вычерчены в концепции "локальных цивилизаций" О.Шпенглера.
Цивилизационная норма есть "общее" социальной истории и именно она определяет выбор исторически существенного в общественной жизни человека. Локальные цивилизации отличаются друг от друга лишь модусами единой для них «социальной нормали», приводящие к онтологическому единству дурную бесконечность социальных Я, вовлеченных в совокупный деятельностный процесс. К сожалению, именно к этой третьей исторической форме истории позитивизм и сводит всю историю человечества. Если к процессу формирования социальных качеств человека в его филогенезе подходить с предельно широких субъектоцентристских позиций, то весьма легко обнаружить пра-пра-генезис социального в самих первоначалах человеческой экзистенции, сведение же всей многоуровневой истории человека лишь к истории его социализации в методологическом плане является акцией довольно примитивной, в плане же мировоззренческом не вполне безопасной, так как сужает отбор исторических фактов, делает его сугубо нормативным.
История природного универсума. Природа рассматриваемая лишь как «универсум объектов» не имеет своей особой от субъекта истории. К такому категоричному выводу приходят многие мыслители, пытающиеся построить философему на тео-антропологической основе. Так, например, Эспиноза заявляет: “Мы - это история, только человек - история в полном смысле слова. Природа не может ни иметь ее, ни быть ею”.[165] В мировоззренческом плане весьма сомнительна натуралистическая философема, лежащую в основании так называемой “естественной Истории” или “истории Естества”. Однако мы придерживаемся что ли более слабой теоретической версии о становлении природы в качестве особого универсума. На наш взгляд, природа имеет свою историю лишь в той степени, в какой она выступает вложенным универсумом в иерархию универсумов, восходящих к Духу, то есть постольку, поскольку она одухотворена и субъективизирована. Вл. Соловьев в “Чтении о Богочеловечестве” пишет: “В человеке природа перерастает саму себя и переходит (в сознании) в область бытия абсолютного”.[166]
Согласно основным мировоззренческим и методологическим установкам субъектоцентризма более подходящим понятием, замещающим термин “естественная история” было бы понятие - “история универсума объективаций”, ибо природа есть ни что иное как предельная объективация космического универсума, способная перманентно изменять свою форму с “естественной”, на “искусственную” (технологически преобразованная естественность). В объектоцентризме, напротив, Природа, а не Космос составляет онтологический базис проявленных форм жизни Человека. Исследователю всегда необходимо иметь в виду, что природа имеет полярно противоположную онтологическую значимость в противостоящих друг другу миропонимающих концептуализациях, лишь четко осознавая несовместимость субъектного и объектного подходов к одной и той же реальной действительности, возможно избежать в историческом исследовании методологической эклектики. В предельной форме мировоззренческого субъектоцентризма вся многоуровневая Всемирная История редуцируется к истории природы. К.Маркс полагал, что человеческую историю необходимо рассматривать в качестве составной части естественной истории, не случайно он определял становление человека в качестве «естественно-исторического процесса».
Процесс перманентного достраивания Человеком своего Мира до его самых низших и проявленных форм связан с последовательным образованием целой иерархии “слоев истории”. Отдельные слои истории могут быть поняты если составляют собой единое интегральное пространство Всемирной Истории. Высшие слои истории не могут быть редуцируемыми к низшим, однако именно они позволяют составить истинное представление о сущности последних, так как несут в себе их метаисторические прафеномены. “С мистической точки зрения, - пишет известный специалист в обрасти трансперсональной психологии Станислав Гроф, - каждый уровень спектра трансцендирует и включает все предыдущие, но не наоборот. Поскольку низшее, согласно “вечной философии”, создано высшим (в процессе, называемом “инволюцией”), высшее не может быть объяснено из низшего. Каждый из нижележащих уровней имеет более ограниченный и контролируемый круг сознания, чем вышерасположенный. Элементы низших миров не в состоянии воспринимать высшие миры и не знают о их существовании, хотя те их пронизывают. Мистика различает две формы интерпретации – горизонтальную, внутри каждого уровня, и вертикальную, между уровнями”[167]. Выше мы выявили иерархию вертикальных срезов Всемирной Истории, теперь нам предстоит остановиться на анализе тех метаисторических горизонталей, которые состоят как из неявных праисторий, так и их явных исторических проекций. Это позволит выйти на генетическое обоснование конкретно-исторических форм историй.
Разрабатываемая нами субъектоцентристская мировоззренческая схематика вполне коррелирует с многомерной моделью исторической подвижности Бытия, предложенной Н.Гартманом. На схеме 8 представлена иерархия экзистенциальных форм метаистории и соответствующих им слоев истории, характеризующая становление абсолютно консолидированного Субъекта (идеальная модель).
В субъектоцентристском мировоззрении Миро-здание есть ни что иное, как совокупность вложенных друг в друга универсумов, история каждого из которых характеризуется такой же метаисторической вложенностью. Как это видно из схемы отдельные слои истории имеют не только явные формы, подчиняющиеся имманентным законам самодвижения, но и своими неявными праисторическими формами (праформами) оказываются погружеными в более высокие, нежели они слои истории, обусловленные в своем развертывании не собственной имманентной детерминацией, а детерминацией, господствующей в универсуме, в котором данный более низший универсум продолжает пребывать в качестве еще необособившейся вложенности.
Метаистория
Метаистория
астрального
субъекта
›
|
История Космического Универсума (Культ) |
Метаистория антропного субъекта › |
|
|
|
Трансцендентная праистория культуры |
История Человеческого Универсума (Культура) |
Метаистория социального субъекта › |
|
|
Трансцендентная праистория цивилизации |
Эвалюативная праистория цивилизации |
История Социального Универсума (Цивилизация) |
Метаистория телесного субъекта › |
|
Трансцендентная праистория технологии |
Эвалюативная праистория технологии |
Прескриптивная праистория технологии |
История Природного Универсума (Технология) |
Схема 8. Метаисторические и исторические слои
консолидированной экзистенции Иерархического Человека
История человечества как особого универсума субъектно-субъектных отношений есть процесс становления и развертывания собственно человеческих сущностных сил составляющих онтологическую основу человеческого рода, именитства. Эта форма истории распадается на неявную трансцендентную и явную феноменальную истории человечества.
Трансцендентная праистория культуры есть составная часть истории космического универсума и одновременно то, что предваряет собственно историю человеческого универсума. Не культ рационально выделяется из истории культуры, а, напротив культура трансцендентно выдвигается из истории культа. Соотношение двух культур сакрально-культовой и антропно-родовой есть в то же время и соотношением двух историй - праистории и истории становления человеческого в человеке. Если в рамках трансцендентной праистории культуры происходит неявный процесс формирования Человека как Образа Бога, то история культуры есть процесс Его субъективации в Пра-Образ, носителем которого выступает Человек как Феномен. Если основу становления “человеческого в сакральном” составляет перманентно порождаемые трансцендентные ценности, то базисом формирования “человеческого в человеке” выступает процесс воспроизводства собственно эвалюативных ценностей. “Направление к ценностям, - писал Б.П.Вышеславцев, - уходит в бесконечность, так как всякая дифференцированная гармоническая система стоит в конфликте с другой системой и может требовать объединения (интеграции), следовательно, более объемлющей системы систем. Такое направление точно определено идеей актуально бесконечной интеграции, идеей универсальной гармонии”.[168] Гармонизация истории человеческого универсума с историей космического универсума обеспечивается последовательным и согласованным с трансцендентными ценностями развертыванием ценностей эвалюативных, составляющих культуротворческую основу истории становления человеческого Рода или родового Человечества.
Целостному становлению социального универсума соответствуют две неявные праистории и одна история явная. К неявным историям относятся трансцендентная и эвалюативная исторические праформы цивилизаций, принадлежащие историям космического и человеческого универсумов.
Трансцендентная праистория цивилизации - составная часть истории космического универсума. Изначально социальное в качестве неяной праформы неявно же формируется в сакральной среде. Трансцендентная праистория цивилизации есть процесс неявного становления и укоренения социального в сакральном. Так называемые первобытные цивилизации возникали отнюдь не под приоритеты социальной, а скорее сакральной жизни, жизни человека в сфере свободного Духа, а не в запутанных цивилизационных лабиринтах Социума. Праистория социума в пределах истории Космоса, хотя и носила нормативный характер, однако эти нормативы носили сакральный характер (Табу), это были трансцендентные нормы, то есть нормы, имманентно содержавшиеся в символах Культа.
Эвалюативная праистория цивилизации своим генезисом восходит к началу истории человеческого универсума. Генетически она связана с трансцендентной праисторией цивилизации, однако протекающие в ней процессы детерминированы не астральным, а антропным временем и осуществлялись не по символу, а по ценности. В рамках человеческого измерения истории развертывается уже не по космическим, а собственно человеческим измерениям. Антропологически детерминированная форма цивилизации неявно развертывается под приоритеты человеческого над социальным, а потому трансцендентные нормативы в ней замещаются эвалюативными нормами, выступающими эпифеноменами ценностного семантического пространства Культуры.
Собственно история социального универсума есть история становления и развертывания цивилизации в ее явных, проявленных формах. Если культура выделяется из культа, то цивилизация - из культуры. История цивилизации в ее узком понимании и есть история человеческого общества, законы движения которого нормативны, а не дескриптивны. Опыт социальной деятельности скрепляются явными нормами - прескриптивными значениями. В широком смысле история цивилизации охватывает процесс становления социального в качестве эпифеномена сакральной и антропной форм человеческого существования, а также процесс само-бытного становления Человека в качестве Социального Эпифеномена. Данный взгляд на Всемирную историю общества куда более продуктивен, нежели концепция историцистского социологизма или социологизированного историцизма, ограничивающего пределы истории лишь одной явной социальной формой движения. К сожалению современная историческая наука, при отборе исторических сюжетов и фактов, в основном исходит из редукции трансцендентной космодинамики и эвалюативной динамики человеческой экзистенции к социальной процессуальности.
Для эмпирического сознания современного человека со всей “очевидностью” начинает проступать особая историческая форма движения, со своими имманентными законами развития и внутренним целепологанием. И лишь для метаисторического сознания социальная форма движения воспринимается производной от перманентного становления Бесконечного Субъекта в качестве Иерархического Субъекта, а его горизонтальное историческое движение - всего лишь динамической разверткой особой эманационной вертикали, которой социум, цивилизация обязаны своими генезисом и последовательным развертыванием, ведь они есть не что иное как все более широкомасштабное вырабатывание социальной субличности, актуализация ее потенциальностей, интроецируемых в нее актом самокреации Бесконечного Субъекта на уже довольно продвинутом этапе его социального самостановления. Социальная историчность подчинена надсоциальной общечеловеческой и общекосмологической историчности и восходит к единому метаисторическому акту самокреации Абсолюта.
История природного универсума состоит из трех неявных праисторий и одной явной, феноменальной истории. К неявным историям относятся трансцендентная, эвалюативная и прескриптивная праистории природного универсума. К явной ее истории относится дескриптивная история природы, фиксирующая ее явный переход от естественной праформы к искусственной форме бытования в качестве универсума объективаций субъективного.
Трансцендентная праистория природного универсума имплицитно вплетена в историю космического универсума и “подчиняется” в своем становлении, развертывании его “свободной детерминации”, “самодетерминации”. Абсолютное в Сущем не может редуцироваться к релятивному в нем, природа Духа не сводима к отелесненной Природе, как это наблюдается в пантеистически ориентированном естествознании. В субъектоцентризме телесная природа есть онтологическая производная от Духа, а не наоборот. «Бога не должно считать каким то телом или пребывающим в теле, - учил Ориген, - но – простою духовною природой, не допускающей в себе никакой сложности… то, что служит началом всего, не должно быть сложным и различным: то, что, будучи чуждо всякой телесной сложности, должно состоять, так сказать, из одного только вида божественности, не может быть многим, не единым”[169]. Однако Дух впервые обретает свою собственную “онтологическую твердь” лишь в качестве одухотворенной телесности, одухотворенной природы. “Все события” в своем становлении и развертывании истории, происходящие в объективированном природном мире, - писал Н.А.Бердяев, - суть лишь символические реальности, лишь отображения духовного мира... мифологична вся всемирная история, весь мировой процесс, т.е. в смысле символического отображения в объективно-природном плане внутренней мистерии духа”.[170] Тейяр де Шарден одну из своих работ назвал “Христос эволюции”. Если рассматривать эволюцию в качестве эпифеномена креации, то можно согласиться, что она берет свои истоки из первоначал Мира, так как сотворенное Нечто, покинув чертоги Покоя, обретает Движение и определенную его Направленность. Однако это само-движение характеризуется столь низкой интенсивностью, что не попадает в поле зрения “внутреннего наблюдателя” - трансцендентального Я. Если говорить языком Гете, то это, прежде всего, история становления природных праформ и их первичной организации в первичную форму объективаций феноменов Духа. Человек-Микрокосм своей телесностью погружен в становящийся универсум естественных субъективаций, не ставших еще объективированными феноменами, естественных потому, что своей пра-феноменальностью, пра-явленностью они обязаны всеобщему креативному процессу, а не его реликтовой форме - процессу творчества, продуктом которого всегда есть нечто в качестве некоего симбиоза естественности, исходящего из глубин Логоса и искусственности, печать которой накладывает Рацио. Это и есть в полном смысле естественная История или История Естества во всеобщих трансцендентных координатах Сущего. Причем перманентно порождаемым телесным формам характер естественности придает не экзистенция, а трансценденция - одухотворяющее все и вся в Сущем. В субъектоцентризме степень естественности объективации прямо пропорциональна степени инобытийствующей в ней субъективности. И, напротив, уровень искусственности объективации обратно пропорционален уровню содержащегося в ней “субъективного остатка”. Естественная праистория включает в себя не только становление телесных, субстратных прафеноменов, но и прафеноменов надтелесных, составляющих космический базис человеческого сознания (“космический разум”).
История естества и история человеческого разума между собой трансцендентно связаны и эта их связь хорошо фиксируется определением “человек - разумное животное”. Свое дискурсивное, дескриптивное мышление человек обрел в самом акте творения, однако на первых порах оно было “запаковано” в непроницаемую трансцендентную оболочку (трансцендентные знания). Трансцендентная форма дискурса позволяла целостному и универсальному субъекту, каким был астральный субъект, столь же целостно и универсально мифологизировать внутрисубъектные отношения космического универсума, делая их “объектом” неосознаваемых интенций. В своей работе “Созерцающая способность мышления” Гете приводит следующую цитату из Канта: “Мы можем представить себе такой рассудок, который, будучи не дискурсивным, как наш, а интуитивным, от синтетически общего, от созерцания целого как такового, идет к частному, от целого к частям. При этом вовсе не нужно доказывать, что такой intellectus archetypus возможен; нужно лишь показать, что при сопоставлении нашего дикурсивного, нуждающегося в образах рассудка (intellectus ectypus) и случайного характера именно его структуры, мы приходим к идее некоторого intellectus archetypus, и эта идея не содержит в себе противоречия”. Соглашаясь с этим кантовским суждением, Гете приходит к следующей посылке: “Если в нравственной сфере посредством веры в бога, добродетель и бессмертие души мы способны подняться в высшую сферу и приблизиться к первому существу, то и в интеллектуальной области можно было бы также признать, что посредством созерцания вечно созидающей природы мы становимся достойными принять духовное участие в ее творениях”.[171] Интуиция и есть недискурсивный Рацио, и история дискурсивных практик используемых человеческим мышлением неявно содержится в истории становления космического Сознания или сознания Космоса.
Эвалюативная праистория природного универсума выступает уже составной частью истории собственно человеческого универсума. Это уже история очеловеченной природы, история той ее части, которая оказалась “заключенной” в пределы “человеческого именитства”. Естественный отбор, самопроизвольно существовавший в природе, человек последовательно замещает искусственным отбором, и природное начинает эволюционировать под приоритеты уже не сакрального, а человеческого в человеке. Основу универсума объективаций начинают составлять человеко-природные комплексы одновременно и полуестественные и полуискусственные по своей морфологии. Очеловеченная природа от природы одухотворенной отличается уже меньшей устойчивостью, гомеостазис в ней поддерживается определенными технологическими процессами и процедурами, развитие которых имеет свою особую историю. Наиболее явно история технологии как история становления искусственной природы начинает разворачиваться с момента обособления человеческого универсума от универсума космического. Телесная организация мира начинает обретать свою технологическую инфраструктуру, которая нуждалась уже в качественно иной дискурсивной организации сознания. Трансцендентное, символическое сознание начинает замещаться эвалюативным, ценностным сознанием, основу которого составляют эвалюативные знания. Таким образом начинается история ценностно опосредованных дискурсивных практик, которые хотя и не позволяли целостно взирать и воспринимать целостный мир, однако давали возможность провидеть в нем антропоморфные структуры и технологически организовывать их в человекосоразмерные искусственные комплексы. “Каждому человеку, - писал Гете, - присуще рассматривать себя как центр мира, потому что ведь все радиусы исходят из его сознания и туда снова возвращаются. Можно ли поэтому вменять в вину выдающимся умам известное завоевательное стремление, какую-то жажду присвоения?”[172] История природы на этой фазе метаистории оказывается в конечном счете культурологически соотнесенной с историей человеческого универсума, утрачивая при этом большую часть своих космологических прафеноменов.
Прескриптивная праистория природного универсума - составная часть истории социального универсума. Это история последовательной социализации природной стихии, подчинения ее естественных процессов процессам общественным. На этом этапе метаистории эволюция природы начинает подчиняться целям социоэволюции, а телесная организация мира изменяться под приоритеты социального в человеческом. Это история возникновения и функционирования социо-природных комплексов, по своему характеру скорее всего искусственных, нежели естественных. Социализированная природа отличается еще меньшим гомеостазисом нежели природа очеловеченная, а потому технологические процессы ее поддерживающие по своей мощи и силе начинают быть соразмерными, по утверждению, Вернадского мощи геологических процессов. История технологии хотя и выступает составной частью истории социальной технологии, однако начинает формироваться как относительно самостоятельная промышленная История или история Промышленности. Даже по этимологии этого слова видно, что промышленная технология далеко уже не представляет собой результат Промышления, Промысла Божия, а всего лишь некую социально организованную систему социо-технологических промыслов, промышляющих и производящих социально полезные объективации - потребительные стоимости. Искусственный отбор природных форм, пригодных для социальной технологии становится предельно жестким, преимущество отдается тем из элементов естественного, которые способны интегрироваться в природное тело общества, социума.
Социальная праистория природного универсума развертывается уже на иной семантической основе ими становятся прескриптивные знания. Начинается история нормативно опосредованных дискурсивных практик, позволяющих в еще несоциализированной природе обнаруживать социоморфные формы в целях их технологической обработки в компоненты морфологической структуры социального универсума. История развития антропоморфного Рацио сменяется историей Рацио социоморфного, история человеческого сознания как самосознания Человечества сменяется историей общественного сознания как самосознания Общества.
Явной формой истории природного универсума выступает дескриптивная история становления универсума объективаций. Природа в этой своей имманентной истории наконец-то сбрасывает с себя трансцендентную, эвалюативную и прескриптивную формы и обнажается перед мыслящим взором гносеологического субъекта до своих так называемых “чистых” феноменальных форм. Так как в этих феноменальных объективациях инобытийственное присутствие субъективности оказывается предельно минимизироваванным, то универсум естественных объективаций очень быстро и эффективно начинает замещаться универсумом искусственных объективаций. Научно-техническая революция буквально на глазах лишь одного поколения существенно преобразила социо-природный комплекс в комплекс природно-техно-логический. Начинается истинная история Техногена как рационального инобытия Природы и связанная с ней история Рацио как технологического инобытия Логоса. Наиболее концентрированно они находят свое выражение в Истории Техники и Науки. В конечном счете это история создания искусственного Тела и искусственного Интеллекта, рациональный синтез которого должен привести к Автоматизированной Экзистенциальной Системе - Абсолютной Онтологии Объекта.
Мы уже выше подчеркивали, что понятия эволюция, развитие, прогресс в субъектоцентризме являются онтологическими производными от таких универсалий как креация и эманация. Видимо, общим понятием и для той и другой формы мировоззрения выступает категория “становления”, имеющая сходные смыслы, но совершенно противоположные значения. Именно эта категория и может лечь в основу общего определения истории. В предельно общем виде история есть ни что иное как процесс становления мира. Становление мира в объектоцентризме понимается как процесс перманентного развития объекта, которое вполне вероятно может завершиться своим иным - автоэволюцией субъекта, естественно, совершающейся в общем потоке становления Абсолютного Объекта, в качестве его Самосознания, отсюда неимоверно высокая значимость в этой форме мировоззрения придается гносеологизму. Исторические науки по крайней мере должны сбалансировать свои подходы к исследуемой реальности и заниматься не только археологической реконструкцией присутствия "объективной реальности" в Мире, но и трансцендентного существования "субъективной реальности" в нем. Однако история как наука, в основном, продолжает делать свои выводы о человеке по фактам его объектного, овнешненного при-сутстсвия, оставляя в тени свидетельства его духовного существования.
Органически вытекающая из общих принципов субъектоцентристского мировоззрения онтологическая структура Всемирной Истории, позволяет, на наш взгляд, избегать в исследованиях конкретных фрагментов динамики Сущего редукции высших историй к низшим, либо заменять вторые первыми. “Историчность человека, - писал Ясперс, - это историчность многообразная. Однако это многообразие подчинено требованию некоего единого. Это - не исключительность притязания какой-либо одной историчности на то, чтобы быть единственной и господствовать над другими; это требование должно быть осознано в коммуникации различных типов историчности в качестве абсолютной историчности единого”.[173] Гадамер призывал историков подходить к истории исторично, т.е. пытаться преодолевать искус редуцировать отдельные ее формы и слои к некоему рационально принимаемому объекту мышления. Подлинно историческое мышление, утверждал он, должно мыслить и свою собственную историчность. Тогда оно уже не будет гнаться за призраком исторического объекта, предметом прогрессирующего научного исследования, но сумеет распознать в объекте иное своего собственного, а тем самым научиться познавать и одно и иное. Подлинный исторический предмет – это не предмет, а единство такого одного и иного, отношение, в котором и состоит как действительность истории, так и действительность исторического понимания[174]. Конкретные онтологические слои Всемирной истории должны исследоваться аутентичными их природе историческими дисциплинами, консолидированными друг по отношению к другу единой субъектоцентристской историософемой.
1.5. Историцизм Иного
|
|
Все, что есть в субъекте, есть и в объекте, и еще кое-что. Все, что есть в объекте, есть и в субъекте, и еще кое-что. У нас два пути к гибели или спасению: признавать за объектом “еще кое-что” и пренебречь нашим субъективным остатком или же возвысить субъект, признавая за ним “еще кое-что”, и отвергнуть объективный остаток. Гете. Максимы и размышления.
|
Мы рассмотрели предельно абстрактную историософскую модель расширяющегося бытия Субъекта, в которой совершенно не предусматривается возможность проявления деструкции, вернее самодеструкции в эманационно-креационистском Начале. Однако во Всемирной Истории воплощается не только конструктивная ритмика Гармонии но и деструктивная аритмия Порядка. С позиции субъектоцентристской философемы Мировая Гармония является “нисходящей” ритмической основой Неиного и представляет собой “затухающую” амплитуду Миро-Творения. Восходящим, находящимся к гармонии, если можно так выразиться, в экзистенциальной “противофазе” является Порядок. Мировая Гармония есть способ движения Абсолюта от Ничто к Нечто и возвратного движения в Свою изначальную трансцендентную Пустотность. В отличие от Гармонии, Порядок ее перманентно вытесняющий в изначальное Ничто, принадлежит не Ничто, а Хаосу, существующему в качестве квазионтологического эпифеномена лишь в интервале между Ничто и Нечто, и не предлежит Абсолюту. Мировой Порядок является “упорядоченным Хаосом”, он может существовать лишь за счет энергетического вампиризма, за счет насилия над высшими и гармоничными универсумами.
Историческая форма Сущего всегда есть некая экзистенциальная эклектика из Гармонии и Порядка, из Неиного и Иного, являющегося экзистенциальным Ничтожеством, радикально противостоящим Ничто. “Человеческий дух, - писал Гете, - по мере своего продвижения вперед все больше ощущает, насколько он обусловлен тем, что он, обретая, должен терять: ибо как с истинным, так и с ложным связаны необходимые условия бытия”.[175]Реальная история - это не столько онтологически конструктивное расширение Вселенной Духа, сколько такое его развертывание, в рамках которого менее универсальные онтологии оказываются склонными к квазисубъективациям и квазиобъективациям потенциальностей, свернутых в изначальное трансцендентное Ничто, что и выступает внутренним источником вселенской деструктивности, развития проявленных форм бытия в режиме катастрофы. По мере перехода из Ничто в Нечто в Сущем нарастает хаос. В конце истории Гармония вновь задвигается в Ничто упорядоченным Хаосом. По ходу истории Человек оказывается способным все менее творить гармонию и все более упорядочивает Хаос. У него появляется склонность повсюду устнанавливать Порядок под обратные онтологические приоритеты, под приоритеты бытования низших экзистенциальных форм над высшими. «Погружаясь во грех, - писал П.А.Флоренский, - дух забывает себя, теряет себя, исчезает для себя… Самость жалит саму себя своим грехом, но главная мука – в том, что сама себе она представляется чем-то без-субъектным»[176]. Таким образом при построении метафизической версии целостного исторического процесса необходимо исходить не только из его метаисторической предзаданности, но и из тех реальных форм, которые Всемирная История обретает под воздействием силового поля Иного в Сущем, генетически восходящего отнюдь не к трансцендентному Ничто, а к квазифеноменальному Ничтожеству.
Иное в Сущем радикально противостоит Неиному в нем, как радикальное зло - добродетельной Свободе. Но такое противостояние Иного Неиному фиксируется лишь в субъектоцентристской концепции Сущего. В иных же историософемах, близких по своим ориентациям к метафизическому трансцендентализму, Иное, если поддаться соблазну тавтологии, имеет совершенно иное значение. Универсалия «иное» (порой в качестве ее синонимов используются «инаковое», «другое») во многих религиозно-философских построениях рассматривается в качестве обмирщвленных форм трансцендентного, входящих в сферу Абсолюта в качестве компонентов Его расширяющейся Вселенной, да и сам Мир конституируется ни иначе как свое иное. В рамках этих философем Иное не противостоит Абсолюту, а, напротив, является как бы Его внешней онтологической производной, Его порождением. Вот как, к примеру, интерпретирует трансценденталию=универсалию Иное С.Л.Франк. Всякое «иное, чем Бог», считает он, есть «иное в составе самого Бога», «Божье иное», момент «инаковости», вырастает из самораскрытия Бога. Бог есть единство «этого и иного». «Иное самого Бога» есть ни что иное как материал из которого Он творит Сущее. Этот «материал» есть некое начало, которое сам Бог противопоставляет Себе как «иное». Это Божье «иное» не есть бессодержательная абстракция, его общее содержание вполне может быть осознано человеком[177]. Как мы видим Иное, согласно С.Л.Франку есть воплощенный в материале творческий замысел Абсолюта, есть вся совокупность его Творений, отличающаяся от Творца лишь своим явным и релятивным бытованием. В этой системе взглядов Иное есть ни что иное как сам Абсолют в своем Инобытии («все во всем»). Не только С.Л.Франк, но и подавляющее большинство представителей религиозно-философской мысли никогда не использовали в своем анализе Сущего трансценденталию=универсалию Неиное, а потому и прибегали к Иному как абсолютно положительному трансцендентальному значению. «Неиное» Николая Кузанского так и не заняло своего достойного места в трансцендентальной философеме, зато на его антипод «Иное» было перенесена его апофатическая значимость. В избранной нами системе трансцендентальных основоположений, Иное не есть составная часть Неиного и не входит в состав абсолютного Бытия или бытия Абсолюта, напротив она радикально противостоит Ему и потому наделяется крайне отрицательным онтологическим содержанием.
Как подчеркивал Гете, при построении историософской концепции выбор в конечном счете сводится между объектным и субъектным подходами к действительности, причем если первый ведет к гибели, то второй - к спасению человечества. Мы однозначно приняли субъектный подход, и как его следствие, идею духовного спасения и возрождения человечества. Не бесконечная рационализация объективированного мира, отчужденного от человека, а как считал И.А.Ильин, «самопознание и самопреобразование человеческого духа должно лежать в основе всей жизни, дабы она не сделалась жертвою хаоса и деградации»[178]. Однако предстоит еще выяснить почему же в реальном историческом процессе в человеческой экзистенции в качестве “бесконечно малой” постоянно отбрасывается “субъективный остаток” и абсолютизируется “объективный остаток”, который с бегом исторического времени все более обретает экзистенциальную псевдоцелостность и псевдоуниверсальность.
Еще раз вернемся к рассмотрению континуума метаисторических этапов онтологического нисхождения Неиного в Сущее (схема 4), в самом его конце находится этап погружения сущего в хаос, средством которого выступает механизм самообъективации. Согласно основоположениям, лежащим в основании субъектоцентризма, такой исход при идеальных условиях саморазвертывания и самосвертывания Бесконечного Субъекта возможен лишь тогда когда Он сам Себя превращает в Бесконечный Объект, в связи с катастрофой, которая “теоретически” может произойти в апофатических глубинах Духа. «Утратив образ духа, - писал И.А.Ильин, - она (душа – Ю.Ф.) делается жертвою собственного хаоса и увлекается его кружением в падение и беды. И тогда ее задача в том, чтобы в самих бедах и страданиях усмотреть свое отпадение от Бога, услышать Его зов, узнать Его голос и подвергнуть разоблачению и пересмотру свой неверный путь»[179].
Самообъективация. В классическом неоплатонизме самообъективация как механизм придающий Объекту статус абсолютного начала отсутствует, ибо даже универсум объективаций все же оказывается онтологической вложенностью во Множественное, являющееся развернутостью свернутостей Единого. По большому счету понятие само-объективация лишено какого-либо смысла, так как Объект не может обладать самостью, являющееся атрибутивным свойством Субъекта, а потому не может самого себя объективировать. Абсолютный Объект может рассматриваться лишь в качестве противобытия Абсолютного Субъекта, а таковым может выступать лишь упорядоченный Хаос. В таком случае под самообъективацией можно понимать такой онтологический механизм, который приводит к полной и необратимой дифференциации объективной реальности, к ее самораспаду в качестве вложенного универсума иерархии многоярусного бытия Абсолютного Субъекта.
Если механизм самообъективации предусматривается неоплатонизмом всего лишь как возможность, обусловленная неким “помутнением Духа”, то в христианском вероучении он входит в догматику, канон, в той его части, которая проясняет почему с самого начала миро-творения мир начинает отпадать от Творца, а вся его последующая история оказывается историей восхождение сил зла и умаления добра в существовании Человека, бегущего от Свободы под крыло Необходимости. Апокалипсис и есть тот вселенский квазикреационистский акт, посредством которого Абсолютный Субъект вновь инверсирует распадающееся Сущее в Ничто, в свое истинное трансцендентное Бытие, чреватое очередным нисхождением к нижней онтологической бездне. В момент Апокалипсиса самообъективация трансцендентно инверсируется в самосубъективацию, позволяющую из распавшейся единой Множественности, вновь реконструировать множественность Единого.
Метаистория своей внутренней апофатикой задает общую направленность развертывания Ничто в Нечто и позитивно воздействует на становящееся Сущее лишь в ситуациях когда Мир оказывается в очередном онтологическом тупике. Она репрезентирует собой идеальное в реальном, последнее же в своем развертывании, в основном, детерминируется историческим разумом. А потому реальная история есть история мира все более отпадающего в своем гипертрофированном развитии от метаисторических первоначал. С позиции историософии деструктивная функция «исторического» состоит в перманентном разрушении всего того, что «историческим разумом» конституируется как наследие “темного прошлого”, актуализированного в “тусклом настоящем” мешающему продвижению к “светлому будущему”. Форсированное восхождение к будущему ведет к тому, что в истории все более угашается метаисторическая и наращивается историцистская составляющая, и сущее оказывается все менее гармоничным и все более упорядоченным. Метафизическую основу вселенской деструкции в человеческом существовании составляет редукция высшего к низшему, ведущая к профанации вызвышенного и уничижении чувства благоговения перед жизнью. Такой прием исторического разума Макс Шелер называл “спекуляцией на понижение”. В дальнейшем этот идеологический прием, преднайденный историцистским сознанием в практической деятельности по приданию низшим формам бытия более “ускоренного развития”, перекочевал в сферу теоретическую и существенно укрепил веру в объектоцентристский методологизм.
«Спекуляция на понижение» значимости высших форм человеческой экзистенции составляет идейную основу истории рационализма. С Декарта берет начало перманентная редукция субъективного к объективному, целого в экзистенции к ее наиболее проявленным частям. Сначала была осуществлена редукция человека как субъекта к его разуму (Декарт), затем человеческий разум был редуцирован к объективному разуму (Гегель), сведенный позднее к объективной Реальности или реальности Объекта (Маркс) и в конце концов субъект оказался редуцирован к либидоизной телесности (Фрейд). От одной редукции к другой историческая наука становилась все менее метаисторической и все более историцистской. Все более насыщаясь ложными объектологическими посылками она все более эффективно выполняла критическую функцию по отношению к Неиному и апологетическую функцию по отношению к Иному в Сущем
Для того, чтобы понять суть историцизма как квазиистории («истории, которой слишком много»), необходимо построить еще один континуум этапов восхождения объекта и нисхождения субъекта, который отражал бы гипертрофию в отношениях субъекта с универсумом своих собственных объективаций. На схеме 9 представлены основные этапы развертывания свернутостей Ничто в онтологические слои Нечто, осуществляемые в “режиме катастрофы”, в результате которого Субъект не столько «нисходит», сколько «падает» («Неужели под душой также падают как под ношею…» – С.Есенин).
Квазисамо- Квазисубъективация Квазиобъективация Квазиобъективация
![]()
![]()
![]() субъективации
субъективного субъективного
объективного
субъективации
субъективного субъективного
объективного
![]()
![]() S
O
S
O
Космономия Антропономия Социономия Природономия Хаономия
Схема 9. Континуум этапов экзистенциального
падения Субъекта
Квазисамосубъективация Субъекта. Космический универсум как и астральный субъект в нем укорененный своим генезисом восходят к первичному акту творения из Ничто, т.е. представляют собой последствия имманентного процесса самосубъективации Духа, Бесконечного Субъекта. В ряде теодицей, как мы выше выяснили, чтобы окончательно снять с Абсолюта ответственность за то, что созданный им мир во зле лежит, Ничто наделяют онтологией, отличной от бытия Абсолюта и именно в ней находят первопричину вселенской деструктивности. Человек создан Богом по Образу и подобию своему, но при этом основным “материалом”, из чего тот образовывался и было это Ничто, чреватое не только абсолютным добром, но и абсолютным злом. Вот каким образом пытается С.Н.Булгаков в “Свете невечернем” разрешить эту теологическую дилемму и, как следовало ожидать, не находит рационального способа ее разрешения. С одной стороны, он утверждает, что “мир, сотворенный из ничего в Начале, т.е. потенциальная и актуализирующаяся софийность, в первозданной своей "доброте" не имеет ничего антисофийного, не содержит никакого зла. Ибо зла еще нет в потенциальном ничто, составляющем основу тварного мира, напротив, оно становится благим, приобщаясь ко благу, из темного ничтожества становясь бытием”. Однако далее С.Н.Булгаков именно в Ничто обнаруживает семена зла, которые прорастают в процессе его актуализации и становления в качестве Сущего. “Ничто, - пишет он, - само в себе, конечно, не может стать актуальным принципом мироздания, началом всего, - из ничего не происходит ничего, - но оно может ворваться в осуществленное уже мироздание, прослоиться в нем, как хаотизирующая сила, и в таком случае мир получает свой теперешний характер - хаокосмоса. Таким образом, возможность зла и греха, как актуализации ничто, была заранее дана в мироздании... Актуализация ничто полагает начало тому множественному, хаотизированному бытию, которое во всех других отношениях есть небытие. И уже само это бытие-небытие, как общее состояние мироздания, есть метафизический грех, о котором сказано: мир во зле лежит. Есть какая-то изначальная тоска и злоба, выражающаяся и в "мировой скорби", и во вражде всего со всем... В мире есть этот "минус", которым объявляет себя Мефистофель и "черт" Ив. Карамазова”.[180] Итак, для того, чтобы выстроить вполне “достоверную” тео-антроподицею и оправдать не только Бога, но и Человека в их не вполне позитивном Со-Бытии, необходимо признать, что существует еще дьявол как абсолютный “минус бытия”, отождествляемый с ничтожеством, которое в качестве трансценденталии мы ввели на свой страх и риск еще в первой книге “Суммы антропологии”. Если Бог как Ничто есть свернутость всех экзистенциально положительных свернутостей, то дьявол есть свернутость всех экзистенциально отрицательных свернутостей. И в акте творения развертываются не только Ничто, но и Ничтожество. Абсолютно отпавший от Бога, а следовательно и абсолютно расконсолидированный Человек трансцендирует уже себя не в Абсолют, Бога (Бого-человек), а гиперрационализирует в “царя мира сего - дьявола (человекобог =человекозверь). “Для христианства, - пишет неотомист Жак Маритен, - подлинная доктрина мира и временного града состоит в том, что они являют собою одновременно царство человека, Бога и дьявола. Таким образом проявляется существенная двойственность мира и его истории; это - общее поле, поделенное на три части. Мир есть закрытое поле, которое принадлежит Богу по праву творения; дьяволу - по праву завоевания, в силу греха; Христу - по праву победы над первым завоевателем, по праву Страсти. Задача христианина в мире состоит в оспаривании у дьявола его владения, в отвоевывании его у него; он должен тут прилагать усилия, и преуспеет лишь частично, пока длится время. Мир спасен, да, он спасен в надежде, он - на пути к царству Бога; но он не свят”.[181]
В тео-антроподицее, которая основывается на отождествлении Бога и Ничто, дьявола и ничтожества, снимается ответственность с Бога за актуальное состояние мира, однако эта ответственность возрастает у Человека, который столь падок на искушения и прельщения князя мира сего. Введением универсалии квазисамосубъективация можно несколько “прояснить” содержание вселенской коллизии, связанной с перманентным самопорождением абсолютного начала мира. Не случайно в христианской догматике возникновению человека и его грехо-падению, в “божественной среде” предшествует еще более вселенская катастрофа - падение самого любимого Господом ангела, превратившегося хотя и в ничтожного, однако всесильного дьявола. По Якобу Беме земной мир выступает на периферии божественного самопорождения, возникший в результате восстания ангельского верховного князя Люцифера, который не повиновался Богу и захотел быть выше его, при этом испорченная Люцифером божественная телесность послужила основой создания мира. С отпадением Люцифера начинается временной процесс истории. Ничтожество есть квазисамосубъективация Ничто, результатом которого абсолютное добро оборачивается абсолютным злом, а одна из божественных сил - дьявольским насилием. Если самосубъективация связана с теономией, то квазисамосубъективация с космономией, космос отпадая от Абсолюта самоконституирует себя в качестве особого центра мира (космоцентризм), этот центр как раз насильственно и завоевывает дьявольское ничтожество. Если теономия, по выражению Тейяра де Шардена есть “божественная среда”, среда обитания Теоса, Бога, то космономия есть “дьявольская среда”, в которой зло устанавливает свои репрессивные порядки в космосе. Идея абсолютной свободы человека, будучи вынесенной за пределы его духовного становления, оборачивается абсолютным рабством. Как только любовь к Абсолюту трансформировалась в абсолютную любовь к человечеству, последняя “начала превращаться в ненависть к живым людям, требование универсальной гильотины”.[182] Моральный протест против Бога, основывающийся на императиве “свободы ради добра”, появляется лишь затем, чтобы апологетизировать ненависть в мире, и затем исчезает, чтобы не мешать ей действовать, творить зло. По счиБ.П.Вышеславцеву, отрицательное морализирование не есть выражение любви, оно есть функция ненависти. Мефистофель был величайшим мастером в отыскании негативных ценностей, в безошибочном угадывании зла он видел свою высокую миссию, и в этом смысле был величайшим моралистом, не хуже любого пуританина. Великий Инквизитор Достоевского очень много рассуждает о любви к людям, но это всего лишь любовь палача к своей жертве.
Историософия призвана исследовать не только генезис трансцендентного Нечто, но и пртчины возникновения феноменального Ничтожества. Субъектоцентристская историософема в отличие от объектоцентристски ориентированной философии истории отказывается рационально понимать, а следовательно и принимать в качестве некоей неизбежности существование вселенского зла. «Умозрительная философия, - пишет Лев Шестов, - "объясняет" зло, но объясненное зло не только сохраняется, не только остается злом, оно оправдывается в своей необходимости, приемлется и превращается в вечное начало. Экзистенциальная философия выходит за пределы "объяснений", экзистенциальная философия в "объяснениях" видит своего злейшего врага. Зло нельзя объяснять, зло нельзя "принимать" и договариваться с ним, как нельзя принимать грех и договариваться с грехом: зло можно и должно только истреблять»[183]. Несмотря на то, что антропологическая онтология все-же исследует многообразные проявления Иного в Сущем, она не содержит в себе установку на принятие человеком ничтожных форм бытия в качестве естественных компонентов «объективной действительности». Напротив историософский анализ многообразных форм экзистенциального ничтожества осуществляется для выработки конструктивной программы активного противостояния силам зла.
Квазисубъективация субъективного. Вторым актом метаисторической драмы выступает отпадение человека от Бога. Феноменальное человечество сначала неявно, а затем и вполне осознанно начинает конституировать свою родовую экзистенцию в качестве и абсолютной и универсальной. На смену космономии приходит антропономия, “квазичеловеческая Среда”, в которой господствует Сверхчеловек. Замещая собой Бога, присваивая себе как родовому существу Его трансцендентный статус, центрируя своей экзистенцией все надфеноменальное, надродовое в мироздании, человек тем самым отчуждает от самого себя свою же собственную сакральную ипостась, превращая ее в псевдотрансцендентную вещь, в кумир. В системе субъектно-субъектных отношений, во взаимоотношениях Я и Ты, другой субъект - Ты конституируется в качестве человеческого Абсолюта или абсолютного Человека. Средством такого конституирования и выступает механизм квазисубъективации субъективного в родовой человеческой экзистенции. Человек из Феномена превращается в Гиперфеномен, Квазифеномен, активно противостоящий самому Себе как Ноумену. Экзистенциальная тотальность Ты абсолютизируется, и весь процесс собственно человеческой истории начинает протекать как бы против естественного течения метаистории, и целью ее уже выступает не реализация Трансцендентного Самопроекта Бесконечного Субъекта, а предельное развертывание квазиантропных свернутостей Ты, достижение некоего идеала внесакральной человечности в множественность Я, каждый из которых актуализируя себя в Ты, замыкает свою экзистенцию на квазисубъективацию отчужденной от себя и ставшей чуждой ему своей второй половинки. «Ты» как вторая половинка целостного акта субъектно-субъектных отношений превращается в “бесконечно большую” экзистенциальную величину, а «я» - релятивизируется и конституируется антропоцентристским сознанием в качестве “бесконечно малой” ментальной формы. По сути здесь мы имеем дело с деформированной системой субъектно-субъектных отношений, отношениями субъектов, обладающих неравными онтологическими статусами. Над каждым Я тоталитарно нависает Ты, в качестве иного, инакового Я, причем в этой ситуации взаимной отчужденности оказываются все члены квазиродовой целостности. Каждая человеческая индивидуальность испытывает на себе последствия квазифеноменального самоотчуждения и сама относится к другому как к “человеческой вещи”, возникшей благодаря самоовещнению в ходе квазиобщения.
Субъектно-субъектные отношения гипостазированные ложным квазиообщением, замещающим собой внутрисубъектные отношения креации, ведут к новому витку исторической драмы - к отпадению Человека уже не только от Бога, но и от самого себя, к появлению Человека-Зверя. Происходит существенное понижение онтологического статуса человека в пользу столь же резкого его повышения у квазисубъективной реальности, реальности антропоморфного Квазифеномена. На этой фазе человеческой истории возникает квазифеноменальная реальность Антропного Субъекта, которую следует понимать как антропологически упорядоченный хаос. Как только Ничто начинает разворачиваться в Нечто возникает и Хаос как некая совокупность всевозможных “отходов” метаисторического процесса. Согласно А.Бергсону, наш жизненный путь усеян обломками того, чем мы начинаем быть и чем мы могли бы сделаться[184]. Хаос существует в качестве противобытия Абсолюта на метаисторическом континууме развертывания Единого во Множественное и свертывания Множественного в Единое и его «творцом» является сам человек. Метаисторический проект Сущего при своем воплощении оказывается не вполне соответствующим его идеальной праформе, неявно содержащимся в Ничто, по той причине, что Человек не есть марионетка Судьбы, он свободный субъект и самостоятельно определяется в ней. Но он должен действовать таким образом, чтобы не входить в конфронтацию с трансцендентальным замыслом строительства многомерного Бытия, которым рационально не располагает. Однако не только Человек, но и Бог не знает своего собственного Замысла, так как не обладает сознанием, а есть Абсолютное Бессознательное. Лишь в процессе самотрансценденции этот замысел приоткрывается не только Человеку, но посредством Человека и Богу. Человеческое Сознание и есть опосредованная форма Сознания Бога.
В этой связи необходимо остановиться на анализе оснований концепции сущего, предложенных в свое время Г.С.Батищевым. Пытаясь преодолеть сложившийся в позитивизме объектный подход, он предлагает при построении всеобъемлющей картины мира исходить не из субъектно-объектных отношений, абсолютизация которых, действительно, ведет к овещнению и отчуждению человеческого в человеке, а из субъектно-субъектных отношений, которые будучи поставленными в центр человеческой экзистенции в состоянии вернуть человеку утраченный им высший онтологический статус. Оригинальная и во многом конструктивная модель человеческого существования, представленная в позднем творчестве Г.С.Батищева, все же “зависает в воздухе”, в связи с тем, что субъектно-субъектные отношения конституируются им в качестве изначальных и порождающих все иные связи и отношения человека с самим собой и мирозданием в целом. “Субъектное бытие человека, - пишет Г.С.Батищев, - таит внутри себя многомерное и притом непрестанно изменяющееся и могущее неограниченно возрастать богатство виртуальных содержаний, или скрытых потенций. Оно, будучи взято не изолированно, а как междусубъектное бытие, имеет в себе внутреннюю глубину, и эта объективно сущая глубина его по сути своей неисчерпаема”.[185] Однако как только субъектно-субъектные отношения начинают обосабливаться от внутрисубъектных отношений, которым в концепции Г.С.Батищева к сожалению так не находится места, сразу же межчеловеческое общение обретает тенденцию к вырождению в весьма репрессивное квазиобщение с явной направленностью против трансцендентной целостности и универсальности не только Человека как Ноумена, но и Человека как Феномена и средством этой формы экзистенциальной деструктивности и выступает квазисубъективация субъективного и именно в сфере глубинных отношений между субъектами. Квазиобщение ведет к искажению креативно-эманационного процесса, а порождаемые при этом гиперфеномены оказываются не чем иным как средством еще большего самоовещнения, самоотчуждения и самонасилия человека. «История, - подчеркивал Н.Бердяев, - вместе с тем есть неудача человека, неудача культуры, крушение всех человеческих замыслов. В ней осуществляется не то, что задумал человек, и смысл происходящего в ней неуловим для человека»[186].
Сознавая, что концепция сущего, в основании которой положены субъектно-субъектные отношения не объясняют почему же действительность развертывается не по идеальному и конструктивному плану, что причина перманентного появления деструктивных и репрессивных структур в экзистенции надо отыскивать в самом человеке, Г.С.Батищев как и в свое время С.Л.Франк, предлагает развести между собой понятия “субъектное” и “субъективное” и именно последнее сделать ответственным за то, что мир во зле лежит. “Субъективное, - пишет он, - не может не быть всегда внутренней противоположностью всему объективному во всех измерениях и сферах... оно всегда накладывает на него свои собственные ограничения и огрубления, упрощает и локализует, преломляет сквозь свои конечные, более или менее своемерные формы, засоряет его, загораживает и даже подменяет, одним словом, неизбежно портит его. В общей стратегии восхождения человека по пути культурно-исторического совершенствования субъективное обнимает собою то, с чем человек призван вести борьбу за превозможение внутри себя, за его постепенное изживание и преодоление. Чем более человек субъективен, тем ниже находится на космической спирали эволюции, на пути бесконечного диалектического становления. Напротив, субъектное само по себе всецело принадлежит объективному непосредственно. Оно представляет собой внутреннюю собственную ступень на многомерной лестнице все более и более сложных, развитых и совершенных форм бытия. Поэтому в противовес субъективному человек, чем более субъектен, тем выше продвинут на этой лестнице, на этом беспредельном пути становления. Полнота субъектности обретается лишь по мере превозможения субъективности”.[187] Как это хорошо видно из приведенной цитаты, субъектное понимается как некое экзистенциальное соответствие человека объективному, которое саморазвертывается по неким имманентным законам, которым активно противодействует субъективное в человеке. Во-первых, возникает вопрос, как это “объективное” может вообще вписываться в концепцию мироздания, сущностью которой являются субъектно-субъектные отношения? Тогда необходимо согласиться с тем, что генетически субъектно-субъектные отношения предваряются отношениями объектно-субъектными, но это уже будет иная, вульгарно-материалистическая концепция сущего, требующая отнюдь не субъектного, а объектного подхода не только к миру, но и к самому субъекту. Во-вторых, при субъектном подходе к действительности полное соответствие субъекта объекту, а не наоборот, как раз и выступает источником вселенской деструктивности. В этой связи различение в субъекте субъектного и субъективного всего лишь способ преодоления антиномии, которая содержится в самой субъектно-субъектной концептуализации Сущего, в связи с ее половинчатостью, недостроенностью до-верху, до универсума внутрисубъектных отношений, отношений Человека с Богом. Нужен более многомерный анализ как истинных так и превратных форм человеческого существования, вряд-ли он может быть прояснен дихотомией “субъектное-субъективное”.
Итак, квазисубъективация субъективного есть тот механизм в собственно человеческой экзистенции, который сверхупорядочиванием целостной системы отношений под приоритеты межсубъектных отношений ведет к разукоренению человека в Духе и в конечном счете к антропологическому тупику, в который его заводит исторический разум. «Человечество, - писал И.А.Ильин, - заблудилось в своей духовной жизни, и хаос настигнул его неслыханной бедою; это свидетельствует о том, что неверен был самый способ духовной жизни, что он должен быть пересмотрен до корней и от корней обновлен и возрожден»[188].
Квазиобъективация субъективного. Этапы перманентного отпадения низших онтологических форм от порождающих их высших форм бытия есть не что иное как столь же перманентная регрессия внутреннего мира Субъекта, из которого низшими формами сознания постепенно вытесняются в сферу бессознательного высшие формы осознания реальности - духовный, культурный, социальный опыт иерархического Человека. Человек воспроизводит мир таким каким он есть на самом деле (?) и изменяется внутренне под воздействием процесса самоовнешнения то есть под воздействием изменений, которые ему навязывает внешний, самим же человеком гипостазированный мир. «Но если в нас что-то делает себя, - пишет Ф.И.Гиренок, - если из нашей субъективности выкраивается чье-то объективное движение, а сами мы превращаемся в сознательных агентов бессознательных субстанций, то мы бессубъектны. И важно не то, кем мы хотели бы быть, а то, персонификацией чего мы стали. В этой ситуации напрашивается вопрос: кто же субъект и что же мы персонифицируем, что превращает нас в маску бытия, источником которого мы являемся?»[189].
Объективация субъективного возникает в связи с появлением и развертыванием субъектно-объектных отношений совокупной деятельности, составляющих основу социального универсума. Если творимая Гармония составляет внутреннюю динамику развертывающегося Универсума как Монады, то устанавливаемый Порядок выступает внешним регулятором отношений имманентно “эволюционирующей”, “развивающейся” Системы, от Монады отличающейся тем, что строится в качестве отчужденной от Субъекта Сущности, в связи с чем Сущее складывается как Квазидолжное, как “десубъективированная объективная реальность”. Гипертрофия объектного в системе субъектно-объектных отношений приводит к установлению социально упорядоченного хаоса.
На этапе отпадения Социума от Человека, на новом витке метаисторической драмы, объективация субъективного превращается в его квазиобъективацию. Антропономия в человеческой экзистенции замещается социономией (социоцентризм) и история объявляется историей Социо-Бога, “социальной историей”. Социум как часть целого мироздания начинает конституировать себя в качестве абсолютной онтологической целостности, пытаясь интенсивной объективацией высших онтологий превратить их в свои собственные составные части. “Все объективированное, все объектное, - писал Н.А.Бердяев, - может быть лишь частично. Таков весь объективированный мир, все объективированное общество со своими объективированными телами. Этот объективированный мир отличается массивностью, которая может давить личность, но не целостностью и не тоталитарностью. Экзистенциальный центр, страдальческая судьба находится в субъективности, а не в объективности. Но все высшие иерархические ступени, которым подчиняют личность, принадлежат миру объективации. Объективация же всегда антиперсоналистична, враждебна личности, означает отчуждение личности”.[190]
Социальный универсум в его истинных онтологических формах - всего лишь вложенная часть абсолютной и универсальной целостности, которой выступает трансцендентный Дух, однако в своих попытках обрести противоестественную от космического и человеческого универсумов онтологическую обособленность и сверхцелостность, социум начинает последовательно и неуклонно осуществлять квазиобъективацию всей многоуровневой субъективности, тем самым превращаясь в еще более репрессивный онтологический центризм - в социоцентризм. Квазиобъективацией частичной и дробной социальной субъективности цивилизация обретает свои гипертрофированные тоталитарные формы. Чем более дробной оказывается человеческое Я, подвергающееся квазиобъективации, тем более великим и могущественным с позиции стороннего наблюдателя начинает выглядеть внешний социальный мир. Чем более великими в этой гиперонтологической ситуации становятся исторические деяния, тем более античеловеческими по высшим экзистенциальным меркам они оказываются. “Все великие дела и подвиги, - писал Ф.Ницше, - которые оставили свои следы и не были смыты волнами времени, - разве они все не были в глубочайшей их сущности выдающимися безнравственностями?”[191]
Последствиями квазибъективации всего субъективного в человеческом универсуме оказывается катастрофическое падение статуса человека, низведения его до уровня социальной вещи и столь же молниеносное восхождение вверх на пирамиду Миро-здания социального, общественного Бытия. На общем контуре деятельности субъекту противостоит уже не просто объект как его собственная объективация, а квазисоциальный объект в качестве гиперобъективации его собственной элементарнейшей деятельностной функции, отчужденной в пользу социальной псевдоцелостности, которой вся его уникальная субъективность начинает подчиняться тотально, входить к ней в рабскую зависимость. Постепенно квазисоциальная историчность превращается во все возрастающий ряд квазиобъективаций субъективного по ступенькам которого социальное Я стремительно скатывается к своей нулевой экзистенциальной отметке, за которой лишь бытие чистой объективности, окончательно преодолевающей в себе последние реликты субъективности.
Именно на этапе отпадения Общества от Человека, господствующей псевдотеологемой становится вера в социальный прогресс. “Было бы наивно полагать, - пишет Г.С.Батищев, - что сколько-нибудь ушедшая от примитивизма объектно-вещная активность стала бы выступать просто-напросто против всякого прогресса вообще. Скромно самоустраняться - не ее стихия... Напротив, она выступает как весьма напористая и боевитая ревнительница своеобразного, привычного ей “прогресса” как единственно оправданного и правильного. Она заменяет и замещает культуро-историческое восхождение самого человека, которое бывает, конечно, опосредствованно по-человечески преобразованными объектами, - прогрессом социальных вещей, прогрессом цивилизации”.[192] Внутренним двигателем социального прогресса отныне становится массированное насилие над человеческим в человеке со стороны так называемых “силовых структур” общества. Если социальная гармония выступает составной частью предустановленной Абсолютом гармонии и развертывается самопроизвольно, то устанавливаемый квазисоциальный порядок может держаться лишь за счет перманентного и все усиливающегося насилия над человеком как надсоциальным феноменом своим многообразным культуросозидающим поведением не соответстветствующим стереотипным требованиям социальной технологии.
Квазиобъективация объективного. Со стремительной модификацией универсума объективаций объективного, именуемого природой в универсум искусственных квазиобъективаций, выступающих порождениями науки и технологии, онтологический статус субъекта начинает стремительно опускаться до уровня онтологического статуса самой низшей объективации, и, напротив, онтологический статус объекта столь же стремительно и бесконечно возрастать. Человек и Вещь в этой перевернутой экзистенциальной иерархии меняются своими местами, человек становится рационально превращенной вещью, а вещь иррационально превращенным человеком. Начинает формироваться новая форма псевдоонтологии – рационально упорядоченный хаос. Человек в этой онтологической ситуации оказывается всего лишь персонификатором объектно-объектных отношений, онтологической производной от экзистенции (!?) предельно овеществленного и отчужденного от него объективного мира (!?). Человек-Вещь в этой предельно репрессивной среде обитания, способен выжить лишь при условии перманентного приспосабления к ней средствами тотального самонасилия. Его внутренним насильником становится его собственное гипертрофированно развившееся рациональное Я, а жертвой - надрациональная иерархия Я. Система квазиобъективаций в Сущем, упорядоченная Рацио в тоталитарную сверхцелостность, превращается в сплошную черную дыру, втягивающую в себя последние остатки и останки человеческой субъективности. Ж.-П.Сартр историю мира отчужденного от человека называл прорванной историей, состоящей из сплошных дыр, в которых исчезают люди. “История, - писал он, - раскрывается противоборствующим индивидам и группам как прорванная: эти умершие – миллиарды прорывающих ее дыр”[193]. Изодранная до дыр история – вполне подходящая метафора отражающая суть рациональной формы историцизма. Можно предложить еще одну метафору, схватывающую ее сущность – “подвальная история”. Миро-Здание или Здание Мира все больше начинает напоминать подвал, подполье, над которым возвышается выстроенная князем мира сего в качестве своей резиденции Вавилонская Башня, подпирающая Поднебесную. Начинается эпоха почти абсолютного господства экзистенциального Ничтожества, историю которой можно обозначить такими терминами, как “технономия”, “рациономия”, “объектономия”. Однако какими бы терминами все это “онтологическое неприличие” не называть сутью остается тотальный диктат “объективной реальности” над “субъективной реальностью”, господство Квазиобъекта над Субъектом. Апостол Павел проповедовал, что «Бог не есть Бог неустройства, но мира (1 Кор 14, 33)». Миром, созданным Богом, но перестроенным и упорядоченным человеком под приоритеты рационального Порядка над трансрациональной Гармонией окончательно овладевает сатана. Не случайно в Апокалипсисе Иоанна пророчествуется, что перед вторым пришествием установится царство дьявола.
Своей высшей псевдоцелостности система квазиобъективаций достигает именно при предельной раздробленности универсума субъективаций субъективного. Однако до поры до времени эта квазиупорядоченная псевдоонтологическая целостность, почти абсолютно Иное в Сущем, в состоянии существовать лишь за счет аннигиляции последних остатков субъективного в Объекте. Как только “субъективный остаток” полностью исчезнет, онтологическая квазиупорядоченность изнутри разрушится, обратится в неструктурированный Хаос.
Как только одухотворенная природа начинает активно вытесняться “своим иным” - рациональным аналогом и инвариантом - Технологией, отпадающей от Цивилизации, история оказывается уже не только внедуховной, внечеловеческой, но и внесоциальной экзистенциальной процессуальностью. Начинается история прогрессистского само-восхождения Объекта, мировоззренческую основу господству которому создает предельно рационализированное историцистское сознание. Эволюция рационализма в свою предельную форму предваряет прогресс развертывания квазиобъективаций в тотальную реальность Объекта, а насилие разума над Духом предваряет тотальное самонасилие человека. “Для Декарта, - пишет Ортега-и-Гассет, - человек - это чисто рациональное существо, не способное к изменениям; поэтому история представлялась ему историей нечеловеческого в человеке, и он в конечном счете объяснял ее греховной волей, постоянно вынуждающей нас пренебрегать жизнью разумного существа и пускаться в недостойные человека авантюры”.[194] Тотальная объективация Субъекта – тот ментальный предел, а точнее беспредел, за которым простирается экзистенциальное Небытие.
Квазисамообъективация. Хаос как Пред- и Постонтология Абсолюта в субъектоцентризме есть процесс квази-само-объективации объекта, в котором псевдо-самость или так называемый Объективный Дух или Дух Объекта пытается окончательно заместить собой Субъективный Дух или Дух Субъекта с тем, чтобы центрировать расширяющуюся Вселенную на самой элементарной частице Целостного и Универсального Бытия. Начинается эпоха хаономии, эпоха обожествления Хаоса, воскрешения пантеистического сознания в его предельно гипертрофированной форме – в форме некрофилии (Э.Фромм).
Квазисамообъективация в качестве элементарнейшей составной части Трансцендентального Целого, пытаясь стать рациональной сверхцелостностью окончательно вытесняет из Сущего последние свидетельства при-сутствия человека при Сути, превращает Сущее в свое абсолютное Иное, в абсолютно структурированный Хаос. Естественно, что достичь своего гиперрационального онтологического статуса самая элементарнейшая и проявленная частица изначальной трансцендентной целостности Субъекта может лишь за счет тотального разрушения Мироздания. Квазисамообъективация объекта и оказывается тем онтологическим механизмом, который окончательно разрушая субъективную Реальность или реальность Субъекта, тем самым изнутри разрушает универсум объективаций, который обязан был “своим” существованием “субъективному остатку”, инобытийствующему в нем своими отчужденными формами. Квазисамосубъективация объекта в конечном счете оказывается механизмом реинверсии Объекта как Иного в Хаос, в котором объектно-объектные связи окончательно распадаются в “связи” внутриобъектные - в дурную бесконечность элементарнейших объективаций. Трансцендентное Единое, развернувшееся в Иерархическое Множественное посредством механизма квазисамообъективации, свертывается не в трансцендентное Единое, а в гиперрациональное псевдо-Единое, в Небытие. Апокалипсис как предельная самодеструкция Иного - окончательно расконсолидированного субъекта, ставшего псевдо-субъектом, псевдо-самостью, т.е. духом Объекта или объективным Духом - и есть предельная форма квазисамообъективации.
Квазисамообъективацию можно рассматривать в качестве оборотной стороны квазисамосубъективации, так как предельная воля к власти над миром внешним не может существовать без предельной воли к власти над миром внутренним. Хайдеггер внутренним механизмом развертывания крайней формы историцизма называл волей к воле. «Воля к воле, - писал он, - ожесточает все до неприступности судьбе. Следствием тому - бессобытийность. Ее признак - господство историографического представления. Тупик последнего - историзм. Если бы кто-то захотел дать себе отчет в истории бытия, следуя обычному сегодня историографическому представлению, то такой промах нагляднейшим образом подтвердил бы господство забвения бытия как события»[195]. Квазисубъект в состоянии быть абсолютным князем мира сего лишь при условии, если мир сей как Иное или Квазиобъект одновременно выступает и средством само-порождения и средством само-уничтожения. “Поскольку в процессе становления, - пишет Кьеркегор, - личное существование стремится преодолеть меру своей конечности, конечное бытие... всегда в конце концов разрушается”.[196] Псевдо-Самость, пытаясь присвоить Мир, самоотчуждается в пользу его Возрождения. Может быть это и есть ее единственная онтологическая конструктивная функция в полной драматизма человеческой истории.
Всемирная история, подпитываемая трансцендентными смыслами, могла бы осуществляться строго по “метаисторическим нормам”, если бы возникающие в ходе перманентной эманации Единого универсумы (человеческий, социальный, природный), не обосабливались и не противостояли Ему и друг другу в качестве неких псевдоабсолютных онтологических целостностей. Отпадающие друг от друга универсумы начинают обретать свою квазиисторию которая и схватывается таким негативным понятием как “историцизм”.
Вполне логично, на наш взгляд, в историцизме как онтологической гипертрофии истории выделять гиперисторицизм и гипраисторицизм.
Гиперисторицизм есть ни что иное как гипертрофия истории универсума, связанная с его стремлением не только ускорить процесс своего становления, но и придать ему абсолютный статус метаистории, последовательно и насильственно отчуждая в свою пользу исторические статусы более целостных, нежели он, универсумов. В этой ситуации согласно утверждению Ф.Ницше “истории становится слишком много”, а согласно Гете происходит пренебрежение «субъективным остатком» в объективном процессе. Но если истории становится слишком много у одной онтологии, то ее оказывается слишком мало у других, как правило более высших онтологий.
Гипраисторизм - это такая гипертрофия истории универсума, когда под деструктивным воздействием менее целостных универсумов, избравших путь гиперисторицистского движения, процесс развертывания изначальных свернутостей осуществляется не только в замедленном режиме, но и под приоритеты ускоренного развития “онтологических вампиров”. Будучи вытесненными на задворки мировой истории, высшие онтологии со временем выпадают из поля зрения исторического. Там, где истории становится очень мало, ее начинает интенсивно замещать псевдоистория и тогда метаисторическая трагедия сменяется историцистским фарсом, основу которого составляет прельщение субъекта «объективным остатком» («все во имя человека, все во благо человека»).
Если метаисторическому в истории соответствует кайрос, то историцистскому в ней – псевдохронос. Онтологически позитивным хронос является лишь будучи пронизанным кайросом, в случае же его обособления он превращается в псевдохронос, во время формальное, неподлинное и ложное. Если кайрос порождает новые формы бытия, а хронос придает им импульс к развитию, то псевдохронос приводит их к онтологическому вырождению. Не случайно древние греки считали хронос пожирателем бытия. В этой связи историцизм вполне возможно обозначить в качестве перманентного хроно-логического процесса у-становления порядка в мироздании под приоритеты плоской эволюции низших и ложных форм бытия. Так называемая История Сущего состоит из кайро-логических пульсаций Неиного и хроно-логических потоков Иного. В эмпирической Истории или истории Эмпирии всегда можно обнаружить действия не только кайроса, но и истинных и ложных форм хроноса.
Так как переход от одной онтологической формы становления к другой происходит весьма неоднозначно и противоречиво, необходимо внести существенную поправку в интерпретацию понятия «осевого времени» введенного в научный оборот К.Ясперсом. В связи с тем, что в Сущее развертывается не только божественная Гармония, но и закрепляется в нем дьявольский Порядок, «осевое время» по отношению к кайросу выполняет не только конструктивную, но и деструктивную функцию. В осевое время не только кайрос интенсивно пронизывает собой хронос, но и хронос своими отдельными временными потоками столь же интенсивно трансформируется в формальное и ложное время – в безвременье. Эмпирическое Время или время Эмпирии всегда есть некая эклектика из истинных и ложных форм времени, в которой безвременье продуцирует особый событийный ряд, выглядящий при объектном подходе объективно закономерным, именно этот фиктивный онтологический ряд и фиксируется историцистским сознанием в качестве экзистенциально положительного исторического опыта. Этому внешнему и ложному слою времени вполне соответствует понятие исторический камуфляж, введенное в научный оборот Ортега-и-Гассетом. ««Камуфляж» - это то, что кажется чем-то иным, внешность не выявляет сущность, но скрывает ее. Поэтому он вводит в заблуждение всех, кроме тех, кто заранее знал, что камуфляж бывает. Это как с миражем – если о нем знаешь, видишь верно. В каждом историческом камуфляже два слоя: глубинный – подлинный, основной; и поверхностный – мнимый, случайный»[197]. Таким образом осевое время, разделяющее высшую порождающую и низшую порождаемую высшим онтологии есть в некотором роде исторический камуфляж, в котором для эмпирического наблюдения открывается лишь поверхностный и мнимый слой Переходного Периода.
Оборотной стороной «осевого времени» является интенсивная экзистенциальная деструкция, осуществляемая Иным в Сущем, расширение господства в нем сил онтологического Ничтожества, которое посредством хроноса «пожирает» высшие формы Бытия. Не случайно столь живуч мрачный афоризм, утверждающий, что история предпочитает пить нектар ни иначе как из человеческих черепов. В поздних мифологемах, а тем более в новейших идеологемах акцент делается не плавный переход к последующей ступени метаистории, а на прерыв постепенности, на революционный скачек. Именно в подобного рода мифологемах обнаруживаются метафизические пролегомены к основному закону диалектики – закону единства и борьбы противоположностей, согласно которому борьба абсолютна, а единство – относительно.
В очередное осевое время берет свое начало не только новая форма исторического, но и новая форма историцистского в многоуровневом процессе человеческого становления. Историцизм имеет свои, если можно так выразиться, “исторические” формы (схема 10). Попытаемся предварительно охарактеризовать их с позиции метафизического субъектоцентризма.
Метаистория Метаистория Метаистория Метаистория
астрального антропного социального телесного
субъекта субъекта субъекта субъекта
› › › ›
|
История Космического Универсума (Культ) |
Эвалюативный историцизм культа |
Прескриптивный Историцизм Культа |
Дескриптивный историцизм культа |
|
Трансцендентная праистория культуры |
История Человеческого Универсума (Культура) |
Прескриптивный Историцизм Культуры |
Дескриптивный историцизм культуры |
|
Трансцендентная праистория цивилизации |
Эвалюативная праистория цивилизации |
История Социального Универсума (Цивилизация) |
Дескриптивный историцизм цивилизации |
|
Трансцендентная праистория технологии |
Эвалюативная праистория технологии |
Прескриптивная праистория технологии |
История Природного Универсума (Технология) |
Схема 10. Метаисторические, исторические и историцистские слои экзистенциально расконсолидированного субъекта
Историцизм культа. Становление Космического универсума в историческом плане есть процесс развертывания тех символических потенциальностей, которыми он был метаисторически наделен первичным креативно-эманационным актом. Однако интенсивно нараставшая в человеческой экзистенции антропная, социальная и телесная составляющие все более искажали сакральный характер символической реальности. “Древность, - писал С.Н.Булгаков, - проще и счастливее нас, потому что она не знала раздвоения религии и цивилизации и трагизма культурного творчества в той мере, в какой он ведом нам, - она не знала секуляризации”.[198] Последовательная историцистская десакрализация символического в космическом универсуме не могла не привести к известной его “упорядоченности” под приоритеты интенсивного развития сначала человеческого, а затем социального и природного универсумов. В этих квазиусловиях, когда высшая онтология становится всего лишь “средой обитания” для онтологии низшей, норма свертывания существования в сущее, не могла не обернуться патологией, результатом которой и явился первичный историцизм как гипертрофированная история космического универсума в форме гипраисторицизма, то есть последовательного понижения уровня исторического статуса Космоса за счет столь же неуклонного его повышения у Человека, Общества, Природы, чьи истории также стали гипертрофированными, но как бы со знаком плюс (“слишком много истории”), а потому оказались не гипра-, а гиперисторичными.
Историцистское в становлении есть патология исторического в нем. Норму в патологии в сущем Э.Дюркгейм называл аномией. Аномия есть такое состояние в универсуме, когда складывается известный «паритет» между метаисторическим и историцистским, позволяющим универсуму все еще оставаться живой монадой, хотя и в известной степени ущербной в связи с тем, что определенная часть упорядоченных ее структур составляют собой относительно безжизненную систему объективаций субъективного, стремящейся не только к автономизации, но и к крайней феноменологизации. Онтологически аномия есть некоторая норма в соотношении трансцендентного (трансфеноменального) и феноменального в развертывающейся человеческой экзистенции, в объектоцентризме это выглядит как соотношение «ествественного» и «искусственного» в объективной Реальности или реальной Объективности. Аномию исторического процесса можно рассматривать в качестве такой нормали в его патологии и деградации при которой отпадение низших экзистенциалов от высших осуществилась в основном, но не в главном, т.е. когда все еще сохраняется «серебрянная нить» связывающее Сущее с Предсущим, а живой универсум еще не совсем модифицировался в безжизненную систему. История человечества становится в той степени аномичной, в какой она трансформируется в историцистское. Нормальной эту патологию можно назвать лишь в той степени в какой исторический разум овладевший человеческим самосознанием убеждает человека в разумности окружающей действительности, не позволяя ему адекватно оценивать истинное состояние исторической формы его существования. Естественно, что нормальной патологическая действительность может восприниматься лишь патологичным субъектом, аномия как раз и вызывается к жизни удвоенной патологичностью, той экзистенциальной ненормальностью, которой поражен не только внешний, но и внутренний мир человека. Патология истории паталогичным субъектом ее объективирующим воспринимается в качестве онтологической нормали, по прескриптивным ступенькам которой, как он глубоко убежден, осуществляется восходение из царства необходимости в царство свободы. В этом искаженном историцистском сознании свобода всего лишь онтологическая аномия необходимости, не потому ли что даже самый ущербный в экзистенциальном плане представитель современной технотронной цивилизации продолжает мечтать о преодолении своего онтологического одиночества реализацией возрожденческих по своей сути экзистенциальных проектов. Если сознание своей апологетизацией сущего экзистенциальную его патологию конституирует в качестве онтологической нормы, требуя от человека неукоснительно следовать ее категоричной императивности и активно интегрироваться в любую историческую форму действительности, то бессознательное, напротив, придавая человеческой совести мученический характер («муки совести»), подводит его к интуитивному осознанию, что «не все ладно в королевском датском». Муки совести и есть такое состояние человеческой ментальности, при которой разлад между метаисторическим и историческим в человеческой экзистенции начинает интуитивно осознаваться. Борьба хитрого исторического разума с бесхитростным метаисторическим логосом пролегает ни иначе как через душу человека, укорененной с одной стороны в сакральный Дух, а с другой стороны в греховный Мир. Если субъектоцентристская историософема призывает все делать для спасения человеческой души, то объектоцентристская призывает всячески спасать мир. Согласно гегелевской историософеме аномия человеческой экзистенции есть некое условие внутреннее условие для поддержания высоких темпов прогрессирующего развития истории. «Всемирная история, - писал Гегель, - не есть арена счастья. Периоды счастью являются в ней пустыми местами… Можно назвать хитростью разума то, что он заставляет действовать для себя страсти, причем то, что осуществляется при их посредстве, терпит ущерб и вред»[199]. Хитросплетениями разумных доводов историцистское в истории заставляет человека воплощать в жизнь поистине дьявольскую программу по его саморазукоренению в Духе и вполне преуспевает в том, чтобы человек эту программу воспринимал не только как прогрессивную, но и сугубо свою личную, обусловленную его особой исторической миссии в мире и был «счастлив» от своих «успехов» по ее реализации.
Эвалюативный историцизм культа. Культ как совокупность неявных, непроявленных трансцендентных значений в своем самопроявлении в именные формы символа, есть предтеча Культуры, которая порождается его ценностной формой эманирования. Ноуменально-символическая реальность, в которую Микрокосм был погружен изначально, породив “свое неиное” - феноменально-ценностную реальность, обрела в ней собственное антропно-онтологическое основание. На первых порах процесс развертывания имманентных ценностных потенциальностей, доставшихся человеческому универсуму от породившего его космического универсума, находился в иерархически соподчиненной коэволюции с процессом развертывания символических интенциональностей. Процесс развертывания человеческого в человеке шел под приоритеты процесса развертывания сакрального в его экзистенции (“богу богово, человеку человеческое”). Это были два исторических слоя единого и синхронного развертывания сложно построенной экзистенции, в которой ”первичный” и “вторичный”, “высший” и “низший” слои вполне различались и строго соотносились по иерархическому принципу. При этом в самосознании астрально-антропного субъекта эти исторические слои не различались как некие абсолютно независимые друг от друга феномены. Эти слои единой истории не осознавались даже как отдельные части метаисторической целостности, так со-бытийный ряд представлял собой известный синтез божественных замыслов и человеческих свершений, осуществлявшихся в пределах единого астрально-антропного времени. “В человеческом духе, как и во вселенной, - писал Гете, - нет ничего ни вверху, ни внизу, все требует равных прав по отношению к общему центру, скрытое существование которого и обнаруживается как раз в гармоническом отношении к нему всех частей. Все спорные пункты древних и новых вплоть до последнего времени проистекают из разъединения того, что бог произвел соединенным в своей природе”.[200]
Первичное разделение на высшее и низшее в Едином, начинает осуществляться отнюдь не “первичным” - порождающим, а “вторичным” - порожденным и в ситуации когда Первоосущее само стремится опереться на Сущее, чтобы онтологически возвыситься над Ним как над своей собственной “твердью”. Как только пирамида экзистенциальных отношений переворачивается и вторичное начинает конституировать себя более “высшим” нежели первичное в Сущем, так сразу же меняются своими местами в историческом процессе “цели” и “средства”. Высшая космическая онтология начинает служить “средством” интенсивного и прогрессирующего развития низшей антропной онтологии. В христианстве этот процесс онтологического перевертывания целей и средств в развертывании человеческой экзистенции получает различные наименования: “отпадение человека от Бога”, “первородный грех” и проч. Итогом этой вселенской деструкции явилось то, что единый, хотя и сложно построенный астрально-антропный субъект в конечном счете распадается на астрального субъекта и антропного субъекта и именно второй, отпавший от первого начинает интенсивно его вытеснять из односторонне присвоенного им Космоса, который пытается реформировать под свои антропные мирожизненные интересы. "Между тем это движение, которое для рода является прогрессом, переходом от худшего к лучшему, - писал Кант, - не имеет того же значения для индивидуума".[201] Кант верил в возможность создания лучших условий индивидуального существования вместе с поступательным совершенствованием человеческого рода, однако для него в качестве неразрешимой дилеммы оказалось противостояние в экзистенции двух порядков: порядка свободы и порядка необходимости. Хотя смысл истории он связывал с порядком свободы, однако своеобразное его преломление он обнаруживал лишь в порядке необходимости, особенно в непреложных законах долженствования. Парадоксально, но в кантианстве человеческая свобода оказывается онтологическим средством достижения целей внечеловеческой необходимости.
Именно с началом “прогрессивного развития” человеческого рода берет свое начало гипраисторицизм космического и гиперисторицизм человеческого универсумов, причем последний начинает претендовать на статус метаисторического Антропоморфизма или антропоморфного Метаисторизма. Свобода человека все более становится “мерной”, отчуждаемой в пользу его овнешненного существования в родовом именитстве. Девиз “все во имя человека, все во благо человека” видимо всего лишь идеологический реликт, доставшийся гуманитаристике от антропологического гиперисторицизма. С этой именно поры исторический разум уже совершенно не интересует целостность и универсальность человеческого бытия, в основном его заботит сугубо феноменальный, а-теистический способ существования, скрепляемый ценностями родовой культурой. “Предметом истории в самом широком смысле, - пишет Зиммель, - является эволюция культурных форм. Таков круг внешних явлений, изучением которых ограничивается история как эмпирическая наука, выясняющая в каждом отдельном случае конкретных носителей этой эволюции и причины последней”.[202] Культурные ценности, обособившиеся от символов культа, становятся неким семантическим инструментарием, посредством которого символическая реальность задвигается в далекое прошлое, а затем и вовсе предается забвению. Ницше считал, что история обладает наивысшей ценностью только в "критическом" варианте, когда сама она становится средством борьбы против прошлого, служит цели "привлечения его к суду", ибо прошлое, как полагал мыслитель, всегда достойно осуждения[203]. Именно посредством квазиценностных суждений свободный Бог был осужден судом добрых фарисеев, а затем ими же и распят. В этом библейском сюжете предельно емко передана суть эвалюативного историцизма культа, которому предписывается под страхом смерти не вмешиваться в родовую жизнь, обособившегося от Бога человечества впавшего в культуртрегерское фарисейство.
Прескриптивный историцизм культа. С отпадением социального универсума от человеческого и космического универсумов, начинается гипертрофия цивилизационных процессов. Она уже неявно совершалась на этапе эвалюативной праистории цивилизации, так как являлась продуктом эманирования культуры уже отпавшей от культа, а потому и способной порождать в онтологическом отношении не вполне полноценное “свое иное”. С достижением онтологически ущербного социального универсума пика своего “прогресса”, цивилизация начинает активно присваивать самый высший онтологический статус - сакрально-космический. Не случайно социологизмом история общества конституируется в качестве самой высшей онтологической формы Всемирной Истории, подчиняющей своему поступательному движению все иные формы движения. Социетально-историцистская форма сознания претендует на статус метаисторического Социоморфизма или социоморфного Историцизма. Прескриптивный историцизм имеет две стороны. По отношению к культу и культуре он выступает в качестве замещающей истории - социальным гипраисторицизмом. По отношению же к цивилизации, сверхинтенсивное развитие которой он обслуживает является социальным гиперисторицизмом.
Прескриптивный историцизм культа одновременно есть “история” и социальной десакрализации культа и псевдосакрализации цивилизации, культивирования в массовом сознании культа властвующей социальной элиты. Наиболее господствующей эта форма историцизма становится на этапе тотальной деградации цивилизации, когда все ее силовые структуры вырождаются в органы открытого социального насилия, составляющего онтологическую основу тоталитаризма. Такая историцистская редукция динамики многомерного бытия к так называемой социальной форме движения ведет к угасанию и духовной и культурной жизни человека. Плоский социологизм и экономизм становятся краеугольными мифологемами для социоцентристского историцизма - историосоции. “Материалистическая” метафизика в истории “не только старается понять все исторически преходящее, исходя из экономических отношений; она скорее молчаливо предполагает, что все происходящие события в принципе события экономической сферы”.[204] И так как для практикующего экономизма Культ, а тем более Культура Абсолют по своим воздействиям на ход и исход исторического процесса суть величины не только бесконечно малые, но и весьма метафорические, то их и не принимают в рассчет при разработке строго научно обоснованных планов социально-экономического развития общества. Абсолют замещается частичным, массовым индивидом, перманентно прогрессирующие потребности которого предельно сакрализируются. Культ Созидателя замещается культом Потребителя и история становления и развития системы предметов потребления рассматривается в качестве ведущего фактора исторического прогресса.
Дескриптивный историцизм культа. Как только пика своего “прогрессивного развития” достигает природа как универсум естественно-искусственных объективаций, так сразу же на статус сакральной истории начинает претендовать так называемая естественная история. В эпоху научно-технического прогресса Рацио и Технэ добиваются столь высокого уровня самообъективации Субъекта, что тот начинает принимать в качестве непреложной истины утверждение о том, что именно объективной Реальности или реальности Объекта принадлежит наивысший онтологический статус. Объектоцентристское мировоззрение в дескриптивном гипра- и гиперисторицизме обретает свою крайнюю форму и окончательно вытесняет из исторического самосознания даже самые безобидные для него реликты субъектоцентристского миросозерцания. На место духовной свободы подставляется телесная необходимость и именно она объявляется всеобщей и абсолютной детерминантой изменений в мироздании. Культ Духа, культ Бесконечного Субъекта, окончательно вытесняется культом Тела, культом Бесконечного Объекта. Редукцией всей духовной жизни человека к телесным объектно-объектным отношениям и еще уже к сексуальным отношениям (во фрейдизме человеческая экзистенция редуцируется к либидо как к «основному жизненному инстинкту»), рациональный историцизм конституирует человека как тупиковую ветвь в развитии животного, так как изначальный принцип удовольствия в его естественной жизни существенно ограничивается принципом реальности искусственного мира к которому он вынужден приспосабливаться.
Историцизм культуры. Закат культуры приходится на пик обособления от нее и стремительного развития цивилизации и технологии. Эти ее порождения начинают принуждать ее “двигаться вперед” в арьергарде их гиперисторий. В конце концов история культуры модифицируется в гипраисторицистские формы, полностью зависящие от истории цивилизации и технологии.
Прескриптивный историцизм культуры. Цивилизация выделившаяся из культуры и обретшая автономию от нее, в рамках своего “суверенного” отнологического пространства начинает выстраивать целую подсистему социально превращенных ценностных связей. Этот псевдоценностный слой часто именуют системой социо-культурных отношений, т.е. такой системой в которой культура функционирует как некое средство реализации социально-цивилизационных целей развития. В рамках социальной формы движения культурная динамика оказывается всего лишь ее гипраисторицистским процессом. Притчей во языцех становятся утверждения гуманитариев, что в современном цивилизованном обществе культура “развивается” по так называемому остаточному принципу. Однако в предшествовавших эпохах, напротив, социально-цивилизационное в качестве эпифеномена культуры формировалась в качестве ее собственной подстилающей онтологической структуры (“не хлебом единым жив человек”) .
Дескриптивный историцизм культуры. С интенсивным развитием универсума технологических объективаций история культуры становится эпифеноменом уже не социальной, а технологической гиперистории. Не случайно именно в век научно-технического прогресса многие философствующие культурологи начинают обнаруживать в культуре ее особую технологичность, позволяющую в неограниченных масштабах тиражировать ценности, делая их достоянием массового потребителя. “Ценности” культуры, циркулирующие по каналам массовой коммуникации, столь же далеки от феноменов подлинной культуры, как и потребности массового потребителя от креативных способностей творцов истинных ценностей. Культура, став эпифеноменом технологии, превращается в некий онтологический отстойник, в который сбрасываются, а затем эстетизируются всевозможные отходы человеческой экзистенции. Если убрать из содержания современной массовой коммуникации темы насилия и секса, то окончательно обнажится вся ее экзистенциальная пустота. Технологический историцизм культуры выступает мощной преградой на пути создания истинных человеческих ценностей. Начинают процветать так называемые авангардные формы в культуре и искусстве, замешанные на социальном цинизме и духовном нигилизме.
Историцизм цивилизации. Свой стремительный бег историцизм цивилизации начинает с онтологического отпадения от цивилизации универсума естественно-искусственных объективаций. Цивилизация, как мы выяснили выше, уже в рамках культуры, отпавшей от культа, формируется в качестве далеко не истинной онтологии, однако наиболее ложный свой онтологический статус она обретает как только превращается в эпифеномен ею же порожденной технологии. История цивилизации начинает рассматриваться в качестве составной части истории развития человеческой рациональности. “Рационализм отрицает жизнь для спасения истины..., - пишет Ортега-и-Гассет, - С точки зрения рационализма история со всеми ее бесконечными перипетиями лишена смысла и представляет, собственно говоря, историю помех разуму на пути его самообнаружения. Рационализм антиисторичен. В системе Декарта, отца современного рационализма, у истории нет собственного места; вернее сказать, она помещена на лобное место”.[205]
Если по отношению к высшим универсумам самый низший - универсум объективаций в своей разрушительной, деструктивной функции выступает в качестве фактора под влиянием которого их истории обретают предельные формы гипраисторицизма, то его собственная история за счет сверхинтенсивного прогрессизма очень быстро превращается в самый ложный и репрессивный гиперисторицизм. Вполне логично все три ложные формы дескриптивного историцизма обозначить единым термином “дескриптивный гиперисторицизм технологии”.
Дескриптивный гиперисторицизм технологиии есть некий вселенский процесс “прогрессивного преобразования” онтологии Бесконечного Субъекта в гиперонтологию Бесконечного Объекта. Именно гипердескриптивная, гиперрациональная технологическая процедура по замыслу коварного Рацио должна привести к полной и окончательной замене всего естественного на искусственное. Естественное вытесненное из искусственного не может иметь своей особой истории, не только в исторической перспективе, но даже и в ее ретроспективе, так как и будущее и прошлое всего лишь временные формы существования техногена в настоящем. Технология, пытаясь генерализировать имманентные объектно-объектные отношения в бесконечный Объект или объективную Бесконечность, оказывается вполне близкой к окончательному вытеснению из Мироздания Бесконечного Субъекта, это наглядно видно из того, с какой последовательностью она отчуждает в свою пользу онтологические статусы Цивилизации, Культуры и Культа. Однако, согласно основоположениям субъектоцентристского мировоззрения эта возможность есть возможность лишь абстрактная, укорененная в умах представителей крайнего сциентизма. Мироздание не может центрироваться на Бесконечном Объекте, оно всегда по своей внутренней архитектонике является субъектоцентристским и даже в ситуации почти полного вытеснения Бесконечного Субъекта в сферу Бессознательного. Зыбкий, предельно овнешненный, овремененный и объективированный мир может удерживаться в относительной своей целостности и универсальности до тех пор, пока в его центре сохраняется хоть какой-то реликт Бесконечной Субъективности. Объект, противостоящий Субъекту в качестве его собственной самоотчужденной объективации, аисторичен, псевдоисторичен и если и продолжает некоторое время существовать в качестве ложной онтологии, то лишь при энергетической подпитке со стороны ложного Я, Я-паразита, укоренившегося в ментальной структуре Иерархического Субъекта.
Апокалипсис, Вселенская Катастрофа возникнет именно в момент, когда казалось бы вот-вот и объективация наконец-то достигнет своей абсолютной формы и окончательно вытеснит из “своих владений” последний реликт Субъективной Реальности. Второму пришествию Христа пророчествует Апостол Иоанн будет предшествовать царство Антихриста – князя мира сего. Но именно в этот момент и произойдет, согласно библейским пророчествам, полное возрождение Духа и Субъект вновь станет и абсолютным и бесконечным. Именно в этот финальный для истории период под воздействием кайроса, распадутся времена, в которых господствовал хронос и начнут интенсивно свертываться в латентные структуры Вечности разнообразные временные потоки, окончательно угаснут ложные историцистские образования в сущем. В конце истории, как и в ее начале в сущем полностью будет господствовать Неиное. Сущее, будучи освобожденным от Иного станет не только трансцендентно, но и экзистенциально тождественно Предсущему. “В вечности, - писал С.Кьеркегор, - всякое противоречие оказывается устраненным, временность пронизана вечностью и сохраняется в вечности”.[206] В Метаисторию Духа вновь свернутся истории всех истинных онтологических слоев Иерархического Бытия, а ложные гипра- и гиперисторицизмы предадутся животворящему огню Апокалипсиса, который уничтожит все то, что принадлежит ничто-жеству, что не в состоянии свернуться в Ничто. “Ложна перспектива бесконечного развития в будущем, как допускает, например, учение о прогрессе Кондорсе и др. - писал Н.А.Бердяев. - Но прогресс может упираться не в другую бесконечность, а в конец. И потому углубленное понимание развития упирается в эсхатологию”.[207] Историцизм как “прогрессистское движение” низших онтологических форм за счет деградации высших их праформ в состоянии лишь заводить человеческую экзистенцию в онтологические тупики и ловушки, вывести из которых в состоянии либо Апокалипсис либо Чудо, которое человек в состоянии обрести на пути восхождения к своим сакральным первоначалам подвигом веры.
Как существо метаисторическое человек является свободным субъектом, объектом внешней детерминации он становится лишь в ходе своей гипертрофированной истории. Свобода одновременно выступает и Бытием Абсолюта и Прото-бытием Человека. Человек абсолютно свободен лишь в плане своего трансцендентного предсуществования. Метаистория Человека и есть история его со-творчества с Богом в деле обустройства мира по законам гармонии. Однако отпадая от Абсолюта и все более дивергируя от Него бегом своей “феноменальной истории”, Человек становится все менее и менее свободным, пока не оказывается в самозаключении в им же самим построенном царстве необходимости - конечной цели движения объективной эволюции, рабом которой он все более становится. Историцистское в истории и есть движение человеческой экзистенции из “царства свободы” в “царство необходимости”. Платой за покорное и рабское служение историцизму оказывается все нарастающий в его ментальности поистине вселенский страх и отчаяние, неспособность справиться с ужасом объектного существования, разъедающего человеческую душу изнутри. “Всякий человек, - писал Кьеркегор, - который не сознает себя как дух, или же тот, чье человеческое существование, которое не погружается так ясно в Бога, но туманно основывает себя на некоторой всеобщей абстракции и все время возвращается туда (будь то идея государства, нации и т.п.) или же короче, будучи слепым по отношению к самому себе, видит в своих свойствах и способностях лишь некие энергии, проистекающие из плохо объяснимого источника, принимая свое Я в качестве загадки, противящейся любой интроспекции, - всякое подобное существование, сколько бы оно ни тщилось объяснить и саму вселенную, сколько бы напряженно оно ни наслаждалось эстетической жизнью, все равно это существование причастно к отчаянию”.[208] Утратив чувство метаисторического, подчинившись историцистскому прогрессизму, духовно оскудев, современный человек мечтает лишь об одном как бы выжить в этом чуждом для него мире. Человек поддерживавший своей креативностью и творчеством на заре своего существования своды космоса, в современных экзистенциальных сумерках страшится того, что выстроенная им информационно-технологическая «вавилонская башня» в любой момент может рухнет и тем самым оборвет бег его «объективной истории». Как никогда ранее человек испытывает экзистенциальную усталость, усталость от существования в отчужденном от него мире, а потому пренебрегая правдивым Пророком прибегает к услугам лукавого Психиатра. И далеко не случайно Мишель Фуко считает, что историософия должна заниматься историей человеческого безумия, а Альбер Камю приходит к печальному выводу, что центральной проблемой современной метафизики становится процесс онтологического самоубийства человека.
В конце истории Свобода трансформируется в свою противоположность - в Несвободу=Необходимость, а присутствие Человека в Духе и при-Бессмертии - в присутствие в Теле и при-Смерти. “Свобода, - писал С.Н.Булгаков, - распространяется лишь на ход исторического процесса, но не на его исход”.[209] Если Свобода - онтология субъективированного, то Необходимость - онтология объективированного мира. Основная цель историцизма заключается в том, чтобы исподволь и незаметно для человека подвести его к концу истории, но не как исходному пункту самовозвращения к своим абсолютным первоистокам, а как к финальному акту вселенской драмы, после которой навсегда опустится занавес над его Бытием.
Если история есть процесс объективации субъекта в различных его феноменальных проявлениях, то историцизм - процесс гиперобъективации субъекта, с последующим его вытеснением из псевдоонтологии именуемой “объективной реальностью”. Историцизм и есть “движение” объективной Реальности или реальности Объекта по «имманентным законам», за счет «онтологического беззакония» - интенсивного инкорпорирования энергетики более высших и порождающих Универсумов. Гипертрофией объективаций субъективного в естественном Универсуме, историцизм пытается превратить его в искусственную Систему не нуждающуюся в каком-либо присутствии в ней Субъекта. Но естественный Универсум не может быть упрощен не только в систему искусственную, но даже и в систему естественную, лишенную субъективирующего, одухотворяющего начала.“Естественная система - писал Гете, - противоречивое выражение. Природа не имеет системы, она живет, она сама есть жизнь и течение от неведомого центра к непознаваемому пределу”.[210] Историцизм как раз и ставит задачу оскопить жизнь таким образом, чтобы привязать ее к вполне определенному центру в универсуме объективаций и подвести ее к вполне познаваемому пределу, за которым спонтанное естественное превращается в абсолютно организованное искусственное. Именно благодаря историцистскому сознанию в метафизике и возникают всевозможные центристские системы - антропоцентризм, социоцентризм, природоцентризм и проч.
Историцизм или псевдоистория - это уже не история Субъекта, а история Объекта, точнее катастрофически развивающегося универсума объективаций Субъекта, исполнительным персонификатором которого человек и является. Именно в этом объектном аспекте история, по словам Н.Бердяева, и является великой неудачей жизни. Начиналась история как процесс становления трансцендентального Субъекта, однако по мере его самообъективации, она все более становилась псевдоисторией Объекта. Для современного человека вполне “естественным” образом звучат такие понятия как “история культуры”, “история цивилизации”, “история науки и техники” и проч. истории человеческих объективаций, но попробуйте произнести словосочетание “история человека” и в самосознании разве что возникнет теория естественного отбора Ч.Дарвина - квинтэссенция научных представлений о динамике становления человека в качестве особого животного вида - homo sapiens, представляющий собой наивысшую витальную производную от естественной Истории или истории Естества. Не потому ли К.Маркс утверждал, что в обозримом будущем история человечества вновь станет составной частью естественной истории.
Попытаемся сформулировать ряд принципиальных положений, которые, как нам представляется, составляет идейный базис историцистского сознания:
Во-первых, историцистское сознание исходит из веры в изначальное существование внесубъектной “объективной реальности”, динамика которой и составляет предмет исторического знания. Однако, как мы полагаем, знание и вера есть всего лишь гносеологические перевертыши, так как вера базируется на трансцендентных знаниях, а знания на рациональной вере. Вера в реальность внесубъектного объективного мира и его разумность, в его абсолютное самобытие, пронизывает собой всю аксиоматику явных научных знаний, эта рационализированная форма веры в качестве априори, лежит в основании всех известных сциентистских систем. И, напротив, неявное, интуитивное знание, транслирующееся из поколения в поколение, своим генезисом восходящее к первичной субъективации целостного Слова, составляет основу принципа трансрациональной веры, составляющего догматическую основу религиозных веро-учений. Однако принцип веры, будучи неявно перенесенным на внешнюю объективированную среду духа становится основой, увы, уже не исторического, а историцистского сознания, ибо вера в объект всегда сопряжена со столь же нигилистическим безверием в субъект. Именно объективация являющаяся самым зависимым и несамостоятельным элементом онтологического множества и конституируется историцизмом в качестве первоэлемента мира, перманентное развитие позволяет субъекту в нем временно присутствовать.
Если в субъектоцентризме высшим универсумом является непроявленный, синкретичный Абсолютный Субъект или универсум самосубъективаций, который в процессе автокреации и автоэманации самообъективируется, что дает возможность развернуться Бесконечному Единому во Множественное, конечной объективацией которого и выступает Абсолютный Объект, то в объектоцентристском историцизме Абсолютный Объект есть высшая форма бытия. “Абсолютный Объект-Вещь, - пишет Г.С.Батищев, - который был избран... с самого начала за единственно допустимый и единственно возможный и притом вполне достаточный исходный пункт, за изначальную Инстанцию для всего царящего во Вселенной Миропорядка, не просто огрубляющ, будучи лишен ценностных измерений, но именно предельно беден и предельно груб. Ведь Абсолютный Объект-Вещь оказывается ничем иным, как Абсолютно Низшим”.[211] Историцистский взгляд на мир является не только сугубо объектным, но и абсолютно безсубъектным, так как рассматривает атрибутивное свойство объекта к самоотражению в качестве субъекта своих имманентных самоизменений.
Исторический процесс современным человеком все чаще осознается как процесс объективный, независящий от его субъектности, как процесс восхождения некой внесубъектной, внечеловеческой реальности, осуществляющийся по своим особым объективным законам развития, к непреложным требованиям которых человек непременно должен приспособить свое существование. Процесс объективирования субъективного он воспринимает в качестве само-объективации Объекта и следуя имманентным законам само-изменения объективной реальности пытается ей быть праксеологически полезным. Таким образом, некая мифическая самость объекта, некий дух ему имманентно принадлежащий - объективный Дух или дух Объекта оказывается своеобразным Генерализованным Субъектом объективной истории, в которую современный человек стремится попасть и органично вписаться. Его собственная история оборачивается для него совершенно нелепым Роком, которому он слепо следует, не сознавая того, что Рок есть его собственное порождение, которым он заменяет свою трансцендентную Миссию в миротворении. Рациональный человек начинает слепо подчиняться роковым требованиям чуждой его духу объективной истории и таким образом освобождает себя от сотворчества с Богом по миротворению. “Неудача истории, - писал Н.Бердяев, - и есть не что иное, как трагедия несоответствования между существующим, человеческим, личным и всякой объективацией, всегда внеличной и внечеловеческой, антиличной и античеловеческой. Вся объективация истории - бесчеловечна и безлична. Человек принужден жить в двух разных порядках, в порядке существования, всегда личного, хотя и наполненного сверхличными ценностями, и в порядке мира объективированного, всегда безличного и к личности равнодушного. Человек всегда находится под угрозой, и часто смертельной угрозой, со стороны процессов, происходящих в истории. Он принужден чувствовать процессы истории как роковую, нечеловеческую силу, совершенно равнодушную к его судьбе, бесчеловечную и беспощадную”.[212]
Во-вторых, историцизм есть не что иное как гиперрациональная редукция высших форм становлений и движений к низшим, попытка организовать целостное и универсальное мироустроение на онтологических принципах низших форм сущего, измерять все и вся их псевдоэкзистенциальными мерками.
Историцизм не только апологетизирует отпадение низших экзистенциальных форм от порождающих их высших форм существования, но и своими установками на борьбу с проявлениями “пережитков прошлого” закрепляет примат нового над старым, каким бы онтологически ложным это «новое» ни было. Не случайно согласно диалектическому закону единства и борьбы противоположностей борьба противоположностей завершается так называемым снятием позитивных качеств старого и их интроекцией в структуру качеств нового. Историцизм и есть некое теоретическое обоснование исторической правомочности использования репрессивных форм снятия=присвоения низшими экзистенциалами жизненных потенций и ресурсов, содержащихся в высших экзистенциалах (апология войн, революций и проч.). При этом, псевдосубъекты, осуществляющие подобного рода насильственное инкорпорирование, историцизмом наделяются более высокими онтологическими статусами нежели те, которые “победителями” уничтожаются. Более того «новое» просто обязано устранить старое используя для этих целей любые средства, иначе иначе история не только перестанет прогрессировать, но и станет застойной. Многовековая история человечества свидетельствует о том, с какой последовательностью историцизм редуцировал сакральную экзистенцию к антропной, антропную к социальной, а социальную к экзистенции технологической. “Высокоразвитые народы, - писал Карл Ясперс, - погибли под натиском народов, значительно уступавших им в развитии, культура разрушалась варварами. Физическое уничтожение людей выдающихся, задыхающихся под давлением реальностей массы, - явление, наиболее часто встречающееся в истории. Быстрый рост усредненности, неразмышляющего населения, даже без борьбы, самым фактом своей массовости, торжествует, подавляя духовное величие. Беспрерывно идет отбор неполноценных, прежде всего в таких условиях, когда хитрость и брутальность служат залогом значительных преимуществ. Невольно хочется сказать: все великое гибнет, все незначительное продолжает жить. Однако в противовес таким обобщениям можно указать на то, что великое возвращается, что великому вторит эхо, даже если оно молчало целые века и более. Но как преисполнено сомнения, как недостоверно это ожидание! Говорят, что это лишь временное отступление, что катастрофа случайна. В конечном счете ведь субстанциальный прогресс - то, что является наиболее достоверным. Однако ведь именно эти случайности, эти разрушения и составляют, во всяком случае на первом плане, преобладающее в исторических событиях”.[213]
Историцизмом в пределах информационно-индустриальной цивилизации все высшие формы человеческого бытия редуцируются, сводятся к природным процессам, которым он пытается придать сугубо технологическую форму. “Так называемый историзм, - пишет Зиммель, - есть совершенно ложное понимание истории, это релятивизм, который никогда не может соприкоснуться со смыслом истории. Все ряды событий, происходящих из человеческой активности, могут рассматриваться как природа, т.е. как причинно обусловленное развитие, где каждая настоящая стадия понимается из комбинаций и движущих сил предшествующих состояний. В этом узком смысле нет различия между природой и историей - пока под историей подразумевается просто поток событий, входящий в природную взаимосвязь мировых процессов и в его причинность. Только после того, как любое содержание этого ряда подводится под понятие культуры, происходит смещение понятия природы, получающего более узкое, так сказать, локальное значение. Дойдя до какого-то пункта, ряд “природного” развития сменяется развитием культурным”.[214] Современная форма историцизма преуспела в редукции Бытия к эмпирическому быту, в сведении Трансцендентного Существования в Духе к эмпирическому присутствию в теле. Как хорошо показал своими работами З.Фрейд, современный человек, управляемый историцистским сознанием, обуреваем лишь одной страстишкой – желанием тотального наслаждения, апогеем которой выступает стремление к смерти. Как убедительно показал Э.Фромм, некрофильская ориентация становится чуть ли не экзистенциальной доминантой рационального историцистского самосознания.
В-третьих, согласно историцистскому сознанию становление мира идет по восходящей онтологической лестнице, на которой высшими ступеньками выступают более универсальные и целостные миры. В субъектоцентристском мировоззрении, как мы уже выше подчеркивали, процесс расширения вселенной Абсолюта исходит из трансцендентного центра, который занимает Бесконечный Субъект, Дух. Становление Субъекта есть процесс его нисхождения по ступенькам своих субъективаций, самая низшая из которых и есть Абсолютный Объект. Согласно же историцистскому сознанию части как бы предшествуют своим целостностям, и таким образом, центр мироздания все время перемещается по исторической оси, его перманентно занимает все более универсализирующийся Объект. Лишь в конце своей истории самовосходящая объективная реальность достигает своей идеальной формы (“земной рай”, “коммунизм”, “общество тотального потребления” и проч.).
В-четвертых, историцистское сознание исходит из того, что становление мира подчинено неким имманентным законам эволюции, высшей формой которой выступает так называемое «прогрессивное развитие». В Новое время принцип веры перемещается с внутреннего мира человека на его мир внешний, с абсолютных первоначал жизни на ее релятивные исторические формы, Бог замещается Прогрессом, ведущим к достижение райской жизни на земле. Согласно прогрессистскому историцистскому самосознанию не медленное и постепенное возвращение человека в темное прошлое, а стремительный бросок в светлое будущее – такой оказывается основная цель всемирной истории. Получив весьма солидное обоснование сначала со стороны идеалистической, а затем и материалистической диалектики, историцизм довольно быстро превратился в один из самых жестких догматов современной секуляризованной веры в онтологическую самодостаточность объективной, а точнее обыденной реальности. Поппер считает, что под "историцизмом" необходимо понимать такой подход к социальным наукам, который предполагает, что исторический прогноз является их принципиальной целью и видит путь ее достижения в открытии "ритмов" или "типов", "законов" или "тенденций", определяющих эволюцию истории".[215] С одной стороны, историцизм фиксирует самосознание человека на якобы абсолютном характере развития и прогресса мира, в котором тот присутствует, с другой же стороны, он всячески уводит за пределы самосознания тот неоспоримый даже для обыденного рассудка факт, что нечто имманентно развивающееся в конце концов исчезает в небытие и не только мета-физически, но и физически. И действительно концепция тотального развития и прогрессизма объективной реальности не содержит на сей счет каких-либо вразумительных доводов. “Никто не ожидает от гусеницы, видя ее ежедневный рост, - остроумно замечает О.Шпенглер, - что она, возможно, будет расти еще несколько лет. Здесь каждый с абсолютной уверенностью чувствует некую границу, и это чувство идентично с чувством внутренней формы. Но по отношению к истории развитого человеческого типа царит необузданный и пренебрегающий всякого рода историческим, а значит, и органическим опытом оптимизм по части хода будущего, так что каждый делает в случайном настоящем "затеси" на высшей степени выдающемся линеарном "дальнейшем развитии", не потому, что оно научно доказуемо, а потому, что он этого желает. Здесь предвидят неограниченные возможности - но никогда естественный конец - и из обстоятельств каждого мгновения моделируют совершенно наивную конструкцию продолжения”.[216] Развитие, тем более прогресс Объекта, являющиеся всего лишь частными проявлениями креации и эманации Субъекта, в историцизме обретают предельную абсолютизацию.
В метафизической рефлексии С.Н.Булгаковым выделялись две взаимосвязанные проблемы: проблема теодицеи в узком смысле, т.е. учение о возможности и значении зла в истории и человеческой жизни и проблема об основном содержании истории, или о той задаче, которая разрешается историческим человечеством. По отношению к этой задаче, при существовании борьбы добра и зла в истории, все исторические события представляются с положительным или отрицательным показателем, отходят вправо или влево. История с этой точки зрения является постепенным, хотя и зигзагообразным прогрессом, совершающимся посредством борьбы добра и зла, движения противоречий. Метафизика истории в этой своей части по характеру проблем вполне совпадает с теорией прогресса в общепринятом смысле, с той существенной разницей, что основные критерии прогресса избираются не произвольно, при помощи "субъективного метода", но подвергаются критическому испытанию и получают предварительное оправдание в метафизике.[217]
Упоение прогрессом - это что-то вроде “пира во время чумы”, когда уже безнадежно больные приглашают на застолье совершенно здоровых людей, чтобы вдоволь насладившись в последний раз, сообща и с “гримасой счастья”, навсегда покинуть этот мир. “Прогресс” - есть некое онтологическое оружие зла, посредством которого все низкое и стереотипное вот уже не одно столетие успешно подавляет и вытесняет все возвышенное и творческое в человеческом существовании. У Ф.Ницше есть такой афоризм: “Вера в прогресс - для низшей сферы разумения она может сойти за признак восходящей жизни, но это самообман; для высшей сферы разумения - за признак нисходящей”.[218] Одним из историософских “парадоксов” А.С.Хомякова является его утверждение о том, что прогресс оказывается невозможен без “возвратной оглядки”.
История как “реальный процесс становления”, в котором действуют метаисторическая спонтанность и историцистская упорядоченность, имеет свою особую форму самосознания, которую часто называют исторический разум, в ХХ столетии он оказался предельно сциентизированным, онаученным. Исторический разум уже довольно давно притязает на полную монополию на владение исторической Истиной или истиной Истории, утверждая что те знания, которые он продуцирует, не подлежат опровержению иными внеисторицистскими способами познания, основывающихся на философских спекуляциях. На самом деле исторический разум, в связи с его особой близостью к практическому разуму, является наиболее спекулятивным и коллаборационистским среди всех иных “разумов” разумного человека, ведь ему приходится все время трудиться над разработкой все новых и новых алиби неразумных решений и действий своего “визави” – практического разума. Конечно же, основным злодеем на ментальных подмостках истории выступает практический разум, так именно он выносит окончательный вердикт по очередной перестройке в Поднебесной. Какова же роль исторического разума в той исторической драме, которую в очередной раз разыгрывает практикующий Субъект или субъективированный Практик? Весьма плодотворным считал Н.Гартман мог бы стать вклад в построение историософии выяснение того места, которое занимает историческое сознание в историческом процессе. И в этом пункте результат исследования непосредственно актуален, так как касается проблемы историзма и его преодоления, которая тяжким бременем легла на наше время.[219]
Прежде всего, необходимо отметить, что самой большой спекуляцией, которой пользуется исторический разум - это его утверждение о том, что он верой и правдой служит настоящему и пытается придать ему импульс к развитию с тем, чтобы у него было его собственное потребностное будущее. При этом исторический разум всячески игнорирует метаисторическую ретроспективу настоящего, а если и находит какую-либо связь настоящего с прошлым, то только ту, которая в настоящем присутствует в качестве диалектического снятия. Говорят, что каждое новое поколение повторяет исторические ошибки своих предшественников, не делает конструктивных выводов из них. Это не совсем так, потому что новые исторические ошибки всего лишь расширенная проекция ошибок прошлых. Другое дело, что каждое новое поколение все более отдаляясь своей экзистенцией от первоистоков, все менее склонно учиться на положительном опыте прежних поколений в их служении абсолютному в релятивном. В позитивном плане, действительно, история ничему хорошему научить не может, так как хитрость исторического разума как раз и состоит в том, чтобы человек служил все и вся объективирующей Практике, а не субъективирующей Жизни.
Исторический разум или историческое сознание пытается не столько реконструировать прошлое, сколько его трансформировать с тем чтобы его апостериори согласовать с настоящим, вне зависимости от его исторической, а тем более метаисторической подлинности. Реконструкция прошлого, как говорил Коллингвуд, - дело воображения.[220] Но воображение воображению рознь, тем более если оно основывается не на трансцендентальных, а рациональных принципах мышления. Идея о дискурсивном характере исторического освоения прошлых этапов становления человеческой экзистенции в наше время пронизывает творчество Поля Рикера. Нельзя сказать, считает он, что прошлое ирреально, но прошедшая реальность, строго говоря, неподтверждаема. Поскольку ее больше нет, она намечается лишь опосредованно, через исторический дискурс. Здесь и выявляется родство истории с вымыслом.[221] Если метаисторический дискурс в своей ретроспекциве ведет к Прафеномену, то дискурс историцистский к Гиперфеномену. По отношению к метаистории историцизм в состоянии выполнять только деструктивную функцию, так как формулирует установки на последовательное разрушение изначальной целостности иерархического бытия в целях гипертрофированного развития наисовременнейших онтологических форм, которые всегда оказываются не только самыми низшими, но и самыми ущербными. Так как основу исторического сознания составляют перманентно сменяющие друг друга дискурсии по поводу ушедших в прошлое этапов становления единой и целостной человеческой экзистенции, то напрашивается мысль, является ли истинным такого рода путь познания, в состоянии ли несамостоятельный и нецелостный Рацио непредвзято свидетельствовать о самодостаточном и целостном Логосе? Этот вопрос ставится не только в современной западной постпозитивистской эпистемологии, но и остро звучал в свое время в отечественной религиозно-философской историософии. “Истина, - писал С.Н.Булгаков, - не есть непосредственный предмет теоретического знания. Единая Истина чужда дискурсивному знанию, она для него трансцендентна, а потому составляет, выражаясь по-кантовски, только "идеал" знания. Так как Истина остается запредельной истории, то непосредственно в ней дана не цель, но движение, и история вытягивается в бесконечный ряд дискурсии в области знания и действия”.[222] Если исторические дискурсии последовательно опираются на трансцендентные знания, имманентные символам Культа, эвалюативные знания, содержащиеся в ценностях Культуры, прескриптивные знания, присутствующие в нормах Цивилизации и дескриптивные знания Науки и Технологии, то историцистские дискурсии на такие ложные значения, как эвалюативные, прескриптивные и дескриптивные символы; прескриптивные и дескриптивные ценности; дескриптивные нормы. Смена одних ложных историцистских дискурсов другими, еще более ложными, ведет к тому, что истинная история не столько перманентно реконструируется, сколько тенденциозно перекраивается. В свое время в научной среде была даже выдвинута концепция презентизма, согласно которой каждое новое поколение переписывает историю для себя заново.
Историософия или философия истории может быть построена лишь на метаисторических, субъектных принципах отношения к процессу становления человеческой экзистенции во всемирных масштабах. Историософия ничего общего не может иметь с историцистским сознанием, пытающимся самоконституироваться в историю философии. “Историзм, - писал Н.А.Бердяев, - есть коренным образом ложная философия истории. Историзм, в сущности, делает невозможным философию истории, которая всегда возвышается над релятивизмом историзма. Историзм не имеет смысла”. [223] В то же время историософия вполне может строиться с учетом всего того конструктивного, что содержится в историческом сознании, историческом разуме, никогда не забывая о том, что ему свойственно “хитрить”, так как повсеместно вынуждено прикрывать рациональными теоретизмами свое иное - историцизм. Хитрый исторический разум обманывает человека для осуществления целей Иного в Сущем, которому верно служит. Н.Бердяев предупреждал, что объектоцентристская метаистория навязывает мысль, что субъектом истории является не человек и даже не человечество, а нечеловеческий разум, нечеловеческий дух, который у Маркса трансформируется в нечеловеческую экономику.[224] “Характеристика напряжения абсолютной интерпретации истории, - считал Пауль Тиллих, - должна быть объединена с универсализмом относительных интерпретаций. Но это требование содержит парадокс. То, что происходит в кайрос, должно быть абсолютно, - и в то же время не абсолютно, но подлежать суду абсолютного”.[225] Как бы ни фальсифицировалось историцистским сознанием прошлое в целях апологии настоящего, не только настоящее толкует прошлое, но и прошлое, восходящее к первоначалам, особенно в критические моменты новейшей истории, подает судьбоносные знаки и значения, которые человек в состоянии воспринимать и интерпретировать лишь сверхисторически, метаисторически.
Говорят, что история не знает сослагательного наклонения, однако это утверждение является ложным как только начинает применяться к метаистории. «Индивид, - считает Р.Арон, - преодолевает относительность истории через абсолют решения и интегрирует со своим главным «я» историю, которую он несет в себе и которая должна стать ее историей»[226]. Метаистория по существу своему сослагательна ибо содержит в себе идеальную модель свертывания существования в иерархию сущего. А потому историософия не только в состоянии построить идеальную модель исторического процесса, но и внести в нее поправки с учетом действия в нем деструктивных сил онтологического Ничтожества не терпящих сослагательного наклонения. Такой возможности нет в неоплатонизме, но она существует в христианской догматике и в ряде всеобъемлющих метафизических учений, в которых Субъект, а не Объект выступает не только порождающим мир началом, но и началом, этот мир повергающим “во зло”. Онтологическая самодеструктивность Субъекта как некое его вселенское свойство прежде всего обнаруживается в учении об отпадении. Каждая новая онтологическая ступенька и соответствующая ему субличность по мере саморазвертывания своих потенциальностей из тотальных универсумов постепенно превращаются в тоталитарные системы, противостоящие порождающим их универсумам и субличностям. Таким образом, субъект не столько осуществляет свое перманентное нисхождение, присовокупляя к своему изначальному трансцендентному статусу все более низшие онтологические статусы, сколько находится в “свободном” падении, грехо-падении, перманентно лишающем его высших статусов в мироздании. В более позднем философском творчестве Шеллинга, которое можно обозначить “философией свободы”, “философией мифологии и откровения”, пестрый мир реальности трактуется не столько как итог порождения Абсолюта, сколько в качестве результата процесса отпадения от Него. Шеллинг конструирует цель идеального синтеза культуры не прямо из развивающейся силы, как это делал раньше, но лишь через посредство некоего действующего в развитии порыва назад к идеалу, покинутому, но обогатившемуся борьбой с отпадением и самообожествлением. Особо остро философема самоотпадения Субъекта и способов его преодоления содержится в русском космизме.
Все искусство существования в тварном мире заключается в том, чтобы не только не скатиться в пропасть небытия, но и продолжать вытягивать гармонию Духа к низшим пределам Сущего, не дать Порядку окончательно вытеснять ее из расширяющейся экзистенции. “Удивительная способность вмещения и приятия, способность нисхождения к низшему без утраты своих собственных высоких качеств, - пишет Г.С.Батищев, - делает также возможным и истинное понимание всех иных общностей, иных связей, дает ключ к подлинному проникновению в них”.[227] Но для того, чтобы Иное не вытеснило в Сущем Неиное, человек должен все время подниматься вверх по онтологической лестнице ведущей вниз. Как существо экзистенциально двойственное, человек одновременно принадлежит не только царству божьему, Неиному, но и Иному, князю мира сего. Как верно заметил Э.Трёльч, только религиозный, ищущий Бога человек есть начало истории, и это начало именно поэтому метафизическая, а не историческая проблема. Из этого начала получается также и закон истории: развитие идет ввысь, когда религиозное сознание направляется на его истинный предмет, на духовного и универсального Бога; оно идет вниз, когда оно направлено на мирские блага, на части бытия, на ложных богов и на идолов.[228] По мере того как человек все более удаляется от своих первоистоков, он все более подпадает под магию своего актуализированного бытия, иллюзорно воспринимая все то, что ему исторически предшествовало. И эта обратная историцистская проекция уже не дает ему истинной ретроспективы, а лишь иллюзорный ракурс на “целостность” бытия, высшей формой которого и оказывается переживаемая им историческая эпоха.
Придерживаясь эмпирического принципа историк не в состоянии определить характер целостности бытия, которое уже “кануло в Лету”. Он даже не можем обратиться за помощью в этом деле к историческому сознанию, так как в нем господствует историцизм - его искаженная, и в основном, ложная форма. «Человеческая же мысль, - писал П.Флоренский, - особенно мысль человечества развращенного и истощенного -, это лишь бессильное и призрачное положение во Времени того, чего нет уже во Времени, - тщетное хватание ускользающей тени»[229]. Каждая новая эпоха использует историческое сознание лишь для самоконституирования в качестве самой высшей и прогрессивной из всей череды предшествовавших ей эпох. Если провести ставнительный анализ исторических опусов времен “эпохи застоя” с теми, которые пишутся сейчас в “эпоху реформации”, то увидим насколько их идеологически ориентированные интерпретации одних и тех же событий оказываются несовместимыми. Можно с уверенностью предполагать, что о нашем времени потомки рассуждать исходя не из внутренней логики событийного ряда, а с позиции новейшей, более «продвинутой эпохи». Чем дальше историцистское сознание отстоит от первоистоков сущего, тем более на прошлое оно взирает сквозь призму актуализированного настоящего, проецируя современную ему историческую форму бытия на все предшествующие формы существования человека, интерпретируемые в качестве “черновых набросков” к почти завершенному живописному полотну современности. Однако по истечении определенного времени ближайшие потомки с позиции своей повседневной современности будут рассматривать предшествующую ей современность всего лишь в качестве пре-людии к их истинному людному существованию. От эпохи к эпохе история переписывается с тем, чтобы обнаружить в ней ранее неведомую логику, которая, якобы, с неизбежностью приводит к актуализированной современности. Настоящее, синонимами которому выступают истинное, правильное, прошлое занимает лишь постольку, поскольку в нем стремится обнаружить свои собственные “ростки”, к которым оно склонно редуцировать всю свою историческую ретроспективу. Настоящее знать ничего не желает о тех нереализованных идеальных проектах прошлого, которые так и не нашли в нем своего воплощения. В связи с тем, что современность всегда является менее целостным бытием, нежели ею “преодоленные” онтологические формы, то человек, погруженный в нее, исходит из более низших экзистенциальных приоритетов в самостроительстве, интерпретируя предшествующие ментальные типы в качестве «переходных» к его историческому типажу.
"Критика исторического разума" в ХХ веке становится ведущей темой в западной философии истории. Острейшей критики со стороны гуманистически настроенных философов историцизм удосужился в связи с его осознанием в качестве одного из самых опасных гиперфеноменов обыденного сознания, особо опасного еще и тем, что он постоянно подкрепляется сциентизмом, научной гипертрофией Разума. «Духовные опустошения, - писал Н.Бердяев, произведенные историзмом… поистине страшны и человекоубийственны. Результатом является абсолютизированный релятивизм. Так подрываются творческие силы познания, пресекается возможность прорыва к смыслу. Это и есть рабство философии у науки, террор науки»[230]. Утверждение в западноевропейской философии истории критики исторического разума связано с отказом от веры в возможность понять глобальный смысл истории человечества, истолковать ее как прогрессивно направленный процесс, ведущий к торжеству гуманизма и разума в общественной жизни.
Основные принципы историософии Гегеля все более подвергаются критике со стороны бывших ее адептов и последователей. Эта критика отдельных принципиальных положений гегельянства изнутри расшатывает монистическую объектоцентристскую концептуализацию динамики бытия в ее субъективно-идеалистической упаковке. Так в глазах Кроче целостное строение гегелевской историософии совершенно устарело, не выдерживает натиска времени, однако он безусловно воспринимает тезис немецкого мыслителя о том, что в истории реализуется человеческая свобода, ибо, на его взгляд, "каковы бы ни были сферы деятельности человека, их воодушевляет принцип свободы, т.е. с творением жизни".[231] В отличие от Гегеля Кроче выступил против идеи поступательного возрастания степени свободы человечества в истории. Периоды свободы и несвободы чередуются в процессе развития человечества, считал он. Только великие люди способны в полной мере обрести духовную свободу, однако призыв к ее достижению должен, как полагал Кроче, звучать постоянно.
В отличие от Гегеля Коллингвуд, как и Кроче, отказывается видеть прогрессивное осуществление человеческой свободы в истории. Для него утверждение о наличии этого феномена во всемирно-историческом процессе означает ложный шаг, который никак нельзя оправдать, ибо идея прогресса применительно к целостности развития человечества есть всего лишь фиксация разума. Британский философ допускает прогресс лишь в определенных областях социальной жизни, но отверг его применительно к целостной истории. Ни прогресс человеческой свободы, ни прогрессивное становление единства истории не существуют для Коллингвуда, который полагал универсальным критерием осмысленности истории априорную организацию сознания. Коллингвуд видит основу историчности человеческого бытия в его погруженности в стихию саморазвертывания духовного начала. Для него история есть история становления духа, а потому исследователю и надлежит реконструировать опыт прошлого. Историк оказывается человеком, который, двигаясь в потоке становления духа, вопрошает о былом, пытаясь раскрыть его имманентный смысл. История ищет, по Коллингвуду, воспроизведение духа прошлого, того опыта, который канул в Лету и должен вновь "воскреснуть" благодаря деятельности исследователя. Происходит как бы диалог историка с содержанием сознания людей прошлого, который никогда не завершится в свете целостности исторического опыта.[232]
Г.Риккерт считал что во избежании методологических недоразумений необходимо резко отделять понятие исторического развития от понятия прогресса. Это предлагал он делать, различая оценки событий, изменений от отнесения их к ценности. Если простой ряд изменений содержит в себе слишком мало для того, чтобы его можно было отождествить с историческим развитием, то ряд прогресса содержит в себе для этого слишком много. Если придавать этому слову точный смысл, то это есть не что иное как повышение в ценности (Wertsteigerung) культурных благ, а поэтому всякое утверждение относительно прогресса или регресса непременно включает в себя положительную или отрицательную оценку. Если ряд изменений называют прогрессом, то этим уже говорят, что всякая следующая стадия в большей степени реализует ценность, чем предыдущая. При этом, производя подобную оценку, необходимо одновременно высказаться о значимости ценности, являющейся критерием прогресса”.[233]
На довольно репрессивный характер историцистского сознания указывали такие выдающиеся мыслители как Н.Бердяев, Булгаков, Шпенглер, М.Хайдеггер, К.Ясперс, Т.Адорно, Г.Маркузе, М.Хоркхаймер, А.Камю, Ж-П.Сартр, Э.Фромм, и др. Отличительную черту трудов представителей “франфуртской школы” Т.Адорно, Г.Маркузе, М.Хоркхаймером и др. составляет дух "бунта против истории", ее неприятие как процесса, ведущего ко все более возрастающему порабощению и самоотчуждению человека. В книге Т.Адорно и М.Хоркхаймера "Диалектика просвещения" дана критика всей предшествующей истории как совершенно бессмысленной, несущей людям лишь беды и страдания, причем основным виновником злоключений духа они считают “гипертрофию разума”, осуществляющую последовательную рационализацию мира, ведущую к покорению естественного начала как во внешнем, так и во внутреннем мире человека. Леви рассматривает историю царством нарастающего зла. Мир, на его взгляд, есть не что иное, как однообразное и линейное прогрессивное движение ко Злу.
Выбор, который осуществляет человек между спасением и гибелью, в конечном счете сводится к тому, чтобы максимально сохранить в себе изначальную духовную высоту при перманентном нисхождении в низины мироздания. Вектор процессуальности человеческой экзистенции образуется сложением исторических и историцистских тенденций, его направленность в сторону абсолютного начала может быть скорректирована лишь в единых метаисторических координатах. Существенное снижение уровня действенности историцистской тенденции является важнейшим фактором придания движению человеческой экзистенции столь необходимой трансцендентной устойчивости. Чтобы противостоять ложным историцистским суждениям, Башляр ввел понятия эпистемологического препятствия и исторического разрыва. С помощью этих понятий по его мнению вполне возможно описывать качественное своеобразие различных исторических форм знания и обрывать фиктивные ряды предшественников. В целях преодоления негативных влияний историцизма Ж.-М. Бенуа предлагает навсегда отказаться от “однолинейной и всеобъемлющей концепции истории, которая бы повела все человечество целиком и одинаково путем единственного и разделяемого всеми приключения к наилучшей цели”[234], что привело бы к фактическому преодолению тоталитарного объектоцентризма в историософии. Существуют и другие проекты вернуть историю в русло трансцендентальной процессуальности. Еще Гердер прозорливо подметил, что успехи историцизма оказались столь впечатлительными прежде всего потому, что «думающий созерцатель истории потерял в ней своего Бога и начал сомневаться в том, что есть на самом деле Провидение… потому с ним приключилось такое несчастье, что смотрел он на историю слишком плоско, а о Провидении не имел подобающего понятия»[235]. Единственным способом преодоления историцистского разума в самосознании современного человека является его постепенное восхождение к своим метаисторическим первоначалам, активное преодоление им всех форм духовного самоотчуждения. Лишь при субъектном отношении к себе и своей истории, человек в состоянии действовать как собственно Метаисторический Субъект, субъект своей собственной Судьбы, восходящей отнюдь не к дьявольскому Року, а к божественному Провидению.
Мы рассмотрели, находящиеся в противоречивом единстве, метаисторическую стратегию развертывания свернутостей изначально содержащихся в трансцендентной пустотности Абсолюта и и историцистскую стратегию, связанную с перманентным самоотчуждением человека. Первая стратегия ведет к развертыванию предустановленной гармонии жизни, а потому должна рассматриваться историософией в качестве экзистенциальной нормы, другая, противоположная ей стратегия, связанна с установлением таких порядков в мироздании, которые ведут к приоритетному и интенсивному развитию низших онтологических форм и их возвышению над высшими формами жизни, а потому должны осознаваться в качестве экзистенциальной патологии, хаотизирующей многоуровневое человеческое существование. Но эти две стратегии не действуют изолированно друг от друга, так как реализуются одним и тем же субъектом - Человеком. Реальный исторический процесс в своем свободном само-движении есть некая результирующая этих метафизических стратегий, претворяемых в жизнь совокупным эмпирическим человеком. В конечном счете именно за человеком остается последний выбор, как утерждал Гете, между “еще кое-что” в субъекте, чего нет и быть не может в объекте ведущее к спасению и “еще кое-что” в объекте, абсолютизация которого с неизбежностью ведет к вселенскому онтологическому самоубийству. Между двумя основными путями, один из которых ведет к гибели, а другой к спасению, человек должен подвигом веры окончательно избрать путь к спасению, но для этого он должен последовать совету Гете - признать за своей субъектностью «еще кое что» и навсегда отвергнуть «объективный остаток». Развернутое субъектоцентристское историософское сознание современному человеку необходимо прежде всего для реализации своей трансцендентной миссии на Земле.
Глава 2.
ИСТОРИЯ КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ДРАМА
2.1. Формы человеческой активности
|
|
Отдельные направления духа не идут миролюбиво рядом, дополняя друг друга, но каждое станет тем, что оно есть, только путем того, что показывает свойственную ему силу в борьбе с другими. Э.Кассирер. Философия символиче- ских форм.
|
Еще раз зададимся вопросом: кто или что все-таки выступает активным действующим лицом исторического действа - субъект или его объективация? Вопрос не простой, так как хотя человек и творит историю, однако вынужден к ней приспосабливать свою экзистенцию как к чему-то не только внешнему, но и чуждому его самости. В акте исторических изменений, согласно объектоцентристскому мировоззрению, активен объект, объективная реальность, развивающаяся по своим имманентным законам. В субстанции самого исторического процесса имманентно содержится вектор самодвижения сущего как некая слагаемая параллелограмма его же сущностных сил. Не-само-стоятельному субъекту остается лишь пассивно и покорно втягиваться в перманентно само-изменяющийся исторический процесс, плыть, как говорится, “по воле волн”. Человек гибнет, как только пытается активно противостоять непреложным законам истории. Лишь сопрягая свои слабые усилия с общим параллелограмом движущих сил истории, он в состоянии быть экзистенциально имманентным самодвижению сущего. В объектоцентризме не история берется в качестве объективации становления субъекта, а субъект рассматривается ее вторичной субъективацией. История активно творит человека, создает имманентную своим эпохам галерею исторических типажей - персонификаторов законов исторической необходимости. Превращение человека в персонификатора движущих сил истории предполагает определенные ограничивающие особенности его формирования. Индивид должен быть достаточно подавлен историей в своем стремлении стать подлинным субъектом, а его развитие предварительно должно быть достаточно духовно выхолощено и ценностно опустошено, чтобы он принял ситуацию овещнения за естественную для себя.[236]
Объектоцентризм фиксирует здесь лишь одну сторону исторического процесса - историцистскую, связанную с фетишизацией отчужденных от человека и активно противостоящих человеческой экзистенции его же собственных сущностных сил, простым персонификатором которых он себя обнаруживает в кривом зеркале историцистского самосознания. При этом из поля зрения объектоцентристской рефлексии совершенно выпадает активность самого персонификатора, ведь именно он фетишизирует свою=чужую историю, ведь именно в субъекте, а не в объекте заложено свойство, обусловливающее само-отчуждение субъекта. Не история как некий объективированный процесс отчуждает от себя человека, напротив сам человек использует свою же историю как средство экстериоризации отнюдь не лучшей части своей самости с последующей ее объективацией и фетишизацией и служит ей правдой и верой в качестве ее персонификатора. Таким оразом, даже в ситуации крайнего самоотчуждения отнюдь не человек, а сущее выступает пассивной стороной исторических свершений. Человек одновременно является субъектом развертывания и Неиного и Иного в Сущем. Объектоцентристская рефлексия фиксирует лишь процесс упорядочения сил хаоса в истории, она ничего не знает и знать не хочет о предустановленной мировой гармонии, а потому и рассматривает человека лишь в качестве пассивной, ведомой стороны внесубъектной истории. При объектном подходе к истории фетишизируется внешний феноменальный мир человека в его самой неприглядной отчужденной форме, игнорируется тот факт, что он есть всего лишь внешняя проекция далеко не самой лучшей части человеческой самости, активно противостоящей его ментальной целостности. “Человек, - писал Н.Бердяев, - не есть только существо, раскрывающееся в феноменальном мире. За эмпирическим, выявленным человеком стоит трансцендентальный человек. Эту свою трансцендентальность, эту свою духовность человек склонен отчуждать вовне, выбрасывать в объектный мир и даже называть эту объектность духовной (объективный дух)”.[237] Если высшее трансцендентальное Я человека творит историю, разворачивая во вне предустановленную гармонию, то низшие и ущербные Я не столько ее творит, сколько трансформирует под приоритеты движения низших и нецелостных онтологических слоев и именно в этих вторичных экзистенциальных процессах постепенно нарастает упорядочивающая деятельность субъекта, требующая определенного самодистанцирования, которое и становится внутренним механизмом процесса самоотчуждения. В конце концов неявный принцип модернизации мира который можно сформулировать как «гармония во имя порядка», приводит не только к крайним объективированным формам внешнего мира, но и к активной самообъективации внутреннего мира человека, ведь итериоризация начинает преобладать над экстериоризацией, да и сам процесс экстериоризации, в основном, оказывается процессом объективации уже ранее объективированных интериоризацией ментальных структур человека. Самообъективация субъекта таким образом становится неким внутренним инвариантом процесса прогрессивного развития упорядоченного внешнего мира и внешне выглядит самосубъективацией объекта. Возникает иллюзия, что не субъект, а объект наделен разумом – «объективный дух», который и управляет процессом становления не только мира, но и человека осуществляющим свое в нем присутствие. Таким вот образом историцизм присваивает себе свойства истории, становится эффективным инструментом выбрасывания человека из метаистории и заключения его в отчужденную от него псевдоисторию универсума самообъективаций.
В субъектоцентризме, напротив, лишь субъект выступает само-достаточным источником экзистенциальной активности, порождающим всю последовательность исторических актов. Любой исторический акт есть ни что иное, как актуализация активности субъекта в объекте и посредством объекта, а не наоборот. Пассивной стороной в экзистенциальной динамике выступает объект, а не субъект, даже в том случае, если “активно” участвует в отчуждении в свою пользу сущностных сил субъекта. На самом деле отчуждение сущностных сил человека происходит не в пользу объекта, а в целях разворачивания в структуре его субъективности ложных Я. Не может быть чистого процесса отчуждения, отчуждение даже в его самой предельной степени всегда остается формой самоотчуждения, отчуждения человека от самого себя. Объект выступает всего лишь разменной монетой в споре между становлениями различных Я внутри единого ментального пространства иерархического субъекта. Объект в этом внутриментальном противостоянии выступает не более чем средством насилия и господства низших и ложных Я над высшими и истинными Я. Однако самоотчуждающимся субъектом объект, а точнее его самообъективация воспринимается как некая «внешняя зряшная сила», как «неумолимый рок» которому, чтобы выжить, необходимо внутренне подчиниться. Объектный подход к выявлению источников онтологической активности, редукция активности субъекта к «внесубъектным» законам движения объекта Г.С.Батищев называл концептуализированным автоактивизмом. Эта многоликая авто-активистская тенденция есть следствие забвения современным рациональным человеком тех даров, которые безвозмездно получил и получает в своем до-деятельностном, до-свободном бытии - как в свой до-исторический период, так и на виртуальных уровнях своей нынешней жизни. Это - состояние онтологической неблагодарности Трансцендентному, состояние отказа быть обязанным Ему своим происхождением, своим генезисом, бывшее дитя Вселенной отрекается от взрастившего его Лона. Авто-активизм исключает процесс сущностной встречи: чем он экспансивнее, чем безудержнее его агрессивность, тем больше он сам себя замуровывает внутри своей собственной, спроецированной во вне и навязанной миру ограниченности[238].
Итак, человек, а не внешние обстоятельства, своей внутренне противоречивой активностью создает свой дуальный внешний мир, в котором изначальная его свобода расщепляется на добро и зло, причем зло нарастает в той степени в какой человек стремится насильственно сделать мир добрым. Как известно «благими намерениями вымощена дорога в ад». Сужая сферу своей трансцендентной свободы человек, сам того не ведая все более трансформирует добродеяние в злодеяние. При субъектном подходе к анализу внутренне противоречивой человеческой экзистенции важнейшей проблемой становится отыскание тех энергетических источников в ментальности самого человека, которые подпитывают собой развертывание противоположных онтологических тенденций, исходящих из Неиного и Иного.
При беглом анализе источников, затрагивающих эту проблему и именно с субъектных позиций, наиболее развитой моделью противоречивой активности человека выступает та, которая опирается на дихотомию бытие-обладание. Эта модель активно разрабатывалась С.Л.Франком и особенно Эрихом Фроммом, написавшим одноименную книгу «Быть или Иметь». С.Л.Франк пытался этой дихотомией преодолеть редукцию человеческой субъективности к той части внешнего мира, которой человек овладел, выяснить содержание и объем того «субъективного остатка» в нем, который еще не подвергся объективации. «В применении к миру объективной действительности, - подчеркивал С.Л.Франк, - язык выработал для обозначения различия между «мною самим» и тем, что мне дано – что есть нечто иное, чем я сам, и стоит в каком-то внешнем отношении ко мне, - отчетливое различие между понятиями «быть» и «иметь». Я имею, предметы питания, одежду, жилище, я имею близких и друзей, наконец, я имею весь внешний мир, в котором я живу, но очевидно и явственно я не есть сам все это; мое собственное бытие составляется исключительно из того, что совершается «во мне» и входит в сферу моего «я»… Если, за недостатком других слов, остаться при обычных словах «иметь» и «быть», то нужно будет сказать, что здесь в некотором смысле я есмь и то, что я имею, т.е. что слово «быть» имеет здесь два значения и два объема; в узком смысле я есмь только «я сам» в отличие от того, что я имею и что мне запредельно; но в более широком смысле я – косвенно – есмь и то, что я имею; я сам сопринадлежу к той сфере бытия, которую я имею, ибо эта сфера по характеру своего бытия однородна с моим собственным бытием»[239]. Подобным же образом только не в метафизическом, а в психологическом плане рассматривает и Э.Фромм отношение целостного Я к предлежащему ему не-Я, миру объективаций, способному интериоризироваться в поверностные слои Я.
Если воспользоваться этими двумя полярно противоположными онтологическими понятиями, то можно построить метаисторический континуум человеческой экзистенции, в котором внутреннее бытие последовательно убывает, а внешнее обладание столь же последовательно нарастает. Верхний предел континуума пометим понятием «Быть», а нижний – «Иметь». Исторически в человеческой экзистенции нарастает объектное отношение к внешнему миру, прежде всего выражающееся во все большем его присвоении и обладании внешним же образом. В той же мере с какой расширяются «владения» человека в объективированном мире, он утрачивает свою субъектность и имманентное самобытие. При этом последовательная утрата субъектом своего онтологического статуса в процессе самоотчуждения, ведет к сверхонтологической компенсации, сущностью которой выступает обладание над своими же собственными самообъективациями. Если в верхнем экзистенциальном пределе человек обладает своим собственным бытием (самобытием), т.е. обладает своим собственным внутренним миром, что весьма аутентично схватывается понятием самообладание, в котором внутреннее бытие субъекта максимизировано и ему не противостоит внешняя реальность объекта или объективная реальность, то у нижней бездны бытия – человек весь целиком без какого-либо «субъективного остатка» погружается во внешний и отчужденный от него мир, максимально им обладая. И в той мере в какой он владеет миром внешним образом в его бытие оказывается релятивным и фиктивным. Если этот континуум разделить на четыре интервала, по основанию основных онтологических типов Субъекта, тогда мы получим определенную метаисторическую типологию активных форм человеческого поведения, различающиеся между собой соотношением «быть» и «иметь» в перманентно расширяющейся человеческой экзистенции (схема 11).
На каждой последующей фазе целостного экзистенциального континуума соотношение бытия и обладания различно и все более решается в пользу «иметь». В пределах космического универсума, где человек является микрокосмом бытие стремится к бесконечности, а обладание – к нулю, т.е. бытие абсолютно, а обладание релятивно. Человек здесь обладает лишь своим внутренним миром, ему нет
Астральный Антропный Социальный Телесный
субъект субъект субъект субъект
![]()
![]()
![]()
![]() S
O
S
O
Само- Субъективация Объективация Объективация
субъективация субъективного субъективного объективного
* * * *
Предельное Скорее быть Скорее иметь Предельное
бытие чем иметь чем быть обладание
Схема 11. Метаисторический континуум
форм человеческой активности «Быть-Иметь»
смысла присваивать внешний мир так как внешний мир есть проекция его внутреннего мира. Он владеет внешним миром лишь постольку, поскольку овладевает самим собой, осуществляет самотрансценденцию. В рамках трансцендирования внешний мир втягивается в его Я внутренним образом и отнюдь не в качестве не-Я.
Так как мир внешний есть продукт эманации, то он есть всего лишь онтологический модус мира внутреннего. В процессе эманации человек лишь удваивает себя во внешнем мире и присутствует в нем как в своей собственной овнешненной ментальности не осознавая той грани, которая метаисторически лишь намечается между Я и не-Я, ибо они являются трансцендентно тождественными сущностями целостного и универсального Бытия не требующими внешних способов овладевания, присвоения. Само-обладание, само-овладение, само-присвоение являются неотъемлимыми свойствами само-трансценденции, человек по средством этих качеств органически соединяется с тем миром, который творит по высшим космическим меркам, составляя с ним единую ментально-онтологическую экзистенцию. Но уже на этапе развертывания человеческого универсума, с появлением антропного субъекта, соотношение между «быть» и «иметь» становится более определенным и содержательным. Человек родовой, отличается от человека астрального, тем, что он не только укоренен в родовую форму бытия, но и активно присваивает свои родовые сущностные силы в пределах общечеловеческой культуры. Он начинает овладевать овнешненными структурами своей собственной самости. Здесь Я и не-Я находятся в ситуации относительной тождественности (субъективация субъективного).
В некотором роде Я оказывается частью не-Я и вынуждена интроецировать во-внутрь внешние условия своего существования. Эту часть экзистенциального континуума можно пометить, следуя практике социологических исследований, не вполне определенным термином «скорее быть, чем иметь». Бытие пре-обладает над обладанием, так как в лоне культуры, человек актуализирует свои собственные родовые сущностные силы во-вне, процессом самоактуализации он не только расширяет сферу своего присутствия в мире, но и ценностно переживает свое в нем присутствие. И в то же время он присваиваивает часть своих собственных трансформированных сущностных сил в качестве ценностно измененного первичного мира, со-бытийствуя с ним. Само-бытие от со-бытия отличается прежде всего тем, что в него включается момент внешнего присвоения своей собственной овнешненности и обмирщвленности. Антропный субъект ценностно владеет миром, однако активно присваиваемый им мир ценностных субъективаций не противостоит его самобытию в качестве внешней зряшной силы, так как он не что иное как субъективный мир Ты, в котором Я активно самоактуализируется. Напротив примат бытия над обладанием придает межсубъектным отношениям гуманистическую многомерность. В связи с этим культура может рассматриваться как способ каким человек присваивает в мире то, что сам в нем сам же и актуализирует. Антропная форма обладания является актуализированным самообладанием, обладанием своим Я посредством его вычленения с присвоением из внутреннего мира Ты. Со-бытие или совместное бытие Я и Ты разворачивает свои ценностные потенциальности в актуализированные формы культуры не иначе как в актах взаимного присвоения человеческих сущностных сил Я в Ты и Ты в Я.
С возникновением социального универсума, в человеческой экзистенции принцип иметь начинает преобладать над принципом быть. С началом общественного разделения труда, человек начинает присваивать в социализированном мире то, что противостоит ему в качестве его же собственного отчужденного бытия. Причем его внешнее обладание миром увеличивается в той степени с какой он утрачивает самообладание, обладание самим собой. Чем более человек объектно относится к своему миру, тем более он утрачивает свою собственную субъектность, а вместе с ней все более ускользает его имманентное бытие. Предельной формы обладания над внешним миром и столь же предельного самовытеснения из многомерного бытия человек «достигает» на этапе своего полного погружения в универсум объектов. В качестве телесного существа он может продолжать свое фиктивное присутствие во внешнем и отчужденном от него мире лишь тотально владея им. Если предельная субъектность человека восходит к Абсолютному Бытию Бога, то его предельная объектность – абсолютному обладанию сатаны. Максимально владеть внешним миром «способна» лишь внешняя рациональная оболочка ментальности человека, тогда как ее самообладающее трансрациональное ядро не имеет никакого онтошения к процессу присвоение=отчуждения. Предельно самоотчужденный телесный субъект в своем поистине сатанинском способе владения миром лишается даже своего имманентного метального ядра – телесности, он весьма напоминает отпавшую от ядра «скорлупу» – сплошной рациональный дискурс, соотнесенный с искусственным объектом и противостоящий естественному субъекту. «Слово «скорлупа», - писал П.А.Флоренский, - весьма подходит для обозначения «для себя». Это, именно, - пустая «кожа» личности, но без тела, - личина, imago, не имеющая субстанциональности. Однако, само собою, я беру предельный случай полной осатанелости»[240]. Как утверждает Марсель, с бытием ассоциируется способность индивида к творчеству, в то время как обладание выглядит погоней за благами земными, чреватой утерей себя. Я могу обладать в строгом смысле лишь чем-либо, отмеченным независимым от меня существованием. Обладание и даже предшествующее ему желание трактуется Марселем как неподлинные способы существования личности, уводящие ее от “тайн творчества”. Внутренняя диспозиция человеческого сознания на максимальное владение миром объектов несомненно влечет за собой финал самоовещнения личности.
Итак, метаисторически, в человеческой экзистенции бытие имеет тенденцию идти на убыть, а обладание столь же стремительно нарастать. Однако построенный нами континуум, скорее всего говорит о внешних проявлениях более глубинных метаисторических процессов, происходящих в экзистенциальной динамике. Для того, чтобы их прояснить, необходимы иррелевантные кактегориям «быть» и «иметь» универсалии, способные помочь нам выйти на эти ментальные глубины. На наш взгляд такими универсалиями могут быть «способности» и «потребности». «Ближайшее рассмотрение истории, - писал Гегель, - убеждает нас в том, что действия людей вытекают из их потребностей, их страстей, их интересов, их характеров и способностей и притом таким образом, что побудительными мотивами в этой драме являются лишь эти потребности, страсти, интересы и лишь они играют главную роль»[241]. Способности человека вполне коррелируют с принципом бытия, а потребности – с принципом обладания.
Метаисторический акт, в ментальном аспекте, есть ни что иное, как актуализация креативных способностей субъекта. Внутренним источником любой формы активности, в том числе и активности исторической, выступают виртуальные способности целостного и универсального человека. Подчеркивая особую активность человека в мире, Л.Сэв определяет его "способности в качестве актуальных потенциальностей, дающих возможность совершить какой бы то ни было акт на каком бы то ни было уровне"[242]. В исторических действиях актуализируются потенциальности субъекта, которые объектоцентризмом приписываются объекту в качестве неких имманентных законов его само-движения, независящих от стремлений и воли субъекта. Субъектом исторического акта при субъектном подходе является человек и изменения в объекте, экзистенциально коррелируют с самоизменениями в нем, обусловлены его потребностями, а не внутренней необходимостью объекта. В своей исторической драме человек одновременно выступает и героем и злодеем, одновременно созидающим мир и отчуждающимся его от себя, впадающим к нему в унизительную зависимость. Вся энергетика исторического движения сосредоточена в человеческих способностях и потребностях. Посредством своих способностей человек творит по-требные ему экзистенциальные формы, при этом, не всегда то, что требуется ему в качестве субъекта истории соответствует тому, что он призван осуществлять выступая субъектом метаистории. В сложной диалектике способностей и потребностей Человека, отпавшего от Абсолюта, и необходимо, на наш взгляд, отыскивать ответ на вопрос об энергетическом источнике столь неоднозначного по своим экзистенциальным последствиям исторического процесса.
В философско-антропологическом анализе исторического состояния человеческой активности, на наш взгляд, категории потребности и способности должны составлять собой диалектическую пару. Эти взаимодополнительные категории вполне достаточны для описания двустороннего процесса объективации субъекта и субъективации объекта в качестве единого экзистенциального акта, дающего субъекту возможность не только расширить сферу своего присутствия в мире, но и выяснить насколько его отношения с миром и с самим собой являются одухотворенными и гармонизированными. Если способности связаны с ментализацией мира, то потребности - с онтологизацией человека. Мир при этом обретает свое человеческое измерение, а человек - обмирщвленные экзистенциальные формы.
Способности субъекта по своей сути интенциональны и выступают порождающим, творящим началом. «Как много можем мы совершить только потому, - писал Зиммель, - что верим в свои возможности, как часто наши способности достигают апогея своего развития только благодаря тому, что мы ожидаем от них гораздо большего, как часто люди в определенной ситуации действуют достойным образом по принципу “noblesse obige” (положение обязывает – Ю.Ф.), поступая так не потому, что обладают необходимыми для этого качествами, а только благодаря своей вере в то, что этими качествами располагают»[243]. Способности интенционально восходят к свободе Духа или духовной Свободе и стягиваются в некую “инструментальную тотальность” личности принципом веры, прежде всего верой в креативные возможности Человека. Способности есть некий механизм, трансформирующий трансценденцию в существование, экзистенцию, а последнюю - в объективированные структуры сущего.
Напротив, потребности субъекта, экстенциональны и связаны с необходимостью поддерживать свою витальность за счет присвоения, инкорпорирования элементов Среды обитания. Если способности восходят к трансцендентной Свободе, то потребности обусловлены законами Необходимости. Под потребностью чаще всего понимают нужду в чем-либо. В отличие от способностей, которые имманентны трансцендентной «слабости» Духа, потребности соотносятся с проявлениями сущностных сил, восходят к волевому началу в человеческой экзистенции. Когда Шопенгауэр определяет сущность бытия как волю, оно предстает как ненасытное желание и агрессия, которая должна найти освобождение любой ценой. По Шопенгауэру воля сама должна достичь покоя – и конца. Причем конец есть осуществление, удовлетворение и погружение в Нирвану. Категория "потребности" позволяет прояснить вопрос о том, почему человек осуществляет свою онтологическую активность. Реализация одних групп потребностей ведет к появлению у иерархического человека других групп "нужд", более сложных как по структуре, так и по качественным характеристикам. Именно процесс сатурации, насыщения потребностей, осознаваемых индивидом в качестве его жизненных нужд, вы-нуждает его на систематические активные действия в сфере расширенного воспроизводства ценностей и благ. Степень «развитости» потребностей человека есть прежде всего степень его зависимости от условий существования во внешнем мире. На онтологическую взаимообусловленность человеческих потребностей и законов необходимости указывал еще Л.Фейербах. “Где нет потребности, - писал он, - нет и чувства зависимости; если бы человек для своего существования не нуждался в природе, то он не чувствовал бы себя от нее зависимым и, следовательно, не делал бы ее предметом религиозного почитания. И чем больше я нуждаюсь в предмете, тем больше я чувствую себя от него зависимым, тем больше власти имеет он надо мной; но эта власть предмета – нечто производное, она есть следствие власти моей потребности. Потребность есть столь же слуга, сколь и госпожа своего предмета, столь же смиренна, как и высокомерна или заносчива, она нуждается в предмете, без него она несчастна, в этом заключается ее верноподданство, ее самопожертвование, отсутствие эгоизма. Но она нуждается в нем, чтобы его использовать, чтобы его наилучшим образом употребить; в этом заключается ее властолюбие или ее эгоизм. Эти противоречивые или противоположные свойства имеет в себе чувство зависимости, ибо оно не что иное, как потребность в предмете, дошедшая до сознания, или превратившаяся в чувство”[244]. Помимо потребностей, нужд, которые в ментальности создают культура, цивилизация и технология, при-нуждая индивидов систематически и стереотипно их насыщать “предметами потребления”, в менталитете, несомненно, должны присутствовать и соответствующие способности по производству этих пресловутых средств потребления. В конечном счете, не потребности, а именно способности объективируются в средствах, в которых человек испытывает нужду, необходимость. Если потребность отвечает на вопрос, что требуется субъекту, то способность проясняет проблему, каким образом человек это не-что акт-уализирует, объективирует. Отнюдь не в исторически преходящих потребностях укоренена активация субъекта, а в его изначальных и креативных способностях. Потребности всего-навсего "пусковой механизм", приводящий в движение духовную энергетику способностей.
Вне способностей человека, его потребности ведут к вырождению субъектного в человеке, к жесткой стереотипизации его поведенческих актов. Вне его органичных потребностей гипертрофия способностей может привести к квазиинновационному поведению, к вымыванию из его экзистенции традиций, чреватому катаклизмами.
Несомненно, “способности” и “потребности” должны войти в категориальный ряд онтологической антропологии в качестве понятий, способных многое прояснить во внутренне противоречивой человеческой экзистенции.[245] Но на этом пути есть свои трудности. Сложилась устойчивая традиция восходящая к историософии Гегеля, рассматривать экзистенцию и ее историю в качестве перманентной объективации прогрессирующих потребностей человека, причем его способностям воздействовать на ход и исход исторического процесса отводится второстепенная, в основном, инструментальная роль. «Ближайшее рассмотрение истории, читаем мы в «Философии истории» Гегеля, - убеждает нас в том, что действия людей вытекают из их потребностей, их страстей, их интересов, их характеров и способностей и притом таким образом, что побудительными мотивами в этой драме являются лишь эти потребности, интересы и лишь они играют главную роль»[246]. К сожалению, господство объектоцентристского методологизма в корпусе современных наук о человеке привел к тому, что исследователи неимоверно огромное значение придают именно потребностям, видят в них главную движущую силу прогрессивного развития буквально во всех сферах человеческих свершений. При этом способности, чаще всего, рассматриваются вне связей с потребностями, и их значимость локализуется в основном сферой продуктивного творчества. Более того, довольно часто способности при объектном подходе к анализу человеческой активности оказываются лишь некой экзистенциальной производной от потребностей или даже отождествляются с ними. При знакомстве с господствующими ныне сциентизированными идеологемами складывается ощущение, что основу человеческого творчества составляют не виртуальные способности, а актуализированные потребности. Наиболее явно и последовательно это наблюдается в построенной А.Маслоу психологической концепции самоактуализации личности, в которой все формы ее внутренней активности по сути сведены к одному феномену - потребностям. И это закономерно: в современном потребительском обществе господствующая идеологема, в какие бы научные тоги она ни рядилась, в состоянии апологетизировать лишь господство потребителя над созидателем.
По А. Маслоу, самоактуализирующаяся личность последовательно восходит по ступенькам активности от низших к высшим ее формам, при этом ее ментальная иерархия перманентно пополняется все более высшими потребностями. В пирамиду потребностей внутренне консолидированного иерархического человека, согласно А.Маслоу, входят: 1) физиологические потребности; 2) потребность в безопасности; 3) потребность в принадлежности (аффилиации); 4) потребность в уважении; 5) Потребность в самовыражении [247]. Богатство личности, полагает А.Маслоу, определяется соотнесением желаний с их удовлетворением минус удовлетворение первичных и элементарных потребностей. Он утверждает, что любой человек удовлетворяет свои потребности, начиная от первичных и поднимаясь вверх по иерархии. Такую ментальную динамику он называет законом возвышения потребностей. Однако иерархия этих потребностей оказывается явно перевернутой, как только мы соотнесем ее с направленностью становления человека не только в фило- но и в онтогенезе. Именно на довольно продвинутой стадии своей истории человек начинает все более фиксировать свою активность в сфере универсума объективаций - техногенной проекции биогенных, физиологических по своему существу потребностей. Как показывает ход истории, если потребности и “восходят”, то не иначе как к самым низшим формам обладания=присвоения, зачастую складываясь в предельно негативистские и циничные системы потребительства. Модель А. Маслоу, гипостазирующая человеческие потребности, позволяет вскрывать разве что подоплеку процесса интериоризации, присвоения, но совершенно непригодна для выяснения действия механизмов обратного процесса - процесса развертывания, экстериоризации личностных качеств. В этой модели способности к самоактуализации, самореализации человека подаются в потребностной форме, в форме некой нужды в идеальном, которая реализуется не иначе как на пути присвоения человеком чего-то высшего, что в его ментальности ранее не предсуществовало в качестве внутренних потенций. Вершину пирамиды потребностей, и это тоже не случайно, для объектного подхода к внутреннему миру субъекта замыкает не самотрансценденция, а самоактуализация, что делает эту модель закрытой, сугубо антропоцентричной. Именно в этом обнаруживал ущербность модели А.Маслоу его оппонент В.Франкл, подчеркивая, что человек не столько самоактуализирующий, сколько самотрансцендирующий субъект. Актуализировать человек может только то, что творчески самоосваивается им в акте самотрансценденции. Модель А.Маслоу не случайно появилась именно в эпоху формирования рыночной экономики и общества тотального потребления. Но ведь рынок есть всего лишь упорядоченный хаос производства, обмена и потребления благ. Этот термин еще в недавние времена был нарицательным, тогда как в настоящее время он наполнен высшим экзистенциальным смыслом. Один из семи мудрецов Анархасис из Скифии, живший в первой половине У1 в. до н.э. утверждал, что “рынок - узаконенное место беззакония”. Человек современной западной цивилизации живет в условиях “узаконенного беззакония”, позволяющих более эффективно упорядочивать и насыщать бесконечное многообразие его потребностей, нежели плановая экономика, основанная на абстрактных принципах узаконенной справедливости. От эпохи к эпохе с изменением исторических форм бытия меняется валентность одних и тех же значений. И уже современным рыночникам внерыночные отношения представляются не только неэффективными, но и регрессивными. “Они берут этот мир таким, каков он есть и каким он себя чувствует. Они берут себя самих такими, какими они себя находят”.[248]
Согласно субъектному подходу к многомерной человеческой экзистенции, как в фило-, так и в онтогенезе наблюдается действие закона “нисхождения способностей” и “восхождения потребностей”. Однако при этом закон “восхождения потребностей” требует совершенно иной историософской интерпретации. От ступеньке к ступеньке в своем нисхождении в универсум объективаций, все более внешние Я иерархического субъекта, перманентно укореняющиеся во все более проявленные онтологические слои, в состоянии эффективно развиваться лишь за счет все более интенсивной их интериоризации. Именно это обстоятельство и расширяет сферу действия закона “восхождения потребностей”. Но при этом необходимо иметь в виду, что чем выше восходят потребности, тем более низким оказывается субличность в многоуровневом Я их инициирующая. И, напротив, чем более обедненными оказываются потребности субъекта, тем больше оснований идентифицировать его активность с продуктивностью более высокой субличности. Иными словами абсолютно консолидированному субъекту соответствует закон «восхождения способностей» и «нисхождения потребностей», а абсолютно расконсолидированному субъекту – закон «восхождения потребностей» и «нисхождения способностей». В отличие от потребностей, которые интроецируются в структуру личности извне, из внешнего мира, способности как по генезису, так и по своей исторической морфологии есть квинтэссенция внутренних духовных процессов, они не могут быть результатом плоской интериоризации. «Развитие способностей, подчеркивал С.Л.Рубинштейн, - не есть их усвоение, усвоение готовых продуктов; способности не проецируются в человека из вещей»[249]. Они не только не проецируются в человека извне, но и не развиваются изнутри, они могут только развертываться, так как изначально содержатся в человеческой метальности в форме тотальной креативности, которая в конкретно-исторических ситуациях проявляет себя в качестве актуализированных способностей.
Как потребности, так и способности человека обладают исторически определенной иерархизированной структурой. В идеале структура способностей должна быть гомоморфной структуре потребностей. Но это оказывается возможным лишь при условии, если история оказывается экзистенциально тождественной метаистории. Однако в реальной исторической ситуации такая синхронность в становлении способностей и потребностей субъекта оказывается невозможной. Если способности, в основном, коррелируют с историческим, то потребности, в основном, с историцистским в становлении человека. Как известно, принцип гомоморфизма, связывая между собой подобные элементы двух систем, фиксирует при этом наличие довольно широкого спектра различий как в степени их развития, так и в достигаемых ими уровнях качественной определенности. Следовательно, уровни развитости способностей и потребностей от универсума к универсуму, от одного метаисторического типа личности к другому, могут существенно различаться. При перевесе историцизма над историчностью в экзистенциальной динамике, потребности в структуре ментальности начинают перевешивать способности. Рассмотрим онтологическую типологию соотношения “способности-потребности” в человеческой ментальности.
Несколько прояснить характер динамики и направленности человеческой активности во всеобщих метаисторических координатах нам поможет анализ континуума “способности-потребности” (схема 12).
Астральный Антропный Социальный Телесный
субъект субъект субъект субъект
![]()
![]()
![]()
![]() S
O
S
O
Предельное Скорее быть Скорее иметь Предельное
бытие чем иметь чем быть обладание
* * * *
Предельные Способности- Потребности- Предельные
способности Потребности Способности потребности
Схема 12. Метаисторический континуум
форм человеческой активности «Способности-Потребности»
![]() Если
универсалия “способности” связана с “верхним пределом” экзистенциальных форм
человеческой активности и обусловлена его духовной интенциональностью,
направленной от трансценденции к экзистенции, то универсалия “потребности”
связана с ее “нижним пределом” и обусловлена телесной экстенциональностью с
направленностью от витальности к экзистенции. Когда мы ранее перебирали
варианты определений человека, существующие в философии, то все они строились
из признания определенной ведущей способности, которая конституирует его в
качестве особого существа - феномена. Признание способности человека творить
этот мир привело к его определению в качестве ноуменального субъекта. Акцент на
способности человека обосабливаться от космоса культуротворческим процессом
приводит к его определению в качестве родового существа. Свойство создавать
систему цивилизации и интегрироваться в нее в качестве деятельного субъекта
приводит к определению человека в качестве существа социального. Способность
человека мыслить, отличающая его от иных биологических особей, приводит к его
определению в качестве разумного существа. Как только за основу принимается
одно из качеств человека, так сразу же появляется некое гипертрофированное
представление о его целостности и универсальности. Однако, если же мы будем
придерживаться того, что изначально у него нет никаких качеств, тогда придем к
пониманию пустотности первоначал его бытия, его вечного существования в
качестве “чистой субъектности”, единственной способностью которой выступает
способность к самокреации, автоэманированию, в метаисторическом процессе он
последовательно обретает всю иерархию способностей, которые входят в череду его
исторических само- и переопределений.
Если
универсалия “способности” связана с “верхним пределом” экзистенциальных форм
человеческой активности и обусловлена его духовной интенциональностью,
направленной от трансценденции к экзистенции, то универсалия “потребности”
связана с ее “нижним пределом” и обусловлена телесной экстенциональностью с
направленностью от витальности к экзистенции. Когда мы ранее перебирали
варианты определений человека, существующие в философии, то все они строились
из признания определенной ведущей способности, которая конституирует его в
качестве особого существа - феномена. Признание способности человека творить
этот мир привело к его определению в качестве ноуменального субъекта. Акцент на
способности человека обосабливаться от космоса культуротворческим процессом
приводит к его определению в качестве родового существа. Свойство создавать
систему цивилизации и интегрироваться в нее в качестве деятельного субъекта
приводит к определению человека в качестве существа социального. Способность
человека мыслить, отличающая его от иных биологических особей, приводит к его
определению в качестве разумного существа. Как только за основу принимается
одно из качеств человека, так сразу же появляется некое гипертрофированное
представление о его целостности и универсальности. Однако, если же мы будем
придерживаться того, что изначально у него нет никаких качеств, тогда придем к
пониманию пустотности первоначал его бытия, его вечного существования в
качестве “чистой субъектности”, единственной способностью которой выступает
способность к самокреации, автоэманированию, в метаисторическом процессе он
последовательно обретает всю иерархию способностей, которые входят в череду его
исторических само- и переопределений.
Экзистенция эмпирического субъекта есть тот феномен, в котором субъективируются способности и объективируются потребности. Одним словом, если способности в своем высшем трансцендентном пределе связаны с креативной свободой Духа, то предельная форма человеческих потребностей обусловлена рациональной необходимостью Тела. Телесной витальности крайне необходим минимум внешних условий существования, в связи с ее онтологической несамодостаточностью, ибо она непосредственно связана не с изначальной трансцендентной и абсолютной неопределенностью, а с ее метаисторически проявленной объективацией, т.е. некоторой определенной полнотой бытия, содержащей в себе средства потребления соответствующие нуждам и требованиям телесности.
Предельные космогенные способности-потребности. В ментальности человека способности присутствуют изначально, он их благоприобретает в момент самокреации, самотрансценденции. Они есть первичная субъективация свободной креативности Духа, ее предельная персонификация. "Дух истории, дух времени есть не образное выражение, но подлинная реальность. В глубинах своих история создается духом и в духе, — писал С. Н. Булгаков, — ибо лишь причинностью чрез свободу определяется своеобразие истории. Притом печать творчества и свободы одинаково лежит на всех ее сторонах"[250]. Космогенные способности еще называют виртуальными, креационистскими свойствами Человека. Высшая форма способностей представляет собой атрибутивное, неотъемлемое свойство трансцендентального, астрального субъекта.
Ментальность астрального субъекта представляет собой диахронную, несбалансированную систему качеств, свойств, так как в ней способности максимизированы, а потребности минимизированы. Лишь такой тип ментальности в состоянии быть максимально адекватным в ситуации крайней экзистенциальной неопределенности и нестабильности, столь характерной для процесса перманентной креации и самокреации. Астральный субъект - самотрансцендирующее существо, активно творящее символический мир, основу которого составляют внутрисубъектные отношения Духа. Его способности скорее всего выступают не качествами личности, а интенциональными проявлениями души, возникающие в процессе самотрансценденции, субъективации субъективного, тогда как потребности в состоянии формироваться и развертываться в определенную подсистему ментальности лишь в рамках процесса объективации и являются продуктом интериоризации человеком своих овнешненных и овещненных сущностных сил. Его экзистенция - это сплошное самосозидание, потребностную сторону которой он не внолне отчетливо осознает. Если что и требуется ему для самотрансценденции, то только свобода, но в ней он не нуждается, так как она составляет неотъемлемый атрибут его существа как микрокосма. Как особо подчеркивал Н.Бердяев, духовный опыт внутреннего человека является опытом необъективированным и прешествует образованию мира объектов и вещей. В духовном опыте человека обнаруживает себя свобода и раскрывается тайна Бога, мира и самого человека. Existenz и есть творческий акт свободы, противоположной объективации, которая всегда есть детерминация[251].
Если способности восходят к Свободе, то потребности – к Необходимости. У свободного Духа нет никаких потребностей, он ни в чем не нуждается, ни от кого ничего не требует, ничего не потребляет, он абсолютно интенционален. Обителью Духа является Ничто, Пустота, полнота бытия лишь отягощает спонтанность его трансцендентных интенций. “Нищета духа” - это такая форма отсутствия каких либо потребностей, которая до предела обостряет творческие интенции Бесконечного Субъекта, кумулирует его способности в единый креативный акт – акт творения=творчества. Дух творит из ничего, из необъективированной абсолютной пустотности или пустотной абсолютности. Способности астрального субъекта есть “средство” актуализации своих трансцендентных потенциальностей. Потребности призваны лишь побудить его осуществлять креативный акт, кумулируют всю энергетику его души на творческом процессе. Подлинный креационистский акт, акт творения не требует не только внешнего, но и внутреннего принуждения, так как является спонтанным процессом. Потребность в самотрансценденции всего лишь внутренняя мотивация к креации и самокреации Субъекта. Потребность - форма осознания субъектом своих внутренних способностей и возможностей. По завершении креативного акта, трансцендированная потенциальность в качестве “средства потребления”, как правило, оказывается невостребованной самим творцом, так как он ее производит отнюдь не для себя. Выражение “духовные потребности” всего лишь нонсенс рационализма, так как если субъект и “потребляет” “продукты” своего духовного творчества, то лишь символически. Творчество может быть лишь духовным процессом, а потому у его субъекта отсутствует осознание необходимости присвоения сотворенного сугубо внешним образом. Любая потребность, предшествующая началу творческого акта, по его завершению окончательно сублимируется в соответствующих субъективациях и в своей превращенной форме становится компонентом общей структуры способностей. В ментальности созидателя в процессе самотрансценденции все более разгораются способности и столь же быстро угасают потребности. Христос учил: какая польза человеку, если он весь мир приобретет, душу же свою потеряет?
Позитивные в онтологическом плане новообразования в системе субъективности возникают лишь в творческом акте, акте самотрансценденции. Генезис новых способностей зависит от совпадения двух векторов метаисторического развертывания во внутреннем и внешнем мире человека. Именно это совпадение и лежит в основе гармонизации субъективного мира, его экзистенциальной завершенности. Творчество требует от человека максимума способностей к самотрансценденции, к экзотерическому развертыванию своих духовных ресурсов и потенций. «В творчестве, - писал С.Л.Рубинштейн, - созидается и сам творец. Лишь в созидании из тех обломков и осколков человечества, которые одни нам даны, этического, социального целого созидается нравственная личность. Лишь в организации мира мыслей формируется мыслитель; в духовном творчестве вырастает духовная личность. Есть только один путь – если есть путь – для создания большой личности: большая работа над большим творением. Личность тем значительнее, чем больше ее сфера действий, тот мир, в котором она живет, и чем завершеннее этот последний, тем более завершенной является она сама. Одним и тем же актом творческой самодеятельности создавая и его и себя, личность создается и определяется, лишь включаясь в ее объемлющее целое»[252].
Каковы экзистенциальные причины диахронии спобностей и потребностей у этого метаисторического типажа, являющегося реликтовым для современного человечества? Почему же у него потребности оказываются наименее выраженными, нежели у следующих за ним метаисторических субъектов? Что ему меньше нужно было благ, нежели современному человеку?
Во-первых, для пассионарной и творческой личности, как в те стародавние времена, так и в современную эпоху, высшей потребностью выступает самоосвоение, самотрансценденция, что с неизбежностью влечет за собой кумуляцию высших способностей и размывание низших потребностей. Не испытывая особой нужды во внешних благах, они обеспокоены лишь возможностью реализовать свою историческую миссию, с которой, как они глубоко убеждены, посланы на эту землю свыше.
Во-вторых, у данного типа личности структура высших потребностей оказывается "размытой" еще и потому, что в наличной действительности для ее оформления не содержатся в достаточной степени необходимые ценностно-символические их инварианты. То, в чем они испытывают крайнюю нужду, еще предстоит создать, и на этой "потребительской стоимости" должна стоять печать именно их авторства. Однако эта нужда быстро проходит, как только “средство потребления создается”. Писатель никогда не читает написанных им романов, художник редко наслаждается своими картинами и т.д.
Психологически этот механизм в структуре личности действует следующим образом. Элементарные потребности вытесняются кумуляцией способностей на самых высших уровнях личностной активности. Но так как высшие формы потребностей еще не имеют в наличной действительности соответствующих ценностных объективаций, то они и "вынуждены" до поры до времени пребывать в своем "инобытии", то есть в форме высших виртуальных способностей, в качестве потенциальных потребностей. Высшими способностями элементарные потребности как бы переводятся из актуальных в потенциальные и в этом именно плане "вытесняются" в латентные структуры ментальности. Возникает инверсия способностей в потребности.
Антропогенные “способности-потребности”. В антропной форме общения субъект дан другому субъекту как существо непосредственное, не опосредованное объективированными и отчужденными формами существования. В истинном антропном общении человек не объективируется, а субъективируется в другом субъекте. Процесс субъективирования субъективного есть процесс перманентного воспроизводства человеческих чувств, ресурсов в предельно широком родовом, общечеловеческом контексте. Этот процесс в его чистом виде не требует объектного опосредования. При этом потребности выступают некой экистенциальной производной от человеческих способностей к самоочеловечению, к перманентной гуманизации условий своего существования. И.Г.Гердер утверждал, что «цель нашего земного существования заключается в воспитании гуманности, а все низкие жизненные потребности только служат ей и должны вести к ней»[253].
Однако антропный субъект - существо уже не самотрансцендирующее, а самоактуализирующее. Если ментальная пустотность эманирует спонтанно, то определенная ее полнота оказывается связанной с преодолением внутренних барьеров в субъекте, а следовательно требует известных его усилий и развитой мотивации. Но какой бы внутренней полноты не достигала ментальность субъекта, его творческий акт немыслим без существенной приоритетности способностей над потребностями.
Антропный субъект творит уже не в пустоте, а как говорят ваятели - в материале. И этим материалом выступают субъектно-субъектные, межсубъектные отношения. В качестве родового существа человек в состоянии творить лишь посредством другого человека и, в основном, для другого. Антропные субъекты - это субъекты перманентно самоактуализирующиеся друг в друге и творят они по определенным, сугубо человеческим меркам. Здесь полностью срабатывает формула Протагора. Человек есть мера для антропоморфных вещей, являющихся артефактами культуры - репрезентантов субъективации межсубъектных отношений. В системе субъектно-субъектных отношений способности преобладают над потребностями, так как способность в самоактуализации предполагает насыщение не своих, а чужих потребностей. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого (1 Кор 10, 24)».
В системе субъектно-субъектных отношений способности и потребности находятся в изоморфном состоянии. Способность самоактуализации Я в Ты, со стороны Ты выступает в качестве потребности со-творчества с этим именно Я и наоборот. Ты выступает в качестве потребностного существа, посредством которого и в котором Я актуализирует свои потенциальности. Но то же справедливо и по отношению к Я, так как в нем подобным же образом нуждается Ты. Таким образом потребность, которую испытывает человек в самоосвоении посредством вхождение в мир другого человека есть антропно превращенная форма его способности к самотрансценденции. Удовлетворяя потребность другого человека в общении с собой человек тем самым осуществляет развертывание своих собственно человеческих способностей, в актуализированной форме преставленных в родовой культуре.
Я и Ты при-нуждают друг друга к совместной самоактуализации в антропную целостность - Человечество. Здесь становящееся человечество выступает в качестве нужды человека не просто в другом человеке, а в некоей целостной человеческой онтологии, человеческом универсуме, в котором Я и Ты в состоянии интегрироваться в Мы. Таким образом при-нуждение здесь выполняет вполне конструктивную онтологическую функцию, так как коррелирует с нуждой в субъективации субъективного, а не в принудительной самообъективации, ведущей к самоотчуждению. Формой этого рода принуждения к взаимной самоактуализации в единое и целостное человечество выступает совместное добродеяние Я и Ты. В отличие от свободной самотрансценденции, добродетельная самоактуализация уже предполагает определенную взаимозависимость субъектов, потребностная сторона которых и осознается ими в качестве острой нужды друг в друге. Э.Фромм разделял людей на две крайние категории, на тех, кто существует ради существования, самоактуализации, самореализации, порой отвергая общественные блага, и тех, кто обладает благами лишь ради их обладания, присвоения, инкорпорирования, пренебрегая полнотой естественного существования. Субъективный мир индивидов культуротворческого склада, в основном, построен на принципе бытия, то есть на принципе развития и актуализации общеродовых, общечеловеческих способностей[254]. Вся система межсубъектных отношений в состоянии быть устойчивой, если основывается на принципе бытия, вернее со-бытия, совместного бытия субъектов и как только принцип обладания в отношениях между людьми становится преобладающим, с неизбежностью распадается и антропная общность.
Если принцип бытия основывается на безусловной любви человека к человеку, то принцип обладания, опирается на так называемую обусловленную любовь. Основу родовых, антропных способностей составляет безусловная любовь - ничем не обусловленное конъюнктивное чувство одного человека к другому человеку. “Объект” любви обладает самой высокой ценностью вне зависимости от того, насколько он отвечает взаимностью. Это тот самый уникальный случай, который позволяет осуществлять тотальный взаимообмен человеческими качествами в акте межсубъектного общения. Происходит как бы диффузия двух уникальных систем субъективности. Раствориться в чужом "Я", уйти в его глубины, всего себя отдать другому человеку и в этой самоотдаче обрести свою собственную личностную уникальность, осознать свою глубинную человеческую сущность - вот цель истинного антропного общения. Чем больше мы отдаем себя другим, тем больше “приобретаем”, вернее, тем полнее обретаем самих себя. Человек становится духовно богаче лишь в процессе самоотдачи, то есть самоактуализации своих внутренних духовных ресурсов, а не плоского потребления, инкорпорирования ресурсов других людей. Чем больше он отдает другому своего тепла, участия, тем еще ярче расцветает мир его чувств. Главная цель собственно человеческого существования - это осознание, переживание полноты бытия. А полноту бытия можно переживать лишь за счет проявления внутренней, а не внешней активации.
Социогенные “потребности-способности”. Основу социального универсума составляют субъектно-объектные отношения, что коренным образом изменяет экзистенциальную природу системы “способности-потребности” и соотношение базисных категорий в ней. Хотя генетически социогенные способности восходят к антропогенным способностям, однако функционально они связаны с социальными сущностными силами человека а потому призванны выполнять инструментальную функцию как по отношению к объекту, так и к субъекту цивилизационных изменений в экзистенции.
И все же с позиции субъектоцентристской историософии для цивилизации прогрессивное развитие социогенных способностей человека является более важной исторической задачей, нежели расширенное воспроизводство предметного мира, наделенного потребительными стоимостями. Социогенные способности — это "инструментальные свойства" исторического субъекта, используемые им для преобразования внешнего и внутреннего социального мира. И потому темпы накопления способностей общественного человека должны быть на порядок выше темпов развертывания его потребительских свойств. "Наиболее важной прогрессивной функцией личности, - считает Люсьен Сэв, - является развитие способностей", которые сопоставимы "с основным капиталом экономической формации"[255]. Если "банк способностей социальных индивидов" оказывается весьма скромным, тогда неизбежным становится "банкротство" жизнедеятельности всего общества. Личностные новообразования непосредственно связаны с инновациями, возникающими в социуме. Изменяя объективную реальность, человек постоянно изменяет и способы ее изменения, что в конечном счете обусловливает и изменение совокупности его способностей, объективируемых в социальных инновациях. Чем кардинальнее историческое преобразование охватывает собой социальную действительность, тем значительнее изменения в сфере личности, в сфере субъективности. Именно на крутых поворотах истории, когда социальные инновации изменяют облик мира в главном, с особой стремительностью формируются и закрепляются в значительной массе индивидов качества, которые являлись "избыточными" для предшествовавших эпох, в связи с чем складывается пассионарный тип личности, способный более радикально воздействовать на ход общественных процессов.
Однако для современной информационно-техногенной цивилизации личность, наделенная виртуально-креационистскими способностями является далеко нетипичной, а скорее реликтовой. К ее помощи приходят лишь в ситуации крайней неопределенности, время от времени складывающейся в системе цивилизационных отношений. Социальный субъект - существо социализирующее и социализируемое. В связи с этим между социогенными потребностями и социогенными способностями не может существовать онтологического паритета, приоритетность потребностей над способностями - аксиома любой “позитивной” социологической докрины. Социологизм, как известно, “внутренним двигателем” социального прогресса объявляет потребности, а не способности.
Социальный субъект в качестве нового метаисторического ментального типа обладает довольно узким спектром способностей и предельно широким набором потребностей. Частичные, нецелостные индивиды творят уже по строго заданным меркам, устанавливаемым так называемыми объективными потребностями общества или потребностями общественного развития. Совместная социальная деятельность возможна лишь в рамках довольно широкой кооперации субъектов, которая в соответствии с общественным разделением труда осуществляет и разделение совокупных человеческих способностей. В социальном субъекте, в основном, развертываются лишь те его способности, в которых нуждается социум, а не его самобытная экзистенция. Социум при-нуждает человека лишь к определенной строго заданной форме активности (так называемая пресловутая «разумная инициатива»), которая, в основном, обусловливается нормативами внешнего долженствования. «Похоже, - писал Маркузе, - что с течением времени цель меняется местами со средствами: время, отдаваемое отчужденному труду, прихватывает и время для индивидуальных потребностей – и начинает определять сами потребности»[256]. В отчужденном обществе личности навязывается такая система потребностей, которая коррелирует с нуждами отнюдь не личности, а самого общества, в противном случае не было бы необходимости в создании разветвленной системы насильственного при-нуждения, посредством которой внешние потребности обретают внутренний ментальный модус. В отличие от творческих пассионариев социальные субъекты - это вечно нужда-ющиеся субъекты, при-нужда-ющие творцов совершать акты по меркам, исходящим из структуры их потребностей. Именно от потребителей исходят ригористические, долженствующие требования, чтобы и все иные, надсоциальные субъекты, присутствовали не иначе как при их нужде, и своей виртуальной активностью обслуживали их прогрессивно растущие потребности.
Предельные биогенные потребности. Ментальность телесного субъекта представляет собой, как и ментальность астрального субъекта, диахронную, несбалансированную систему качеств, свойств, но это уже совершенно противоположная форма дисбаланса, в котором максимизированы потребности и минимизированы способности. Лишь такой тип ментальности в состоянии быть максимально адекватным в ситуации крайней экзистенциальной неопределенности и нестабильности, в которой перманентно пребывает природный универсум. Здесь господствуют процессы объективации объективного и телесный субъект в состоянии их лишь рационализировать. Телесный субъект - рационализирующее свою экзистенцию существо, активно приспосабливающееся к изменениям в среде своего обитания, и именно удовлетворение витальных потребностей позволяет ему воспроизводить мир как свою собственную отелесненную сущность. Если способности есть изначальный атрибут астрального субъекта, то потребности - атрибут телесного субъекта, благоприобретенный им в ходе эволюции телесной организации мира. Телесный субъект - это тотально нуждающийся субъект, принуждающий себя соответствовать своей экзистенцией законам внешней необходимости. И даже тогда, когда он посредством рационализации естественных условий существования “созидает” искусственную среду обитания, он обходится минимумом способностей с тем, чтобы обрести максимум потребностей. Движущим мотивом его активности выступает обретение еще более универсальных нужд, удовлетворение которых способно придать его существованию хоть какую-то видимость экзистенциального смысла.
Итак, в телесном субъекте тотально господствуют потребности, способности же преставлены лишь своими превращенными формами, неявно содержащимися в некоторых свойствах как естественных, так и искусственных объектов в качестве “объективаций объективного”. Биогенные потребности имеют свою онтологическую проекцию при переходе от естественного мира к миру искусственному, ими являются так называемые “технологические потребности”. «Личных ценностей, - писал Зиммель, - ищут в той сфере, в которой их вообще не бывает: то, что успехи в технике прямо оцениваются как успехи в области культуры… свидетельствует о постепенном вытеснении целей средствами и путями»[257]. Если начало истории знаменовалось появлением креативного типа личности, обладавшего универсальными способностями, то по мере приближения история к своему завершению тем все явственно вырисовывается тип личности, вся суть которой заключается в тотальном потребительстве.
Мы рассмотрели метаисторическую типологию соотношений способностей и потребностей человека в рамках, если можно так выразиться, экзистенциальной нормы, которая изменяется от одного этапа развертывания сущностных сил к другому, когда активирующие центры субординированы между собой снизу вверх по известному иерархическому принципу. Но эта нормаль может обеспечиваться если все ниши иерархического бытия человека соотносятся между собой по такому же онтологическому принципу. Человек - это ансамбль потенциальностей, однако лишь некоторая часть этих уникальных инструментов реально включается в "экзистенциальный оркестр", репертуар которого строго историчен. Лишь те потенциальности человека актуализируются в качестве способностей, которые потребны исторически господствующему способу производства и воспроизводства хотя и целостной, но внутренне дисгармоничной экзистенции.
Субъекту, укорененному в определенную нишу иерархического бытия, необходимо набраться терпения и соблюдать известный гомоморфизм в развертывании внутреннего и внешнего миров. Терпение есть ни что иное, как такое состояние субъективной системы, при которой потребности человека насыщаются лишь в той мере, в какой они обеспечиваются развертыванием и актуализацией его способностей. Терпение есть некая субъективная мера применения сущностных сил, направленных на коэволюцию высших и низших экзистенциалов одновременно в трех его модусах - онтологическом, семантическом и ментальном, мера того насколько развивающиеся части целого в своем индивидуализированном становлении способствуют становлению единого целого.
Избыточная пассионарность и активность субъекта, не мотивированная естественным процессом эманации форм сущего, есть следствие “объективных потребностей”, побуждающих его проявлять нетерпимость к Сущему и нетерпение к Нему, которые и побуждают его осуществлять ускоренную реформацию условий существования, чтобы максимально действовать в русле так называемых объективных Законов или законов Объекта. И это далеко не случайно что идеологи поспешной и совершенно непродуманной модернизации России в самом ее начале руководствовались двумя лозунгами: перестройка и ускорение. Как известно именно нетерпение восходящей элиты реализовать в кратчайшие исторические сроки свои корпоративные и эгоистические интересы привели страну к системному кризису.
Интересно, что первичное значение слова “actus” в латинском языке - это “понукание, подстегивание”. Подстегивает, понукает стимул (заостренная палка, используемая погонщиками волов), который есть не что иное как совокупность силовых воздействий объекта на субъект в качестве его собственных объективаций, который посредством своих вещественных форм, сначала приучает субъекта к их потреблению, формируя в нем соответствующую структуру нужд, что максимально активизирует субъекта в сфере расширенного воспроизводства тех объективаций, которые способны еще более изощренно отчуждать в пользу объекта сущностные силы субъекта. “Растущая объективация жизни, - пишет Зиммель, - требует от нас свершений, мера и следствие которых обладает собственной потусторонней для субъекта логикой, что требует от него трудной субъективно, нецелесообразной затраты сил”.[258]
Если у консолидированного субъекта иерархия способностей всегда возвышаются над иерархией потребностей, то у разконсолидированного, обособленного и раздробленного индивида потребности не только тотально господствуют над способностями, но и активно вытесняют те из них, которые избыточны процессу активного потребления внешних благ. Если максимальное развитие человеческих способностей есть свидетельство его укорененности в продуктивные слои жизни, то безудержное развертывание его потребностей столь же красноречиво говорит о его онтологическом самообособлении и экзистенциальной деградации. Именно в ситуации самозамыкания и самоизоляции от высших сфер бытия индивид испытывает особую нужду во внешних формах своего присутствия в мире, подкрепляемых сверхпотреблением ценностей не им создаваемых. Как только индивид удовлетворяется самозамыканием в сфере конечных или даже непосредственных, имеющихся налицо и данных ему явлений бытия, считает Г.С.Батищев, так его требования к миру начинают выступать в качестве непреложных потребностей. Темное пламя прожигательства поглощает все новые и новые порции средств, но нет конца его аппетиту. Внутри себя он оказывается наедине со своими требованиями к миру. Он постоянно чего-то хочет, ожидает взять, жаждет от мира для себя, и эти хотения, ожидания и жажда приковывают его к миру как миру средств на низшем уровне гораздо прочнее нежели его внутренние способности к самоактуализации. Однако в конечном счете он оказывается скованным внутренними порабощающими цепями, обрекающие своевольника быть всего лишь не-вольником у мира, над которым он вознес себя, быть рабом вещного бытия.[259] В мир предельно расконсолидированный человек в-ходит лишь по нужде, мир для него оказывается всего лишь огромным нужником, от-хожим местом. Однако верным является и обратное: человеческая душа при этом оказывается свалкой в которую прогрессирующей объективностью сбрасываются разнообразные онтологические отбросы. Я как «свалка» и не-Я как «нужник» – таково соотношение отчужденной субъективности и гипертрофированной объективностью. Не случайно одним из направлений современной археологии является раскопка современных городских свалок, по ним историки пытаются осуществить деконструкцию образа современного человека, каким он предстанет у историков будущих веков, которые будут заниматься подобного рода раскопками.
Потребительство - это сверхстатусная форма присвоения индивидами внешних благ, не ими создаваемыми, нивелирующая их уникальность и неповторимость, сводящая их до свойств товара, обладающего "потребительной стоимостью". Потребительство не ведет к духовному развитию личности, а лишь к ее деградации, но к деградации уже не только на низших, но и на высших уровнях иерархизированной структуры потребностей. “Отчасти же это отчуждение обнаруживается в том, - писал К.Маркс, - что утонченность потребностей и средств для их удовлетворения, имеющая место на одной стороне, порождает на другой стороне скотское одичание, полнейшее, грубое, абстрактное упрощение потребностей или, лучше сказать, только воспроизводит самое себя в своем противоположном значении.[260]
В случае онтологической патологии в структуре вложенных универсумов, их отпадения друг от друга и открытой враждебности низших Я по отношению к высшим Я, потребности начинают гипертрофированно развиваться и оказывать деформирующее воздействие на человеческие способности. Рассмотрим основные патологические формы системы “способности-потребности”.
Квазикосмогенные “способности-потребности”. В ментальности астрального субъекта при его отпадении от Абсолюта, от ноуменального в своей душе, креативные способности начинают инверсировать в антикреативные потребности. В ситуации квазисамосубъективации происходит “помрачение духа”, который из духа света превращается в дух тьмы. Падший ангел, согласно библейскому свидетельству, в одностороннем порядке присвоил мир, который был не им создан, а потому и получил название “князя мира сего”. Синонимом «мира» есть «свет». Но мир выступает в полном смысле слова светом лишь в актах перманентного творения, так как Творец порождает его не для себя, а из себя. Свет внутри творца и лишь будучи онтологизированным становится миром. Что же происходит с миром, когда он оказывается всего лишь объектом внешнего присвоения? Он престает быть светом и превращается в тьму. Вот почему дьявола еще называют «князем тьмы». Один и тот же мир одновременно может для одних выступать светом, если оказывается целью самотрансценденции, реализации высших духовных способностей, для других же сущей тьмой, если рассматривается лишь в качестве «кладовой полезностей», пригодной для насыщения потребностей вплоть до самых низменных и скотских.
Ведущей потребностью вселенских сил тьмы является воля к власти, стремление господствовать над миром. “Всякое самоуглубление не удовлетворяется отношением к самому себе..., - пишет Б.П.Вышеславцев, - оно необходимо стремится совершить акт последнего трансцензуса, выхода к Абсолютному. В самоабсолютизации самость ничего не приобретает, но теряет все. Метафизическая мания величия привела к падению Архангела”.[261] Метаисторически именно с грехопадения берет свое начало принцип обладания, который позднее преобразовывается в принцип священной частной собственности. Постепенно изначальные способности десакрализуются, а дурная бесконечность человеческих потребностей обретает священный статус. “Прогресс” в сфере Духа есть прогрессирующее развертывание сил зла. Не случайно гетевский Мефистофель в свое оправдание говорит: “Все в мире изменил прогресс. Как быть? Меняется и бес”.
В христианском вероучении вместо категории «потребность» используется универсалия «прельщение». Так как генетически потребности обусловлены зависимостью человека от внешнего мира, то и поняты могут быть в качестве субъективаций его «прелестей», «прельщений». Метафизическую интерпретацию универсалии «прельщение» мы находим у Макса Шелера. Он считает, что когда о человеке говорят, что он прельщен (Vergaffung), то это в высшей степени пластично характеризует и то, как он, пренебрегая своим руководящим личностным центром, зачарован и заморочен неким конечным благом, и то, что поведение его сумасбродно. А если в своем фактическом ценностном сознании на месте абсолюта (поскольку таковое необходимо есть у каждого, оно не обязательно должно быть известно каждому также и дискурсивно или в силу какой-то еще рефлексии) он обнаруживает ценность некоего конечного блага или вида благ, то мы будем говорить, что он прельщен абсолютно, а такое благо, абсолютизированное ослеплением, мы станем называть (формальным) кумиром. Напротив, мы станем говорить, что человек прельщен относительно, если он, сообразно своейственной ему фактической структуре любви (Lieben), а также способу предпочтения одних ценностей и небрежения другими, нарушает объективный порядок рангов того, что достойно любви. Прельщение, подчеркивает Шелер, наличествует лишь там, где в переживании метафизическая перспектива любви отсутствует; в усиливающемся осознании пустоты дает себя знать именно начинающееся ослабление прельщения[262]. Потребности человека наращиваются в той мере, в какой он соблазняется прельщениями внешнего мира, входит к нему в зависимость, и, напротив, по мере актуализации своих способностей, он оказывается все более свободным от законов внешней необходимости и реализует себя как самодостаточное свободное существо. В ситуации тотального псевдодуховного самоуглубления все способности астрального субъекта становятся инструментами парабощения и присвоения. Самоосвоение замещается самоприсвоением в форме самоотчуждения.
Квазиантропогенные “способности-потребности”. Квазиактуализация замещающая собой трансценденцию, приводит к абсолютизации антропогенных потребностей. Вполне конструктивная потребность “весь мир очеловечить” в конечном счете трансформируется в потребность очеловечения абсолютного, сакрального в человеке. Это происходит тогда, когда господствующим в системе субъектно-субъектных отношений становится квазисубъективация субъективного. В отношениях Я и Ты происходит взаимная гиперактуализация, которая в конечном итоге приводит к антропной форме самоотчуждения субъектов. Тот другой - Ты - наделяется полезными для Я потребительскими свойствами и от него ожидается удовлетворение прогрессирующих антропогенных потребностей.
Гипертрофия субъектно-субъектных отношений “обслуживается”, так называемой, обусловленной (собственнической) любовью. Обусловленная любовь основывается на интуитивном или осознанном понимании того факта, что собственное удовлетворение зависит от кооперации с другим человеком. Этот другой персонифицируется как вещь, ценная в силу ее полезности, т.е. выступает как средство насыщения антропогенных потребностей. Процесс овещнения, считает Г.С.Батищев, не только низводит всякое ввергнутое в него бытие на уровень самого низшего, ценностно незначимого, одновременно он еще и ставит низшее на место высшего, узурпирует положение, и роль высшего и все внешние “признаки” последнего, как бы отнятые у него, относит к низшему так, как если бы низшее само по себе могло бы обладать ими как своими собственными. Получается замещение высшего, его вытеснение низшим с помощью взятых у первого и присвоенных последнему “признаков”, превращенных теперь в достояние не по достоинству - в якобы собственное свойство того, что на деле было всего лишь “пьедесталом”, материалом-носителем.[263]
Если квазисамосубъективацией Субъект превращается в отрицательный Абсолют, в князя мира сего, то квазисубъективацией субъективного из Ты творится кумир, которому Я поклоняется как Богу. Богочеловек превращается в свою противоположность в Человекобога, пытающегося властвовать над миром не выходя за рамки своего родового именитства, начинает развиваться антропная форма демонизма, ведущую сторону которого составляет потребность Человека во власти над Богом. Что же при этом происходит с антропными способностями? Они превращаются в орудие порабощения уже не только сакрального, но и собственно человеческого в человеке. Наиболее явно это обнаруживается в сверхстатусном присвоении ценностей культуры. Огромные человеческие ценности, которые попадают в руки этим людям, тускнеют и превращаются в мертвый капитал, в сокровище, утрачивающее способность субъективироваться, а, следовательно, и выполнять функцию ретрансляции от поколения к поколению культурных значений.
Квазисоциогенные “потребности-способности”. Как только трансценденция и актуализация вытесняется квазисоциализацией из структуры средств миросозидания, начинают бурно расти так называемые квазисоциогенные потребности. «Начиная с прошлого века, - считает Фуко» великие битвы, которые ставят под вопрос общую систему власти, больше уже не происходят во имя возврата к прежним правам или в соответствии с тысячелетней грезой о круговороте времен и о Золотом веке. Больше уже не ждут ни императора бедных, ни царства последних дней, ни даже просто восстановления тех прав, которые представляются идущими от предков; то, что действительно отстаивается и служит целью, так это – жизнь, понимаемая в терминах фундаментальных потребностей»[264]. Именно с той поры ставшие совершенно безразличными друг к другу социальные субъекты в состоянии объединяться в единую общность лишь на основе реализации своих гипертрофированных социогенных потребностей. Бывшее творение людей “превращается в вещь, которая содержит в себе, поглотила в себе общественное отношение, - в вещь, обладающую фиктивной жизнью и самостоятельностью, вступающую в отношение с самой собой, в чувственно-сверхчувственное существо”.[265] Потребительское общество не знает, что такое "человек", оно имеет дело лишь с "человеческим материалом", "человеческим фактором”, способным быть персонификатором социального прогресса. "Человеческий фактор" — это та совокупность социогенных способностей Человека, которая реально актуализируется в процессе производства и вопроизводства общественной жизни, вся же надсоциальная структура человеческих потенциальностей тщательно блокируется интроецированием в его ментальность квазисоциогенных потребностей. Категория “потребности” органично вписалась в систему объективных критериев эффективности экономической политики. В качестве аксиомы современными “рыночниками” принимается положение, что лишь та экономическая политика эффективна, которая учитывает динамику изменений в системе потребностей общественного индивида и своевременно изменяет структуру производимых потребительных стоимостей с тем, чтобы удерживать проявление его активности на предельно высоком для данного способа производства уровне. Пропорционально росту низших социогенных потребностей нарастает и кризис в общественной нравственности. "Рост нравственных и чувственных потребностей может отставать друг от друга и друг от друга отделяться, - писал С. Н. Булгаков, - В таком случае рафинирование чувственности, не возбуждающее, а подавляющее деятельность духа, является своеобразной нравственной болезнью, нравственным убожеством, проистекающим уже от богатства, а не от бедности. Эту двусторонность экономического прогресса иногда забывают экономисты, когда, увлекаясь своей специальной точкой зрения, отождествляют ее с общечеловеческой и общекультурной"[266]. Современная цивилизация, спекулируя на низших потребностях человека и всячески блокируя высшие способности, "вскрывает" далеко не самый "нравственный" пласт в его ментальности.
Квазисубъективация объективного ведет к сверхстатусному присвоению благ. В отличие от ролей, которые апеллируют прежде всего к способностям человека, статусы обращены к его потребностям. В потребительском обществе даже самые традиционные человеческие потребности насыщаются индивидами не иначе, как сверхстатусным образом. "Статус, — пишет С. Н. Паркинсон, — накладывает свой отпечаток на более древние и элементарные стимулы. Еда искателей статуса — икра под шампанское. Красота олицетворяется особняком (желательно, чтобы он стоял на крыше небоскреба), а знание есть неустанная болтовня на редкость информированного окружения. Секс изыскан, а шалости таковы, что менее выдающимся людям и в голову не придет ничего подобного"[267].
Цивилизация, отпадая от Культуры и Культа, со временем превращается в некую социальную машину, механизмы в которой должны быть хорошо отлаженными, а детали в них идеально притертыми друг к другу. Люди-детали социальной машины не обязаны обладать уникальными свойствами, они должны быть вполне взаимозаменяемыми, "незаменимых людей" здесь быть не может из принципа, так как в структурах гипертрофированного социума объективируется программа низшей формы ментального гомеостазиса. "Кризис идентичности - считает Э. Фромм, - этот кризис современного общества - вызван тем фактом, что члены этого общества стали безликими инструментами, чувство идентичности которых зиждется на участии в деятельности корпораций или иных гигантских бюрократических организаций. Там, где нет аутентичной личности, не может быть и чувства идентичности"[268].
Наиболее раздражающим, как считает Герберт Маркузе, аспектом развитой индустриальной цивилизации является рациональный характер ее иррациональности. Особая продуктивность современной цивилизации, ее способность совершенствовать и все шире распространять удобства, превращать в потребность неумеренное потребление, конструктивно использовать разрушение и то, в какой степени, она трансформирует объективный мир в продолжение человеческого сознания и тела, - все это ставит под сомнение само понятие отчуждения. Люди узнают себя в окружающих их предметах потребления, находят в них свою душу. Сам механизм, привязывающий индивида к обществу, изменился, и общественный контроль теперь коренится в новых потребностях, производимых обществом. Понятие отчуждения делается сомнительным еще и потому, что индивиды отождествляют себя со способом бытия, им навязываемым, и в нем находят пути своего развития и удовлетворения. И это отождествление - не иллюзия, а действительность, которая, однако, ведет к новым ступеням отчуждения. Последнее становится всецело объективным, и отчужденный субъект поглощается формой отчужденного бытия. Теперь повсюду и во всех формах существует одно измерение. Достижения прогресса пренебрегают как идеологическим приговором, так и оправданием, перед судом которых “ложное сознание” становится истинным.[269] "Опыт горя и крушения, — писал Жак Маритен, — научил нас: цивилизация обогатилась тем, что перед ней распахнулись двери ада, каким предстал внутренний мир человека, ставшего жертвой самого себя"[270].
Запредельные квазибиогенные потребности. Примат реальности духовной над реальностью телесной в человеческой экзистенции из безусловного все более превращается в условный и декларативный. Телесный субъект безудержным развертыванием своих витальных потребностей становится главным метаисторическим персонажем многоходовой человеческой драмы. Его воля к власти над сущим обретает поистине вселенский размах. Он слепо верит в безграничные возможности насыщения своих катасрофически прогрессирующих потребностей чисто земными благами и уже не столько в качестве награды за страдания, а как нечто само собой разумеющееся, положенное человеку по праву сильнейшего, вытекающего из самовластно присвоенного им в Мироздании статуса “Царя Природы”. «Ресурсы воображения, - пишет Арон, - обязательно одерживают верх над реальностью, которая даже извращена или преобразована ложью»[271]. Осознав свою природную суть, отказавшись от активного участия в космогенезе человек на протяжении всего лишь одного столетия превратился из Созидателя в Потребителя. Именно в овещненных формах человек стремится утвердить свою утраченную субъектность. себя и как бы восстановить внутрь себя. Однако эта вторичная, компенсаторная субъектность представляет собой всего лишь удвоенную объектность. Такая овещненная форма субъективности оказывается лишь персонификацией отчужденных от человека самообъективаций. Таковыми являются “фиксированные образы [Gestaltungen], персонифицированные в самостоятельных личностях, которые... выступают как всего лишь представители персонифицированных вещей”[272]. К.Маркс называл таких представителей вещей их “персонификациями”[273]. Зиммель считал, что диссонансы современной жизни - в особенности все то, что связано с техникой в различных областях, и с одновременным недовольством техникой, - проистекают по большей части из того, что вещи становятся все более культивируемыми, тогда как человек все менее способен обрести совершенство субъективной жизни с помощью совершенствования объектов[274].
Телесная субстанция человеческого существа, с ее квазибиогенными потребностями, конституируется гиперрациональным самосознанием в Сверхчеловека, призванного в конце концов окончательно присвоить внешний мир в качестве неисчерпаемого источника средств потребления. Главным мирожизненным принципом объявляется принцип удовольствия в форме волющего либидо. “Основной инстинкт”, как называл З.Фрейд “половой инстинкт” животного, стал осознаваться в качестве высшего экзистенциального принципа. Все же остальные объективации сущего объявлены всего лишь превращенными формами либидоизных отношений в человеческой телесности. "Идеи психоанализа, - писал Л. С. Выготский, - родились из частных открытий в области неврозов; был с несомненностью установлен факт подсознательной определяемости ряда психических явлений и факт скрытой сексуальности в ряде деятельностей и форм, которые до того не относились к области эротических. Постепенно это частное открытие... было перенесено на ряд соседних областей - на психопатологию обыденной жизни, на детскую психологию, овладело всей областью учения о неврозах... Психоанализ вышел за пределы психологии: сексуальность превратилась в метафизический принцип в ряду других метафизических идей, психоанализ - в мировоззрение, психология - в метапсихологию. У психоанализа есть своя теория познания и своя метафизика, своя социология и своя математика. Коммунизм и тотем, церковь и творчество Достоевского, оккультизм и реклама, миф и изобретения Леонардо да Винчи — все это переодетый и замаскированный пол, секс, и ничего больше”.[275] Но так ли повинен З.Фрейд в том, что ввел в заблуждение мировое сообщество, убедив, что мирожизненным его принципом выступает банальнейшее “либидо”. Отнюдь нет. Вся вина его состоит лишь в том, что он спроецировал принцип организации начавшейся формироваться на его глазах информационно-технологической цивилизации на все метаисторическое человечество.
Квазиобъективацией объективного все проявления человеческой экзистенции квазинатурализуются и ложным образом представляются в качестве “от природы данных”. “Это вовсе не значит, - пишет Г.С.Батищев, - что первозданно-природные предметы берутся процессом овещнения объективно-верно, в их конкретной подлинности, а также что отношение к природной предметности для него первично. Напротив, это отношение вторично, производно от отношения к культуре и представляет собой лишь экстраполяцию вовне - на весь окружающий мир - того омертвления, которому подвергается в первую очередь бытие произведенческое... овещнение есть низведение культуры не к действительной, исполненной живой диалектике, в себе конкретной природе, но лишь умервщленной псевдоприроде: к природе-мумии, природе-чучелу, природе-муляжу.[276] Как считал В.С.Соловьев, абсолютный примат телесности над духовностью придает существованию человека животный характер. “Цель животного (типического), - писал он, - есть сытость (желудочная и половая), человека же, который этим довольствуется, справедливо называют скотиной не для брани только, а именно в том смысле, что он ниспадает на другую, низшую ступень бытия” [277].
Итак, субъектом истории выступает все же субъект, а не его история. История всего лишь овремененная объективация субъекта. И объективируется в ней не только его способности гармонизировать расширяющееся сущее, но и потребности, насыщение которых ведет к хаотизации высших слоев бытия за счет сверхупорядочения его низших слоев. Если своими виртуальными способностями Человек расширяет сферу присутствия Неиного, то его потребности, особенно в гипертрофированной форме расширяют сферу присутствия Иного в Сущем и тем самым вносят дисгармонию и хаос в свою собственную экзистенцию. Соотношение способностей и потребностей в человеческой ментальности в онтологической антропологии должно пониматься в качестве двух энергетических источников, из которых берут свое начало и история и историцизм. Однако было бы не совсем верно всю деструкцию как во внешнем, так и во внутреннем мире человека приписывать лишь его потребностям. Вне потребностей невозможна реализация человеческих способностей, именно потребности выступают внутренним энергетическим источником для объективации субъективного, а следовательно и для перманентного расширения Сущего. Но человеческие потребности оказываются экзистенциально конструктивными лишь в качестве “подстилающей структуры” способностей. Как только они берут верх над ними, так сразу же история начинает обретать характер вселенской драмы. Постепенно центр тяжести в мироздании начинает перемещаться во все более уплотненные онтологические слои, перемещаться от Субъекта к Объекту. И этому способствуют квазипотребности Субъекта, которые в сущности репрезентируют в нем устремленность Объекта к достижению своих абсолютных форм. “Дух есть субъект и раскрывается в субъекте. - писал Н.Бердяев. - Но дух объективируется, он выбрасывается вовне, выражает себя вовне, в бытии-для-себя... В объективации же духа исчезает субъективный дух, он уже неузнаваем. Когда субъективный дух объективируется, то он вовсе не выходит к "ты", к другому субъективному духу, не общается и не соединяется с ним, а выходит к объекту, к объективному миру, который не имеет своего собственного существования и связан с существованием лишь в скрытом за ним субъективном духе. Когда субъективный дух выходит в объективный мир, то происходит отчуждение духа от самого себя, он исходит в объективности”.[278] Этой “катапультой”, выбрасывающей субъективный дух вовне и делающей этот дух объективным, духом объекта, которому субъект начинает поклоняться, и являются квазипотребности самого субъекта, перманентно отпадающего все более низкими Я от своего изначального трансцендентного, абсолютного Я. По мере релятивизации абсолютного в человеческой экзистенции стремительно нарастает вал потребностей, выбрасывающий ее на безжизненный берег, именуемый объективной Реальностью или реальностью Объекта. И прекратить это самовыбрасывание экзистенции в хаос может лишь сам человек, пересмотрев структуру своих потребностей и приведя их в соответствие со своими возможностями и способностями к самоосвоению без самоотчуждения.
Этот вывод может на первых порах показаться абстрактным и далеким от реалий жизни. На самом деле он исходит из интересов самой жизни и связан с возможным ее уничтожением, угроза которого исходит отнюдь не от человеческих креативных способностей, а его неуемных потребностей, посягающих на саму основу Сущего. Если мир и погибнет, то это произойдет под влиянием его сверхстатусного присвоения и потребления далеко нецелостным человеком.
Современное человество не спешит менять свои “мировоззренческие вехи”, а потому мыслителю рефлексирующему над целостным человеческим бытием очень рискованно подвергать сомнению тотальный прогрессизм, так как тот в ХХ веке довольно хорошо “потрудился” над созданием разветвленной системы благ и услуг и ставшее потребительским по своему характеру “передовое человечество” уже не мыслит иных форм своего эмпирического существования. Революция социальных ожиданий спровоцированная прогрессизмом протекает столь интенсивно, что человек готов расплачиваться любыми издержками в духовном становлении, лишь бы сфера промышленной технологии продолжала работать в качестве “бюро безотказных услуг”, максимально насыщая прогрессивно развивающиеся витальные и социальные потребности все более новейшими “предметами потребления”. Трудно себе даже вообразить что может произойти, допустим с той же Америкой, если уровень потребления ее населения перестанет перманентно повышаться. Прогрессизм из всеобщей метафизической гипотезы превратился в принцип построения модели частной жизни современного обывателя, в основополагающий принцип его отношения к внешней действительности. Для него непреложным фактом является постоянное наращивание потребностей в ущерб развитию творческих, продуктивных способностей. Став принципом веры нецелостного индивида, конструктом массового сознания прогрессизм оказывается нечто большим чем просто метафизический теоретизм, он превращается в онтологический инструмент воздействия человека на свою собственную судьбу, более того он становится его Фатумом. И с этим феноменом массового сознания уже нельзя не считаться. Теория прогресса превратившись в идеологему, становится “движущей силой” исторического поведения современного человека, способного смести со столбовой дороги ведущей в райскую обитель любые препятствия, а потому и небезопасно его веру в тотальный прогресс в сфере потребления подвергать сомнению. И уже не теоретики, а практики жизни, корпоративно объединенные идеей прогресса в потребительскую общность оказываются оппонирующей силой. Приоритетными для них являются лишь те онтологические структуры, которые обеспечивают неуклонный прогресс в сфере производства и потребления внешних благ. Перенос полемики из сферы теоретического сознания в сферу сознания практического вещь безнадежная. Там играют не доводы рационального дискурса, а иррациональные требования волющей телесности. Этот “глобальный теоретизм” объектоцентризма превращается не только в ложную, но и предельно репрессивную идеологему, как только становится “руководящей нитью рассуждений” по поводу человеческого бытия в целом, тем более если он собой начинает охватывать чуть ли не весь трансцендентный миропорядок.
И все же брешь в прогрессистски оформленном общественном сознании пробита первая брешь. В Повестке Дня на ХХ1 век, принятой на Конференции ООН, проходившей в Рио-де-Жанейро в 1992 г.[279] речь идет о радикальном человеческих потребностей во имя сохранения жизни на Земле. В ней констатируется невозможность движения человечества по пути, которым пришли к своему благополучию развитые страны, что американские и западноевропейские стандарты потребления, будучи распространенными на все другие страны, неизбежно приведут к гибели человеческой цивилизации. Именно с этого момента в средствах массовой информации замелькал термин устойчивое развитие, под которым стали понимать такую модель движения вперед, при которой достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей без лишения такой возможности будущих поколений. Нам еще предстоит разобраться с термином “устойчивое развитие”, он явно выращен в недрах прогрессистского сознания, которое как раз и провоцирует вселенскую катастрофу, сейчас же важен основной вывод, неявно содержащийся в Повестке, вывод о том, что необходимо любыми средствами умерить прогрессирующие потребености человека влекущие за собой прогрессивный паралич его самобытию.
2.2. Движущие силы метаистории
|
|
Человек при рождении нежен и слаб, а после смерти тверд и крепок. Все сущее, растения, деревья при рождении нежны и слабы, а при гибели сухие и крепкие. Твердое и крепкое - это то, что погибает, а нежное и слабое - это то, что начинает жить. Лао-цзы |
Метаистория как онтологический процесс нисхождения Духа, опирается на целую иерархию сущностных сил, имманентно пред-существующих в Ничто. В этой связи необходимо несколько остановиться на соотношении таких универсалий, как “существование”, “сущее”, “сущность”, “сущностные силы”, восходящих к единому семантическому корню. Естественно, их онтологическая значимость и функции в субъектоцентризме диаметрально противоположны тем, которые содержатся в объектоцентристском мировоззрении.
В объектоцентризме, сущностями наделены объекты, субъективация которых и делает возможным существование субъекта. Субъект всего лишь персонификатор субстанциальной Сущности или сущности Субстанции. Напротив, в субъектоцентризме сущность принадлежит субъекту и лишь в превращенной, а чаще всего и в отчужденной форме, входит в морфологию объекта, который всегда есть лишь объективация субъекта, объективация определенной существенной стороны его существования. Сущность есть некая имманентная тотальность существования Субъекта, развертывающаяся во вне, в универсум объективаций, в процессе его целостного метаисторического становления. По мере вырабатывания внутреннего человека сущность про-является во вне в форме некоей совокупности явлений, феноменов. Если переформулировать кантовскую “вещь в себе” в контексте высказывания К.Маркса о вырабатывании субъекта в процессе становления, то сущность это как бы “субъект в себе”, который в процессе вырабатывания превращается в “субъект для себя”, а в ситуации объективации в “субъект для всех” - в некий надприродный объект или квазиобъект.
Довольно распространенным в метафизике является словосочетание складывающееся из двух понятий: «сущность» и «сила» - «сущностная сила». Предполагается, что сущность, непременно содержит в себе определенную совокупность необходимых и достаточных сил, дающих возможность субъекту эманировать, т.е. актуализировать свои неразвернутые потенциальности и потенцировать развернутые актуальности, как учил Николай Кузанский, давать возможность свернутостям развертываться, а развернутостям свертываться. «Бог, сила, больше которой ничего не может быть, - учил Николай Кузанский, - есть максимально единая и простая сила, а тем самым максимально мощная и свертывающая»[280]. Хотя Бог не имеет каких либо атрибутов, однако, согласно Николаю Кузанскому в качестве Предсущего он как бы самоатрибутируется некоей совокупностью креативных свойств, важнейшим из которых и является мощь, сила. Становясь в качестве Неиного «всем во всем» Бог воздействует на мир целой иерархией сущностных сил, имманентных отнюдь не объективной, а субъективной реальности, так как Бог, свертывающий свое трансцендентное существование в сущее и развертывающее сущее в полноту экзистенциального существования человека и его мира выступает при этом не иначе как Бесконечный Субъект.
В энергетическом отношении бытие субъекта является абсолютно негэнтропийным. Любой живой универсум - это энергетически самодостаточная монада, так как ее «силовое поле» постоянно подпитывается внутренними интенциями укорененного в нем Субъекта. В отличие от субъектного в своей основе универсума, любая объективизированная система, в связи с тем, является отнюдь не гармоническим рядом, а всего лишь упорядоченным хаосом, энтропийна и порядок искусственно и принудительно в ней установливаемый может поддерживаться лишь за счет систематической энергетической подпитки извне. Таким образом сущностные силы - это всегда некий внутренний энергетический источник субъективной реальности, за счет которого она онтически расширяется, раздвигая тем самым пределы сущего.
В субъектоцентризме существование предшествует сущему, а не наоборот, как это принято считать в объектоцентристской историософеме. В своей экзистенциальной доктрине мира Кьеркегор впервые в истории философии сущности (эссенции) противопоставил существование (экзистенцию), которая по его мнению является отнюдь не проявлением сущности, а неповторимой самоценностью, обретающей свой путь к Богу (к трансценденции) в процессе трудных поисков самообретения. Со времен Кьеркегора такое именно соотношение сущности и существования становится важнейшим основоположением экзистенциалистской философемы, особенно ее религиозной разновидности. “Существование (“existence”) от глагола “Existere”, означающего “возникать” - пишет Тиллих, - указывает на свое корневое значение (“бытие”) внутри тотальности Бытия, в отличие от “небытия”... Различение между “essentia” и “existentia” у схоластов было первой ступенью в придании слову “существование” существенно важного значения. Согласно этому различению, “сущность” означает “что”... вещи; “существование” означает “это”... Таким образом, Essentia есть то, благодаря чему мы познаем вещь, essentia обозначает вневременный объект знания во временной и изменчивой вещи... На вопрос, реальна вещь или нет, ее сущность ничего не отвечает: мы можем знать сущность вещи, но при этом не знать, существует ли она. Это должно быть решено посредством экзистенциального суждения”.[281] Если применительно к Абсолютному Объекту вполне подходит утверждение, что его сущность предществует его существованию, то такое утверждение будет заведомо ложным по отношению к Абсолютному Субъекту, ибо его бытие, существование в качестве Предсущего предшествует сущности сущего. Сущность предшествует существованию объекта по той простой причине, что предсуществует в экзистенции субъекта, возникает лишь в процессе его самообъективации и осознается субъектом эссенциально. Таким образом концы и начала сущности Объекта, необходимо отыскивать не в его имманентной эссенциальности , а в трансцендентной экзистенциальности являющейся атрибутикой Субъекта.
Существование Бесконечного Субъекта предваряет собой то существенное в Нем, которое развертывается в иерархию онтических сил лишь по мере расширения его Вселенной. Так как Бесконечный Субъект существует вечно, то и категория “существование”, “экзистенция” должна рассматриваться в качестве первичной по отношению к понятиям «сущность», «сущностные силы». Ничто - есть абсолютное Существование или существование Абсолюта, Оно не может быть сведено к какой-либо генеразизованной сущности, хотя имплицитно и неявно содержит весь целостный континуум сущностей и соответствующих им сил. Существованию Ничто не предшествует какая-бы то ни было сущность, оно само есть Предсущее. Ничто чревато целой иерархией сущностей, которым предстоит перманентно про-являться в соответствующих обретая соответствующие формы сущего на протяжении всей метаистории человеческой экзистенции. Абсолютное Существование таким образом может рассматриваться в качестве свернутого метаисторического континуума, содержащего в себе всю совокупность сущностных прафеноменов, которым в ходе истории предстоит развернуться в феноменальный ряд сущностных сил Нечто. У Ничто, Пустоты нет сущности, она появляется лишь с первичной ее объективацией в Нечто, в Полноту Бытия.
В онтологической антропологии признание примата существования над сущностью, как одной из ее основопологающих аксиом, позволяет представить человеческую экзистенцию в качестве особого надъобъектного, по своей “сути”, Бытия. “Акцент в вопросе "Что есть человек?" - пишет Цанер, - должен стоять не на слове "что", а на слове "есть". Вопрос относится не столько к "сущности", сколько к "бытию". Другими словами, "сущность" может быть раскрыта только после рассмотрения "бытия". Мы ищем не абстрактную умопостигаемую сущность, в которой человек якобы соучаствует, и не "лежащую в его основе" некую природу, а пытаемся найти в конкретном существовании человека то, в отношении чего можно произнести слово "есть", то, что конституирует конкретное бытие человека. Только фокусируя свое внимание на этом феномене, мы можем раскрыть "сущность". Не "сущность" включает в себя "существование", а, напротив, "существование" человека, или его бытие, определяют его "сущность".[282] Если объектоцентризм признает в сущем лишь сущностные формы экзистенции, то субъектоцентризм – экзистенциальные формы сущностей.
Существованием, экзистенцией обладает лишь Неиное в Сущем, Иное же, хотя и принадлежит реально сущему, составляет собой неистинные, ложные онтологические его формы, а потому в качестве квазиобъективаций к нему неприменимы экзистенциальные определения. Но правомерно ли из этого сделать вывод, что Абсолют, существуя, не является Сущим? И да и нет. Абсолют является не Сущим, а Не-Сущим, Пред-Сущим, в “пределах” своей пустотной бесконечности, выступая по отношению к феноменальному Нечто («все во всем») трансцендентным Ничто («все в едином»). Абсолют есть как бы несущая основа сущего. Сущее есть в определенной степении трансцендентно-феноменальное состояние Абсолюта, в его нисхождении из Ничто в Нечто, а потому Сущее с известными оговорками можно отождествить со Становящимся Абсолютом. Сущее в своей феноменальности трансцендентно тождественно Абсолюту, если представляет собой Его Неиное и не содержит в себе Иное. Однако как только в Сущее начинает укореняться Иное в качестве репрезентанта отнюдь не Ничто, а Ничтожества, Сущее утрачивает свою абсолютную Имманентность или имманентную Абсолютность, а потому и Абсолют как как Предсущее уже в трансцендентальном анализе отождествляться с Сущим, с началом грехо-падения Мира Он обретает еще одно катафатическое определение – «Сверхсущее». Предсущий в своем абсолютном существовании не может быть Всесущим, а потому Ему не присущи какие либо сущностные силы, действующие в этом падшем мире. В качестве единого креационистско-эманационного Начала Он не есть «эссенциальная сила», а скорее «экзистенциальная слабость», порождающей все формы сущего с целой иерархией его “силовых структур”.
Макс Шелер выделяет две тенденции понимания Духа, сложившиеся в истории философско-теологической мысли и играющие фундаментальную роль в истории становления антропологии. Первая из этих традиций восходит к греческой мифологии и философии, приписывающей самому духу не только силу и деятельность, но и высшую степень власти и силы, он ее называет «классической» теорией человека. Она – составная часть общего миросозерцания, согласно которому относительно более высокие формы от божества до materia bruta (грубая материя – Ю.Ф.) суть всякий раз более сильные, мощные, то есть причиняющие виды бытия. Высшей точкой такого мира оказывается духовный и всемогущий Бог, то есть Бог, который благодаря своему духу также и всемогущ. Классическая теория страдает заблуждением, будто духу присуща изначальная власть, это заблуждение, связано с предположением что мир, в котором человек живет, изначально и постоянно упорядочен так, что, чем выше формы бытия, тем больше они возрастают не только в ценности и смысле, но и в своей силе и власти. Если мы назовем чисто духовный атрибут в высшем основании всего конечного бытия “deitas”, то у него, у того, что в этом основании мы называем духом и божеством, нет позитивной творческой мощи. Мысль о “творении мира из ничего” рушится перед этим выводом.
Вторая тенденция исходит из того, что то бытие, которое существует лишь «через себя самое» и от которого зависит все остальное, поскольку ему предписывают в качестве атрибута дух, не может в качестве духовного бытия обладать изначальной мощью или силой. Если в бытии “через себя” заложено это изначальное напряжение духа и порыва, тогда отношение этого бытия к миру должно быть иным. Лишь в той мере “бытие через себя самое” становится бытием, достойным называться божественным присутствием, в какой оно осуществляет вечную Deitas в человеке и через человека в порыве мировой истории. Только в движении этого могучего урагана, который есть «мир», порядок форм бытия и ценностей может согласоваться с фактически действующими силами, и наоборот, последние могут уподобиться ему. И в ходе этого развития может произойти постепенное обращение изначального отношения, согласно которому высшие формы бытия суть самые слабые, а низшие – самые сильные. Иначе говоря: взаимное проникновение изначально бессильного духа и изначально демонического, т.е. слепого ко всем духовным идеям и ценностям порыва, благодаря становящейся идеации и одухотворению томлений, стоящих за образами вещей, и одновременное обретение мощи, т.е. животворение духа – есть цель и предел конечного бытия и процесса[283].
Если первая тенденция в понимании Духа в конечном счете сводит на нет субъектность Человека, причем вся ответственность за то, что «мир во зле лежит» полностью возлагается на всесильного и могущественного Бога, то вторая тенденция исходит из признания Человека свободным существом, распологающим по своему усмотрению всей совокупностью сущностных сил, а потому и ответственным не только за свою феноменальную историю, но и трансцендентную метаисторию.
Иерархия сущностных сил мира сего восходит к трансцендентной слабости первоначал сущего, сила имманентна процессу феноменализации трансцендентного, а слабость – процессу трансцендентализации феноменального. Тварь от Творца отличается тем, что одной духовной спонтанности для осуществления своей феноменальной экзистенции оказывается недостаточной, необходима определенная совокупность жизненных сил, потребных для поддержания постоянно нарушающегося гомеостазиса между внутренним и внешним миром. По мере субстанциализации и овнешнения экзистенции духовная спонтанность (слабость) все более уступает свое ведущее место телесной организованности (сила). “В мире истинных сущностей, происшедших от этого начала, - учил Плотин, - каждая имеет в себе от него кроме сущности еще и причину или основание своего бытия”.[284] Лишь проявленная во вне внутренняя жизнь Духа, обретшая форму жизни внешней и субстанциональной, начинает обретать свои имманентные сущностные силы, сущность Его овнешненного существования становится все более силовой, а сила все более существенной. Как только существование Субъекта, начинает обретать свои явные, проявленные формы, возникают и движущие сущностные силы Его метаистории, столь необходимые для придания автоэманации необходимой онтологической направленности и интенсивности.
В объектоцентризме свои сущностные силы человек присваивает все более целостным и универсальным способом на пути исторического прогресса. Напротив, в субъектоцентризме он ими одаряется свыше в форме благодати, которой человек в состоянии распорядиться согласно своей воле, т.е. либо конструктивно, либо во вред и себе и своему миру. “Все разумные субстанции, как бы их мы ни назвали, - учил Ориген, - не принуждаются силою делать, вопреки своей свободе, то, что не согласно с их собственными побуждениями, - и у них, таким образом, не отнимается способность свободной воли. В противном случае, у них было бы изменено, конечно, уже самое качество их природы”[285]. Бог по отношению к Человеку и его Миру не есть Сила, а есть Благо, которое в процессе истории человек своей свободной активностью трансформирует в феноменальный экзистенциальный ряд. Благодатью а не слепой силой творится иерархия сущностей составляющих трансфеноменальную основу феноменального мира. Благодать содержится не в конце, а в первоначалах фило- и онтогенеза Человека и его метаистории, выступая одновременно и «абсолютной онтологической слабостью» и потенциальным «силовым полем» трансцендентно развертывающегося мира. Если транцентентная слабость коррелирует со способностями и принципом «быть», то феноменальная сила – с потребностями и принципом «иметь». При субъектном подходе высвечивается верхний предел метаисторического континуума (трансцендентная слабость и спонтанность, экзистенция, креативные способности, самосубъективация и проч.), при объектном подходе – его нижний предел (феноменальная сила и организованность, эссенция, витальные потребности, самообъективация и проч.). При абсолютизации феноменов низшего метаисторического предела возникает, если можно так выразиться, «рациональный беспредел», опошляющий самый смысл человеческого существования. «Утратить предметную основу жизни, - писал И.А.Ильин, - значит утратить духовное измерение вещей и деяний… Жизнь такого человека становится истинным царством пошлости… Духовно слепая душа живет убогими содержаниями и скудными мерками личного быта; она воспринимает все в плоскости своих потребностей и страстей и измеряет жизнь интересом и силою»[286].
По мере самораспаковывания, самопроявления трансцендентной Пустоты, Ничто в феноменальную Полноту, Нечто наращивается энергетическая мощь, все более интенсивно высвобождается онтическая сила вложенных друг в друга универсумов. Чем более объективируется Бытие, тем более пониженным оказывается онтологический статус укорененного в нем субъекта, но и тем более мощными сущностными силами наделяется его существование. И чем большую власть человек обретает над внешним объективированным миром, тем более он оказывается зависимым от своих же собственных сущностных сил, эту его власть над миром обеспечивающих. “Мы не властны над своей сущностью, - писал Плотин, - напротив, она властна над нами, ибо обусловливает и различие (природы каждого). Однако, поскольку мы представляем некоторое подобие властвующей в нашей природе сущности, можно сказать, что даже здесь (на земле) мы отчасти властны над собой”.[287] Можно, видимо, утверждать что по своей “онтологической мощи” сущностные силы универсума прямо пропорциональны степени его объективированности и обратно пропорциональны уровню его субъективированности. Процесс объективации субъекта связан с наращиванием сущностных сил в экзистенции. И, напротив, процесс субъективации объекта сопровождается последовательной утратой этих сил, переводом отношений между Человеком и его Миром на менее силовую основу.
В процессе своего самовозвращения человек постепенно водворяется в свои изначальные “онтологические покои”, по мере самовосхождения к первоначалам, он преодолевает “силовое сущностное поле” полноты своего бытия и вновь оказывается “слабым”, “ненасильственным” трансцендентальным субъектом. “Возвращение к сущности, - учил Лао-цзы, - называю покоем, а покой называю возвращением к сущности. Возвращение к сущности называю постоянством. Знание постоянства называется достижением ясности, а незнание постоянства приводит к беспорядочности и бедам. Знающий постоянство становится совершенным. Тот, кто достиг совершенства, сам собой становится беспристрастным. Тот, кто становится беспристрастным, может следовать за всем сущим, возвращающимся к корню. Тот, кто следует за всем сущим, возвращающимся [к корню], следует естественности и следует дао. Тот, кто следует дао, не будет подвергнут опасностям”.[288]
В субъектоцентристском мировоззрении континуум сущностных сил Человека в верхнем своем пределе “ограничен” абсолютной слабостью, а в нижнем пределе абсолютной силой. Непроявленные, неявные трансцендентные сущностные силы Бесконечного Субъекта есть его абсолютная онтологическая Слабость, и, напротив, окончательно проявленные, явные сущностные силы Бесконечного Объекта есть не что иное, как его абсолютная онтологическая Сила. Низшая онтология всегда является более сильной, нежели онтология высшая. Самая низшая форма бытия наделена самой высшей силой в целостной иерархии сущностных сил. «Изначальное соотношение между высшими (или низшими) формами бытия и категориями ценностей и силами, в которых осуществляются эти формы, - писал Шелер, - характеризуется положением: «низшее изначально является мощным, высшее – бессильным». Каждая более высокая форма бытия бессильна относительно более низкой, и осуществляется не собственными силами, а силами низшей формы. Жизненный процесс есть оформленный в себе временной процесс, имеющий собственную структуру, но осуществляется он исключительно материалом и силами неорганического мира. И в совершенно аналогичном отношении находятся дух и жизнь»[289]. Иерархия сущностных сил располагается в обратном порядке, нежели иерархия форм человеческого бытия. Чем более падает онтологический статус Субъекта и соответственно поднимается у Объекта, тем более мощными становятся сущностные силы, придающие их метаисторическому взаимодействию необходимое единство. Рассмотрим более подробно метаисторический континуум сущностных сил Человека (схема 13).
Космогенез Антропогенез Социогенез Природогенез
человека человека человека человека
![]()
![]()
![]()
![]() СЛАБОСТЬ
СИЛА
СЛАБОСТЬ
СИЛА
Космические Антропные Социальные Природные
сущностные сущностные сущностные сущностные
силы силы силы силы
Схема 13. Континуум сущностных сил Человека
Абсолютная онтологическая слабость Бесконечного Субъекта. Дух и сила, две “вещи” между собой так же несовместные как и применительно к свободному творчеству “гений и злодейство”. Дух не нуждается в силе, он жизнестоек, потому что онтологически слаб, если бы он обладал силой, то она постепенно истощила бы его своей внутренней детерминацией. Сила нужна движущейся Субстанции, а несубстантивному Покою. Понятие “духовные силы” появляется лишь при объектном отношении человека к самому себе, в его попытке выявить в своей субъективности некую духовную субстанцию, способную оказывать детерминирующее воздействие на окружающий его мир объектов. Дух творит, опираясь не на силу, а на свою ничем и никем не обусловленную имманентную интенциональность и эманационность. Сила всегда прикладывается к некоему внешнему объекту. Процесс же перманентной креации и эманации Абсолютом метаисторических форм Сущего связан с творением Нечто из Ничто, здесь изначально не к чему прикладывать силу. Онтологической обителью и опорой Духа является не объективная, а субъективная реальность - душа человека. Между ними невозможны какие-либо силовые отношения. Дух нищ, Он есть чистый принцип Существования, а не принцип Обладания. Не будучи обремененным какими либо владениями, которые необходимо насильственно удерживать, он и не нуждается в какой-либо силе.
Онтологическая слабость абсолютных первоначал сущего как важнейшая мировоззренческая проблема активно разрабатывалась неоплатонизмом, даосизмом, различными религиозно-философскими учениями, особенно христианством. Так в даосизме животворящее начало всех начал - Дао - есть несубстантивная, бессильная, слабая, немощная Великая Пустота. “Слабость есть способ действия дао”[290]- учил Лао-цзы . В даосизме именно слабость выступает неким энергетическим источником мистического ничегонеделания, посредством которого возникают все мыслимые и немыслимые формы сущего.
Неоплатоник Плотин выдвинул тезис о совпадении сущности и энергии Верховного Начала. При этом он весьма сомневался в том насколько правомочно применение понятий “сущность” и “энергия” в качестве онтологических предикатов по отношению к существованию Абсолюта или абсолютному Существованию. “Если даже в нем есть какая-либо энергия, точнее, если бы мы захотели представлять его как энергию, - пишет Плотин, - то и тогда нельзя было бы сказать, что в нем есть нечто отличное (от него самого), и что не оно само властно над собой как источник своей энергии, потому что ведь энергия его есть не что иное, как оно само. А так как нет надобности приписывать ему какую-либо энергию по той причине, что энергия составляет собственную принадлежность тех существ, которые от него имеют бытие и к нему стремятся, мы тем более не вправе отличать в нем сторону властвующую от подвластной. Поэтому мы не должны называть его даже властным над собой... энергия в нем совпадает с сущностью; однако, если оно имеет власть над собой, то лишь с условием, что оно отличает себя (как энергию) от себя же, как от сущности. Поэтому нельзя утверждать, что властно над собой начало, где нет такого двойства в единстве, а оно абсолютно единое, ибо оно - одна чистая энергия и больше ничего, хотя, пожалуй, оно даже и не энергия”.[291] Плотин никак не может остановиться на каком-либо из известных ему метафизических понятий, посредством которого можно было бы передать свою интуицию об отсутствии каких либо признаков воли к власти, самовластии у Абсолюта, а следовательно и об отсутствии у него необходимых сил для приведения волевых усилий в действие. Плотина явно не удовлетворяет понятие “энергия”, но он не видит ему полновесной замены. В одном лишь он глубоко убежден, что Верховное Начало, даруя миру его свободную сущность при этом не прибегает к силовым воздействиям на мир.
Отождествление всего сакрального со слабостью, немощью, а всего падшего в мире с силой и мощью является одним из важнейших догматов христианства. Наиболее явно и последовательно этот догмат развернут в Посланиях Апостола Павла: «Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Кор 12, 9)»; «Ибо, когда я немощен, тогда силен (2 Кор 12, 10)»; «Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное (1 Кор.1, 27)»; «Немощное Божие сильнее человеков (1 Кор 1, 25)»; «Мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии (1 Кор 4, 10)»; «Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу (1 Кор 15, 24-26)». В христианском вероучении о Боге вместо неоплатонического понятия “энергия” употребляется “благодать”. Эта религиозная универсалия более “точно” передает интуицию о несиловом характере креативной Сакральности сакральной Креативности. Бог есть Бесконечный Субъект творящий и дарующий блага, которые людям необходимо с благодарностью принимать. Согласно библейской заповеди Царствие Небесное обретают лишь нищие духом, то есть те из людей, которые наделены онтологической слабостью, в связи с чем они менее всего ответственны за перманентную деструкцию мира, которую осуществляет историческое человечество. “Христос, - пишет Н.Бердяев, - сказал непонятные для мира слова, что первые, т.е. наиболее сильные по закону этого мира, будут последними, последние же, т.е. представляющиеся слабыми для людей этого мира, будут первыми (Мф. 20, 16)”.[292]
Абсолют или Бесконечный Субъект осуществляет эманацию и креацию внешнего объективированного мира как абсолютно свободное творящее существо, не ограниченное никакими законами необходимости. Абсолютные животворящие первоначала не есть некая внешняя детерминанта порождаемого им Сущего, в процессе перманентной эманации оно без всяких на то усилий выплывает из апофатических и трансцендентных глубин пустотного Абсолюта или абсолютной Пустоты. Существование Абсолюта лежит по ту сторону силового поля детерминации и самодетерминации, в которое втянуто законами необходимости обмирщвленное, овнешненное и овремененное существование человека в мире сем. “Совершенно ложно, - пишет Н.Бердяев, - применение и к Богу, и к откровению Бога к миру категории причинности, применяемой лишь к отношениям феноменального мира. Бог есть не причина мира, как не есть господин и царь, как не есть сила и мощь. Бог ничего не детерминирует. Когда говорят, что Бог есть Творец мира, то этим говорят что-то безмерно более таинственное, чем причинное отношение. Бог в отношении к миру есть свобода, а не необходимость, не детерминация. Но когда говорят о свободе, то говорят о величайшей тайне. Бога превратили в господина и царя. Но Бог ни на что подобное не походит, выходит совершенно за пределы подобных категорий. В известном смысле у Бога меньше власти, чем у полицейского, солдата или банкира”.[293] Там где нет и в принципе не может быть ни внутренней, ни внешней детерминации, не может быть и имманентно при-сущих им сущностных сил. В связи с этим, эманационную и креационистскую “активность” пустотных и абсолютных первоначал бытия целесообразно обозначать универсалией - “онтологическая слабость”. По своему трансцендентальному содержанию (“рациональной бессодержательности”) она, несомненно, должно быть противоположной понятию “онтологическая сила”, фиксирующему источник развертывания универсума объективаций Субъекта - объективную Реальность или реальность Объекта. “Добрый Бог, - писал Н.Бердяев, - не есть Бог силы, Он есть лишь Бог правды”.[294]
В акте первичного творения задействованы внутренние интенции Демиурга, Создателя, связанные с процессом спонтанной самотрансценденции своей изначальной и абсолютной пустотности. Свободная креация и эманирование Субъекта не требует никаких особых усилий, вполне достаточно одной внутренней интенции переводящей потенциально сущее в актуально сущее, а внутренние и непроявленные онтологические, семантические и ментальные структуры Пустоты, Ничто во внешние и проявленные структуры Полноты, Нечто. Эманация есть как бы несиловая эволюция, и, напротив, эволюция – это силовая эманация.
Сила как явное энергетическое средство воздействия Субъекта на Объект изначально отсутствует в Духе еще и потому, что ноуменальная, символическая первореальность синкретична, в ней еще отсутствуют процессы самораспада и дифференциации Единого не только на субъект и объект, но и на субъект и субъект. Внутрисубъектные отношения Духа трансцендентно консолидированы и не требуют принудительного единения Макротеоса и Микротеоса в Единый Абсолют, так как Человек в качестве Образа и Подобия Бога все еще пребывает в потенциально, а не актуально сотворенном состоянии, в состоянии самопорождения, самокреации.
Отсутствие силы у Духа как особого субстанционального свойства совершенно не означает его онтологической беспомощности. Напротив, комплексом беспомощности “страдает” как раз мир объективаций, так как на преодоление необратимых энтропийных процессов в нем и расходуются значительная часть энергетики сущностных сил Субъекта. “Как невозможность для Него сделаться худшим, - учил Плотин, - вовсе не есть признак Его бессилия, насколько Он сам не допускает умаления своего совершенства, так, напротив, переизбыток своей силы и власти являет он в том, что не направляется на что-либо иное, а только на самого себя, и вместо того, чтобы зависеть от какой-либо необходимости, сам составляет необходимость и закон всего существующего. И разве необходимость сама себе дала бытие? Собственно, она вообще не имеет бытия, потому что все, что после и ниже первого начала, существует через него. Мыслимо ли, чтобы это начало, которое прежде и выше всякого бытия, получило его от чего-то другого, или даже от самого себя?”[295] Онтологическое Бессилие Абсолюта есть источник всех форм сущностных сил, так же как и Свобода - источник всевозможных онтологических форм, в той или иной мере подчиняющихся законам необходимости и детерминации. В Его пустотности в свернутом виде пребывает, предсуществует не только целая иерархия онтологий, форм бытия, но имманентная им иерархия сущностных сил. В Ничто не содержится никакого силового поля, но в его “бессилии”, “слабости” в свернутом виде предсуществует целостный континуум сущностных сил - космических, человеческих, социальных, природных. Бессилие Абсолюта или абсолютное Бессилие есть еще одно апофатическое определение “энергетической пустоты”, являющейся потенциальной “энергетической кладовой” Мира. Трансцендентная слабость представляет собой некую сингулярную точку, в которой свернута вся потенциальная энергетика Протосущего. Человек как Образ и Подобие Бога по отношению к Миру также выступает «бессильной силой», «немощной мощью», позволяющей ему быть вторичным креатором Сущего. Принципиальный отказ от взгляда на мир как поле всепокоряющей активности субъекта – основополагающий момент позиции Хайдеггера, для которого погружение в тотальность бытия составляет путь к обретению подлинного существования. “Человек не господин сущего. Человек пастух бытия. В этом “меньше” человек ни с чем не расстается, он только приобретает, достигая истины бытия. Он приобретает необходимую бедность пастуха, чье достоинство покоится на том, что он самим бытием призван для сбережения его истины”[296]. Шелер утверждал, что не Сущее есть атрибут Духа, напротив Дух является атрибутом Сущего, проявляющегося в человеке в сосредоточенном единстве «собирающейся» в себе личности. Однако – дух как таковой в своей «чистой» форме изначально не имеет никакой «власти», «силы», «деятельности».[297]
Метафора «Большого взрыва», используемая в современной естественно-научной картине мира применительно к предмету нашего размышления, может интерпретироваться как некая метаисторическая инверсия, следствием которой оказался возможным трансцендентный перевод потенциальной энергетики Предсущего в первичную энергетику Первосущего. В результате этой инверсии несиловая теогония дополнилась такими силовыми метаисторическими процессуальностями как космогония, антропогония, социогония, техногония. Неудержимо как джины из откупоренной бутылки стали вырываться “изнутри наружу” все более мощные сущностные Силы или силы Сущности. Каждая из проявленных онтологий имеет свои имманентные силы, которые есть не что иное как внутренняя энергетика необходимая для развертывания содержащихся в них потенциальностей во-вне в актуализированные формы бытия.
Абсолютная онтологическая сила Бесконечного Объекта. Если Абсолютный Субъект не обладает никакими силами, то, напротив, Абсолютный Объект наделен предельной мощью. Если Дух и сила две “вещи” несовместные, то Тело и сила являются онтологическими категориями, неразрывно между собой взаимосвязанными. Телесность, субстанциальность могут «развиваться и функционировать» лишь будучи подключенными к силовому полю Сущего, лишь будучи подчиненными законам как внутренней, так и внешней детерминации.
Если сила отсутствует у несубстантивного Абсолюта, то она имманентно присуща субстанциальному Миру, выступает одним из его основополагающих атрибутов. Обстоятельный анализ субстанциального характера силы и силового характера субстанции содержится в трудах И.А.Ильина. Он полагал, что если к понятию силы подходить с точки зрения метафизической, то сила может получить троякое значение: сила или составит сущность самой субстанции (так было у Лейбница), или она явится атрибутом субстанции (так было у Спинозы), или же она получит значение самостоятельного в своей сущности атрибута, свободного от принадлежности субстанциальному субстрату (так было у Фихте Старшего). Во всех трех случаях сила имеет (безразлично – самостоятельную или не самостоятельную) метафизическую реальность. Общее, присущее всем учениям о силе, состоит в том, что ее помещают в реальный ряд, а потому понятие силы имеет всегда онтологическое значение. С познавательной точки зрения сила всегда причастна реальному ряду потому, что или к ней приложим предикат «бытия», или она сама является предикатом «сущего», или же, наконец, и то и другое вместе. Под «силой» всегда разумеется способность реального к действованию. Сила есть всегда способность, составляет ли она самую сущность вещи, или только свойство ее, или играет роль рассудочной категории, она есть способность к действованию в самом неопределенном и общем смысле этого слова, будет ли это действование проявляться в самоподдержании, как у Спинозы, или в саморазвитии, как у Фихте, или в причинном определении других элементов реального ряда, как у Канта и эмпириков[298].
Итак сила есть атрибут субстанциального мира или мира субстанций. Телесная организация мира есть онтологическая генерализация множественного, на которое распадается Единое. «Под властью, мне кажется, следует понимать, - пишет Фуко, - прежде всего, множественность отношений силы, которые имманентны области, где они осуществляются, и которые конститутивны для ее организации; понимать игру, которая путем беспрерывных битв и столкновений их трансформирует, усиливает и инвертирует; понимать опоры, которые эти отношения силы находят друг в друге таким образом, что образуется цепь или система, или, напротив, понимать стратегии, внутри которых эти отношения силы достигают своей действенности»[299]. Если Единое не требует силовой консолидации имманентно содержащихся в нем потенциальностей, то их актуализированные формы представленные в Множественном свою онтическую консолидированность, позволяющую удерживать их в Единой Целостности, в состоянии поддерживать лишь за счет столь же множественной системы сил, вектор сложения которой восходит к изначальному бессилию Единого. Система мира, перманентно расширяющейся за счет возникновения все новых и новых объективаций субъективного все более и более испытывает необходимость в привлечении дополнительных энергетических ресурсов. Множественное может вновь конвергировать в Единое лишь под воздействием необходимых и достаточных для этого сил. Иначе естественная дифференциация Единого на Множественное может привести к самораспаду, к Хаосу, а не к Гармонии в Мироздании. “Чем сильнее стремление к единству, - писал Ницше, - тем скорее мы имеем право заключить отсюда о слабости; чем больше стремление к варьированию, дифференцированию, внутреннему распадению, тем более тут силы”.[300] Любая энтропийная система в состоянии существовать лишь за счет наращивания своего энергетического, силового поля. Чем более дробной оказывается объективация, тем больше сил оказывается в ней заложено. Энергия распада атома, которой овладел человек, пока что по своим возможностям силового воздействия далеко оставляет позади мощь тех энергий и сил, которыми человек владел в свою доатомную эпоху.
Бесконечный Объект в состоянии перманентно эволюционировать лишь за счет столь же перманентного совершенствования и наращивания сущностных сил, средств воздействия, столь необходимых для преодоления негэнтропийных процессов в отелесненной, субстанцированной структуре мира. “Хотя сил и много, - пишет Плотин, - но они все похожи друг на друга тем, что каждая содержит в себе целую силу, и везде с одной субстанцией соединена одна сила. Но в таком случае все прочее надо было бы принимать за силы (без субстанций), хотя равно немыслима как субстанция без силы, так и сила без субстанции, ибо там сила есть непременно вместе субстанция и сущность или даже нечто высшее, чем сущность. Конечно, не таковы силы здесь; тут они гораздо меньше, слабее, так как они истекают из единого всеобъемлющего начала, как от яркого света исходит свет менее яркий. Но и этим силам присущи те субстанции, ибо сила не может существовать отдельно от субстанции”.[301]
Основу интеракции, взаимодействия между объектами составляет развитая система силовых воздействий, которыми они постоянно обмениваются. Движущаяся и развивающаяся система объективаций немыслима, если использовать техницизм, без некоторой “силовой установки” онтологически иррелевантной структуре ее сущностных отношений.
В объекте как объективации субъективности сущностные силы как бы “иманентны” объекту, а не субъекту, однако имманентность эта искусственная, а не естественная, так как является следствием самоотчуждения субъекта в пользу внешнего своего присутствия в мире, как плата за возможность присваивать блага, а не одариваться свыше Благодатью. Если Благодать нисходит на свободного трансцендентного субъекта и ее лишь необходимо столь же спонтанно принимать, то блага мира сего субъектом, находящимся в феноменальной от него зависимости можно лишь насильственно присваивать. В этой связи, не совсем корректно звучит выражение “объективные сущностные силы”. Ведь сущностные силы принадлежат по праву не Объекту, а Субъекту, в объективную реальность они в отчужденной форме изнутри вовне интроецируются. Чем ниже онтологический статус у субъекта объективированного в объекте и присутствующего в нем в качестве своей отчужденной сути, тем большей силой последний наделяется. Субъект как бы энергетически исчерпывается в процессе объективации, онтологически обессиливается с тем, чтобы иметь возможность вновь перманентно реинтегрироваться в живительную онтологическую слабость своих трансцендентных Первоначал. “Свобода твари, - писал С.Н.Бердяев, - упирается в ничто как свою основу: призвав к бытию ничто, божественная мощь сама себя ограничила, дала место свободе твари. Божественное самоистощение в пользу тварного ничто и образует положительную основу тварной мощи и свободы. Божие всемогущество и вседержительство очерчивает круг нарочитого своего бездействия как область тварной свободы”.[302] Бесконечный Объект в энергетическом аспекте может быть представлен в качестве самоанигиляции Бесконечного Субъекта, полностью исчерпывавший в Конце Истории содержавшийся в Его онтологической слабости целостный континуум сущностных сил.
Рассмотрим вкратце иерархию метаисторических сущностных сил (схема 14), с позиции разрабатываемой нами субъектоцентристской мировоззренческой схематики.
Космические сущностные силы. Онтологическую основу космического универсума составляют внутрисубъектные отношения самотрансцендирующего субъекта. Посредством них Микрокосм и Макрокосм связываются в универсальную Целостность или целостный Универсум. Лишь с появлением космического универсума возникает первичная форма субстанциальных сил - космические сущностные силы. Эти силы необходимы для поддержания процесса перманентного укоренения Микрокосма в Макрокосме и Макрокосма в Микрокосме, для поддержания между ними трансцендентного гомоморфизма в пределах единого для них космического универсума. Имманентная им энергетика «изнутри вовнутрь» подпитывала целостность и универсальность первопроявленной Пустотности. Естественно, интенции, обусловленные процессами самосубъективации и направленные вовнутрь космического универсума из апофатических глубин Духа, “силами” можно назвать весьма условно и лишь в связи с первичным разделением самотрансценденции на трансценденцию во-внутрь и трансценденцию во-вне. Трансценденция во-вне изначально была направлена на “внешний” Хаос и препятствовала “силам тьмы” поглощать перманентно развертывающуюся абсолютную Гармонию или гармонию Абсолюта. Трансцендирование во-внутрь не нуждалось в каких либо усилиях, ибо онтологически самодостаточный теогонический процесс синергичен, а потому и не нуждается во внешней
АСТРАЛЬНЫЙ
СУБЪЕКТ
Ñ
|
Культ (Космические сущностные силы) |
АНТРОПНЫЙ СУБЪЕКТ Ñ |
|
|
|
Космические Силы культуры |
Культура (Антропные сущностные силы) |
СОЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ Ñ |
|
|
Космические Силы цивилизации |
Антропные силы цивилизации |
Цивилизация (Социальные сущностные силы) |
ТЕЛЕСНЫЙ СУБЪЕКТ Ñ |
|
Космические Силы технологии |
Антропные силы технологии |
Социальные силы технологии |
Технология (Природные сущностные силы) |
Ñ Ñ Ñ Ñ КОСМИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ
УНИВЕРСУМ УНИВЕРСУМ УНИВЕРСУМ УНИВЕРСУМ
Схема 14. Метаисторические формы сущностных сил Субъекта
энергетической подпитке перманентного процесса творения. Однако при переходе теогонии в космогонию трансцендирование во-внутрь, в той ее части в которой она вынуждена обеспечивать процесс онтологического структурирования синкретической целостности космического универсума оно сопровождалось формированием соответствующих «силовых структур». Они, в основном, предназначались для трансфеноменального воспроизведения культурных, цивилизационных и технологических прафеноменов. По мере развертывания космологических потенциальностей и их актуализация в космологической форме Неиного, Сущее становилось все более силовым, а Силы – все более сущностными, пока наконец-то космическая форма существования окончательно не оказалась свернутой в космические сущностные силы – движущие силы метаистории астрального субъекта.
Космические силы культуры. Трансцендентная форма культуры, изначально обладала культовой природой и основная ее онтологическая функция заключалась в обеспечении процесса глубинного общения Человека-Микрокосма с Другим Человеком-Микрокосмом. Ведь самотрансценденцию и самокреацию уже осуществлял не абсолютный и бесконечный Дух, а определенное множество его субъективаций – астральных субъектов, своей первично овремененной, овнешненной микрокосмической экзистенцией в экзистенцию макрокосмическую, в которой они обладали едиными и равными сущностными силами. Трансцендентная или культовая культура и была той экзистенциальной сферой, которая выступала определенным «средством» для «целей» консолидации в единую целостность расширяющийся универсум самосубъективаций Духа. Выступая эпифеноменом, побочным процессом культовой “динамики” она выражала и обеспечивала потребности человека со всей своей само-бытностью перманентно реинтегрироваться в абсолютное Бытие или бытие Абсолюта. Трансцендентная культура была хотя и неявным, но вполне конструктивным семантическим посредником между пустотным и бесконечным Символом и его ценностной инфраструктуры, между Бессмысленностью Предсущего и неявными смыслами Сущего, между трансцендентным Покоем и его первичной формой Движения. Культовая культура разворачивала свои “трансцендентные ценности” в рамках единого тео-космогенеза человеческой экзистенции. По существу своему это культовая культура представляла собой универсум частично проявленных духовных Ценностей или ценностей Духа, позволявшие человеческому в человеке формироваться не по человеческим, а по сакральным и космическим меркам. Здесь творчество еще не носило форму культурного процесса, а скорее выступало составной частью креации, которую лишь условно можно обозначить термином культуро-созидательным процессом. В пределах космогенеза трансцендентные ценности имманентные процессу креативного порождению Сущего, а не процессу его творческого преобразования, таковыми ценности оказываются лишь обретая свою собственную эвалюативную форму, синтез которых и порождает внекультовую культуру, связанную уже не с креативной, а творческой активностью субъекта.
Силы, которые в рамках своего космогенеза, космологического этапа своей метаистории, человеком задействовались, конечно же были сверх-человеческими, космологическими. Произведения храмовой культуры, дошедшие до наших дней, до сих пор излучают заключенную в них духовно-космическую энергетику. Довольно поздними “осколками” этой перво-бытной (запредельной, наивысшей) трансцендентной культуры, культовой культуры являются величественные пирамиды древних египтян и ацтеков, гигантские идолы с о.Пасхи и др. ставшие для нас памятниками, фиксировавшими органические связи Человека с Богом. Помимо того, что эти пра-культурные артефакты являются самыми монументальными объективациями Духа, дошедшими до наших дней, они в то же время выступают и определенным результатом практического применения человеком некой особой пра-цивилизационной пра-технологии, органически связанной с целостным и мистическим постижением Человека Себя в Целостном Мироздании. Человек современной цивилизации привык все и вся измерять категориями экономической целесообразности. Если к положению нашего первопращура в космосе подходить с этими мерками, то можно поразиться сколь неэффективно он использовал свои «средства производства». Существует довольно устойчивое мнение у историков, занимающихся проблемами так называемой «первобытной культуры», что более 60 процентов совокупного продукта, производимого первобытной общностью предназначалось для строительства культовых сооружений и принесения разнообразных жертв Богу. Однако эта «экономическая нерентабельность» должна анализироваться отнюдь не с позиции современного человека лишь «хлебом едтным». Напротив она свидетельствует о той степени близости, в которой астральный субъект находился в своих отношениях с Абсолютом. Она была той трансцендентной нормой, которая позволяла центрировать человеческую экзистенцию в космологических глубинах Духа, была естественной формой человеческого самоопределения в символической реальности.
Космические силы цивилизации. Протосоциум складывался в рамках первичного разделения труда, которое шло опять таки под приоритеты жизни небесной над жизнью земной. Протоцивилизация – это такая неявная цивилизация в которой социальная форма организации человеческой жизни была органически интегрированной в трансцендентные формы культуры, восходившей к культу. Храм центрировал собой все цивильные формы человеческой жизни. Так в цивилизациях Мессопотамии (3000 - 331 г. до н.э.) города (Шумер, Аккад) возникают вокруг зиккуратов - ступенчатых храмов-башен. Основной формой власти в те времена была абсолютная теократия. Жрецы выполняли не только функцию посредника между Человеком и Богом, но и роль земных правителей. Именно идея бога объединяла в протосоциальную, протоцивилизационную общность людей, а не какая-то чистая социальная идея или экономическая необходимость. Складывавшийся в ту пору протосоциум, стягивался в единую общность микрокосмов не безличными социальными нормами, а разветвленной системой табу (трансцендентные нормы) - апофатическими сгущениями всеобщего космологического силового поля. Не случайно эту протосоциальную общность чаще всего называют “сакральным обществом”. Эту сакральную форму общности в философии русского космизма принято обозначать понятием соборность. В основе соборности лежит глубинная сила веры, способной придавать устойчивость общности, состоящей из духовно свободных людей. Реликтом такой общности дошедших до наших дней служат монастыри.
Космические силы технологии. В космическом универсуме технология является самой последней и низшей “онтологической матрешкой”. Как матрешка в матрешке трансцендентная прототехнология заключена в трансцендентную протоцивилизацию, которая в свою очередь погружена в трансцендентальную протокультуру, восходящая своими неявными ценностными структурами в символические глубины Духа, первичная субъективация которого и есть явный, про-явленный Культ.
Первичная трансцендентная технология может рассматриваться в качестве сакрально опосредованного эпифеномена процесса трансцендирования Человеком себя в Абсолют, вернее, той стороны его самокреации и автоэманации, которая изначально направлена на целостное и расширенное воспроизводство “внешней” Среды обитания на перманентную объективацию Духа. Нам не дано иметь о трансцендентной форме технологии каких либо четких рациональных представлений, так как все что связано с онтологией Культа - неявная предметность теологии и мистики, но отнюдь не философской рефлексии. Однако можно в качестве мистико-метафизической посылки априори принять постулат о том, что посредством неявной трансцендентаной технологии человек в качестве самоизменяющегося Микрокосма перманентно укоренялся в им же самим изменяемом Макрокосме. На довольно поздней и завершающей стадии космогенеза человеческой экзистенции трансцендентная технология обретает форму магического воздействия на мир. Если мистика воздействовала на мир «изнутри вовнутрь», то магия как бы «изнутри вовне». “Первобытная магия, - пишет Н.А.Бердяев, - есть наука и техника, соответствующая этой стадии отношений человека к природе. Человек уже борется с природными силами за жизнь, но борется в закономерном общении с духами природы”.[303] Магия есть не что иное, как исторический пролог опытной, экспериментальной, эмпирической науки.
Можно лишь предположить, что трансцендентная технология выступала неким онтологическим средством перманентного самоизменения Человека, которое было связано с последовательным присвоением им своих космических сущностных сил. Она являлась имманентным средством космогенеза человеческой экзистенции той частью космических сущностных сил, которые шли на обустройство все более внешняющегося Космоса. Эта все более овнешняющаяся сторона космологической экзистенции и служила «объектом» приложения пратехнологических сил – сил самой природы. Такая форма трансценденции во-вне “технологически” обеспечивала систематический выход человеческой экзистенции за ее нижние онтологические пределы, к “нижней бездне бытия”. Напротив, трансцендированием во-внутрь, являвшимся внутренней стороной самотрансценденции, самокреации, человеческая экзистенция осуществляла выход за ее верхние пределы, к “верхней бездне бытия”, восхождение в апофатические глубины Духа, а потому она не могла быть технологически-магической, а только культово-мистической. Эта сторона сакральной процессуальности не могла иметь даже неявно выраженного технологического инварианта; в такой глубинной сфере человеческой экзистенции возможны отнюдь не технологические, а лишь мистические прорывы.
Трансцендентная технология в качестве космологического эпифеномена креативного процесса, выступала способом самопроявления целостного и универсального символического Культа в неявных ценностях Протокультуры - трансцендентальной культуры. Эта пра-технология не имела своего имманентного объектного самоизмерения, в ней неявно присутствовали предельные космологические мерки и масштабы. Трансцендентная технология выполняла свою неявную онтологическую функцию и по отношению к первичной трансцендентной цивилизации, т.е. пра-социальному сообществу субъектов-микрокосмов, основу отношений между которыми составляли сакральные связи. Отношения глубинного общения свободных самотрансцендирующих субъектов складывались в единую протоцивилизационную организацию на основе технологизации пра-природных процессов.
Итак, трансцендентальная технология изначально выступала неким эпифеноменальным “средством”, “способом” всеобщего креативного процесса, позволявшим “магме Духа” затвердевать в форме первичных объективаций, из которых на протяжении всей последующей истории человечества складывался и расширялся “внешний мир” как некая онтологическая производная от “внутреннего мира” Абсолютного и Бесконечного Субъекта
Как мы выше подчеркивали, более целостные, но онтологически и более слабые универсумы нуждаются в менее целостных, но более сильных универсумах. Именно это обстоятельство побуждает их не только автоэволюционировать к своей более проявленной и тотальной форме бытия, но и эманировать именно более низшими чем они универсумами, с тем чтобы обрести в них свою собственную онтологическую опору, основу. Космический универсум свою опору обретает в порождаемом им человеческом универсуме, а тот, в свою очередь в универсуме социальном. Именно в эти праисторические времена были сооружены многие “чудеса света” как, например, египетские пирамиды, требовавшие применения соответствующих знаний и технологий. И знания и технология, естественно, не могли опираться на разветвленную систему дескриптивных значений, они базировались на трансцендентных знаниях, неявно содержавшихся в протосоциальном опыте - трансцендентных нормах, которые посредством трансцендентных ценностей пракультуры столь же неявно восходили к первичным трансцендентным значениям и смыслам культа. Система еще неразвернутых “семантических матрешек” символов культа обеспечивала воспроизведение и телесно-технологических структур праисторической формы бытия человека. Это была величайшая по своему сакральному содержанию технология, так как вбирала в себя всю тотальность субъективного, а потому ее порождения и существуют тысячелетиями. Произведения титанической деятельности астрального субъекта существуют века, тогда как продукция современной промышленной технологии рассчитывается лишь на физический срок соответствующий сроку ее “морального износа”. Высокий моральный потенциал артефактов первобытной культуры, цивилизации и технологии коррелирует с их завидным физическим долголетием, при условии, естественно, если они не подвергаются периодическим разрушением со стороны новоявленных варваров. Глядя на «памятники старины» так и хочется произнести вслед за Пастернаком – «какие милые тысячелетия на дворе».
Антропные сущностные силы. Их еще принято называть родовыми или человеческими сущностными силами. Человеческий универсум, являющийся порождением космического универсума, именно в момент своего генезиса он и был наделен онтологической энергетикой необходимой и достаточной для его автоэволюционирования. Порождающий универсум в акте своей эманации лишь потенцирует изначальную целостность порождаемого универсума, развертывающаяся затем в полноту актуализированных и объективированных форм на своей собственной, имманентной энергетической основе. Так как антропный субъект по отношению к астральному субъекту выступает вторичным креатором, вторичным творцом и порождает мир культуры уже не из Ничто, а из антропной формы Нечто, то родовых сущностных сил ему необходимо столько, сколько требуется для возведения храма культуры. Однако это уже совершенно иные по своему качеству сущностные силы, обладающие иными “продуктичными возможностями”. Внутренней энергетикой человеческого универсума выступают взаимообусловленные интенции общающихся субъектов, энергетика субъектно-субъектных отношений. Энергетика человеческих душ в своей экзистенциально превращенной форме выступает движущей силой процесса самоактуализации человека в культуре, в ходе которого созидается универсум человеческих именитств. Процесс перманентного развертывания внутренних потенций родовой формы экзистенции и их воплощение в антропоморфные артефакты культуры возможны лишь при условии, если человеческая душа непрестанно генерирует особую форму энергии - энергию любви. Любовь человека к человеку по внутреннему содержанию хотя и является интенциональной, однако в состоянии оформляться в генерализованную субъективацию (субъективация субъективного) - антропную общность лишь в пределах единой для индивидов родовой культурой, особенно культурой взаимообусловленных самоактуализаций. Человеческая любовь, подобно брилианту превращающемуся из природного камня в драгоценность в ходе огранки, становится движущей силой истории человечества будучи ограненной эвалюативными ценностями культуры. При этом, естественно, силовое поле субъектно-субъектных отношений, энергетика человеческих душ постоянно подпитывается космологическим энергетическим потенциалом, энергетикой Духа, что и придает экзистенции астрально-антропного субъекта необходимую онтологическую «устойчивость» и экзистенциальную «продуктивность».
Обособившаяся от культа культура начинает выполнять анропную функцию - формировать и развивать в человеке, собственно общечеловеческое, общеродовое. Она призвана фиксировать отношение человека к другому человеку в пределах единой для них родовой жизни. Пик расцвета собственно человеческой культуры достигает в Древней Элладе. Человек жил окруженный произведениями культуры и искусства. Эти культуротворческие пики в человеческой истории можно обнаружить у древних народов Китая, Индии, Японии доколумбовой Америки и проч. Их объединяет единый принцип - культивирование в человеческой жизни всего человекосоразмерного, соразмерного идеалу его феноменального существования. Если астральный субъект добрую половину своих «производительных сил» направлял на поддержание своей трансцендентной укорененности в Культе, то антропный субъект, по мнению историков, занимающихся историей древних культур, особенно эллинской, не без оснований полагают, что более 60 процентов «экономических затрат» шли на создание артефактов культуры. На завершающем этапе христианского воцерковления Культу, для поддержания религиозных организаций была установлена вполне соответствующая степени отношений Человека с Богом – пресловутая десятина.
Именно в те культурой опосредованные исторические времена, человек начинает наиболее остро ощущать свою антропную самобытность, феноменальность, отличающие его от иных существ, населяющих Космос. Формируются представление об идеальном человеке, которые пронизывают собой все без исключения актуализированные формы бытия. Если в трансцендентной культуре - женщина Богородица, то в культуре эвалюативной она - Прекрасная Дама. Здесь мужчина вздыхает по прекрасному образу, едва промелькнувшей перед его очами совершенно незнакомой женщины. Он готов вечно стоять перед окнами ее дома, распевая нежные серенады, либо сочинять в ее честь, как это делал Петрарка, прекрасные сонеты, либо совершать героические подвиги и при этом без всяких надежд на ответное чувство. Именно из этих возвышенных чувств и выросла высокая гуманистическая культура. Однако она в себе таила и определенную опасность - возвеличивая человеческое в человеке эвалюативная культура менее всего закрепляла сакральное в нем. Любя другого человека, человек все чаще забывал эта форма любви не является самодостаточной, она должна восходить к высшей форме любви – любви Человека к Богу. Именно в эпоху расцвета культуры человек начинает не столько поклоняться Культу, сколько посвящает свою жизнь различным кумирам. Христианская заповедь «не сотвори себе кумира» как раз и была направлена на возрождение гармонии между двумя экзистенциальными формами любви. В отличие от четырехуровневого Культа, Культура трехмерна, помимо эвалюативных ценностей, в ней неявно присутствуют эвалюативные нормы и знания.
Антропные силы цивилизации. Протосоциальные, ценностные по своему содержанию, отношения между антропосами, родовыми субъектами в эту детерминируемую культурой историческую эпоху оформляются уже в совершенно иную неявную социальную общность, основу которой составляют уже не трансцендентные, а эвалюативные нормы – ценностные прескрипции. Соответствующую ей форму цивилизации целесообразно обозначить понятием - эвалюативная цивилизация. В рамках человеческого универсума качественно изменяются и силовые, энергетические характеристики присущие ранее космологической цивилизации. Протосоциум на этой метаисторической фазе нисхождения субъекта меняет форму своего неявного существования с сакральной на родовую. Его основу составляют уже не энергетика духа, а силовое поле человеческой любви именно оно пронизывает собой родовую праформу общественного организма. Реликтом такого общества в современном мире помимо культуротворческих групп выступает семья. Семья отнюдь не является первичной ячейкой социально оформленного общества, она всегда была и до скончания века будет оставаться основной прасоциальной ячейкой человечества. Как только в этой реликтовой антропной общности начинает иссякать энергетика межчеловеческой любви, так сразу же исчезает ее внутреннее силовое поле, способное удерживать от распада союз человеческих индивидуальностей. Именно эта реликтовая общность людей, пережив все исторические катаклизмы, все еще продолжает удивлять социологов своей относительной экзистенциальной устойчивостью.
Антропные силы технологии. В пределах человеческого, родового универсума технология все еще продолжает оставаться эпифеноменом, побочным явлением вне- и над-технологической процессуальности, не имеющей своей особой онтологической самобытности и имманентности. Однако на антропном этапе истории она уже выступает не производной от всеобщего креативного процесса самотрансцендирующегося астрального субъекта, а неявной составной частью культуро-творческого процесса, осуществляемого самоактуализирующимся антропным субъектом.
В ценностных пределах человеческого универсума последовательно и неуклонно гуманизируется не только сам человек, но и “окружающая” его внешняя действительность, т.е. определенные компоненты сакрального космоса, обретающие человеческую соразмерность. Родовые сущностные силы раздваиваются на те, посредством которых внутренний мир человека обретает собственно антропную форму, т.е. идут на актуализацию во-внутрь, и те, которые становятся средством переустройства внешнего мира по сугубо человеческим меркам (“человек - мера всех вещей” - Протагор), т.е. выступают средством актуализации во-вне. Эвалюативная (ценностная) технология есть не что иное, как внешняя сторона культуро-творческого процесса, связанная с преобразованием внешней среды обитания антропного субъекта. Именно технологическая составляющая эллинских формообразов и формообразований все еще продолжают подпитывать возрожденческие и гуманистические идеи и проекты современного информационно-технологического человечества. На антропологической стадии метаистории технология выступает средством реализации человеком широкомасштабного гуманистического самопроекта, довольно органично соотнесенного и соподчиненного с выполнением им своей космологической функции. Хотя эвалюативная технология структурно принадлежит культуре, однако генетически она продолжает быть связанной с трансцендентной технологией, выступает антропологически проявленной стороной вселенского креативного процесса. По отношению к эвалюативной цивилизации технология оказывается неким процессом, гармонизирующим ценностно оформленные общественные явления и природные феномены, выступает средством культурации как общественных, так и природных связей.
Социальные сущностные силы. Метаисторически за человеческим универсумом следует универсум социальный, представляющий собой онтологическую нишу расширившегося Бытия, которую занимают уже частичные, нецелостные индивиды - социальные субъекты. Основным содержанием движения этого онтологического формообразования является последовательный социогенез человека, его всесторонняя и тотальная социализация.
Впервые в пределах социального универсума цивилизация обретает свою нормативную самобытность и имманентность. Она становится своеобразной средой обитания социомассы, онтологически структурирующей многообразные социальные функции и потребности индивидов. Жизнедеятельность нецелостных, частичных социальных субъектов начинает жестко регламентироваться нормами долженствования - предписательными, прескриптивными значениями. Именно социально-нормативный характер онтологически обособленной от культуры, внешне проявленной, явной формы цивилизации позволяет ее обозначать термином “прескриптивная цивилизация”.
Сущностные силы цивилизации являются еще более “мощными орудийными силами” нежели родовые сущностные силы культуры. Ведь социальному универсуму необходимо постоянно интегрировать в целостность не только динамично развивающиеся безличные социальные структуры, но и стягивать в некую ментальную целостность дурную бесконечность социальных ролей и диспозиций, на которые распадается совокупная деятельность человека. Чем более мир дифференцируется, тем больше сил и средств необходимо затрачивать на его онтологическую консолидацию. Естественно, что частичный, нецелостный социальный субъект, в состоянии консолидировать цивилизованную форму своей экзистенции опираясь не только на социальные сущностные силы, но и за счет привлечения энергетики более высоких нежели социальный, универсумов. Основная часть производительных сил общества идет на удовлетворение все возрастающих потребностей все более частичного социального субъекта. Более 60 процентов средств производства задействованы на расширенное производство цивилизованных способов существования. Трудно себе даже предположить что произойдет с современной западной цивилизацией если достигнутые «стандарты потребления» окажется невозможным поддерживать на «достаточном уровне». Как известно именно на цивилизационной стадии истории, культура начинает финансироваться по так известному «остаточному принципу» и если развитые страны тратят на нее в пределах 3-5 процентов бюджетных средств, то в реформирующейся России этот показатель уже «достиг» 0,3 процента. Что же тогда говорить о Культе – современное цивилизованное человечество уделяет ему столь незначительную часть от своих благ, что оно не имеет какого либо права рассчитывать на Его Благодать.
Порождая универсум объективаций за счет рационального преобразования природных сущностных сил в технологические силы, социальный универсум обретает свое особое природно-технологическое онтологическое основание.
Социальные силы технологии. Выделившаяся из культуры цивилизация основывается уже на ином технологическом базисе, который уместно обозначать прескриптивной технологией. Здесь технология оказывается составной частью социальной процессуальности.
В рамках нормативных, прескриптивных субъектно-объектных отношений совокупной деятельности социализируется не только внутренний мир человека, но и его мир внешний. Последовательно присваиваемые человеком социальные сущностные силы раздваиваются, одна их часть становится средством социализации во-внутрь, обеспечивающим процесс социального становления человека, его социогенезис, другая часть выступает средством социализации во-вне, связанной с процессом преобразования среды обитания по сугубо социальным меркам. Социализация во-вне есть не что иное, как процесс формирования социального не-Я из опредмеченных элементов природы посредством прескриптивной промышленной технологии. Наиболее впечатляющих достижений современная западная цивилизация достигла именно благодаря массированному применению социально опосредованной технологии. Стоит лишь взглянуть на любой мегаполис, чтобы ощутить всю ту разницу между способом существования современного массового человека и гражданина греческого полиса.
Однако и здесь технология все еще остается эпифеноменом внетехнологической онтологической процессуальности. Но именно в рамках социального универсума она обретает все системные признаки и свойства, дающие ей возможность при благоприятных метаисторических условиях полностью обособиться в качестве относительно целостной и универсальной системы, то есть превратиться в особый онтологический универсум.
Природные (технологические) сущностные силы. Природные сущностные силы, а не «бессильный Дух» представляют собой наивысшую потенцию сущностных сил в многоуровневой человекой экзистенции. «Изначально у духа нет собственной энергии. – пишет Шелер, - Высшая форма бытия, так сказать, «детерминирует» сущность и сущностные сферы мироустроения, но осуществляется она посредством иного, второго принципа, который столь же изначально свойствен первосущему: посредством творящего реальность и определяющего случайные образы принципа, который мы называем «порывом», или фантазией порыва, творящей образы. Следовательно, самое могущественное, что есть в мире, это «слепые» к идеям, формам и образам центры сил неорганического мира как нижние точки действия этого «порыва». Согласно шире распространяющемуся представлению нашей нынешней теоретической физики, эти центры в своих взаимоотношениях друг с другом, вероятно, вообще не подчиняются какой-то онтической закономерности, а подлежат только случайной закономерности статистического характера… Не закон стоит за хаосом случайности и произвола в онтологическом смысле, но хаос царит за законом формально-механического характера… все природные процессы (в том числе и в микросфере) получаются из взаимодействия произвольных силовых единиц»[304]. Человек в универсуме объективаций укоренен своей самой низшей формой ментальности - рациональным (телесным) Я. И именно это самое низшее Я оказывается хотя и менее демиургийным, но энергетически максимально обеспеченным. Если кто и превосходит его по онтологической мощи, то лишь темные силы Хаоса.
В рамках природного универсума постепенно складывается дескриптивная технология, или явная технология, которая довольно быстро обосабливается в некую подсистему объективированных связей. Телесная человечность и очеловеченная телесность сливаются в единую универсальную форму бытия, активно противостоящую деструктивным силам хаоса, основу которого составляют внутриобъектные отношения. Современное человечество переживает новый этап своей метаистории, связанный с выделением технологии из цивилизации, онтологического обособления и всесторонней ее универсализации. Наконец-то технология из эпифеномена над- и внетехнологических форм процессуальности превращается в особый феномен и начинает развертывать и актуализировать потенциальности на собственной имманентной основе, состоящей из явных дескриптивных, рациональных знаний, входящих в корпус науки. Технология становится научной, наука технологичной. В онтологическом плане дескриптивная технология оказывается ведущей и определяющей стороной всестороннего освоения=присвоения человеком своих природных сущностных сил, используемых для преобразования телесной организации мира в относительно целостную и универсальную систему объективаций, призванную служить онтологическим основанием предельно развернутого многоуровневого человеческого бытия.
Дескриптивная технология выступает имманентной формой воздействия телесного Я на телесную структуру мироздания, делающую их связи и отношения природосоразмерными. При этом, природные процессы обретают технологическую, а технология природную форму. В рамках объектно-объектных отношений человеческого познания и природа и технология начинают постепенно восходить к своим “чистым формам”, сливаясь в единый универсум субъективно оформленных объективаций. Техногенезис человека становится как бы онтологическим средством, завершающим процесс природогенезиса - становления природы в качестве относительно самостоятельного универсума.
Технология становится основным и важнейшим средством рационального присутствия человека в объективированном мире. «Искать, - писал Фуко, - нужно, скорее, схему изменений, которые подразумеваются самой игрой отношений силы. «Распределения власти», «присвоения знания» представляют собой всегда лишь мгновенные срезы тех или иных процессов – либо накопленного усиления наиболее сильного элемента, либо инверсии отношения, либо одновременного роста обоих членов. Отношения власти-знания – это не наличные формы распределения, это – «матрицы преобразований»[305]. Осваиваемые человеком природные сущностные силы раздваиваются на ту их часть, которая обеспечивает рационализацию во-внутрь, способствующую предельной рационализации телесной ипостаси иерархического человека и ту, которая призвана преобразовывать внешнюю природу в качестве тотальной телесной организации мира в универсум объективаций, организованный по строго рациональным, научным меркам. Этот процесс овнешнения и объективации телесного субъекта есть не что иное как рационализация во-вне. Дескриптивная технология и есть та целостная и универсальная онтологическая процессуальность, которая придает природным феноменам сугубо рациональную форму, гармонизирует и упорядочивает силы естественной стихии, ставит их на службу всей иерархии целеполаганий многомерного человеческого существования. Современный человек свыше 60 процентов своего экономического потенциала затрачивает на расширенное воспроизводство информационно-технологического господства над миром в целях максимального удовлетворения своих потребностей так называемой «товарной массой». У него уже почти не остается средств для поддержания своих символических отношений с Культом, ценностных связей с Культурой и нормативных обязательств перед Цивилизацией.
В предельно широком метаисторическом аспекте, дескриптивная технология по своим онтологическим функциям, является неким надприродным средством окончательного становления природы в качестве особого универсума объективаций, посредством которых естественные процессы в дескриптивно преобразованной форме оказываются окончательно интегрированными во всю иерархию человеческого бытия. Здесь пустотные и трансцендентальные Первоначала человеческой метаистории достигают своей предельной онтологической полноты, позволяющей человеку более успешно осуществлять свое духовное восхождение, опираясь на онтологическую “твердь” выделенных метаисторических ступенек.
Мы рассмотрели иерархию сущностных сил, посредством которых изначальная абсолютная онтологическая пустотность развертывается в абсолютную полноту бытия, способствующую Сущему оставаться тождественным Неиному на всех этапах метаистории. Однако это возможно лишь при идеальных условиях, т.е. при условиях когда вся галлерея метаисторических персонажей в пределах своих универсумов актуализируют свои потенциальности исключительно за счет собственных экзистенциальных ресурсов, своего собственного силового поля. В этой идеальной метаисторической ситуации сущностные силы субъекта идут на его собственное самоосвоение, на освоение без самоотчуждения. При этом, внешний и внутренний миры оказываются онтологически изоморфными, а самоосвоение, т.е. освоение потенций внутреннего мира и освоение или приобщение к своим собственным актуализированным потенциальностям оказываются всего лишь двумя формами единой экзистенциальной активности, в которой потребности и способности оказываются сбалансированными под онтологические приоритеты человеческих виртуальных способностей. “Несвоецентричное вбирание и впитывание, - писал Г.С.Батищев, - есть не присвоение, но приобщение”.[306] Однако реально Сущее формируется не только под воздействием сил Неиного, но и массированного насилия со стороны Иного. И это придает формированию Сущего довольно драматический характер, драматизирующий процесс формирования основных онтологических персонажей этой исторической драмы. В экзистенциальной ситуации ставше патологической уже не может идти речи об освоении как приобщении, оно обретает форму насильственного присвоения. Вся историцистская линия “развития” объективной реальности проходит в режиме катастрофы, основу которого составляет насильственное присвоение квазисущностных сил, за обладание которыми субъект расплачивается перманентным самоотчуждением.
2.3. Насилие как “повивальная бабка” истории
|
|
Мистика силы связана с мистикой крови. Но это и есть настоящий сатанизм... Никакие понятия о чести не ограничивают более проявления насилия. Обнаруживается голая сила, противоположная духу (честь есть уже дух), и это есть обнаружение сатанизма. Воля к могуществу, апофеоз силы отрицает жалость и сострадание. Н. Бердяев Дух и сила.
|
Чем менее целостной и универсальной является возникающая в истории форма бытие, тем больше ей необходимо внутренних сил, чтобы развернуть свои потенциальности во-вне, актуализировать их в сущем. Плоская эволюция овнешненной и проявленной объективации тебует приложения сил соразмерных уровню интенсификации процесса ее рассширенного и прогрессивного развития. При естественной автоэволюции (принцип ничегонеделания) объективации вполне достаточно экзистенциальных сил доставшихся ей в момент эманационно-креационистского ее порождения, в условиях же сверхъестественной революции (скачек в развитии) объективации необходима не только имманентная сила, но и вся энергетика породившего его универсума. И тогда силы плоско эволюционирующей объективации начинают выступать уже не столько средством развертывания ее внутренних потенциальностей, сколько инструментом насилия над породившим его универсумом. Чтобы в кратчайшие исторические сроки развернуть все свои потенции, универсуму требуются дополнительные энергетические ресурсы, которые он насильственно изымает у высших и онтологически более слабых универсумов.
Особо «сильными» и репрессивными части целого оказываются в ситуации интенсивного распада целого. Как известно, совокупность частей на которые распадается целое вновь несводимо к его изначальному качеству. И не только в связи с тем, простая сумма качеств частей не является онтологически тождественным интегральному качеству целостности, но и потому еще, что возникающая при этом совокупность противоборствующих сил оказывается на несколько порядков выше сущностной силы распадающейся целостности. Центробежные силы в универсуме значительно превышают по своей мощи силы центростремительные и могут составлять собой интегральную силу целостности лишь будучи органически взаимосогласованными между собой в пределах ее онтологического качества. Лишь составляя собой гармоническое целое силы частей интегрируются в сущностную силу монады, онтологически более слабую, менее репрессивную, но и более жизнестойкую. Действия центробожных сил в развивающейся системе, согласно синергетике могут быть локализованы или даже сведены на нет отнюдь не превосходящими по мощи центростремительными силами, а лишь теми слабыми флуктуациями, которые исходят из ее сущности. Если центростремительные силы в универсуме своим источником имеют живительную слабость целого, благодаря которой оно сохраняет свою изначальную органичность и гармоничность, то центробежные силы подпитываются энергетикой упорядоченного хаоса, а потому и оказываются более мощными и разрушительными. Вот почему энергия распада никогда не может модифицироваться в энергию синтеза и консолидации, так как общим ее вектором становится уже не сущностная сила, восходящая к бессильной гармонии, а явное насилие исходящее из глубин самоупорядочивающегося хаоса.
Сущностная сила принадлежит, как мы выяснили выше, не объекту, а субъекту, однако в акте объективации субъекта она в своей превращенной форме интроецируется в морфологические структуры объективации. При условии если субъект не отчуждает в пользу объективации свои сущностные силы, а лишь своей в ней онтологической укорененностью постоянно ее подпитывает своей экзистенциальной энергетикой, между субъектом и универсумом его объективаций складываются вполне гармоничные, а следовательно и ненасильственные отношения. В условиях же перманентного самоотчуждения человека его сущностные силы столь же перманентно изымаются из его субъективности и в своей превратной форме оказываются средствами объектного самонасилия субъекта. Отчужденные от субъекта сущностные силы становятся в источник насилия объективированного мира над разукорененным и отчужденным от него субъектом. В чем же причина той метаморфозы, которая происходит с сущностными силами, почему они имеют тенденцию изменять свой вектор на диаметрально противоположную направленность и из сил созидания и сотрудничества превращаться во внутренний источник экзистенциального самонасилия? Н.Бердяев видит эту причину в процессе перманентной объективации Субъективного Духа, который не может не вести к возникновению так называемого объективного Духа или духа Объекта, который согласно Гегелю является основным субъектом исторического прогресса. Примерно такой же точки зрения придерживается и Зиммель, который объясняет возникновение дисгармонии во взаимоотношениях между субъектом и объективным миром процессом многократной самообъективации субъекта, которая в конце концов модифицируется во внесубъектный процесс объективации объективного. «Возможности и пределы самостоятельности объективного духа, - считает Зиммель, - должны лишь ясно показать, что также и там, где он порождается из сознания субъективного духа, после своей объективации он обладает уже отделенной от субъективного духа значимостью и независимой возможностью повторной объективации»[307]. Сила субъекта модифицируется в насилие отчужденного от него объекта на континууме, предельными значениями которого объективация субъекта и объективация объекта. Переход силы в насилие осуществляется в ходе бесконечного ряда повторных самообъективаций субъекта, вплоть до его почти полной экзистенциальной исчерпанности («вырабатывание внутреннего человека»).
Сила, мощь перманентно наращиваясь, перетекает из изначально «слабого» субъекта в «жесткий» мир его самообъектививаций. При этом свобода становится все более необходимой, а необходимость все более законосообразной со все более разветвленной системой внешней детерминации, интериоризация субъектом которой обретает форму внутренней самодетерминированности, замещающей собой изначальную спонтанность духовной слабости. По мере нисхождения Духа во все более низшие слои человеческой экзистенции, человеческая душа становится все более волевой, опирающейся на исторически присвоенную «силу духа». «Всемирная история, - писал Гегель в «Философии истории», - есть прогресс в сознании свободы, - прогресс, который мы должны познавать в его необходимости»[308]. Как мы видим Гегель связывает происходящие во Всемирной истории экзистенциальные процессы с перманентным обретением спонтанной свободы все более каузальных форм, присущих необходимости, силовое онтологическое поле которой имеет тенденцию становиться все более всеобъемлющим и тотальным. В связи с тем, что по мере субстанциализации мира, в нем нарастает силовое поле онтологической необходимости, изначальная свобода духа начинает сопрягать свою спонтанность с движущими силами Всемирной истории. Гегель прав когда указывает на ту метаморфозу, которая происходит со свободой, но при этом он не оговаривается, что здесь мы имеем дело с «падшей свободой» или псевдосвободой «падшего мира», не со «свободой для» поддержания изначальной целостности перманентно развертывающегося бытия, а «свободой от» его изначальной синкретической целостности в пользу хитрого исторического разума преследующего цели «высвободить» всю иерархию движущих сил прогрессирующей Необходимости или необходимого Прогресса из под трансцендентной юрисдикции Свободы Духа. Для того, чтобы необходимость стала свободной, сама свобода должна стать необходимостью, т.е. преодолеть свою изначальную трансцендентность и обрести столь необходимую для исторического прогресса феноменальность. Свобода познаваемая как необходимость превращается в свою противоположность – в Несвободу. Но об этом Гегель предпочитает умалчивать, хотя огромный исторический материал, который он привлекает для обоснования своей историсофемы как раз и свидетельствует о том, что вся трагедия человеческой истории заключается именно в том, что развертывающийся во времени и пространстве экзистенциальный ряд, в основном, детерминируется законами необходимости и не в качестве «подстилающей структуры» для метаисторического развертывания спонтанной Свободы Духа, а в качестве все возрастающего силового поля ее историцистского перевертыша – Свободы Тела или Духовной Несвободы. Свобода, принципиально непознаваемая рационально, открывающаяся в апофатических глубинах Духа лишь подвигом веры, будучи рационально «познанной» и объективированной превращается в свою противоположность – Несвободу. Именно Несвобода в гегелевской историософии и оказывается средством реализации целей хитрого и коварного исторического разума.
Историцизм закрепляет свои позиции в человеческой истории перманентным наращиванием насилия низших онтологий над высшими формами бытия. Согласно гегелевской диалектике насилие вполне оправдано, когда новое борется с отживающим старым. Гегель пел диалектические дифирамбы полезной роли зла в мировой истории. Деструкцию, насильственное уничтожение предшествующих форм человеческой экзистенции он включил в понятие “снятие” в качестве онтологически конструктивного механизма развития. Однако при этом им упускались критерии того, насколько новое по отношению к старому выступает более положительным бытием. Согласно субъектоцентризму, новое лишь постольку может быть позитивным, поскольку в состоянии интегрироваться в экзистенциальную целостность, до нее существовавшую. Абсолютизация новообразованного компонента в ущерб его трансцендентной монадности универсума может привести лишь к распаду его целостности, а не к дальнейшей вв внутренней консолидированности. “Фактически всякий крупный рост, - писал М.Хайдеггер, - приносит с собой также страшный распад и гибель: страдание, симптомы заката принадлежат к временам громадных шагов вперед”.[309] По известной версии Шпенглера, человек - это агрессивное животное, в котором техника господства, борьбы за существование достигла наивысшего выражения. Но господствующим животным человек становится лишь на пути перманентного насилия над своей целостной и сакральной экзистенции.
В ситуации квазиобъективации субъекта, когда отчуждаемый от человека мир начинает активно формовать его по своим объектным меркам, сущность и существование субъекта меняются своими изначальными местами. Не экзистенция, существование оказывается предваряющим началом для становящейся сущности, а сама сущность начинает насильственно модернизировать процесс спонтанного существования, поверять алгеброй ее гармонию, замещая последнюю жестким порядком, подчиняющимся законам объективной необходимости. Интересно, что в историософии Гегеля именно наличие гармонии в сущем является фактором препятствующим развитию объективного духа, затрудняющим бег исторического прогресса. «Всемирная история, - пишет Гегель, - не есть арена счастья. Периоды счастья являются в ней пустыми листами, потому что они являются периодами гармонии, отсутствия противоположности»[310]. Получается, что исторический процесс обязан не предустановленной гармонии, а ее антиподом – порядком, который устанавливается той стороной в единстве противоположностей, которая оказалась победителем в их радикальной борьбе. Содержанием Всемирной Истории таким образом оказывается не процесс вытягивания гармонического ряда из апофатических глубин Субъективного Духа, а перманентно изменяемые порядки в сущем, устанавливаемые Объективным Духом в строгом соответствии с требованиями победившей стороны его собственного релятивного единства, ибо «борьба противоположностей абсолютна, а их единство относительно». Но не вскрывает ли эта формула всего лишь патологию в становлении мира – мира внесубъектных объективаций? На наш взгляд, в этой патологической онтологической ситуации эмпирически наблюдаемую форму существования субъекта почти невозможно отличить от любого функционирующего в “объективной реальности” объекта. Однако при этом отчужденная сущность может развертываться лишь в неподлинное, ложное существование. “Субстанциалистски настроенный человек, - пишет Г.С.Батищев, - именно из-за принципиального разочарования в попытках утвердить свою самостоятельность как способ бытия в мире, тяготеет укоренить свою позицию в таящейся под всеми феноменами мира абсолютной мощи посредством своей объектно-вещной активности как универсального мироотношения... объектное - бытие, выступает для него как толкающее его раствориться именно в бессубъектном мировом порядке - в некоем универсальном и всеобъемлюще Абсолютном Объекте-Вещи, в абсолютном Миропорядке... быть субъектом равносильно в конечном счете стремлению быть не самим собою, но объектом-вещью, наилучшим образом слитым с Миропорядком, с Абсолютным Объектом-Вещью. Человек, добравшийся до вершин прогресса, до своего объектно-вещного идеала, был бы уже вовсе не субъект. Он начисто изжил бы и вытравил бы в себе следы субъектности и “антропоморфности”. Он был бы организован настолько научно и строго, что стал бы не отличим от той автоматически действующей логики миропорядка, в которую он погрузился, он стал бы более не выделимым из нее, как невыделима унифицированная часть из суммы или системы унифицированных частей”.[311] Субъект может оставаться онтологически самотождественным на всем протяжении своей истории при условии, если его единение с собственным миром будет абсолютным, а борьба с ним – относительной. Историософия должна опираться не на диалектику объективного духа, делающую акцент на борьбе непримиримых противоположностей единого, а на диалектику субъективного духа, основу которой составляет развертывание потенциальностей единого в актуализированную множественность сущего.
Процесс становления любого фрагмента, части некоей интегративной онтологической целостности всегда подчинен целям становления этой целостности. Однако фрагмент, часть гипертрофированно развиваясь не на своей собственной энергетической основе, не на основе вырабатывания своих внутренних сущностных сил и потенциальностей, превращается во внутренние “орган” самонасилия и саморазрушения экзистенции. В своей “Воле к власти” Ф.Ницше пишет: “Рассматривать то, что являет нам всякая жизнь как уменьшенную формулу для тенденции целого: отсюда новое определение понятия "жизнь", как воли к власти. Вместо "причины и действия" борьба становлений друг с другом, часто с поглощением противника; нет определенного числа становлений”.[312] Особую интенсивность онтологическая деструктивность достигает тогда, когда часть, генетически и функционально принадлежащая некоему целому, не столько стремится превратиться в относительно самостоятельную от него целостность, сколько стать сверхцелостностью, насильственно втягивающую в черную дыру своего квазистановления все иные онтологические целостности. «Низшая природа, - писал Н.Бердяев, - когда она занимает место высшей природы, она становится злом, ложью»[313]. Сверхцелостность может лишь некоторое время существовать на развалинах поверженного мира за счет поглощения, инкорпорирования его актуализированных потенциальностей, как и любой поработитель, неспособный к ценностному воспроизводству своей жизни в состоянии существовать лишь за счет репараций ценностей насильственно отчуждаемых у порабощенных. Так, псевдокультура может “процветать” только на развалинах квазиобъективаций сакрального культа, псевдоцивилизация лишь за счет инкорпорирования культурных форм, псевдотехнология - за счет унификации и сверхпотребления цивилизационных форм человеческой жизнедеятельности и т.п. С развертыванием все более низших и менее универсальных экзистенциальных форм, человеку приходится иметь дело со все более мощными силами так как порождающие их высшие и более универсальные формы менее всего нуждаются, нежели их порождения в силовых способах удержания складывающегося в универсуме гомеостаза. В то же время именно их относительная «слабость» позволяет им, даже будучи задвинутыми за внешний фасад Бытия, оставаться единственным энергетическим источником для тех, кто над ними осуществляет перманентное онтологическое насилие.
Человеческая метаистория в ментальном плане есть не что иное, как возникновение все более проявленных, но и менее универсальных и целостных человеческих типов. По мере их появления между ними разворачивается борьба за «передел мира», «жизненного пространства». Онтологический конфликт не есть нечто обособленное от общей системы человеческой деструктивности, чей генезис восходит к грехопадению первопращура, отпадению его экзистенции от безоблачного существования в Духе. Вся последующая история человечества — это не только стремительная эволюция его внешнего объективированного мира, но и столь же стремительная деградация его мира внутреннего. По мере того, как человечество все более присваивало разнообразные сущностные силы, оно становилось все более самоотчужденным и несчастным. «Человек в сравнении с дочеловеком, - писал Ницше, - представляет колоссальное количество власти - не плюс "счастья"! Как можно утверждать, что он стремился к счастью?»[314]. Опираясь на многочисленные палеонтологические и антропологические исследования, Э. Фромм сделал вывод: особой конфликтогенностью человек обязан не своим генезису и предыстории, а тому, что это некрофильское свойство он "благоприобрел" в процессе весьма противоречивой истории, каждый шаг которой по пути прогресса сопровождался все более изощренными актами самонасилия. "По мере цивилизационного прогресса, - делает свой печальный вывод Э. Фромм, - степень деструктивности возрастает"[315].
Если терпение как экзистенциальная категория связано с естественным процессом воплощения сущностных сил в структуры сущего, то нетерпение - с процессом эскалации насилия как во внешнем, так и во внутреннем мире человека. Нетерпение, есть такое состояние субъективной системы, которое провоцирует форсированное “развитие” частей целого за счет его экзистенциальной деградации, и прежде всего, вырождения тех его частей, которые принадлежат более высоким срезам его внутренней иерархически построенной ментальной структуры. “Мировой порядок, - пишет Карл Ясперс, - может быть осуществлен только при наличии терпимости. Нетерпимость означает насилие, вытеснение, агрессию... Границу терпимости составляет только полная нетерпимость. Однако каждый человек, каким бы нетерпимым ни было его поведение, должен быть способен к терпимости, потому что он человек”.[316] Гегелевская историософия основанная на принципе исторического прогресса буквально пронизана «онтологическим нетерпением», апофеозом насильственной борьбы нового с отживающим свой век старым. Диалектический механизм снятия в историческом процессе осуществляется не иначе как через насилие, гибель, смерть. Тема насилия у Гегеля становится чуть ли не основной, главной в общей концепции исторического развития и прогресса. Конечно, же человек страдает от переизбытка исторического, но такой уж его удел - подчиняться установлениям развивающейся абсолютной идеи. Правда Гегель включает в свою схематику идею отчуждения, но она довольно искусственно соединяется с идеей развития в рамках единой позитивной диалектики сущего.
![]()
![]()
![]() Человеком
последовательно самоактуализирующемся в своей метаистории, истинная иерархия
сущностных сил, соподчиненность сил низших форм бытия силам высших онтологий,
рационально не осознается. Напротив, хитрый исторический разум предельно
акцентуирует и обостряет его внимание на наиболее низших и проявленных силах,
приводящих в движение самые внешние слои его многоуровневой экзистенции.
Эмпирический человек вполне уверен в том, что чем более он использует
собственно силовые способы переустройства своего Бытия, тем более устойчивым и
консолидированным оно оказывается. Величайшее заблуждение насчет
приоритетности низших сущностных сил над высшими и лежит в основании его
сверхактивного, сверхпассионарного поведения во внешнем мире и его довольно
вялого участия в протекании духовных процессов. Внутренняя сила вырождается в
открытое насилие как только применяется за верхними онтологическими рубежами
формы существования которой она имманентна. Как только человек, полагаясь на
перевернутую иерархию сущностных сил, начинает активно и массированно
применять определенную разновидность сил и энергий за имманентными им
онтологическими пределами, последние из средств эволюции и коэволюции
превращаются в орудия насилия над высшими онтологиями, а в конечном
счете и в средства самонасилия, то есть насилия низких Я над
Я высшими, следствием чего и происходит “формирование”, “развитие” все
более репрессивных и ложных ментальных, семантических и онтологических объективаций.
«Почему покорились? – вопрошает Лев Шестов, - Откуда у разума власть навязывать
бытию свои истины - ему самому ни на что не нужные и для бытия ненавистные,
порой совершенно невыносимые? Такого вопроса никто не ставит - ни люди, ни
боги, по крайней мере боги просвещенного язычества, равно как и Бог
просвещенного христианства. Это ведь было бы тяжким оскорблением разума,
величия разума»[317].
Потому и покорились отчужденному миру, что насилие исходило изнутри, а не
извне, что субъектом отчуждения оказался разум самого человека, Разум
восставший против божественного Логоса. Бог никого не насилует и не принуждает,
напротив именно он является «объектом» насилия коварного «объективного разума»,
утратившего свою былую субъектность и ставший персонификатором «объективной
действительности». Человек покорился самому себе, той части своей самости,
которая возникла в момент его онтологического отпадения от Бога и с момента его
грехопадения становится все более могущественным насильником.
Человеком
последовательно самоактуализирующемся в своей метаистории, истинная иерархия
сущностных сил, соподчиненность сил низших форм бытия силам высших онтологий,
рационально не осознается. Напротив, хитрый исторический разум предельно
акцентуирует и обостряет его внимание на наиболее низших и проявленных силах,
приводящих в движение самые внешние слои его многоуровневой экзистенции.
Эмпирический человек вполне уверен в том, что чем более он использует
собственно силовые способы переустройства своего Бытия, тем более устойчивым и
консолидированным оно оказывается. Величайшее заблуждение насчет
приоритетности низших сущностных сил над высшими и лежит в основании его
сверхактивного, сверхпассионарного поведения во внешнем мире и его довольно
вялого участия в протекании духовных процессов. Внутренняя сила вырождается в
открытое насилие как только применяется за верхними онтологическими рубежами
формы существования которой она имманентна. Как только человек, полагаясь на
перевернутую иерархию сущностных сил, начинает активно и массированно
применять определенную разновидность сил и энергий за имманентными им
онтологическими пределами, последние из средств эволюции и коэволюции
превращаются в орудия насилия над высшими онтологиями, а в конечном
счете и в средства самонасилия, то есть насилия низких Я над
Я высшими, следствием чего и происходит “формирование”, “развитие” все
более репрессивных и ложных ментальных, семантических и онтологических объективаций.
«Почему покорились? – вопрошает Лев Шестов, - Откуда у разума власть навязывать
бытию свои истины - ему самому ни на что не нужные и для бытия ненавистные,
порой совершенно невыносимые? Такого вопроса никто не ставит - ни люди, ни
боги, по крайней мере боги просвещенного язычества, равно как и Бог
просвещенного христианства. Это ведь было бы тяжким оскорблением разума,
величия разума»[317].
Потому и покорились отчужденному миру, что насилие исходило изнутри, а не
извне, что субъектом отчуждения оказался разум самого человека, Разум
восставший против божественного Логоса. Бог никого не насилует и не принуждает,
напротив именно он является «объектом» насилия коварного «объективного разума»,
утратившего свою былую субъектность и ставший персонификатором «объективной
действительности». Человек покорился самому себе, той части своей самости,
которая возникла в момент его онтологического отпадения от Бога и с момента его
грехопадения становится все более могущественным насильником.
![]() Насилие
и самонасилие две взаимосвязанные стороны единого деструктивного акта,
осуществляемого человеком в процессе насыщения им квазипотребностей исходящих
из низших Я за счет гипертрофии процесса актуализации способностей более
высших субличностей. Низшее Я испытывая нужду в
сверхнечто=ничтожестве, а потому и насильственно при-нуждает высшее Я
кумулировать свои способности в сфере расширенного воспроизводств
соответствующих средств потребления, что, естественно, не может не
деформировать процесс актуализации ее потенциальностей высших субличностей.
Самонасилие есть не что иное, как насилие, осуществляемое низшими Я над высшими
Я, связанное с реализацией своих квазипотребностей. “Поскольку меня определяют
и насилуют мои собственные потребности, - писал К.Маркс, - насилие надо мной
совершает не нечто чуждое, а лишь моя собственная природа, являющаяся
совокупностью потребностей и влечений (иначе говоря, мой интерес,
выступающий во всеобщей рефлектированной форме”[318]. Как только в
экзистенциальном акте потребности начинают возвышаться над способностями,
актуализированные потенциальности из неотчуждаемых онтологических ценностей
превращаются в так называемые “потребительские стоимости” и в качестве таковых
оказываются эффективными средствами человеческого самонасилия, средствами
насилия низших субличностей над высшими. Маньяк не особо не разбирающийся в
выборе средств для достижении своих скотских целей – это вечно нуждающийся
человек, т.е. все более испытывающий нужду во внешнем обладании по мере все
большего перенасыщения своих витальных потребностей. Потребности становятся все
более репрессивными по мере их насыщения, свою ненасильственную форму они
обретают лишь будучи подчиненными способностям самого потребителя производить
не только для себя, но и для других средства потребления. Вневиртуальные,
внекреативные потребности коррелируют не с силой, восходящей к Благодати, а к
насилию, посредством которого только и возможно присваивать блага производимые
отнюдь не активными потребителями. «Преобладание репрессивных потребностей, –
считает Маркузе, - свершившийся факт, принятый в неведении и отчаянии; но этот
факт, с которым нельзя смиряться как в интересах довольного своим положением
индивида, так и всех тех, чья нищета является платой за его удовлетворение»[319].
Насилие
и самонасилие две взаимосвязанные стороны единого деструктивного акта,
осуществляемого человеком в процессе насыщения им квазипотребностей исходящих
из низших Я за счет гипертрофии процесса актуализации способностей более
высших субличностей. Низшее Я испытывая нужду в
сверхнечто=ничтожестве, а потому и насильственно при-нуждает высшее Я
кумулировать свои способности в сфере расширенного воспроизводств
соответствующих средств потребления, что, естественно, не может не
деформировать процесс актуализации ее потенциальностей высших субличностей.
Самонасилие есть не что иное, как насилие, осуществляемое низшими Я над высшими
Я, связанное с реализацией своих квазипотребностей. “Поскольку меня определяют
и насилуют мои собственные потребности, - писал К.Маркс, - насилие надо мной
совершает не нечто чуждое, а лишь моя собственная природа, являющаяся
совокупностью потребностей и влечений (иначе говоря, мой интерес,
выступающий во всеобщей рефлектированной форме”[318]. Как только в
экзистенциальном акте потребности начинают возвышаться над способностями,
актуализированные потенциальности из неотчуждаемых онтологических ценностей
превращаются в так называемые “потребительские стоимости” и в качестве таковых
оказываются эффективными средствами человеческого самонасилия, средствами
насилия низших субличностей над высшими. Маньяк не особо не разбирающийся в
выборе средств для достижении своих скотских целей – это вечно нуждающийся
человек, т.е. все более испытывающий нужду во внешнем обладании по мере все
большего перенасыщения своих витальных потребностей. Потребности становятся все
более репрессивными по мере их насыщения, свою ненасильственную форму они
обретают лишь будучи подчиненными способностям самого потребителя производить
не только для себя, но и для других средства потребления. Вневиртуальные,
внекреативные потребности коррелируют не с силой, восходящей к Благодати, а к
насилию, посредством которого только и возможно присваивать блага производимые
отнюдь не активными потребителями. «Преобладание репрессивных потребностей, –
считает Маркузе, - свершившийся факт, принятый в неведении и отчаянии; но этот
факт, с которым нельзя смиряться как в интересах довольного своим положением
индивида, так и всех тех, чья нищета является платой за его удовлетворение»[319].
Если сила призвана консолидировать систему внутренних, имманентных отношений в универсуме и способствовать перманентному укоренению в нем соответствующей субличности, то насилие, всегда связанное с репрессивной экспансией в пределы более высших и порождающих универсумов, ведет к самодеструкции и саморазукоренению субличности. Движущим мотивом любой формы насилия всегда является стремление субличности актуализировать волю к власти, волю к господству над целостным и универсальным бытием. Тоталитаризм в ментальном плане и есть актуализированное господство низшего я над экзистенциальной тотальностью целостного Человека. Для того, чтобы низшая форма бытия могла центрировать на себя всю тотальность и многоуровневость экзистенции, ей приходится до основания разрушить более высокие онтологические центры, чтобы на их развалинах начать строительство нового уклада жизни, более соответствующему целям интенсивной актуализации содержащихся в этой низшей форме бытия потенциальностей. Отношения в универсуме начинают радикально модернизироваться под приоритеты тоталитарного насыщения квазипотребностей «восходящей онтологии». При следовании известной онтологической норме в развертывании потенциальностей универсума интесивность используемых сущностных сил находится в обратной пропорциональной зависимости от степени консолидированности его частей. В ситуации достижения наивысшего единства между элементами перманентно развертывающегося множества объем силы, направленной на их внутреннюю консолидацию, сводится к минимуму, а потому и выглядит стороннему наблюдателю как онтологическая слабость. Напротив, объем и интенсивность применяемого в универсуме насилия прямо пропорциональны степени его онтологической деградации, стремлению элементов развертывающейся множественности к автономии от его универсальной целостности.
Насилие в универсуме оказывается максимальным в ситуации, когда тенденция к самораспаду становится необратимой, энергетическая аннигиляция распадающихся структур былой целостности становится основой тотального насилия и самонасилия. Тоталитаризм в энергетическом плане и есть предельное насилие экзистенциально ущербной тотальности, осуществляющей свою предсмертную экспансию в экзистенциальные пределы более жизнестойких универсальных тотальностей или тотальных универсальностей, с тем, чтобы за счет онтологического вампиризма постараться консолидировать распадающиеся связи и отношения в собственном универсуме. Низшая форма экзистенции в состоянии осуществлять свою квазиэволюцию (революцию) не иначе, как за счет онтологического вампиризма над целостной экзистенцией. “Органические системы, составляющие человека, - писал Гете, - возникают одна из другой, следуют друг за другом, превращаются друг в друга, вытесняют одна другую, даже пожирают друг друга, так что от многих способностей, от многих проявлений силы через некоторое время не остается почти и следа”.[320]
Если метаистория самоосуществляется путем постепенного развертывания экзистенциальных сущностных сил, идущих на последовательное достраивание абсолютных первоначал до самых низших и релятивных форм существования Первосущего, то историцизм активно применяющий массированное насилие, основу которых составляет гипертрофия сущностных сил, решает обратную онтологическую задачу, сутью которой является релятивизация абсолютного и абсолютизация релятивного, преходящего в человеческого существовании. «История, - писал Ф.Энгельс, - пожалуй, самая жестокая из всех богинь, влекущая свою триумфальную колесницу через горы трупов не только во время войны, но и в периоды «мирного» экономического развития»[321]. Самонасилие - это насилие, направленное во внутрь ментальной системы, на более высокие уровни внутреннего мира человека нежели тот, который занимает субличность это насилие осуществляющее. История объективированного мира есть в то же время и историей неимоверных человеческих страданий. История по высшим экзистенциальным меркам и античеловеческой сути своей преступна, ибо восходя по ступенькам снятий, она последовательно снимает ограничения на использование человеческой жизни в качестве средства перманентно прогрессирующей объективной действительности. «История, - писал Н.Бердяев, - в значительной степени есть история преступлений. И все мечты идеалистов о лучшем обществе кончались преступлениями»[322].
По мере историцистского нарастания Иного в Сущем, нарастает и объем применяемого в нем насилия со стороны низших экзистенциалов по отношению к экзистенциалам высшим. Маркузе ввел в научный оборот две взаимосвязанные категории: «прибавочное подавление» и «принцип производительности», поясняющие исходный тезис о репрессивности разума, получивший ранее фрейдистскую интерпретацию. «Прибавочным подавлением» Маркузе называет ограничения, налагаемые цивилизацией на условия человеческого существования. Прибавочное подавление, считает Маркузе, органически связано с принципом производительности в связи с необходимостью все более насильственно поддерживать хрупкий гомеостазис в обществе по мере наращивания производительных сил и коррелирующих с ним сил самоотчуждения. Прибавочное подавление является как бы “телом” принципа реальности, открытого З.Фрейдом. Для того, чтобы прояснить объем и границы преобладающего в современной цивилизации способа подавления, приходится описывать его в терминах специфического принципа реальности, определившего происхождение и рост этой цивилизации. Прицип производительности может быть эффективным лишь при опоре на прибавочное подавление индивидов вовлеченных в совокупную деятельность. Причем репрессивность в системе поддерживается тем с большей энергией, чем меньше потребность в ней. «Прибавочное (дополнительное) подавление (репрессия): - пишет Маркузе - ограничения, налагаемые социальной властью. Следует отличать от (основного) подавления как «модификаций» инстинктов, необходимых для закрепления существования человечества в цивилизованной форме… Этот дополнительный контроль, необходимость которого проистекает из самой специфики институтов господства, мы и обозначаем как прибавочное подавление»[323]. Схожие мысли по поводу органической связи между ростом эффективности человеческой деятельности и наращиванием репрессивных силовых структур в обществе высказывал и Мишель Фуко в своей книге «Надзирать и карать: рождение тюрьмы». Он выявил онтологическое соответствие тюремной формы наказания форме оплаты за наемный труд[324].
Итак, с нарастанием историцистских форм человеческой активности, связанных с расширенным воспроизводством квазипотребительских стоимостей прибавочное подавление индивидуальности прогрессирующе нарастает. На схеме 15 представлены основные историцистские формы насилия, какими они выглядят с позиции субъектоцентристской методологии.
Космические Антропные Социальные Природные
сущностные сущностные сущностные сущностные
![]()
![]()
![]() силы силы силы
силы
силы силы силы
силы
![]() СИЛА
НАСИЛИЕ
СИЛА
НАСИЛИЕ
Космогенное Антропогенное Социогенное Техногенное
насилие насилие насилие насилие
Схема 15. Общий континуум историцистских форм насилия
По ходу эволюции объективированных форм человеческой экзистенции нарастает и объем того насилия, которое субъект вынужден направлять на внешний мир в целях внешнего же господства над ним, а соответственно и объем самонасилия, идущего на вытеснение из сферы сознания в бессознательное истинных ментальных форм в целях обеспечения господства наиболее проявленных и ложных Я над целостным внутренним миром субъекта. “Перерастание свободы в своеволие, - считает В.Н.Сагатовский, - в значительной степени провоцируется тем, что насилию противопоставляется уход и отказ от себя”.[325]
Каждая реально экзистирующая система в своих активных проявлениях есть довольно сложное переплетение используемых расконолидированным субъектом как естественных сил так и противоестественного насилия. В тотальных универсумах насилие сведено к минимуму, тоталитарные же системы, в основном, “экзистируют” за счет широкомасштабного применения насилия и самонасилия. Абсолютно тоталитарная система в состоянии существовать лишь за счет абсолютного насилия и самонасилия, осуществляющим абсолютно расконсолидированным субъектом, выродившимся в ложную квазисамосубъективацию - ментальную самообъективацию. От свободного субъекта объект как раз и отличается тем, что принадлежит “царству необходимости”, “царству несвободы”, в котором свобода - всего лишь объективация познанной необходимость. Однако объект всегда обладает неким подобием псевдоментальности, именуемой в объектоцентристской гносеологии способностью к отражению, напоминающую самую низшую форму ощущения. Статус псевдосубъекта объект обретает усилиями гносеологического субъекта. Именно системой своих сциентистских процедур гносеологический субъект обнаруживает в нем ранее «неопознанную необходимость» в форме «объективных законов развития и функционирования». Внутренняя необходимость объекта конституируется его персонификатором – гносеологическим субъектом не иначе в качестве основного субъекта объективных самоизменений объекта. Применяя по отношению к объекту репрессивную гностическую процедуру, он эту внутреннюю необходимость и делает рационально опознанной. При объектном подходе и имманентной ему репрессивной гностической процедуре любой объект конституируется в качестве субъекта и, напротив субъект предстает в качестве объекта. Явное гносеологическое насилие над субъектом, может разве что обнажить овнешненную сторона его экзистенции, соприкасающаяся с “царством необходимости”. Редукция к ней всей экзистенциальной целостности субъекта внутренне укорененного в изначальную свободу и составляет сущность гностической деятельности коварного Рацио. Напротив при субъектном, нерепрессивном, хотя и силовом подходе, любой объект предстает своей внутренней субъективированной ипостасью, принадлежащей “царству свободы”. В реальной интеракции субъекта и объекта присутствует весь спектр как ненасильственных, так и насильственных видов взаимодействия, форма сочетания которых, в основном, зависит от степени онтологической консолидированности, взаимосогласованности свободного внутреннего и детерминированного внешнего мира человека. При этом, степень осознанности этого соотношения у активно действующего субъекта существенно снижается, если насилие становится ведущим способом его жизнедеятельности. В случае же резкого осознания субъектом репрессивного характера своей экзистенции, последняя в одночасье изнутри разрушается, так как при всех благих пожеланиях, привыкшая к применению насильственных средств, она оказывается не в состоянии перенастроиться на конструктивное использование внутренних сущностных сил, восходящих к высшим проявлениям слабости Духа. «Человек, лишенный чувства собственного достоинства, - писал И.А.Ильин, - может сохранять обличие человека только под давлением чужой силы… и личной выгоды; с отпадением обоих факторов он легко теряет человекообразие, и страсти вовлекают его в падение и хаос»[326]. Другим фактором, драматизирующим существование субъекта, выступает соотношение истинных и ложных Я и их объективаций в человеческой экзистенции. Первые коррелируют с сущностными силами, вторые же - с квазисущностным насилием. Реально складывающаяся экзистенциальная система зависит от исторически возникающего «паритета» между ложным и истинным, между насилием и силой. Посредством этого псевдопаритета жизнь ущербной целостности, вернее псевдоцелостности, способна продолжаться до тех пор пока окончательно не выродится в ложное и репрессивное бытие. “Мерилом наших сил, - писал Ф.Ницше, - служит то, в какой мере можем мы, не погибая от этого, признать эту иллюзорность и эту необходимость лжи”.[327] Ко всему этому добавим: и в какой мере мы в состоянии признать онтологическую правомерность нами же применяемого насилия и самонасилия.
Более наглядно система форм насилия и самонасилия развертывающаяся по мере онтологического разуконенения и расконсолидации субъекта представлена на схеме 16.
АСТРАЛЬНЫЙ АНТРОПНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕСНЫЙ
СУБЪЕКТ СУБЪЕКТ СУБЪЕКТ СУБЪЕКТ
|
КУЛЬТ (космические сущностные силы) |
Антропогенное насилие над культом |
Социогенное насилие над культом |
Техногеное насили над культом |
|
Космические силы культуры |
КУЛЬТУРА (антропные сущностные силы) |
Социогенное насилие над культурой |
Техногенное насилие над культурой
|
|
Космические силы цивилизации |
Антропные силы цивилизации |
ЦИВИЛИЗАЦИЯ (социальные сущностные силы) |
Техногенное насилие над цивилизацией |
|
Космические силы технологии |
Антропные силы технологии |
Социальные силы технологии |
ТЕХНОЛОГИЯ (природные сущностные силы)
|
КОСМИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ
УНИВЕРСУМ УНИВЕРСУМ УНИВЕРСУМ УНИВЕРСУМ
Схема 16. Онтологические формы насилия в экзистенции
расконсолидированного Человека
Онтологическими формами насилия низших форм бытия над высшими в общей структуре деформированной историцизмом человеческой экзистенции выступают: антропогенное насилие над культом, социогенное насилие над культом и культурой и техногенное насилие над культом, культурой и цивилизацией. Низкие онтологии, как хамелеоны, мимикрируя под более высокие формы бытия, способны некоторое время оставаться историческими псевдосубъектами или псевдоисторическими субъектами. Именно они оказываются источниками репрессивного развития исторически преходящих форм сущего. Историцистские формы насилия будут подробно рассмотрены в специальных главах монографии, сейчас же остановимся лишь на краткой их характеристике.
Антропогенное насилие над культом. Присвоением и наращиванием своих родовых сущностных сил человеческая экзистенция со временем оказывается весьма перегруженной культурными субъективациями и вполне устойчивый первоначальный синкретизм родового именитства в качестве вложенного универсума в универсум космический все более оказывается нуждающимся в энергетический подпитке со стороны породившего его космоса. На определенном этапе своего интенсивного развития культура начинает активно паразитировать на энергетике Культа, инкорпорируя, поглощая ее во все более широких масштабах. Антропные квазипотребности становятся внутренним источником космологического насилия. “И пусть материальные и духовные предметы потребления - негодный, расточительный хлам, - пишет Г.Маркузе, - разве Дух и знание могут быть вескими аргументами против удовлетворения потребностей?”[328]
Культура, отпадая от культа, своими сверхценностными объективациями пытается заместить все сакральное и трансцендентальное в мироздании в целях подчинения феноменально-человеческому универсуму универсум сакрально-космический и замещения Бого-человека (астрально-антропный субъект) человеко-Богом (антропно-астральным субъектом), а по терминологии православной метафизики, - человеко-зверем. “Самореализация как абсолютная ценность, свобода от мира, - считает В.Н.Сагатовский, - приводит к борьбе за господство над миром, к отрицанию мира, т.е. к нигилизму”.[329] Родовые сущностные силы, направленные на завоевание и покорение животворящего Космоса, ноуменального в экзистенции, превращаются в средство тотального насилия над ним. Между трансцендентной силой и феноменальной квазиэвалюативной ценностью возникает антагонистическое противоречие.
Проблеме соотношения силы и ценности Н.Бердяев посвятил специальную работу – «Дух и сила». Он считает, что ценность может быть силой, однако сила сама по себе ценностью не может и не должна быть признана. Идеологи силы аксиологизируют силу, утверждают, что она есть чуть ли не самой эффективной ценностью, способной конструктивно изменить мир. Однако ценность силы есть всего лишь ценность средства в отношении к какой-либо цели. В конечном счете все зависит от того, о силе чего идет речь. Когда говорится о силе Бога, о силе добра, силе истины, силе высшей идеи, то сила тут не выступает ценностью сама по себе. Апофеоз же силы означает, что сама сила признана верховной идеей и ценностью. Сила жизни сама по себе не есть ценность, ценностью является качество силы жизни. Качество стоит выше силы и только качественная сила есть ценность. По мнению Н.Бердяева, трагический конфликт между силой и ценностью проистекает от того что сила все более абсолютизируется, а ценность все более релятивизируется. Высшие ценности в этом эмпирическом мире слабее низших ценностей, духовные ценности слабее материальных ценностей, пророк, философ или поэт слабее полицейского, солдата или банкира, Бог слабее материи. Сила денег в этом падшем мире несоизмеримо сильнее, чем сила духа, которая бывает поругана. Мы живем в мире, в котором высшая правда распята - Христос умер на кресте. Христианство - религия распятой правды. Именно наличие онтологического конфликта между силой и ценностью делает недопустимой всякую оптимистическую философию силы. “Сила сама по себе, - писал Н.Бердяев, - не есть ценность, сама по себе не есть добро... Культ силы есть культ низшей материальной силы, есть неверие в силу духа и в силу свободы”.[330] Очеловечивая космос, применяя человеческие мерки к креативным процессам, релятивизируя абсолютное и абсолютизируя релятивное, выступая в обличии эвалюативного культа, культура существенно подорвает изначальный генофонд жизни, отдавая приоритеты лишь тем из элементов космоса, которые в состоянии составить собой компоненты гиперантропной среды обитания человека.
Всегда когда ценностная культура выходит за пределы собственно человеческих отношений и начинает определять собой всеобщие и абсолютные контуры сакральной жизни, она “оставляет после себя пустыню”.[331] Это происходит в связи с тем, что квазиценности, на которые она начинает ориентировать символическую реальность Духа, входят в антагонистическое противоречие со всеобщим креативным процессом, имеющим отнюдь не ценностную определенность, а символическую неопределенность. При этом начинает складываться довольно жесткая система сил, направленная на атропоморфизацию и десакрализацию космического Духа или духовного Космоса, искажающую своими репрессивными воздействиями трансцендентальный баланс во внутрисубъектных отношениях между Микрокосмом и Макрокосмом, замещая антропогенным дисбалансом в пользу квазиантропного субъекта - Человекобога. Но по известному “закону бумеранга”, при этом деградирует отнюдь не пустотное основание Первоначал, оно не поддается ценностным преобразованиям в некую “человеческую вещь”, а ментальность самого антропоса, в которой вместо вытесненного в бессознательное трансцендентального Я, появляется псевдобожество - квазиантропное Я. Сверхчеловек, своемерно притязающий на место в центре мироздания (антропоцентризм), возникает как следствие массированного насилия антропного субъекта над космическим субъектом, культуры над культом. Модель коммунистического рая вполне вписывается в антропоцентристскую ориентацию нашего далекого предка, пытавшегося штурмовать небеса. Не случайно прогрессистски ориентированные историки его способ существования обозначили термином “первобытный коммунизм”. Коммунистический лозунг: “все во имя человека, все во благо человека” есть не что иное, как реликт первичной антропоцентристской идеологемы. Ведь под человеком здесь подразумевается отнюдь не универсальный и целостный субъект с его способностями творить мир, а человек эмпирический, который в целях удовлетворения своих все возрастающих потребностей готом снести любые преграды, стоящие на пути присвоения внешних благ.
В ситуации явного противостояния антропного субъекта “внешнему космосу” культуро-творческий процесс из средства очеловечения человека превращается в систему целенаправленных репрессалий, идущих на насильственное очеловечение сакрального космоса и псевдокосмизацию феноменального, родового человека. Культура превращается в псевдо-культ, оказывается средством самонасилия и самоотчуждения человека в поистине космологических масштабах. Средствами антропно-эвалюативной формы насилия вытесняется и уничтожается все то, что не в состоянии укладываться в прокрустово ложе собственно человеческих, субъектно-субъектных отношений. Несомненно, что окончательное отпадение Человека-Феномена от Человека-Ноумена вызвало вселенскую деструкцию в Первобытии - космологическую катастрофу, отголоски которой все еще раздаются в душе современного человека и средством космологического самонасилия выступила именно квазиэвалюативная, псевдосимволическая культура.
Любопытно, что на квазиантропном этапе человеческой истории возникают не только философские, но и теологические системы апологетизирующие и сакрализирующие любые формы насилия. Так, например, отцы современного протестантизма не только приветствовали тотальное насилие, но и приписывали его самому Господу Богу. Лютер утверждал, что если человеческая рука убивает, но при этом не творит произвола и злоупотреблений так как «не есть уже более человеческая рука, но Божия рука, и это не человек, а Бог вешает, колесует, обезглавливает, убивает и воюет; все это – Его дела и Его приговоры»[332]. Иезуиты, огнем и мечем служившие Богу допускали возможность того, что Бог может поручить или позволить человеку совершение дурных дел. Так, иезуит Бузембаум, живший в 17 веке, установив запретность преднамеренного и сознательного человекоубийства, делает исключение для того случая, когда совершение его будет «позволено Богом, Господином всякой жизни». Еще более отчетливо вторит ему иезуит Алагона: «По повелению Божию можно убивать невинного, красть, развратничать, ибо Он есть Господин жизни и смерти, и всего, и потому должно исполнять Его повеление»[333]. Естественно, что такая интерпретация Божественного Промысла не могла не быть результатом вытеснения всего того, что составляло насильственную сторону квазиантропного существование. Богу приписывались те человеческие пороки, которые возникли на этапе наиболее радикального преодоления человеком всего сакрального в своей изначальной экзистенции. История западного протестантизма явная тому иллюстрация. Человек решил примириться с Богом, предварительно присвоив Его достоинства и приписав Ему свои недостатки, весь цинизм «протестного поведения» иезуитов состоит именно в том, что прикрываясь именем Бога оно фактически было направлено против самого Бога.
Ненасильственные воздействия “слабого” ноуменального мира на мир феноменальный, характеризующийся наличием целой иерархией сущностных сил, способны коренным образом изменить в нем онтологическую ситуацию, существенно противостоять деструктивным силам мира сего, сколь бы мощными они ни были. Согласно даосизму, “мягкое и слабое побеждает твердое и крепкое”.[334] А потому важнейшим догматом христианства является догмат о воскресении, способное вернуть миру не только утраченную сакральность, но и подлинную человечность. Конфликт ценности и силы не в состоянии разрешиться в пользу всегда торжествующего зла. Последнее слово не принадлежит человеку-убийце. Человек призван быть не убийцей, а воскресителем. И за воскресителем стоит “сила” большая, чем человеческая.[335]
Ценностное насилие над культом, естественно, не наносит ему какого-либо ущерба, однако оно выхолащивает в самой культуре собственно человеческое ее содержание. Десакрализированный гуманизм есть самая высшая и репрессивная форма антигуманизма.
Социогенное насилие над культом и культурой. Отпадая от культуры, цивилизация также пытается обрести свой=чужой наивысший, хотя и гипертрофированный, онтологический статус, чтобы подчинить социальному целеполаганию высшие надсоциальные формы Сущего. Осевое время, в которое цивилизация начинает развиваться на своей собственной социальной основе, было не только эпохой созидания «нового» и эпохой безжалостного уничтожения всего «старого». Естественно для нарождающихся и складывающихся социальных структур безнадежно устаревшими оказались прежде всего сакрально-антропные экзистенциальные структуры. Своеобразное свое завершение эта социальная модернизация сущего обретает в ходе жестоких завоеваний и возникновения могущественных империй - в Китае (Цинь), в Индии (династия Маурьев), на Западе (эллинские государства и Римская империя). Это эпоха гибели и возрождения великих империй, последние из которых распались лишь к концу ХХ века, уступив свое место империям экономическим. Человечество врастает в новое тысячелетие обремененное глобальным отрицательным экзистенциальным опытом, входит в него под знаком высшей формы самоотчуждения, чего стоят хотя бы две мировые войны, каннибализм тоталитарных режимов и проч. вселенские по своим размахам репрессивные акции, осуществленные квазисоциальным субъектом.
На квазицивилизованной фазе исторического процесса в центр мироздания ставится уже не родовой, феноменальный человек, а частичный социальный субъект, элемент социомассы, агрегированный в псевдосоциальную общность безличным деятельностным процессом. Пытаясь поскорее устроить себе райскую жизнь на земле, создать пресловутый «рог изобилия» частичный социальный индивид стремится придать креационистскому и культуротворческому процессам, нормативно-деятельностную предопределенность. Ложные социальные потребности становятся источником формирования разветвленной системы социального насилия. “Ложными, - пишет Г.Маркузе, - являются те, которые навязываются индивиду особыми социальными интересами в процессе его подавления: это потребности, закрепляющие тягостный труд, агрессивность, нищету и несправедливость. Их утоление может приносить значительное удовлетворение индивиду, но это не то счастье, которое следует оберегать и защищать, поскольку оно (и у данного, и у других индивидов) сковывает развитие способности распознавать недуг целого и находить пути к его излечению. В результате - эйфория в условиях несчастья. Большинство преобладающих потребностей (расслабляться, развлекаться, потреблять и вести себя в соответствии с рекламными образцами, любить и ненавидеть то, что любят и ненавидят другие) принадлежат к этой категории ложных потребностей”.[336]
Прескриптивная, нормативная деятельность имманентная лишь социоэволюции, за ее верхними онтологическими пределами становится средством жесточайшего самонасилия человека, вернее насилия со стороны его социальной субличностью над его астрально-антропно-социальной ментальной целостностью. Своими прескриптивными репрессалиями гипердеятельностный процесс вполне обеспечивает тоталитарное господство цивилизации над культурой и культом. Сверхнормативная цивилизация начинает осуществлять проект по центрированию на свои социальное основание все высшие надсоциальные формы Сущего (социоцентризм), провозглашая себя то подлинно человеческой общностью (пресловутое “общество с человеческим лицом”), то подлинно сакральным образованием (многие империи называли себя священными, как, например, “священная римская империя”). Это не просто мимикрия низшей онтологии под органику жизни высших онтологий. Основу этого онтологического самопроекта в конечном счете составляет идея превращения Сверхцивилизации сначала в прескриптивную псевдокультуру, а затем и прескриптивный псевдокульт. По крайней мере, анализ накопившихся в истории человеческой мысли социально-утопических проектов и попыток их насильственного воплощения в форме строительства научно обоснованного коммунистического общества, как раз и свидетельствуют о субглобальных претензиях социума на власть в многомерной человеческой экзистенции. Придание социально-цивилизованным общностям сакрального статуса (вера в коммунизм) преследовало цели предельно десакрализировать сакральное, деантропологизировать антропное в человеке. Не случайно столь последовательно осуществлялось тотальное преследование инаковерующих религиозных деятелей и активных гуманитариев. Наиболее очевидными эти тенденции становятся при анализе жизнедеятельности огромных социальных империй. С их историческим образованием и последующим саморазрушением связаны бесконечные в истории войны, унесшие миллионы человеческих жизней. Особо “постарался” в деле гиперсоциализации высших форм человеческой экзистенции кровожадный сверхцивилизованный ХХ век. Многие мылители считают, что именно в ХХ веке перманентная антропологическая катастрофа нашла свое окончательное завершение. В целях создания современной тоталитарной цивилизации, способной функционировать лишь на десакрализированной, деантропологизированной, квазисоциальной основе вслед за свободным Богом в жертву был принесен и добрый Человек.
Однако не сами по себе онтологически гипертрофированные формы цивилизации определяют общую направленность и уровень репрессивности воздействий, идущих снизу вверх в целостной иерархии универсумов. Отнюдь не цивилизация несет онтологическую ответственность за катастрофические последствия в высших ярусах человеческого бытия, ведь она всего лишь овнешненная форма социального Я, выступающего частью целостной личность. Как только гипертрофия социального Я достигает своих предельных значений и окончательно подавляет предельно ослабленные его внутренним насилием высшие субличности, именно оно становится тем квазисубъектом, который и изменяет социальную форму тотальности на квазисоциальную тоталитарность. Именно пседосоциальное Я кумулирует все свои и чужие сущностные силы на захват верхних этажей Мироздания. Сверхцивилизация всего лишь орудие палача, каким оказываются все более своевольное социальное Я, “приглашающее на казнь” всех тех, кто стоит на пути достижения общественного прогресса и благополучия. “Насилие, - писал К.Маркс в “Капитале”, - является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым. Само насилие есть экономическая потенция”.[337] Как мы видим, не где нибудь, а именно в самой преисподней обнаруживается необходимое средство, способное радикально модернизировать социальный мир - насилие. Современная цивилизация, заменив открытое политическое насилие латентным экономическим насилием, актуализировав по выражению К.Маркса, экономическую потенцию насилия сумела перевоссоздать человека в весьма податливый “человеческий материал”. К социальной форме насилия в качестве онтологически конструктивной силе, способной противостоять вселенскому злу, к сожалению, с «пониманием» относились не только революционеры, но и многие гуманистически ориентированные мыслители. «Внешняя чужая сила нужна человеку для того, - поучал И.А.Ильин, - чтобы он приучился блюсти верную социальную грань в своем поведении, так чтобы эта грань постепенно стала его собственною, изнутри поддерживаемою и добровольно признанною гранью, и тогда страх претворится в уважение и утвердит в нем чувство долга, а страдание побудит его обратиться к себе и открыть источник его в своем собственном несовершенстве»[338]. Не случайно по выходу его книги «О сопротивлении злу силою», она была названа Н.Бердяевым «Кошмаром злого добра», а одним из безымянных рецензентов - «Военно-полевым богословием».
Техногенное насилие над культом, культурой и цивилизацией. Технология, окончательно обособившаяся от породившей ее цивилизации, начинает репрессивно воздействовать на ее социальную основу и превращать элементы социальной структуры в компоненты собственной инфраструктуры в качестве технологически отформованных социальных вещей и деталей. Социально-цивилизационные процессы со временем не только технологизируются, но и на определенном этапе техногенеза возникает особая онтологическая ситуация, при которой общество начинает функционировать сначала как некая социоморфная машина, а затем и как техноморфный социальный организм, состоящий из строго согласованных между собой и идеально притертых друг к другу “индивидов-объектов”, «индивидов-деталей». Основным целеполаганием этой сверх- и надсоциальной технологии становится сверхэффективная деятельность по все более расширенному воспроизводству универсума объективаций. Общественные процессы и отношения между индивидами при этом обретают техно- и рацио-соразмерность. Одним из признаков такой тенденции в современном мире является хотя бы то, что многие термины из технического лексикона уже прочно закреплись в качестве опорных значений в прагматически и позитивистски ориентированных прикладной социологии, этике, педагогике психологии и проч. Так, базовой категорией социологии, проясняющей суть процесса взаимодействия индивидов в массовом обществе, становится понятие “социальная технология”. Мы еще только вступаем в информационно-технологическую цивилизацию, но уже становится предельно очевидным, что на наших глазах формируется некая псевдосоциальная сверхцелостность, основу построения которой составлет пирамида перевернутых онтологических приоритетов, в которой социально-деятельностные процессы - оказываются всего лишь производными от процессов рационально-технологических. Информационно-технологическая цивилизация в отличие от своей предшественницы – социальной цивилизации начинает модернизировать и приспосабливать свое социальное основание под нужды и потребности так называемого научно-технического прогресса. Именно с началом научно-технической революции примат технологически ориентированной экономики над всеми иными сферами жизнедеятельности в системе рациональных верований современного человека обретает форму религиозного догмата – становится рациональным априори. С полным основанием можно предположить, что когда технология добьется неограниченной власти над высшими формами человеческого существования, этот приоритет непременно модифицируется в примат искусственной жизни, формируемой технологией, над жизнью естественной, а социальный опыт огромной череды поколений будет окончательно вытеснен рациональными схемами стереотипного поведения, которые будут разрабатываться и внедряться в жизнь представителями так называемых опытных, прикладных наук.
Какова основная причина столь репрессивного воздействия технологии на породившую ее цивилизацию? Ответ необходимо искать в той роли, которую играет в процессе социальной модернизации социальной на технологически-рациональной основе, самяе низшая субличность - телесно-рациональное Я. “Этот перевод мира в одну плоскость, эта смена вертикали горизонталью..., - писал М.Бахтин, - осуществлялись вокруг человеческого тела, которое становилось относительным центром космоса. Этот космос движется уже не снизу вверх, а вперед по горизонтали времени... В телесном человеке иерархия космоса опрокидывалась, отменялась; он утверждал свое значение вне ее”. [339] Именно телесным псевдосубъектом начинает осуществляться широкомасштабная реформация отношений на всех онтологических ярусах Миро-Здания, перестройки подлежат даже не-сущие части его конструкции, поддерживающие сакральные своды Жизни и все это осуществляется под приоритеты удовлетворения катастрофически развивающихся телесно-материальных потребностей. Отныне рациональная телесность или телесная рациональность - это гипертрофированно разбухшее телесно-рациональное Я - приглашает на всеобщую казнь уже не отдельных персонажей метаистории, а самого Иерархического Человека. Впервые за всю многовековую историю в человеческой ментальности сформировался тотальный “Я-самоубийца”. Уже в современную историческую эпоху становится вполне очевидным, что человечество начинает активно втягивается в широкомасштабную социальную катастрофу. Став машинообразной, цивилизация уже не в состоянии существовать автономно от технологии, страшно даже представить что с ней может произойти, если, допустим, в компьютерных сетях, хранящих, перерабатывающих и выращивающих социальную информацию хоть на короткое время произойдет сбой. Общество, с вступлением в информационно-технологическую стадию “развития”, постепенно утрачивает способность к самоорганизации на основе собственного экзистенциального опыта. Самоорганизующейся, самопрограммирующейся суперсистемой становится технология, привносящая организующее начало в жизнедеятельность псевдосоциальных атомизированных индивидов-деталей. Тотальная гармония естественной жизни оказывается окончательно вытесненной тоталитарным порядком жизни искусственной.
Подчинив своим гиперреволюционным целям цивилизацию, техноген как объектно ориентированная технология начинает активно осваивать, а вернее присваивать ценностное пространство культуры. “Историческое достижение науки и техники, - пишет Г.Маркузе, - сделало возможным перевод ценностей в технические задачи - материализацию ценностей. Следовательно, на карту поставлено переопределение ценностей в технических терминах как элементов технологического процесса. Становится возможным действие новых целей, как технических, не только в применении машин, но и в их проектировании и создании”.[340] Культуротворческий процесс по своей внутренней природе является ценностно-антропологическим, ему чужды изменения в пространстве межсубъектных отношений средствами рационально-технологической процессуальности, способные не порождать, а лишь умерщвлять артефакты высокой культуры. Однако на заключительном этапе своей онтологической деградации, культуро-творческий процесс начинает обретать явные признаки объектности, присущие технологическому процессу. Порой эта чужеродная инаковость выдается технократически ориентированными культурологами чуть ли не за атрибутивное и имманентное свойство самой культуры. “Духовные ценности, идеалы, - пишет Э.С.Маркарян, - обладают несомненной технологической природой, т.е. выступают в виде определенных средств, стимулирующих деятельность человека. Не менее очевидна технологическая природа системы ценностей и ее функции регулирования поведения людей”. [341] Однако технологичностью обладает отнюдь не ценностная культура, а лишь ее ложные телесно-рациональные модификации, подпадающие под наименование антикультура, псевдокультура
Дескриптивная технология, окупировав ценностное пространство человеческой экзистенции, сферу собственно человеческих, субъектно-субъектных отношений общения, довольно быстро превращает культуро-творческий процесс в свой особый эпифеномен. Если собственно культура выполняла гуманистическую функцию, фиксировала и закрепляла человеческое в человеке, то в эпоху тоталитарного господства науки и техники она превращается в псевдокультуру, в информационно-технологический ее инвариант, и в самосознании человека начинает жестко фиксироваться в качестве самодовлеющей сверхценности не что иное как его собственная телесная субстанция и ее овнешненная проекция на природный мир - технология. Достоверность этого печального вывода можно проверить не выходя из дома, стоит лишь включить телевизор; основные темы транслируемых передач - технология потребления, насилия, секса. Учителя и воспитатели все чаще начинают поговаривать об образовательных и воспитательных технологиях, моралисты - об этических технологиях, специалисты в области интимных отношениях - об особой сексуальной технологии и т.д. Культура, в основном, начинает осмысливаться в технологических терминах, восприниматься в качестве эпифеномена всеобъемлющего и тотального технологического процесса. Гуманистическая среда обитания человека подвергается предельной технологизизации, а техногенная среда все более обретает псевдогуманистическую значимость в самосознании одномерного человека. На судьбоносные для себя вызовы техногенной среды современный человек все более привыкает отвечать не духовными самоизменениями, а еще более массированным использованием средств технологического насилия . “Я не верю клятвам или заверениям со ссылкой на так называемый гуманизм. - пишет Станислав Лем, - Единственным оружием против одной технологии является другая технология”.[342] Не за горами то время, когда уже к предельно развившейся “социальной технологии” присовокупится и “антропологическая технология”, посредством которой человеческие отношения обретут ту же стереотипичность, что и отношения социальные. По крайней мере доктрина человеческих отношений, господствующая в сфере промышленного производства в странах Запада преследует цели технологические, но отнюдь не собственно гуманистические цели. Процесс формирования человеческого в человеке обретает технологическую процессуальность, в результате чего человек постепенно модифицируется в некую человекоподобную вещь, отформованную мощным прессом технически оснащенной массовой культуры.
Итак, постепенно и неуклонно культуротворческий процесс, субъектом которого традиционно являлся антропный, феноменальный субъект, переходит под онтологическую юрисдикцию машины-автомата. Начинают активно развиваться техническая эстетика, компьютерная графика, человеко-образы, разрабатываемые техногеном, буквально заполоняют собой все пространство межчеловеческого общения. Избыточными становятся такие традиционные деятели культуры, как гениальные поэты, художники, артисты. Они не уместны на рынке массовой культуры, а иной культуры у массового общества в принципе быть не может. Как и социальное Я, антропное Я постепенно превращается в вещь - активно потребляющую (вернее ассимилирующую) псевдотехнологические ценности.
Последовательное отелеснение объективаций Духа уже почти достигло его трансцендентальной абсолютности и пустотности. Своими технологическими проекциями Мировое Тело делает непроницаемым для человеческой экзистенции свет, идущий от Мирового Духа. Современная машинная, техническая цивилизация, предостерегал Н.А.Бердяев, убийственна для внутренней жизни человека, разрушает его целостность, искажает его эмоциональную жизнь, делает его орудием нечеловеческих процессов, не дает возможности созерцания вследствие нарастающего ускорения жизни.[343] А И.А.Ильин что внутренне неустроенная душа человека напрасно ищет спасения в господстве над внешним миром: технически покоряя мир, она творит себе лишь новую беспомощность; одолевая внешнюю стихию, она готовит восстание внутреннего хаоса; ее успехи выковывают форму для нового, неожиданного поражения[344].
В своем онтологическом противостоянии Культу технология пытается занять центральное место в миро-творении, окончательно заместить самотрансценденцию гиперрационализацией. Конечной онтологической целью гипертрофированно “развивающейся” технологической информации или информационной технологии становится полное преобразование на рациональных основаниях сакрального Космоса, тотальная замена Абсолютного Субъекта Абсолютным Объектом. Посредством гипердескриптивной технологии телесный субъект стремится создать Абсолютный и Универсальный Автомат, способный заместить собой патриархального и старомодного Бога. Реальная Абсолютная Машина, которой Рацио стремится заместить слабого и метафорического Бога есть не что иное как вселенский рациональный самопроект телесного человека. По мнению технократов, реализация этого самого значительного во всей истории проекта позволит спонтанный и неуправляемый креативно-творческий процесс заменить рациональной логикой созидания. Цель этого квазипроекта состоит в преобразовании косной природу в кладовую полезностей из которой человек в состоянии будет извлекать необходимые ему средства потребления. Рай на земле, утверждают адепты научно-технической революции, вполне достижим на рационально-технологической основе. Абсолютный рай есть не что иное, как абсолютная объективация достижений Науки и Техники. Однако окажись этот рай осуществимым, он скорее всего походил бы на “прекрасно” благоустроенный застенок, в котором человек за предоставляемые ему блага, должен навсегда расстаться со своими трансцендентными атрибутами - свободой и творчеством. Однако вряд-ли Рай-Застенок будет осознаваться рациональным субъектом в качестве дьявольского порождения. Дорвавшимся до столь вожделенного “рога изобилия” он будет усердно повиноваться тому, кто его этим изобилием сумеет прельстить. Несомненно что создатель «рога изобилия» и станет тем кумиром, которому будут поклоняться заключенные этого Онтологического Застенка. Если согласно Фуко оплата за наемный труд коррелирует с тюремной формой наказания, то абсолютная форма потребительства может коррелировать лишь с абсолютной духовной каторгой, основанной уже не на прибавочном, а на абсолютном подавлении. Что может быть более коварным и изощренным нежели информационное насилие осуществляемое репрессивным разумом. «Для нас сегодня, - пишет Ф.И.Гиренок, - самоочевидно: знание – сила, производит эту силу наука. Но один из парадоксов недавней истории как раз и состоит в том, что на основе этой силы возникает феномен сциентистского насилия по отношению к человеку и природе»[345]. Согласно сциентистской идеологии, в идеале абсолютная реальность должна стать абсолютной проекцией телесного Я, а ее онтологическая истинность будет вполне будет доступной его оборотной стороне - рациональному Я. Гипертрофия сил Разума и Тела своим взаимодополнением составит поистине дьявольскую силу. Абсолютная Машина-Автомат и есть тот двуликий Янус, который должен окончательно овладеть последним бастионом Миро-Здания - сакральной жизнью, превратить свободу Духа в познанную необходимость Тела. “Если техника делает все возможным, - пишет Ж.Эллюль, - то она становится сама абсолютной необходимостью”.[346]
Итак, высшим мерилом истинности реальной действительности становится Рациональное Я, и уже современный человек начинает себя осознавать не столько в качестве Образа и Подобия Бога, сколько лишь несовершенной Машиной-Автоматом, которую необходимо доводить до все более идеальных форм. “Машина, - писал в почти религиозном экстазе П.Лафарг, - искупитель человечества, бог, который освободит человечество от грязных искусств и наемного труда, бог, который даст ему досуг и свободу... Человечество ведет вперед экономическая необходимость... Богом является способ производства”.[347] П.Лафарг - этот последовательный адепт коммунистической идеологии, окончательную победу технологической рациональности восторженно именовал торжеством сатанизма. “Сатана, сатана, которого эти молодые люди называют своим отцом, - сатана торжествует! Он царствует теперь на всем протяжении земли”.[348] Уже в настоящее время можно говорить об “огромных успехах” на счету у смыслоразрушающих воистину сатанинских технологий, которыми овладевает современный человек. “Основные последствия этих успехов: - пишет В.Т.Ганжин, - цивилизация и культура как вселенная человека оказались отчужденными от него, культивирующими ослабление и уничтожение, а не укрепление позиций жизни; танатосфера (область смерти) оказалась мощнее ноосферы и витасферы; культура выступила против биографии человека, как самоценность против инструментальной ценности; сложилась и разрастается сфера зла, или какосфера внутри антропосферы”.[349]
Для того, чтобы внешним и тоталитарным образом владеть перманентно расширяющейся Вселенной, человек начинает во все более широких масштабах применять мерки, имманентные низшим универсумам, к универсумам высшим, редуцируя тем самым свое многомерное бытие к самым овнешненным и овремененным формам собственного существования. “Совершенно неверно применять низкую сферу как мерило для более высокой сферы; - писал К.Маркс, - в этом случае разумные в данных пределах законы (низшей сферы - Ю.М.) искажаются и превращаются в карикатуру, так как им произвольно придается значение законов не этой определенной области, а другой, более высокой. Это все равно, как если бы я хотел заставить великана поселиться в доме пигмея”.[350] Как естественное следствие такого насилия над своими высшими ипостасями и их внешними онтологическими проекциями, такого плоского своемерия, человек превращается в онтологического пигмея, в индивида-атома, последовательно вытесняющего из Мира-Дома все надъобъектное, надтехнологическое, надрациональное. Универсум объектов, который телесный субъект расширенно воспроизводит в эпоху научно-технического прогресса, расширяется столь катастрофически, что на его онтологическую консолидацию требуется уже “запредельная” энергетическая подпитка со стороны высших универсумов, которой в конце концов оказывается недостаточно по эту сторону Бытия, и тогда она начинает восполняется энергетикой Противобытия - деструктивной энергетикой сил Хаоса. Однако лишь до поры до времени Мироздание в состоянии преобразовывать энергетику Хаоса в силовое поле Порядка. Если Абсолютное Бытие или Бытие Духа является изначально безосновной, безопорной, то бытие Тела в своей гиперобъективации - Бытии Технологии имеет мощную энергетическую основу, опору - Постонтологию Абсолюта или Онтологию Хаоса. Апокалипсис в этой крайней точке бифуркации самораспаковывания, самопроявления Пустоты в Полноту оказывается единственным способом “насильственного” возвращения человеческой экзистенции по эманационным ступеням вспять к изначальной точке самопорождения в целях придания экзистенциальной полноте столь же высокой степени консолидированности и устойчивости, какой она обладала в своей изначальной пустотности. “Безразличие и хитрая утилитарность индивида-атома ко всему миру вне себя, - пишет Г.С.Батищев, - не может в конечном счете не вернуться к нему же обратно - по логике бумеранга - и не явиться ему как заслуженная им и сложенная им самим самоубийственная его судьба”.[351] В ситуации, когда экзистенциальная катастрофа, как говорится “уже не за горами”, объектоцентристское мировоззрение все еще по инерции продолжает ориентировать человека на массированное использование энергии распада объективированных форм, и только субъектоцентристское мировоззрение, увы не являющееся господствующим в массовом сознании, призывает, как и в стародавние времена, основные энергетические ресурсы обнаруживать в духовных поисках, только овладение духовной энергией созидания человек в состоянии изнутри консолидировать мир на основе своего собственного сакрального преображения.
Историцизм не есть некий фатум человека, он является порождением самого человека и обусловлен его стремлением в кратчайшие исторические сроки обрести абсолютные формы объектного бытования. Историцизм выступает всего лишь средством тотального самоотчуждения человека в пользу внешнего господства над миром со стороны самых низших и репрессивных его Я. “Все происходит так, - писал А.Бергсон, - как будто бы неопределенное и расплывающееся существо, которое можно назвать по желанию человеком или сверхчеловеком, стремилось принять реальные формы и достигло этого, только утерявши в пути части самого себя”.[352] Часть целого, возомнившая себя целым, не имеет каких-либо исторических перспектив на сколь нибудь длительное существование. Эта иллюзия становится очевидной, как только обрывается последняя связь части с тем целым, которое вопреки ее феноменальному насилию продолжает трансцендентно существовать. Слухи о смерти Бога и Человека слишком преувеличены, но то что они являются страдающими Субъектами в довольно в самоотчужденной экзистенции - факт вполне неоспоримый.
2.4. Перманентная экзистенциальная катастрофа
|
|
Если ученые по следам извержения, вулканическим породам и под. заключают о существовании вулкана и вообще от следствий восходят к причинам, то вся природа, вся история, вся противоречивость человеческого сознания, с его антиномизмами, свидетельствуют, что они явились следствием метафизической катастрофы.
Булгаков С.Н. Философия хозяйства. |
История является внутренне противоречивой в связи с тем, что в ней действуют разнообразные и притом весьма неоднозначные в экзистенциальном плане сущностные силы. Эмпирическим путем внутренний источник исторической драмы обнаружить невозможно, так как эмпирический взгляд на историю осуществляется внешним Я и столь же внешним образом, т.е. объектно. У стороннего наблюдателя движение внешнего объективированного мира создает иллюзию того, что развертывание человеческой экзистенции идет по нарастающей, от низшей формы к высшим. При объектном взгляде на сущее именно динамика внешнего мира и проецируется на характер изменений во внутреннем мире человека. И как само собой разумеющееся, как не противоречащее сентенциям здравого смысла, постулируется одно из центральных положений объектоцентризма: исторический субъект в своем становлении развивается от низших ментальных форм к высшим в направлении обретения все более универсальной целостности. Как говорится, “со стороны виднее”, но осуществляя в человеческой экзистенции редукцию внутреннего к внешнему, тем самым редуцируется сущность к явлениям, существование к сущности, а трансцендентное к феноменальному и тогда человеческая история предстает в качестве исторической объективности, логика развития которого не зависит от человеческой субъектности. При таком объектном подходе к “объективному историческому процессу”, в конечном счете Неиное в Сущем редуцируется к Иному, и тогда остается лишь принять гегелевский порочный историософский софизм, согласно которому “все разумное действительно, все действительное разумно”. В лучшем случае, признается наличие разумного в действительности, динамический характер связи между которыми и создает череду исторических актов. Причем, человек, обладающий разумом, оказывается всего лишь персонификатором законосообразности исторического процесса, в который он погружается своей преходящей экзистенцией. “Личности, обращенные в куклы, - писал А.С.Хомяков по поводу обезличенного характера гегелевской историософии, - повинуются... слепо высшему закону, и история знать не хочет про логику их внутреннего развития, между тем как она одна только и имеет истинное значение”.[353] Однако диалектика субъекта и диалектика объекта, как мы постараемся показать в завершающей книге “Суммы”, суть совершенно противоположные диалектики, если их синтез и возможен то лишь на трансцендентной, а не на рациональной основе.
Согласно объектоцентризму “развитие”, “эволюция”, “прогресс” выступают абсолютными характеристиками самодвижения не только объективной, но и субъективной реальности. К сожалению, эта концепция выглядит весьма убедительной, она почти беспредельно господствует не только в метафизике, но и в массовом сознании, так как современный человек, увы, в основном живет интересами внешнего, а не внутреннего мира и как сторонний наблюдатель во многом утратил способность к систематической интроспекции и самотрансценденции. Действительно, мы эмпирически видим что сначала человек рождается беспомощным существом, затем он начинает проходить известные стадии «развиватия», совокупность которых принято обозначать термином «социализация». Этот эволюционный процесс внешне похож и на общий характер развития любых природных объектов. Игнорировать развитие, эволюцию, прогресс в мире объективаций глупо, так как они есть не что иное, как их имманентные динамические свойства. Внешний объективированный мир человека, действительно, не только функционирует, но и развивается по известным законам объективной диалектики. Однако когда эти атрибуты переносятся на динамику внутреннего мира человека, то сразу возникает вопрос, который в рамках объектоцентризма оказывается логически неразрешимым: почему же по мере нарастания прогрессивных тенденций в универсуме объектов, человек становится все менее целостным и универсальным существом, все более зависящим от внешних условий существования. Почему по мере наращивания темпов эволюции человек все более управляется миром, а не наоборот, причем управляется роковым образом не только для человека, но и для самого мира, неужели такова суть “воли к прогрессу”? Э.Фромм в “Бегстве от свободы” хорошо показал, сколь охотно современный человек укладывается в прокрустово ложе, именуемое благами цивилизации, и платит за их обладание уходом в любую форму зависимости от сил внешнего квазиупорядоченного мира. При этом, прогресс в потребительстве становится уже и не кумиром, а настоящим фантомом, замещающим собой реальные ценности мира. Но ведь изначально человек таковым не был, он сам управлял своей собственной Судьбой, сам направлял движение своей экзистенции таким образом, чтобы не слишком удаляться от космологического эпицентра Духа. Напрашивается вывод, что объектоцентристская схематика относительно пригодная для объяснения динамических процессов, происходящих в объективированном мире, совершенно не годна для построения многомерной модели весьма противоречивого и онтологически не однозначного процесса становления и развертывания внутреннего мира человека. Почти все критики эволюционизма и прогрессизма подчеркивают их деструктивную функцию во всемирной трагедии, разыгрывающейся на подмостках Истории. «Нужно верить в прогресс, его бесконечное могущество и полагаться на него, - иронизирует Леви, - но необходимо просто отрицать его как реакционную машину, которая ведет человечество к катастрофе. Нужно повторить его слова, следовать его видению мира, констатировать всюду, где он властвует, следы разрушения, и именно поэтому обесславить его, анализируя лишь как однозначное и поступательное, прогрессивное движение ко Злу».[354] Прогресс может осуществляться лишь в такой истории, мерой которой являются «патология власти» и «нарастающее радикальное зло». Объектоцентристский прогрессизм не только не способствует преодолению экзистенциальной деструкции, сколько ее провоцирует своими “оптимистическими прогнозами”, блокирующими внутреннюю установку на вполне возможное преодоление сил зла возрождением человека в Духе, самовозвращением к своим абсолютным первоистокам. Фетишизация действительности в качестве воплощения исторического разума ведет к того онтологического произвола, который исходит от Иного в Сущем. Насилие в рационализированном самосознании человека волшебное свойство исполнять его заветные желания. Слово фетиш происходит от португальского feitizo – волшебство. «Хотя в фетише, - пишет Гегель, - по-видимому, проявляется самостоятельность по отношению к произволу индивидуума, но такмкак именно эта объективность есть не что иное, как индивидуальный произвол, доводящий до самосозерцания, этот произвол и продолжает господствовать над создаваемым им образом»[355]. Таким образом фетишизация разумной действительности оказывается следствием наделение статусом всеобщего репрессивного исторического разума. В конечном счете фетишем в патологической экзистенции оказывается чистая форма насилия, сопровождающее борьбу прогрессивного нового с регрессивным старым в ней. Интересно, что в гегелевской историософии настоящей гибелью считалась лишь та форма принудительной смерти старого, которая служит прогрессу нового. Так, к примеру, вся история Древнего Китая оказывается преимущественно неисторической в связи с тем, что перманентные упадок и гибель не ведут к прогрессу жизни, а лишь ведут к замкнутому ее круговороту. «Это не настоящая гибель, - подчеркивает Гегель, - потому что благодаря всему этому непрерывному изменению не обнаруживается никакого прогресса»[356]. Естественно, что настоящий прогресс истории начинается лишь там и тогда, где и когда гибель старого мира становится основой развития нового мира. Таковы метафизические корни современной фетишизации прогресса и его повивальной бабки – насилия.
Согласно субъектоцентристскому мировоззрению - диалектике субъекта – субъект в отличие от объекта в своей метаистории не восходит к вершинам Духа, а нисходит с них. Более того, как только в его истории начинает укореняться историцизм, то за бурное “развитие”, “эволюцию”, “прогресс” овнешненной стороны своей экзистенции человечество должно расплачиваться “деградацией”, “распадом”, “регрессом” мира внутреннего.
Когда пытаются выяснить природу исторического акта путем отыскания некой метафорической аналогии, то чаще всего обращают взор на театральное драматическое действо. Двойственный характер истории, ее внутренняя гармоничность, идущая от метаистории Неиного, и крайняя внешняя квазиупорядоченность и дисгармоничность, обусловленная историцизмом Иного, делает ее похожей на сценическую площадку, на которой разыгрывается многоактная экзистенциальная драма, завершение которой ждут одновременно и с надеждой и с отчаянием. “История - считает А.Игнатов , - это драма, у нее открытая структура драмы”.[357] У истории, есть свои подмостки, на которых действующие лица и исполнители (персонификаторы) разыгрывают, на первый взгляд, довольно странный и абсурдный спектакль. Причем, каждый из исполнителей заранее знает, что ему не суждено отыграть весь спектакль до конца, однако предпринимает все усилия с тем, чтобы его участие в нем длилось вечно.
На связь между театральной драматургией и динамическими ситуациями, складывающимися в истории, указывал еще Плотин. «Всемирная жизнь, - писал он, - в полноте своей создает совокупность вещей. В процессе жизни она производит различные формы вещей и неустанно создает эти красивые, изящные игрушки - живые существа. Армии, противостоящие друг другу, где люди, - эти смертные существа! - наступая в прекрасном боевом порядке, как бы исполняя пирриху, показывают нам, что великие человеческие деяния - всего лишь игра... Да, все происходит как на подмостках театра. Убийства, трупы, захват и разграбление городов! Все это не более чем смена костюмов и сцен, стоны и жалобы актеров. Ибо в нашем мире во всех жизненных событиях участвует не находящаяся в нас душа, а лишь внешняя человеческая оболочка, которая плачет, горюет и жестикулирует, играя свою роль в этом театре со множеством сцен, - на земле. Вот каково поведение человека, который умеет жить только в низшем, внешнем мире; он не знает, что, даже проливая слезы и принимая их всерьез, он играет. Только серьезный человек может серьезно относиться к серьезным вещам. Остальные люди - не более, чем игралища судьбы. Они принимают всерьез свои игрушки, они, не умеющие быть серьезными и не знающие, что сами они - лишь игрушки. Если ты играл с ними и с тобой случилась беда, знай, что ты играл с детьми, - и сними свою маску! Если играет Сократ, играет только его внешняя оболочка!»[358] Плотин подчеркивал, что человеческая жизнь превращается в настоящее игралище судьбы, если ее основу составляет низшая сфера бытия, в которую человек укоренен своей внешней телесной оболочкой. И, напротив, в высших слоях своего существования, в которых он укоренен своим внутренним миром, прикипел к ним душой - человек подлинный субъект собственной судьбы.
Драмой человеческая история является в связи с тем, что человек в ней развертывает свою изначальную свободу в последовательный и необходимый экзистенциальный ряд одновременно выступая и несубстантивной функцией истории и ее особой перманентно изменяющейся субстанцией. Не только филогенез человека в своей процессуальности историчен, но и история в антропологическом плане филогенетична. Человек и его история суть взаимообусловленные экзистенциальные категории. «Так как жизнь – пишет Ортега-и-Гассет, - совершающаяся «драма»; «персонаж», с которым она происходит, не «вещь», существующая вне и помимо драмы, а функция этой драмы, то это означало бы, что «субстанция» была переменной величиной. Но если бы она изменялась, то это означало бы, что изменение «субстанциально»»[359]. Так как в своей истории человек не только автор, но и исполнитель, то не всегда он как исполнитель в состоянии адекватно воспроизводить суть своего поистине вселенского призвания - творить гармонию жизни. На взаимобусловленность человеческой истории и божественной метаистории указывали многие философы и не только религиозные. Гегель в человеке видел отнюдь не подлинного исторического персонажа, а всего лишь марионетку, объективный разум истории или разум объективной истории все время дергает за особые ниточки, какими выступают потребности и интересы индивидов именно таким образом, чтобы подвести к тем действиям, которые имманентны интересам Всемирной Истории. «Побудительными мотивами в этой драме являются лишь эти потребности, страсти, интересы и лишь они играют главную роль… Можно назвать хитрость разума то, что он заставляет действовать для себя страсти, причем то, что осуществляется при их посредстве, терпит ущерб и вред. Ибо речь идет о явлении, часть которого ничтожна, а часть положительна. Частное в большинстве случаев слишком мелко по сравнению со всеобщим: индивидуумы приносятся в жертву и обрекаются на гибель. Идея уплачивает дань наличного бытия и бренности не из себя, а из страстей индивидуумов»[360]. По Гегелю получается, что спектакль разыгрывается бесстрастным разумом использующим в качестве средств реализации своих величественных метаисторических планов мелкие человеческие страстишки. Таким образом на подмостках истории разыгрывается не столько трагедия, сколько фарс, так как людишки с их страстишками не могут быть героями возвышенной драмы. Но и роль объективного духа при всей его устремленности дать онтологический простор для развертывании идеи свободы оказывается не вполне безупречной в нравственном плане. Вряд-ли образ Объективного Духа соответствует образу доброго Богом, скорее всего он безóбразен и безобрáзен как сатана. Использовать мелкие страстишки во имя прогресса Рацио или рационального Прогресса – это ведь прием гетевского Мефистофеля. В гегелевской историософии скорее проглядывается соотношение отнюдь не божественной и человеческой историй, а историцистское соотношение дьявольского и недочеловеческого. Ведь и сама история в этом гегелевском варианте вряд-ли может рассматриваться реализацией идеи прогрессирующей свободы, так как ее подмостки скорее всего напоминают лобное место где приносятся человеческие жертвы квазифетишу - Объективной Необходимости.
В отличие от Гегеля, Шелер рассматривает человеческую историю в качестве вполне оптимистического драматического спектакля, действие человеческих персонажей в котором имеет весьма высокую значимость для метаистории Духа. «Человек, - пишет Шелер, - этот короткий праздник в огромной временной длительности универсальной эволюции жизни, имеет, таким образом, некое значение и для цели становления самого божества. Его история – это не просто спектакль для некоего вечно совершенного божественного наблюдателя и судьи, она вплетена в становление самого божества»[361]. Н.Бердяев идет еще дальше, он считает, что история это такая последовательность драматических действий, которые остро переживаются и проживаются не только людьми, но и самим Богом. История есть не только история человеческих страстей и страданий, но и подлинной божественной трагедией. Человеческая история метаисторична, а божественная метаистория – исторична, так как обе они составляют единый процесс становления Богочеловека. А потому не только человеческая история есть часть метаистории, но и сама метаистория есть часть истории. «Очень многое в истории, - писал Н.Бердяев, - признавалось священным, и исторически священное сращивалось с откровением. Но при этом история нисколько не принималась и в ней не участвовали активно. Верно обратное. Ничто не должно быть признано в истории сакральным и ни к чему в ней не должно быть отношения покорности и послушания. Но нужно принять историю внутрь себя и активно участвовать в исторической судьбе. Я принимаю историю не потому, что я часть истории, а потому, что история часть меня»[362]. На исторических подмостках Бог исполняет даже более трагическую роль нежели человек, ведь именно человеком – его любимым созданием – он был распят на кресте и воскрес, но не для отмщения человеку, а для его окончательного спасения.
Согласно А.Шопенгауэру мир есть единство воли и представления. Если интерпретировать шопенгауэрскую редукцию мира к соотношению воли и представления с субъектоцентристских позиций, то история мира обретет следующую аналогию с театральными подмостками. Мир – это огромное представление, постановщиком которого является Предстоятель. Мир таков какова изначальная фабула его представления, фабула придуманная Предстоятелем. Метаисторический способ каким Он развертывает эту фабулу во вне в качестве определенной последовательности картин, актов единого действия переходящего в действительность, открывается человеку, как любил повторять Хайдеггер сквозь «просвет бытия» - через просвет театральной рампы, разделяющей Человека-Предстоящего и Бога-Предстоятеля. Мир темный сам по себе, однако отсвечивающийся божественным светом, позволяет Предстоящему «внутренним зрением своей души» видеть Предстоятеля именно сквозь просвет бытия-рампы. Однако Человек предстоящий пред Предстоятелем не пассивный зритель, он активно вовлечен в это всемирно-историческое представление. Предстоящий представлен в представлении всей своей экзистенцией и не иначе в качестве свободного актера, который «сам себе режиссер», а потому выступает носителем несколько иного текста, нежели тот, который содержит в себе общий замысел Главного Режиссера. Именно поэтому Человек оказывается совершенно непредсказуемым интерпретатором и исполнителем своей исторической роли. Человек участвует в мировой драме со своим собственными представлениями о ее сути, со своей собственной индивидуализированной игрой в чужой=своей пьесе и выступает в рамках единого представления равноценным партнеро Предстоятеля. Ход со-бытия, совместного действа Предстоятеля и Предстоящего во многом зависит от того насколько Предстоящий сумел осознать общую фабулу представления Предстоятеля именуемую Всемирной Историей? Насколько он своим предстоянием Предстоятелю оказывается его достойным партнером, насколько гармонизированы между собой Метаистория и его индивидуальная история, насколько соотнесены между собой два представления, которые как выясняется в конце спектакля – в Конце Истории – в конечном итоге играл один и тот же постановщик и исполнитель вселенской драмы – Человек, так как он Предстает в метаистории Самому же Себе являясь Микротеосом. Тот мир, который представляется ему сугубо внешним есть его собственная овнешненная внутренняя представленность в Предстоятеле. Таким образом Всемирная История - это драма, исходящая из трансцендентной целостности и универсальности человеческой экзистенции. Однако эту историческую драму человек представляет себе не в качестве целостного и универсального субъект, а, в основном, видит ее с позиции своей рациональной субличности, выстраивающей весьма частные представления как о Предстоятеле так и его Метаистории. В этих сугубо рационализированных представлениях можно разве что обнаружить безжизненную логику представленности Человека и отнюдь не в Предстоятеле, а в отчужденном от них обоих Мире, в который, в основном, является результатом объективации Иного, а не субъективации Неиного. Это порождает весьма сложную онтологическую проблему: каким образом в этом Предстоянии Самому Себе Человек в состоянии понять истинный смысл своего участия в своей собственной экзистенциальной драме, т.е. субъективный смысл объективной Истории. Каким образом человек в состоянии выйти из отчужденной от него истории, управляемой его собственным хитрым разумом, чтобы гармонизировав свой внутренний мир, подчинив своей экзистенциальной целостности дробность и частичность своей рациональной рефлексии, вновь предстать пред Предстоятелем в качестве сотворца Сущего?
Но есть еще одна онтолого-гносеологическая проблема – что же на самом деле человек видит и обнаруживает в мире сем? Если этот мир исторгается из его не вполне гармонической сути, то он может обнаруживать в нем лишь только то, что волевым образом произвел на свет, то есто то что произвела отнюдь не его креативная спонтанность, а его рационально-иррациональное своеволие. Он в состоянии обнаруживать в мире лишь то, что обычно называют произволением, произволом воли. Именно эту сторону отчужденного мира человек наглядно и воспринимает, но отнюдь не всю тотальность бытия, которая спонтанно исходит из его трансцендентной экзистенции на протяжении всей многоактной драмы жизни. Воля отторгает от человека жизненно важные пласты его внутреннего мира и объективирует их таким образом, что внешний мир становится все более объективным и отчужденным. При этом человек приучается воспринимать мир не как нечто отчужденное от него, а как изначально чуждое ему. Он начинает рассматривать мир как нечто само собой разумеющееся, имеющее свой собственный разум, имманентный объективным законам эволюции. Мир предстает перед ним как обладающий несравненно более высоким онтологический статусом нежели тот, который в предстоянии миру человек в состоянии себе насильственно присвоить. В конечном счете человек начинает верить, что произвол в его истории творит отнюдь не его собственная воля, а законы объективной необходимости. Человеком волющее начало собственной весьма дисгармоничной экзистенции начинает приписываться Предстоятелю. Человек начинает активно подчиняться своему собственному произволению, своему собственному произволу, тому произволу посредством которого мир уже не столько творится, сколько искажается, деформируется. При этом как бы в свое оправдание он неустанно повторяет «на все воля Божья».
Если еще глубже и радикальнее проводить параллель с драматическим произведением, то история есть не просто драма, это такая драма, каждое действие которой заканчивается трагедий, катастрофой. В своей работе “Антропологическая философия истории”[363] доктор философии из Кельна А.Игнатов соглашаясь со Шпенглером о том, что каждая эпоха имеет единый стиль, считает что с этой точки зрения доминирующими элементами ХХ столетия выступает катастрофа, синкоп, деструкция и сотрясение.
История отпавшего от Абсолюта человечества может рассматриваться как перманентная экзистенциальная катастрофа, в которой противодействуют метаистория и историцизм, гармония и порядок, сила и насилие, креативные способности и эволюционирующие потребности и проч.
Вся последовавшая за грехо-падением человека история связана не только со стремительной эволюцией его внешнего объективированного мира, но и столь же стремительной деградацией его мира внутреннего. Именно с этой кульминационной точки метаистории, история приобретает характер драмы, в которой как Рок, Фатум над человеческой экзистенцией нависает его собственное деперсонифицированное Зло, меняющее свои облики от одного исторического этапа к другому пока наконец-то не объявилось страждущему человечеству в обличии вожделенного Прогресса. Все то, чему человек поклоняется в мире внешнем, есть его собственная умноженная самоперсонификация, интенционально исходящая от самого внешнего, а потому и самого ложного его Я. “Под трагическим проклятием (в отличие от вызывающего сочувствие или же разрушаемого извне) мы понимаем, - писал Зиммель, - следующее: то, что направленные против данного существа силы разрушения возникают из глубин этого же самого существа; что с его уничтожением осуществляется судьба, заложенная в нем самом, и, так сказать, логическое его развитие именно и является той структурой, на которой существо выстраивало свою собственную положительную сторону”.[364] В древнегреческом мифе о железном веке на этот счет содержится пророчество: от века к веку, человек становится все более худшей копией первочеловека; к сожалению, это пророчество вполне подтверждается всем ходом плоской автоэволюции человека, утратившего способность творить мировую гармонию:
Сменяющие друг друга поколения
становятся все хуже и хуже.
Наступит время, когда они будут
такими злыми, что начнут поклоняться
силе и могуществу.
Сила тогда станет самооправданием,
а добро больше не будет в почете.
В конце концов, когда люди прекратят
возмущаться бесчинствами или
утратят чувство стыда при виде униженных
и несчастных, Зевс уничтожит их всех.
И все же этого можно избежать, если
простой народ способен подняться и
сбросить тиранов, которые его угнетают.
Естественно, под «тиранией», в контексте состояния современного исторического этапа, необходимо понимать не столько внешние персонифицированные силы, деструктивно воздействующие на внутренний мир человека, сколько «самотиранию» человека, наиболее отчетливо проявляющуюся в некрофильстве, странной любви ко всему неживому, искусственному.
Экзистенция в состоянии быть положительной и самотождественной в своем саморазвертывании лишь при условии, если развитие ее частей, тем более ее овнешненных онтологических проекций, осуществляется под приоритеты удержания изначальной трансцендентной целостности, и, напротив, плоская эволюция, а тем более прогресс отдельных ее онтологий, возможен не иначе, как в режиме катастрофы. Когда историцизм начинает господствовать в истории, вытесняя собой метаисторию, Субъект в своем становлении уже не столько нисходит во все более объективированные слои многомерного бытия, сколько совершает стремительное падение в онтологическую бездну, имя которой Хаос. Шеллинг в книге «О человеческой свободе» описывает мир, в котором исторический человек вынужден присутствовать, как нарушенное единство, как разрозненные фрагменты изначальной экзистенциальной целостности. Распад мира сего обусловлен трансцендентным Падением Человека, которое явилось основной «предпосылкой трагической природы Существования». Вместо последовательного нисхождения с высот Духа по ступенькам автоэманации ко все более проявленным формам существования в целях достраивания Миро-Здания до-низу, до его онтологического фундамента, человек избирает «свободное» падение в бездну Бытия, но именно это падение им воспринимается не иначе как «свободный полет» к вершинам прогресса. Метафизический грех человеческого падения заключается в его перманентном от-падении от Духа и от одухотворенных форм существования. Однако это свое онтологическое падение=отпадение эмпирический человек отнюдь не замечает, так как со стороны, может быть видна лишь внешняя сторона бытия, которая от одного исторического этапа к другому становится все более респектабельной и обильной. Сменяющие друг друга поколения людей входят в исторический процес с прогрессирующей уверенностью, что именно им предстоит взойти на некую абсолютную экзистенциальную высоту (коммунизм, тысячелетний рейх, рыночная экономика и проч.), которая была недоступной для их предшественников. Рациональное сознание подогревает стремление частичного человека полностью овладеть целостным миром. И только религиозное самосознание в состоянии интуитивно улавливать несоответствие между сущим и должным в экзистенции исторического человечества. Однако к нему прислушиваются разве что в ситуации грозящей катастрофы, но как только она временно преодолеватся и с облегчением вытесняется в «мрачное прошлое», так сразу же человечество, внимая прельщениям хитрого исторического разума, начинает еще более интенсивно осуществлять прорыв в «светлое будущее» по пути «прогресса», совершенно игнорируя возникающие при этом новые признаки своей онтологической деградации, чреватые еще более разрушительными экзистенциальными катастрофами. Гете утверждал, что в своем продвижении человеческий дух все больше чувствует, насколько он обусловлен тем, что, обретая, должен терять: ибо как с истинным, так и с ложным связаны необходимые условия существования.[365] Как убедительно показал М.Хайдеггер, ступеньки исторического прогресса есть в то же время и ступеньки нигилиза, ступеньки человеческого самоотречения. Ему вторит Трёльч: «Бесконечный... прогресс есть бесконечное отречение».[366] По мере ускорения исторического процесса, столь же ускоренными темпами вытесняется в сферу неосознаваемого все те тяжелейшие коллизии, которые человечество пережило. Однако чем более нарастает нигилизм в историческом сознании, тем меньше у человечества остается шансов даже на физическое выживание, не говоря уже о возрождении своей изначальной трансцендентной целостности. “Нигилизм, бессильный вначале в своих отдельных проявлениях, - писал К.Ясперс, - становится со временем господствующим типом мышления. В настоящее время представляется даже возможным, что все наследие прошлого, начиная с осевого времени, будет утеряно, что история человечества от Гомера до Гете будет предана забвению. Это звучит как предвидение, грозящее человечеству гибелью. Во всяком случае, очевидно одно: ни предвидеть, ни представить себе, что в таких условиях произойдет с человеком, невозможно”.[367] Современное поколение уже почти вытеснило из самосознания две мировые войны и совершенно не обнаруживает в своей “прогрессирующей экзистенции” возможность их повторения в еще более зловещих масштабах.
Человек не только строит мир, но и разрушает ранее отстроенное в нем, вновь и вновь перестраивая мир по все более историцистским рациональным меркам, а с позиции метаистории, - меркам крайне иррациональным. И средства самонасилия в этом деле играют решающую роль. Человек, пытающийся не только пред-полагать свою особую феноменальность, но и тотально рас-полагать, владеть всем Миро-Зданием предельной феноменологизацией своей изначальной ноуменальности, просто обречен быть основным виновником вселенской деструкции, глобальной самообъективации и самоотчуждения. С.Кьергегор связывает деструктивное поведение исторического человека его архетипическим страхом перед Ничто из которого был сотворен Богом. По ходу истории, от поколения к поколению изначальный страх все более возрастает и осознается человеком в качестве платы за его греховное существование в пределах вселенского Нечто. “В последующем индивиде страх становится рефлективнее. - пишет С.Кьеркегор. - Это может быть выражено тем, что Ничто, являющееся предметом страха, вместе с тем все больше и больше превращается в Нечто. Мы не утверждаем, что оно действительно превращается в Нечто или действительно обозначает Нечто, мы не утверждаем, что теперь вместо Ничто тут полагается грех или что-то другое... надо лишь заметить, что это не такое Ничто, к которому индивид не имеет никакого отношения, но Ничто, поддерживающее живой союз с неведением невинности”.[368] Изначальная невинность в расконсолидированном человеке, погруженном своей экзистенцией не столько в Нечто, сколько в Ничтожество, лежит за пределами его самосознания, а потому “неведение невинности” замещается в нем “ведением вины”. Но и само ведение вины оказывается запрятанным в тайниках самосознания, дающим о себе знать лишь в форме со-вести, совместной вести Ничто и Нечто по поводу экзистенциального Ничтожества, которое идеологизированное самосознание склонно реифицировать, приписывая ему статус абсолютной Реальности или реальности Абсолюта. “Все, что унижает и губит человека, - утверждал Ф.Ницше, - возводится в идеал”.[369] Абсолютный историцистский идеал есть абсолютно реифицированное Ничтожество.
История есть явная неудача жизни, не уставал повторять Н.А.Бердяев, она явно противостоит метаистории, в ней последовательно культура отпадает от культа, цивилизация от культуры, а в “конце истории” вся многомерная в прошлом человеческая экзистенция оказывается предельно упрощенной гипердескриптивной технологией под приоритеты абсолютного господства Рацио на всех этажах Миро-Здания, господства искусственного над естественным. Онтологические ступеньки начинают уже вести не к полноте бытия Иерархического Человека, а к вульгарно переполненному, тучному псевдобытию (Жан Бодрийяр) одномерного человека (Г.Маркузе). И на каждой последующей псевдоонтологической ступеньке экзистенция обретает все более гипертрофированные формы, которые и служат средством все более репрессивного, насильственного воздействия низших универсумов над высшими, способом преодоления ими своей метаисторической вложенности, средством насильственного присвоения неприсвояемого - абсолютного онтологического Статуса, или онтологического статуса Абсолюта. “Человек посредством саморастворения в мире объектном, - пишет Г.С.Батищев, - пытается разрешить какие-то свои собственные, сугубо человеческие проблемы и трудности, приводящие его к самоотречению, к бегству от самого себя и от ответственности за самого себя. Он кидается в мировой океан безразличного, как он полагает, всепоглощающего порядка, чтобы исчезнуть, устраниться в качестве выделенного из мира и уничтожить свою самостоятельность. Но тем самым он всего лишь опрокидывает на мир и вменяет ему свое собственное движение самоотрицания, свое бытие вопреки себе. Так складывается тяготение быть только благодаря миру бессубъектному”.[370]
Философия своими особыми рефлексивными средствами должна систематически напоминать человечеству о возможной глобальной катастрофе, которую он в состоянии либо приблизить интенсивным насыщением своих квазипотребностей, либо отодвинуть, если сочтет нужным развивать в себе соответствующие креативные способности, необходимые для соблюдения онтологических приоритетов, позволяющих гармонизировать между собой внутренний и внешний миры. Для реализации этих целей в рамках философского дискурса должна сложиться особая “экзистенциальная конфликтология”. Коли основным персонажем вселенской драмы выступает человек, то именно она могла бы стать составной частью онтологической антропологии или антропологической онтологии. Может быть к более основательному обоснованию идеи создания этой отрасли философского знания мы вернемся на завершающем этапе своего многотомного монографического исследования. Сейчас же ограничимся лишь некоторыми ее принципиальными положениями.
Во-первых, конфликтологическая модель исторической динамики должна исходить из наличия противоборствующих сил, как конструктивных так и деструктивных, внутри самой человеческой экзистенции. И возможности по снижению уровня вселенской деструктивности также необходимо обнаруживать внутри самого субъекта. Идею учета сил, участвующих в историческом акте, в свое время довольно четко сформулировал Вл.Соловьев. «Мы находим в истории, - писал он в статье «Три силы», - всегда совместное действие... сил, и различие между теми и другими историческими эпохами и культурами заключается только в преобладании той или другой силы...» Первая из этих «трех сил», как утверждал Вл.Соловьев, проявляется в стремлении «подчинить человечество во всех сферах и на всех степенях его жизни одному верховному началу... Один господин и мертвая масса рабов - вот последнее осуществление этой силы». Но в истории действует и противоположная сила, которая «стремится разбить твердыню мертвого единства», «под ее влиянием отдельные элементы человечества становятся исходными точками жизни, действуют исключительно из себя и для себя... Всеобщий эгоизм и анархия, множественность отдельных единиц без всякой внутренней связи - вот крайнее выражение этой силы». Но история есть положительный созидательный духовный процесс, который не может быть сведен к «дурной бесконечности» непрерывного противоборства этих двух тенденций исторического бытия человека и общества. В истории постоянно действует третья сила, «которая дает положительное содержание двум первым, освобождает их от исключительности, примиряет единство высшего начала с свободной множественностью частных форм и элементов, созидает, таким образом, целость общечеловеческого организма и дает ему внутреннюю тихую жизнь». Именно эта «внутренняя тихая жизнь» и составляет духовный смысл истории.[371]
«Внутренняя тихая жизнь» или согласно религиозным представлениям «тихая обитель Духа» и есть трансцендентный источник гармонического и бесконфликтного существования Иерархического Субъекта, чья история окончательно вошла в общее метаисторическое русло. Но для того, чтобы достичь такого идеального и благостного состояния экзистенции, восходящей к изначальной и трансцендентной «слабости», необходим учет сущностных сил, иррелевантных данному метаисторическому этапу и направленных на формирование положительного бытия, а также тех сил зла, идущих со стороны историцистской формы ничтожества, насильственно искажающих первоначальный проект сущего. Однако эти две противостоящие силы имеют один и тот же источник - внутренний мир самого Человека, силы добра и зла - суть силы одной и той же падшей свободы, свободы павшей в зависимость от своего антипода - необходимости. Следовательно человек должен найти в себе силы вновь овладеть своей «сакральной слабостью» способной его вывести к ценностям «тихой жизни», обрести свое былое само-обладание.
Во-вторых, при построении всеобъемлющей мировоззренческой схематики реального исторического процесса необходимо учитывать истинную суть тех крутых, революционных поворотов в метаисторических событиях, которые энергетически подпитывают перманентную экзистенциальную деструкцию во всех нишах человеческого бытия. Необходим фундаментальный онтолого-антропологический анализ тех «нововведений», которые на крутых виражах истории привносит в Идеальный Проект жизнь эмпирического историцистски ориентированного человечества. Лишь при целостном и субъектном подходе к отдельным этапам исторического процесса, могут быть обнажены факторы, деструктивно воздействующие на целостность расширяющейся экзистенции. Согласно субъектоцентристской историософеме эти деструктивные факторы связаны отнюдь не с изменениями в балансе сущностных сил консолидированного субъекта, а с наращиванием средств насилия, применяемых расконсолидированным субъектом по отношению ко всему тому, что еще связывает историю с метаисторией, с выпонением человеком своей вселенской миссии.
В-третьих, в конфликтологической модели исторически расширяющегося сущего должны учитываться «интересы» всех онтологических субъектов, как тех, которые все еще остаются на исторической площадке, так и тех, кто оказался оттесненным за ее пределы, преданным забвению, однако продолжающим существовать в качестве интенциональных субъектов в сфере Бессознательного. Историческая эпоха при явном лидерстве на мировой арене определенного человеческого типажа всегда есть некое онтологическое пространство, в котором присутствуют и все остальные персонажи всемирно-исторической экзистенциальной драмы либо актуально в качестве действующих поколений, либо интенционально в качестве поколений отыгравших свои исторические роли, либо потенциально в качестве поколений, которым еще предстоит появиться на Земле.
Современная объектоцентристски ориентированная конфликтология исходит из того, что конфликт может быть разрешен, если дает возможность приоритетному развертыванию наиновейшей, более прогрессивной онтологической форме. Все действующие онтологические субъекты, присутствующие в единой для них исторической эпохе сидят в одной и той же лодке, однако управлять ей должен самый прогрессирующий в своем историческом развитии субъект. Ситуация “путешественников в одной лодке”[372] в качестве конфликтной в свое время была смоделирована Ю.М.Гермейером и И.А.Вателем в Вычислительном центре академии наук СССР. Ее особенность состояла в том, что все участники этой конфликтной ситуации, имея разнообразные собственные интересы, были связаны еще и одним общим интересом, общей целью - доплыть до берега. Для того чтобы достичь этой общей цели, каждый из путешественников должен был часть своих ресурсов нужных им для достижения своих собственных целей выделить в «общий котел», иначе до берега им не добраться. Человечество давно уже уселось в один ковчег по имени Земля и плывет, как оно надеется к берегу название которому Райская Жизнь. И в этом ковчеге происходят события - совокупность которых и составляет содержание Всеобщей Истории. Однако вряд-ли эту историю можно назвать всеобщей, не является ли одна историей той прогрессирующей индивидуальности в интересах которой отчуждаются отнюдь не в «общий котел», ресурсы остальных действующих персонажей исторической драмы. Во-первых предстоит еще выяснить действительно ли человечество, доверившее руль своему «авангарду» сумеет пристать именно к вожделенному берегу. Во-вторых, если в случае благоприятного путешествия ковчег и пристанет к вожделенному берегу, то кто все-таки на него сойдет и кто будет сброшен с «парахода современности» как балласт с тонущего коралбя? Уже сейчас становится очевидным, что сойдет на этот вожделенный берег имя которому Апокалипсис - лишь владелец этого ковчега - Сатана, все остальные его пассажиры задолго до окончания этого странного путешествия прекратят свое существование по мере исчерпания их жизненных ресурсов. “Пороки и грех человечества, - писал С.Н.Булгаков, - принадлежат ему как целому; не может освободиться от греха ни один человек за свой собственный счет, пока коснеет во зле и неправде все человечество, и не может пасть один индивид, не вовлекая за собой в бездну и своих собратьев”.[373]
Занимаясь проблемами глобальных конфликтов и катастроф, необходимо исходить из более широкой конфликтологической версии, нежели та, которая ныне господствует как некая проекция дискредитировавшей себя позитивистской методологии. Рассмотрим некоторые ключевые понятия экзистенциальной конфликтологии с позиции субъектоцентристской мировоззренческой версии сущности исторической драмы.
Экзистенциальный конфликт — это многомерная деструкция человеческой метаистории, связанная с перманентным переносом статуса с внутреннего субъективного мира на внешний объективный мир, в связи с развертыванием изначальной экзистенциальной пустотности во все более объективированные, овнешненные и овремененные формы полноты человеческого существования. Предельную свою форму экзистенциальный конфликт обретает в ситуации, когда, иерархия сущностных сил оказывается перевернутой и их превращенные насильственные формы кумулируются отчужденным от субъекта объектом снизу вверх, в целях присвоения им в качестве онтологического псевдосубъекта статуса Абсолюта. В этой экстремальной метаисторической ситуации экзистенция окончательно противополагает себя трансценденции, что влечет за собой конец истории в форме вселенского Апокалипсиса. Спасти экзистенцию от самоуничтожения на пути абсолютного отчуждения от трансценденции может только чудо. Не случайно трансценденталия «чудо» выступает важнейшей в иерархии понятий православной апокалиптики. На всех этапах перманентного экзистенциального конфликта чудо, творимое трансценденцией, не дает возможность сущему превратиться в противо-сущее, гармонии окончательно быть вытесненной порядком, а Иному полностью овладеть Миром. Чудо спасения исходит от трансценденции, от Неиного в Сущем, присутствующего в нем даже в самые безнадежные мгновения истории. Преодоление экзистенциального конфликта возможно лишь возвращением человека к своим духовным первоистокам, возвращением к Богу, который согласно христианскому учению является не только Создателем, но и Спасителем. Бог призван спасти человека от себя самого и воскресение человека, его повторное рождение в Духе во многом зависит от того, желает ли сам человек быть спасенным своим внутренним духовным преображением или же он предпочитает поддасться последнему прельщению и стать князем мира сего саморастворением в универсуме средств потребления – в универсуме собственных квазиобъективаций. Сейчас в моду начинают входить такие понятия как “экзистенциальный коллапс”, “экзистенциальная усталость”, указывающие на усиление некрофильской тенденции в современной, перегруженной ложными и репрессивными объективациями, человеческом существовании. И лишь вера в чудо спасения свыше все еще вселяет надежду человеку отчужденному от своей собственной жизни, что тонкая ее нить, связывающая существование со Сверхсущим не оборвется под его тяжестью земных грехов.
Вселенский экзистенциальный конфликт имеет три основных модуса: ментальный, онтологический и семантический, в связи с чем можно говорить и о трех соответствующих им формах конфликта человеческого существования.
Ментальный конфликт - есть последовательная деструкция Менталитета, сферы субъективности, обусловленной объективацией изначальной «ментальной пустоты» в «ментальную квазиполноту» и возникновением целой иерархии ложных Я, псевдосубличностей. В связи с этим человеческую метаисторию можно интерпретировать еще и как перманентную ментальную катастрофу.
Каждая онтологическая эпоха есть некая определенная система вытесняющих и закрепляющих факторов, а потому от эпохи к эпохе человек в своем индивидуальном «развитии» отличается не только наличием исторически приемлемыми качествами, но и наличием качественно различающихся «ментальных деструкций», оформляющихся в различного рода психические заболевания. «Теперь элементы поменялись местами. – пишет Фуко. - Уже не конец времен, не конец света задним числом явит людям, что они были безумны, ибо нисколько об этом конце не тревожились; но именно нарастающее безумие, его незримое нашествие служит признаком того, что мир приближается к конечной катастрофе; и призывает ее, делает ее необходимой как раз людское помешательство»[374].
Современный человек, даже если он внутренне и верит в Бога, то все равно пытается еще и верифицировать эту свою связь с Ним сугубо прагматическим образом, а вдруг он что-то теряет от этой весьма абстрактного отношения, далекого от совокупности отношений реальной жизни в которой реально же присутствует? А потому человек одновременно может быть и святым и грешным преступником. Современный человек предпочитает преступать через многие святые связи и запреты, поступаться само-обладанием, обладанием внутренними духовными благами, благодатью во имя обладания внешним предметным миром, который далеко не благодатен. Человек преступает через те запреты, которые охраняют целостность и универсальность его собственной экзистенции. В конечном счете он осуществляет преступление против самого себя. Последовательный ряд онтологических преступлений исторического человека и составляет конфликтологическое поле его ментальности.
Ментальный конфликт есть ментальный модус экзистенциального конфликта, а потому он не может быть выявлен лишь на пути глубинной интроспеции или применением психоаналитических процедур. Выявление ментальной структуры экзистенциального конфликта позволяет выяснить степень истинности (или ложности) вовлеченных в него онтологических субъектов. Когда акцент делается на предмет (объект) конфликтного взаимодействия, то стороны, субъекты, в него вовлеченные, рассматриваются онтологически сопоставимыми и рядоположными, при этом игнорируются степень их экзистенциальной распакованности и проявленности, а следовательно и доминирующие в них способности и потребности. Вся проблема снятия деструкции в их взаимоотношениях видится лишь в нахождении оптимального консенсуса в их долевом владении предметом (объектом), втянутым в конфликтологическое поле в качестве пресловутого «яблока раздора».
В экзистенциально ориентированном конфликтологическом исследовании объект и субъект как бы меняются местами, и предметом анализа становятся не внешние объективации, а внутренние субъективации реальной действительности. Когда акцент переносится с объектов на субъекты, то доступной для понимания становится совокупность их истинных онтологических статусов, результирующая которых придает конфликтному взаимодействию некий «параллелограм сил и насилия», общий вектор которого и обусловливает общее целеполагание исторической процессуальности и некоторую совокупность возможных альтернатив снятия межсубъектной напряженности. При этом, естественно, становится возможным достижение некоего баланса во взаимоотношениях между субъектами на основе понимания ими сторон, вовлеченных в онтологический конфликт именно в качестве субъектов, с присущими им самобытными способами самореализации в едином для всех них, хотя и внутренне слоистом онтологическом пространстве. Естественно, при этом низшие в экзистенциальном плане субъекты должны каким-то образом суметь понять субъектов высших и тем самым существенно снизить уровень деструктивности в собственных ментальных структурах. Это архитрудная задача, так как для подобного понимания необходима экзистенциальная инверсия и последующая реконструкция ложных структур сознания у конфликтующих субъектов.
Прежде всего, необходимо выявить степень расконсолидированности, вовлеченных в конфликтное взаимодействие субъектов. Острота и масштабность конфликта, его возможные исходы для субъектов в значительной степени обусловлены степенью их внутренней консолидированности. Согласно разрабатываемой нами концептуализации сущего абсолютно консолидированным субъектом является такой, чья ментальность оказывается полностью распакованной и строго иерархизированной. Таковым является «астрально-антропно-социально-телесный субъект». Это идеальный Иерархический Субъект, в нем низшие Я не отпадают от Я высших, а органически центрируются вокруг своего прафеномена - трансцендентального Я или абсолютно пустотной субличности, а потому и образуют собой единую и абсолютно консолидированную развернутую ментальную целостность. При этом, в столь сложно построенной ментальной структуре полностью отсутствуют ложные Я, Я-паразиты, а следовательно и их ложные онтологические проекции на мир сущего. Под абсолютно расконсолидированным субъектом мы будем понимать такого иерархического человека, в ментальности которого абсолютно господствуют ложные антропное, социальное и рациональное Я, вытеснившие истинные ментальные формы в сферу бессознательного. Естественно, что абсолютно расконсолидированный субъект также всего лишь идеальная модель, он не в состоянии существовать в реальной действительности, так как ее укорененность в своих же собственных ложных и столь же расконсолидированных онтологическом и семантическом пространствах не в состоянии обеспечивать его абсолютные квазипотребности. Ложные структуры не в состоянии паразитировать за счет автовампиризма, «самоедства», они всегда существуют лишь за счет насилия над истинными экзистенциальными структурами как во внутреннем так и во внешнем мире Субъекта. Будем считать что абсолютно расконсолидированный субъект - это некий предел грехо-падения, ниже которого ложные ментальные структуры человека уже не в состоянии “эволюционировать” за счет интенсивного и максимального вампиризма над высшими Я, за счет инкорпорирования благ ими не производимых. Абсолютно расконсолидированный субъект есть не что иное как абсолютно самоотчужденный человек, господствующий над миром за счет перманентной самодеградации. Это уже не Существо в образе и подобии Бога, а сама персонифицированная суть дьявола.
Реальный исторический субъект всегда есть некий синтез истинных и ложных ментальных форм, он одновременно является и относительно консолидированным и относительно расконсолидированным субъектом. Естественно с переходом истории на все более «высшие ступени прогресса», обусловленные соответствующим падением уровня онтологического статуса субъекта, степень его расконсолидированности неуклонно возрастает.
Онтологический конфликт - есть последовательная деструкция Бытия, связанная с перманентной объективацией изначальной «онтологической пустоты» в «онтологическую квазиполноту» и появлением целой иерархии ложных бытийственных форм. В этой связи вполне возможно говорить о том, что метаистория человечества может рассматриваться и как перманентная онтологическая катастрофа, разновидностью которой выступает экологическая катастрофа. Онтологический конфликт есть бытийственный модус экзистенциального конфликта, он не может быть выявлен лишь на пути объектного подхода к «объективной реальности».
Катастрофы в субъектоцентризме - это способ каким низшие формы бытия разрушают породившие их высшие онтологические формы, в целях насильственного присваивая их статусов. Если катастрофы и выполняют свои псевдоконструктивные функции, то только по отношению к низшим онтологическим формам, ускоряя их одностороннее и плоское развитие и тем самым подводя их к порождению своих собственных «онтологических ублюдков», провоцирующих новые, все более всеобъемлющие катастрофы.
По мере появления все новых историцистских ментальных типов, между ними все более обостряется борьба за «передел мира». Воистину, согласно известному диалектическому закону, их единство становится все более релятивным, а борьба между ними – все более абсолютной. Одни и те же онтологические объективации одновременно могут выступать и средством созидания частных форм жизни и орудием разрушения целостной жизни. Макс Вебер говорил, что мировая история подобна пути, который вымостил сатана уничтоженными ценностями.
В объектоцентристском мировоззрении нарождающаяся высшая онтология по отношению к низшей и угасающей выступает не только в качестве ее иного, но и ведущей стороной их временного совместного проживания в мире. Борьба между новым и старым в Бытии всегда завершается диалектическим снятием всего того позитивного в старом мире, что вполне может интегрироваться в мир новый, выполняя в онтологической системе функцию подстилающей структуры, составляя некий подвал обновленного Миро-здания. По мере ускорения исторического времени Миро-Здание все более наращивает свое основание, погружаясь своими «нижними этажами» (преодоленные формы бытия) в некую онтологическую Преисподнюю, что позволяет отстраивать «верхние этажи», способные подпирать собой Небесные Своды. Такой «диалектический метод» строительства Миро-Здания напоминает технологию возведения Вавилонской башни, которая, как известно, рухнула в Преисподнюю вместе с людьми пытавшимися по ней взобраться в Поднебесную, чтобы овладеть ею. История как совокупность снятий в иерархии временных единств, в которой борьба абсолютна с неизбежностью ведет к онтологическому саморазрушению многомерной человеческой экзистенции. Однако зададимся вопросом, так уж далека от истины гегелевская идеалистическая диалектика, тем более ее марксистский материалистический инвариант? Да, она вполне верно отражает динамику исторического восхождения Объекта к своей квази- и псевдоцелостности. С позиции мировоззренческого субъектоцентризма снятие есть не что иное, как насильственное инкорпорирование, онтологическое заточение высшей экзистенциальной формы в морфологические структуры низшей формы. Иерархия онтологических снятий в истории есть следствие череды самоотчуждений Субъекта в пользу Объекта, в котором он продолжает присутствовать все более деперсонифицированным образом. Преисподняя, в которую худшая часть человечества погружает лучшую ее часть и становится тем фундаментом, на котором отстраивается «Дворец счастья». В момент репрессивного снятия могут возникать лишь ступеньки псевдобытия, которыми мостится дорога в ад. Ступеньки снятия - это ступеньки грехо-падения Субъекта и возвышения над ним Квазиобъекта - князя мира сего.
В субъектоцентризме снятие может рассматриваться лишь в качестве механизма, разрушающего изначальную целостность и универсальность Миро-Здания. Деструктивная функция снятия еще более обнажается если ее соотнести с такими понятиями как «присвоение», «инкорпорирование», «отчуждение».
Видимо не случайно в объектоцентристской модели мира человек рассматривается как «присваивающий, инкорпорирующий субъект». Так довольно часто К.Маркс в своих произведениях рассуждает о том, что человек в своей истории присваивает свои сущностные силы все более универсальным и целостным образом. Но ведь сам термин «присвоение» уже указывает на то, что то, что субъектом присваивается нечто ранее принадлежавшее не ему (известный лозунг «экспроприация экспроприаторов»). Таким образом в самом понятии «присвоение» уже содержится признание законности «отчуждения». Снятие как присвоение есть не что иное как процесс инкорпорирования низшей формой субъективности онтологического статуса породившей ее вышей ментальной формы, позволяющего низшему Я господствовать над Я высшим. Но ведь и высшее Я и Я низшее - компоненты единой ментальной целостности, единого Человека. Инкорпорируя онтологический статус высшего Я, низшее Я становится именно той субличностью в ментальности Человека, которая выступает отчуждающим псевдосубъектом. Вот почему любая форма отчуждения в субъектоцентризме рассматривается проявлением самоотчуждения Человека, отчуждением Человека от самого себя.
Семантический конфликт - есть последовательная деструкция Слова, связанная с перманентной объективацией изначальной «семантической пустоты» в «семантическую квазиполноту» и появлением целой иерархии ложных знаков и значений, обесмысливающих человеческое существование. В этом плане можно говорить, что метаистория человечества есть и перманентная семантическая катастрофа. Семантический конфликт есть семантический модус экзистенциального конфликта, а потому он не может быть выявлен лишь на пути абстрактного анализа смыслообразующих структур актуализированного языка.
Выявление семантической структуры экзистенциального конфликта позволяет выяснить степень истинности (или ложности) вовлеченных в него мирожизненных смыслов. Это позволяет обнаружить степень дивергенции, расхождения наличной системы знаков и значений от изначального Смысла Истории. Если Начало Истории семантически иррелевантно единому Слову, то чем ближе экзистенция клонится к своей исторической завершенности, то тем более она начинает соотноситься с некоторой терминологической плюральностью, обусловленной конфликтом разнородных смыслов существования. Существование предельно расконсолидированного субъекта с дурной бесконечностью его квазипотребностями и весьма ничтожными виртуальными способностями лишено какого либо смысла, его существование - сплошной экзистенциальный абсурд. Экзистенциальный конфликт возрастает в той мере, в какой семантически бессмысленным оказывается человеческое бытие. «Человеческий интеллект в своей эволюции, - пишет В.П.Казначеев, - получил семантический инструментарий; пределы этого инструментария (включая математические и др. языки) ограничены. Чем больше мы будем расширять свой интеллект на этой основе (язык), препоручая семантические эвристические операции запрограммированной памяти компьютерных систем, тем мы, несомненно, все глубже будем проникать в познание сущности косного вещества планеты и Вселенной. В то же время будем все больше и больше отдаляться от понимания ФЕНОМЕНА ЧЕЛОВЕКА, живого вещества, Геи, живого космоса»[375].
Семантический анализ экзистенциального конфликта должен способствовать выявлению степени утраты конфликтующими субъектами истинных смыслов своего существования. Их взаимопонимание и взаимоподдержка возможны лишь в той степени в какой они в состоянии сообща выйти на единое для них смысловое поле, на единый экзистенциально оформленный язык глубинного общения.
Когда мы оперирует иерархией онтологических статусов субъектов, противостоящих в ментальном конфликте, то тем самым пытаемся конституировать их в качестве онтологически самотождественных Самостей, обладающих естественной легитимностью и суверенностью в пределах определенных способов существования. Когда же мы соотносим стороны ментального конфликта по их онтологическим статусам, то тем самым пытаемся осуществить соотносительный анализ их особых экзистенциалов, вне которых их существование оказывается бессмысленным, не мотивированными имплицитными бытию семантическими смыслами. Выявленная степень онтологической рассогласованности притязаний конфликтующих субъектов может быть использована в целях прогнозирования возможных хода и исхода посредовательного ряда исторических событий.
Выявляемая в ходе конфликтологического исследования степень расконсолидированности ментальной, семантической и онтологической форм Полноты человеческой экзистенции позволяет диагностировать, насколько экзистенция дивергировала от трансценденции и приблизилась нижней «бездне бытия». Экзистенциальная конфликтология должна исходить из признания приоритетности высших ментальных, онтологических и семантических форм над низшими в человеческой экзистенции и на этой основе формулировать предложения, направленные на снижение уровня деструктивности в мире.
Выступая модусами единого экзистенциального конфликта, онтологический, семантический и ментальный конфликты находятся в отношении трансцендентного изоморфизма. Это означает, что единую экзистенциальную деструкцию можно описывать в терминах и онтологической, и семантической, и ментальной конфликтологии.
Вкратце остановимся на генетических формах экзистенциального конфликта (схема 12). Генетическими формами всемирной экзистенциальной деструкции являются астральный, антропный, социальный и природный конфликты и катастрофы.
Культ
Ñ
|
Астральный Субъект
|
Космическая катастрофа
|
Культура Ñ |
|
|
|
Антропный Субъект |
Астрально- антропный Конфликт
|
Антропная катастрофа |
Цивилизация
|
|
|
Социальный Субъект |
Астрально- социальный конфликт |
Антропно-социальный конфликт
|
Социальная катастрофа |
Технология Ñ |
|
Телесный Субъект |
Астрально- технологич. конфликт
|
Антропно- технологич. конфликт
|
Социально- технологич. конфликт |
Природная катастрофа
|
|
Тип Субъекта |
Типы конфликтов и катастроф |
|||
Схема 11. Типология форм экзистенциальной деструктивности
Космическая катастрофа связана с первичной субъективацией Абсолюта в Человека как Микрокосма и деструкцией в отношениях последнего с Макрокосмом. Антропогенез Человека и последующая антропоморфизация сущего ставит предел его космогонии - перманентному самопорождению Человека в качестве становящегося Микрокосма.
Выше мы уже писали, что от гибельных воздействий Микрохаоса на Макрокосм и Макрохаоса на Микрокосм предохраняет особый «трансцендентный экран», каким обладала экзистенция Первочеловека, через который пропускались лишь конструктивные взаимовлияния внутреннего и внешнего космосов. Одной его стороной являлся Табу, предохранявший Макрокосм от его поглощения Микрохаосом, а другой - Тотем, защищавший Микрокосм от разрушительных воздействий Макрохаоса. Широкомасштабная астральная катастрофа становится перманентной как только в отпавшей от божественной трансценденции человеческой экзистенции начинается процесс последовательного растабуирования сакральных прескрипций Неиного. Человек своевольно присвоил себе право сакрализировать феноменальное и десакрализировать трансцендентное в сущем. В результате этого в «трансцендентном экране» и образовались пробои в которые не преминули устремиться силы Микро- и Макрохаоса.
Антропная катастрофа вызывается гипертрофированной формой социогенеза Человека, ставящей предел его антропогенезу. На этот раз пробои возникают уже в «ценностном экране» культуры в результате преодоления табу на социальную форму присвоения и отчуждения в пользу безличного социума человеческих качеств и способностей. Антропный конфликт является внутренним конфликтом культуры и становится господствующим способом разрешения противоречий многомерной человеческой экзистенции на исторической фазе, начало которой задается интенсивным вытеснением культуры цивилизацией.
Социальная катастрофа обусловлена техногенезом Человека, ставящим предел его социогенезу. Социальный конфликт является внутренним конфликтом цивилизации и становится господствующим способом разрешения противоречий многомерной человеческой экзистенции на довольно продвинутой фазе метаистории, начало которой положено интенсивным вытеснением цивилизацией культуры и антропного субъекта субъектом социальным, а конец - обусловлен вытеснением самой цивилизации технологией («искусственной природой») и субъекта социального - рационально-телесным субъектом. В современную эпоху западная цивилизация начинает активно модернизировать свою социально-технологическую в технолого-информационную, что не может не повлечь за собой хронический экологический кризис, свидетельствующий о начале эпохи, в которой природная катастрофа становится не только перманентной, но и чреватой гибелью самой цивилизации.
Природная катастрофа связана, с излишней склонностью человека к самообъективации, к замене естественных структур искусственными. Тотальная замена природных процессов искусственными технолого-информационными ставит предел существования не только природе, но и самому присутствию человека в мире самообъективаций. Технология есть последняя неудача человеческой экзистенции, так как изначальную гармонию Бытия именно она ввергает в Хаос Противобытия. В системе объектно-объектных отношений объективируется внутренняя природа самого человека и он постепенно сам для себя превращается во внешний объект рационализаций и тем самым начинает перманентно самовытесняться из им же самим создаваемой искусственной среды обитания.
Все более значительная часть метаисторического Ничто развертывающаяся сверхактивностью расконсолидированного Человека в исторические формы Нечто свертываются не в изначальное Нечто, а экзистенциальное Ничтожество, противостоящее человеку в качестве его собственной отчужденной силы, в форме самонасилия. Репрессивное противостояние гиперрационального Ничтожества трансрациональному Ничто на завершающем этапе человеческой истории становится столь тотальным, что преодолеть в состоянии лишь Вселенская катастрофа. Лишь второй «Большой Взрыв» или Апокалипсис в состоянии радикально покончить со Вселенским Хаосом, результатом которой станет реинверсия «внутриобъектных отношений» во «внутрисубъектные отношения», и Абсолют вновь начинет самораспаковываться, самопроявляться, автоэманировать с «надеждой», что на этот раз Культура не отпадет от Культа, Цивилизация от Культуры, а Технология от Цивилизации. Однако метафизически признать эту реинверсию, означает мировоззренчески конституировать томительное присутствие Человека в чуждом ему Мире в ожидании Апокалипсиса в качестве единственного «рационального» и «достойного» способа его существования. Перманентная экзистенциальная катастрофа в принципе может быть преодолена лишь последовательным возвращением Человека к своим сакральным Первоистокам, если он решится повернуть вспять свое "прогрессирующее" продвижение к Апокалипсису. Такое «попятное» движение истории в теологической литературе обозначается понятием «апокатастасис».
Мировоззренческие и методологические принципы экзистенциальной конфликтологии вполне могут быть использованы в прикладных конфликтологических исследованиях. Автору этой книги довелось участвовать в гуманитарной экспертизе широкомасштабного экзистенциального конфликта, разворачивающегося в Приполярной России, в связи с поистине варварским освоением ее энергетических ресурсов. В научной литературе он известен под названием “Ямальский конфликт”. Основные параметры этого конфликта моделировались на основе вышеизложенных принципов. Мы не будем останавливаться на анализе итогов этого конкретно-конфликтологического исследования, так как и по уровню рефлексии и по своему жанру оно не вполне согласовывается с тем предельным рефлектированием по поводу катастрофического характера Всеобщей Истории, которое должно сохраняться, на наш взгляд, до последних страниц монографии. Однако при желании с результатами исследования сути и содержания «Ямальского конфликта» можно познакомиться по нашим публикациям[376].
Конфликтологический анализ позволяет выявить некоторую сущностную систему взглядов на мир, носителями которых выступают взаимодействующие субъекты. Каждый онтологический субъект в нем характеризуется своей определенной сущностной стороной. «Субъективная», ментальная конфликтология должна исходить из признания приоритетности высших ментальных и онтологических уровней человека над низшими. Система онтологических зкспертиздолжна включать в себя: космологическую (анализ гуманитарных, социальных и технологических проектов с позиции интересов астрального субъекта); гуманитарную (анализ социальных и технологических проектов с позиции интересов антропного субъекта); социальную (анализ технологических проектов с позиции социального субъекта) и сциентистскую (анализ конкретных научных разработок с позиции "интересов" функционирования природных комплексов). Сциентистская экспертиза (естественнонаучная, технологическая) должна дать заключение о том, насколько "проект освоения" может быть обеспечен современным уровнем развития науки, технологии и сложившейся "внедренческой практики". Разновидностью сциентистской экспертизы является экологическая экспертиза в ее узком понимании, которая должна установить пределы технологического воздействия на природные процессы с тем, чтобы не вызывать в них необратимых деградационных изменений.
Над сциентистской экспертизой должна надстраиваться социетальная (социальная). Она по отношению к первой выполняет функцию "экспертизы экспертизы" и формулирует те пределы для технологического воздействия, в рамках которых возможно воспроизводство субъектов в качестве "социальных агентов", столь необходимых для стабилизации и развития социума. Социетальная экспертиза включает в себя политическую, экономическую, социологическую, социально-психологическую и прочие частные экспертизы. Экспертами здесь выступают политические и общественные деятели, экономисты, юристы, специалисты в сфере управления. Социетальная экспертиза должна исходит из признания примата социальной целесообразности над порядком так называемой "технологической необходимости". По отношению к социальной экспертизе гуманитарная экспертиза выступает как оценивающая процедура более высокого уровня. Это и есть "человеческое измерение" социальных, экономических, политических, технологических и иных факторов, воздействующих на сферу человеческого духа как конструктивно, таки деструктивно. В рамках этой экспертизы все структуры оцениваются лишь с точки зрения того, насколько они соответствуют идеалам гуманизма, всестороннего и универсального развития Человека. Самой высшей формой экспертизы, экспертизой всей совокупности зкспертиз, выступает космологическая (трансцендентная). Экспертом в космологической экспертизе может выступать Субъект, репрезентирующий своей жизнедеятельностью Абсолют. Таковыми раньше были пророки и святые.
Мы рассмотрели лишь основные принципы и категории субъектоцентристской историософии. К намеченному в этой книге категориальному ряду необходимо еще присовокупить те универсалии, категории и понятия, которые анализировались нами в предыдущих книгах «Суммы», когда излагалась метафизическая концепция человеческого филогенеза. Филогенез Человека и его История экзистенциально изоморфны, так как становление человека и есть развертывание иерархии его сущностных сил в процессе Всемирной Истории, а последняя есть не что иное как его объективированный во-вне филогенез. Естественно, что в этих трех книгах «Суммы» лишь намечены общие контуры понятийного ряда субъектоцентристской историософии, более детальная его проработка является задачей той части философской общественности, которая примет эти идеи, в основном и главном.
Глава 3.
ОТ КУЛЬТА К КУЛЬТУРЕ
3.1. Оппозиция сакрального и человеческого
в экзистенции
|
|
Что было обожествлено? - Инстинкты, ценности, господствовавшие в общине (то, что делало возможным ее дальнейшее существование). Что было оклеветано? - То, что обособляло высших людей от низших, стремления, разверзающие пропасти. Ницше Фридрих. Воля к власти.
|
С выделением из пустотной бесконечности Абсолюта духовного космоса происходит постепенная его субъективация, составлявшая экзтстенциальное содержание процесса становления космического универсума. Бог обмирщвляясь становится духовным модусом того Мира, который порождает. Бог одновременно оказывается и Ничто в качестве абсолютной трансценденции и Нечто в качестве становящейся экзистенции. Начинает свой отсчет история в качестве первичной субъективации метаистории. Внутренняя мистерия Духа начинает все более обретать свои «внешние подмостки» – человеческие души. Человек как Микрокосм вмещал в себя весь Космос, все Мироздание. Где же обитает Бог? - излюбленный риторический вопрос схоластов-теологов. Обителью Бога являются души людей утверждал Экхарт. Микрокосм есть не что иное как первичная самосубъективация Бесконечного Субъекта, который будучи вовлеченным в общий метаисторический поток становления, обладает и своей отличной от Микротеоса историей. Его историей становится абсолютный Миф в качестве самоисполняющегося Пророчества, который Человек пытается космологически переинтерпретировать, в результате чего появляется целый спектр относительных мифов, задающих направленность и динамику исторического движения, которая лишь в основном и главном согласовывается с метаисторией. Совокупность смысловых различий между самоинтерпретирующейся абсолютной мифологемой и ее своеобразными космологическими интерпретациями, порождающими относительные мифы, которые затем на протяжении тысячелетий постепенно складываются генерализируется в первичную форму идеологемы составляют собой основу относительного единства метаистории и историцизма в человеческой истории.
В ряде своих работ В.А.Фриауф[377] предложил вполне конструктивную идею различения мифов на абсолютный и относительные. Под абсолютным мифом он понимает не что иное как нуминозный опыт мысли, абсолютную сращенность, срастворенность языка, сознания и реальности. Абсолютный миф - есть граница, переход от Абсолютного как апофатической бездны к тому или иному сценарию бытия–небытия. Апофатическая бездна, или Абсолютное, по отношению к абсолютному мифу выступает в роли Трансцендентного Априори, о котором человек не вправе высказывать никаких утверждений без ясного понимания их сверхисторической метафоричности. Хотя ни о какой сращенности языка и апофатической бездны речи быть не может, однако при этом абсолютный миф выступает актуализацией трансценденции «здесь и теперь», является темпоральным континуумом Настоящего, в нем постоянно время и вечность как бы перетекают друг в друга. В силу такой континуальности и пограничной топологии, абсолютный миф оказывается бесконечным трансцендентальным «резервуаром» нераспакованных Смыслов и их онтологических коррелятов. Тем самым он оказывается универсальным медиатором между апофатической бездной и онтологическими сценариями распаковывания и развертывания Изначальных Смыслов Бытия. Если абсолютный миф есть «слабая версия бытия», то относительные мифы являются «сильными» формо-образованиями с их кентаврической природой, вмещающих в себя не только метаисторическое, но и историцистское. Являясь, по существу дела, принципиально обусловленными и несамодостаточными, относительные мифологемы претендуют на замещение Абсолютного мифа. Их темпоральность устроена и не в вечности, и не в настоящем, а в «псевдо-настоящем» и именно в этой их особенности В.А.Фриауф обнаруживает их главное коварство, попав в плен относительных мифологем, человек утрачивает истинную связь и с метаисторией и историей, он попадает в объятия историцизма, становится псевдо-субъектом псевдо-настоящего. Объективация относительных или «темных» мифов и составляют основу первичного историцистского процесса. «Темный миф, - писал Шелер, - не столько является продуктом истории, сколько, напротив, именно он во многом определяет ход истории народов». [378]
В отличие от покоящегося ноуменального начала, первичная родовая феноменальность постоянно находится в перманентном самодвижении, что и делает ее не только метаисторичной, но и историчной. На первых порах история полностью подчинялась метаистории, а движение по своему характеру было возвратно-поступательным, направленным к эпицентру мироздания, который безраздельно занимал Бесконечный Субъект (абсолютный субъектоцентризм). С позиции наблюдателя («объективный историу»), занимающему внешнюю и тем более объектную позицию, древняя История или история Древности, воспринимается как однообразное и монотонно повторяющееся движение по кругу, отсюда и теория исторического круговорота или круговорота истории. Если и дальше продолжать проводить параллель с этим геометрическим образом, то первичная форма исторического движения может быть осознана как такая форма кругового движения при котором радиус исторического круговорота перманентно удлиняется, а следовательно и расширяется его экзистенциальная площадь, за счет все более расширенного воспроизведства феноменально превращенных форм трансцендентного. Постепенно расширяющийся круговорот космологических событий и составляет собой экзистенциальное содержание перманентно расширяющейся вселенная Абсолюта. Однако при этом сохраненяется единый нуминозный центр вне зависимости от величины трансцендентного радиуса, по которому не только развертываются свернутости в трансфеноменальное Нечто, но и свертываются развернутости трансцендентного Ничто. На всем бесконечном протяжении метаисторического круговорота и связанного с ним перманентного развертывания Ничто в Нечто, Абсолют как вечная и бесконечная сингулярная точка в своем переходе в расширяющийся круг бытия всегда оказывается трансцендентно самотождественной – Неиной. Кто-то из древних утверждал, что Бог есть окружность, радиус которой стремится к абсолютной бесконечности, а центр – к абсолютному нулю. Метаистория как История Неиного не может не быть движением по трансцендентно-феноменальному кругу, расширяющаяся «экзистенциальная площадь» в которой есть, если можно так выразиться, является производной от длины трансцендентного радиуса-вектора всегда направленного в эпицентр движущегося и объективирующегося мира, занимаемый «неподвижным» Бесконечный Субъект.
Астрально-антропный субъект будучи укорененным двумя своими Я одновременно и в космическую и в родовую онтологии в качестве сложно-построенной, иерархизированной универсальной ментальной целостности, мог существовать лишь при условии неукоснительного следования требованиям приоритетности сакрального над родовым в перманентно расширившейся экзистенции. Человеку необходимо было одновременно вмещать в своей ментальности и Идеальный Образ Бога и его родовую персонификацию=субъективацию, предвечно пребывать в Лоне Духа и своей овремененной душой составлять Его Обитель. Но лишь на первых порах Бог и Человек представляли собой единую космо-антропную субъектность, именуемую в русском космизме Богочеловеком. Ментальность астрально-антропного субъекта представляла собой сакрально-трансцендентное единство космического и родового начал в человеческой экзистенции. Устойчивость этой первичной иерархичности человеческой ментальности придавало ее тяготение к онтологическому центру, в котором содержался духовный Космос или космос Духа - первичная субъективация Абсолюта. Эта ментальность строилась на иерархии космического и антропного принципов, экзистенциального соподчинения Антропоса Микрокосму, а Микрокосма Микротеосу.
Однако по мере наращивания темпов развертывания и присвоения человеком своих феноменальных родовых сущностных сил, история начинает все более выходить из под контроля метаистории, а движение сначала приобретает поступательно-возвратный, а затем, в основном, поступательный характер. Исторический круг бытия сначала обретает, если продолжить геометрические аналогии, форму эллипса, у которого уже не один, а два центра – ноуменальный и феноменальный, а затем и форму параболы с одним феноменальным центром – антропным и движение по своей направленности оказывается уже не движением во-внутрь, а движением во-вне. Ветви «параболической истории» всегда устремлены изнутри – из потемок человеческой души во-вне, ко все более овнешнешняемому миру человеческих самообъективаций. Сам центр такой формы движения перестает быть покоящимся, он все время перемещается вдоль историцистской линии все более удаляется от изначального абсолютного нуминозного центра. Мифы относительные все более радикально дивиргируют от абсолютного мифа, однако при этом присваивают себе его сакральный статус, самоконституируют в самосознании человека в качестве его фундаментальных верований. «В момент, когда мы «подвешены над пропастью» собственной пустоты, - считает Ф.И.Гиренок, - обессмысливаются кантовские вопросы: во что нам верить? Эти вопросы имеют смысл, если колесо истории крутится, и мы на этом колесе. Когда мы верим, что у жизни есть логика, нам есть во что верить, есть на что надеяться и есть что знать. Но если мы соскочили с этого колеса, то мы видим лишь следы ускользающей истории»[379]. Как только изначальный круг истории превращается в историцистскую гиперболу, начинается дивиргенция человеческой истории от метаистории как следствие распада космо-антропного синкретизма на Человека-Ноумена и Человека-Феномена, со страстными стремлением последнего стать Сверхчеловеком, Гиперфеноменом и заменить своей историцистским существованием метаисторическую экзистенцию.
По мнению Пауля Тиллиха, основным источником трагического в человеческой экзистенции выступает процесс все большего обособления в ней сфер религиозного и секулярно. Ранее они распологались одна в другой, но затем секулярный элемент в своем стремлении стать независимым, создал свою собственную феноменальную область. В противовес этому религиозный элемент также утвердил себя как особая трансцендентальная область. Эта ситуация и создает трагическое положение человека, так как возникает отчуждение человека от его истинной онтологии – сакрального Сверхбытия. Существование религии как особой области - наиболее очевидное свидетельство падшести человека. Вера в абсолютное из непосредованной формы внутреннего, интимного общения Человека с Богом все более модифицируется в опосредованную сакральными текстами и церковно овнешненную религиозность. «Религия..., - пишет Пауль Тиллих, - забывает, что ее собственное существование - результат трагического отчуждения человека от его истинного бытия. Она забывает, что возникла в качестве выхода из чрезвычайной ситуации».[380] «Монологизированный диалог» между Богом и Человеком все более модифицируется «диалогизированный монолог», в котором трансцендентальные Откровения Бога и феноменальные Открытия Человека оказываются не только семантически, но и онтологически несовместимыми. Диалог в состоянии быть формой единого трансцендентального внутреннего монолога лишь на основе апофатических внутрисубъектных отношений возможен лишь между целостностями, он, если можно так выразитьтся, внутриконфессиален. Диалогизированный монолог осуществляется на языке, как говорил Апостол Павел незнакомом человеку, а потому он не может быть языком межчеловеческого диалогического общения. Этот «незнакомый язык» и составляет основу мудрого молчания, результатом которого Откровение Бога обретает форму Самооткровения Человека. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом; а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение (1 Кор 14, 2-3)». Диалогизированная форма монолога по сути своей является межконфессиальной, как показывает практика взаимоотношений мировых религий, люди их исповедующие вполне “понимают” друг друга, так как являются носителями хотя и относительных мифов, но все-таки мифов не утративших связь с абсолютным мифом. Однако это «понимание» все же возможно лишь в пределах диалога культур, в котором Абсолют укоренен в форме Культа. Сам феномен «понимания» уже говорит о том, что изначальный трансцендентный монологизированный диалог как перелив непостижимых внешним образом смыслов События Макро- и Микротеоса окончательно раздвоился на сакральную и секулярную форму монолога. Необходимость поддержания межмонологического диалога, диалога между Богом и Человеком и обусловило возникновение разнообразных религий, каждая из которых стоит на том, что наиболее аутентично воспроизводит и передает изначальные трансцендентные смыслы бытия. «Человек, достигнув ясности познания, - пишет Мартин Бубер, - будет обязан признать, что все воображаемые разговоры с Божественным - это только лишь разговоры с самим собой, а скорее даже диалог между различными слоями личности»[381].
Исторически области религиозного и секулярного просуществовали автономно друг от друга недолго, во все более расширяющейся человеческой экзистенции, секулярная сфера в довольно быстро подчинила своим интересам сферу религиозную. А принцип религиозности все более стал использоваться человеком при подходе к сугубо секуляризированным формам своего бытия. Постепенно в Мироздании, в той его части, которая интенсивно обустраивалась родовым человеком и которая своим отпадением от ноуменального центра все более обрела известную от него автономию, начинает складываться онтологический эксцентриситет, центральное место в котором узурпирует Человек-Феномен, Человек-Антропос (антропоцентризм). Между Богом и Человеком возникают довольно сложные взаимоотношения, которые взаимными трудно даже назвать. Бог делает отчаянные попытки вернуть Человека в обитель Духа, однако тот всячески этому сопротивляется. Свидетельство тому можно найти в первичных относительных мифах, в которых содержится уже не только нуминозный опыт, но скрытая апология Человека – антроподицея и явная теодицея Бога. В рамках мифологического сознания начинает выстраиваться довольно сложная система оправданий Бога, которая скорее всего выступает первичной формой идеологического самооправдания Человека и не столько за свое отпадение от Него, сколько за те экзистенциальные неудачи, которые стали постоянными спутниками его перманентно феноменологизирующейся истории. Виновником всех великих неудач Человека стал осознаваться Бог, однако чтобы окончательно не лишиться его благодати начинают создаваться, если можно так выразиться, «оправдательные приговоры» Богу - теодицеи. По своей глубинной сути теодицеи есть не что иное как религиозно превращенные формы секуляризированных автоапологий исторического человека.
По мере феноменализации трансцендентного, сакральное в человеческой экзистенции начинает релятивизироваться, а человеческое в ней – абсолютизироваться. Символический Абсолют в человеческом самосознании все более обретает ценностную определенность, определенность Культа, а ценностная определенность человеческой души, наделяется статусом символической неопределенности, персонифицируемая в качестве Кумира. Абсолютный миф начинает активно замещаться мифом относительным, сакрализирующим родовую жизнь человека и квазиантропологизирующим абсолютное в сущем.
Ветхий Завет полон свидетельств того, как Человек пытался не только обособиться от жизни в Духе, но и сделать из своей родовой жизни самодовлеющее начало в Мироздании. В этой чреватой вселенской катастрофой экзистенциальной ситуации, человеку строившему свое родовое именитство по своим собственным меркам необходимо было как-то побудить Бога, чтобы Он принял его онтологическое обособление в качестве свершившегося факта и пошел в этом вопросе на известный компромисс, но и Богу необходимо было договориться со своим со-зданием, с этим своевольным человеком, чтобы тот все же соблюдал основные сакральные приоритеты в его расширяющемся именитстве, чтобы отстраивая свое родовое гнездо, именное здание жизни, при этом не разрушал сакральные основы миро-здания. Ведь не только становление человека зависит от Бога, но и становление Бога зависит от человека. «Логос, «согласно» которому устроен мир, - пишет Шелер, - становится актом, в котором можно соучаствовать. Таким образом, согласно нашему воззрению, становление бога и становление человека с самого начала взаимно предполагают друг друга»[382]. Однако Логика в качестве секуляризованного Логоса делает соучастия Бога в строительстве мироздания по сугубо человеческим меркам невозможным. Более того в этой логике содержится противопоставление становлений Человека и Бога, «революционное» становление Человека оказывается процессом существенно затрудняющим «реформаторское» становление Бога.
“Книга Бытия” повествует о том, сколь драматически складывались отношения между Богом и Человеком после грехо-падения последнего. Человек, выдворенный из рая, сразу же начинает ставить ценностные формы родовой жизни выше своего свободного самоопределения в Духе. Относительный миф, ценностный по своему характеру все более активно вытесняет миф символический и абсолютный, содержавшийся в нуминозном опыте первочеловека. В этой связи «Ветхий завет» своим возникновением может рассматриваться в качестве некоего итога многовекового и принципиального противостояния двух линий в мифотворчестве древнего человека: абсолютной, восходящей к первомифу и последовавшими за ним метаисторическими пророчествами и относительной, в которой оказались сакрализированными ценностные образы человеческого родового именитства.
Символическая суть грехо-падения заключалась в стремлении человека сравняться по онтологическому статусу с породившим его Богом, а при возможности и превзойти Его. Адам и Ева были изгнаны из рая за то что вкусили плод от древа познания добра и зла, что в одночасье сделало их в качестве творений равными Творцу. Ведь они стали «знать» весь Целостный Проект Бытия – истину в последней инстанции. «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас» (3 Быт. 22.). Если бы Бог не удалил первых людей из рая, то Апокалипсис настал бы уже на самом начальном этапе творения Мира, так как следующим их «объектом» должно было стать «древо жизни». Движимые нетерпением и владея истиной в последней инстанции, однако способные ее интерпретировать отнюдь не с идеальных и абсолютных позиций, они непременно попытались бы реорганизовать жизнь по «революционным меркам», чтобы в мгновении ока апофатическая Пустота превратилась в предельную Полноту Бытия. В этом и состояло их неявное рациональное противостояние трансцрациональной жизни. Предельно говорливая рациональная мудрость противостоящая трансцендентальной мудрости молчания есть безумие, охватившее мир, безумие, способное этот мир уничтожить изнутри. «Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну… Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?… Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное (1 Кор 1, 19, 20, 27, 28)». Грехо-падение Человека необходимо рассматривать сугубо символически, в качестве вселенской катастрофы, положившей начало богоборчеству, борьбе всего релятивного и порождаемого с абсолютным и порождающим в расширяющейся человеческого экзистенции.
За вратами рая, в своей земной жизни Адам и Ева, родив сыновей Каина и Авеля, становятся основателями человеческого Рода или родового Человечества. Однако добрый Авель, которому Богом уготована была миссия быть основателем Богочеловечества, погибает от рук злого брата Каина, от которого могло пойти разве что зловредное «каиново племя».
Все же чудесным образом престарелые Адам и Ева производят на свет третьего сына - Сифа, род которого стал довольно быстро разрастаться. Однако и эта ветвь родового человечества очень скоро оказалась погрязшей в грехах. Бог уничтожает род Сифа, сохранив жизнь лишь Ною и его близким родственникам. Но и род Ноя не долго оставался в благочестивом состоянии, в конце концов вторичное человеческое в бого-человеческой экзистенции восстает против первичного сакрального в нем. Как свидетельствует Библия, потомки Ноя приняли решение «штурмовать небо» и в этих целях приступили к сооружению огромной вавилонской башни, устремленной в небо, чтобы род мог «сделать себе имя» (11 Быт. 4.). Люди решили в кратчайшие исторические сроки возвысить свое родовое именитство над безымянным Богом, чтобы построить рай на Земле, который уже в Новейшее Время будут называть коммунизмом. Бог рассеял единый человеческий род, восставший против Него, лишил людей единого языка, чтобы те впредь не смогли против него объединяться. Но и рассеянный род Ноя продолжал творить свое богомерзкое дело. Тогда Бог уничтожает погрязшие в грехе и разврате их города Содом и Гоморру, предоставив возможность спастись лишь праведнику Лоту с женой и двумя дочерьми. Покидая города, они не должны были оглядываться назад, чтобы в их душах не запечатлелась картина Апокалипсиса. Однако жена Лота ослушалась Бога и в тот момент когда оглянулась, превратилась в соляной столп. С утратой Лотом своей жены, человеческий род должен был оборваться, так как у него не было сына. Однако род все же продолжился и в который раз, самым богомерзким образом. Подпоив своего праведного отца, дочери согрешили с ним и таким образом положили начало новому человеческому роду, зачатому в грехе. Возникший кровосмесительным образом «человеческий материал», естественно, не мог служить основой для обновленного Богочеловечества. А потому последней надеждой Бога становится столетний праведник Авраам живший со столь же престарелой Саррой, у которой от него никогда не было детей. Бог предстал перед Авраамом и сказал, что Сарра родит ему Иссаака, и что именно с ним он заключит договор, союз, завет, согласно которому и будет формироваться праведное Богочеловечество. «Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом вечным, и потомству его после него» (17 Быт. 19.).
Итак, Аврааму и Исааку предстояло положить начало новому человечеству, которое должно было максимально соответствовать замыслу Бога, быть реальным воплощением его Образа и Подобия. Но так как Бог уже неоднократно «ошибался» в человеке, то решил испытать насколько Авраам как основатель Рода Человеческого в состоянии соблюдать приоритеты сакрального над родовым в этой сложнопостроенной бого-человеческой экзистенции. Ему нужно было убедиться что Новый Человек будет жить в постоянной готовности принести свою временную, конечную родовую жизнь в жертву служению более выским экзистенциальным целям, целям существования в вечном и бесконечном Духе. Бог искушает Авраама: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение» (22 Быт. 2.). И пришел Авраам с горячо любимым сыном на место указанное Богом устроил там жертвенник, и: связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник. И когда простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего, явился Ангел и сказал: «не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего; ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня» (22 Быт. 12.). Взгляд Авраама, занесшего нож над единственным и любимым сыном, неожиданно наталкивается на овна, запутавшегося в чаще. Авраам с облегчением понимает, что это именно та символическая жертва, которую Бог готов принять от него, убедившись в крепости его Духа. Авраам ловит овна и приносит его вместо Исаака в жертву Богу. Ветхий Завет и есть договор Бога с Исааком, в котором изложены основные заповеди, следуя которым Бог и Человек в состоянии существовать в качестве единого Богочелочества.
Анализ этого библейского свидетельства вывел Сёрена Кьеркегора на формулирование мировоззренческих основ новой философемы, получившая в дальнейшем название «экзистенциализм». Он одним из первых поставил проблему соотношения сакрального и человеческого в целостной экзистенции в качестве центральной метафизической проблемы. Иерархическим соподчинением феноменального трансцендентальному в первичной и целостной экзистенции, Кьеркегор выявил трансцендентную приоритетность абсолютного мифа над мифом относительным, метаисторического над историческим, свободы духа над человеческим добродеянием и т.д.
Сакральное в экзистенции присуще лишь свободному Духу, родовое же - добродетельной душе, причем первое ноуменально обусловливает второе. В самосознании человека ноуменальное, сакральное, фиксируется принципом веры, а феноменальное - принципом родовой значимости и целесообразности. Сакральной вере противостоит отнюдь не родовая добродетель, а грех, который необходимо постоянно преодолевать на пути перманентнойго самотрансцендирования. Как сказано в Послании к римлянам: «А все, что не по вере, грех» (14, 23). Анализируя существо этого пророчества, С.Кьеркегор приходит к выводу о внутренней парадоксальности веры, заключающейся в том, что в каждое мгновение отношение с Абсолютом строится таким образом, что индивид является и индивидуальностью, и элементом рода. Как индивидуальность он есть существо ноуменальное, но как представитель рода человеческого он не может не разделять Судьбы своего рода. Ни один индивид не может быть безразличен к истории рода, точно так же как и род небезразличен к истории какого бы то ни было индивида, ибо, когда история рода таким образом продвигается вперед, индивид постоянно начинает сначала, ведь он является собою самим и родом, - и тем самым он снова начинает историю рода.[383] “Вера, - пишет С.Кьеркегор, - это как раз такой парадокс, согласно которому единичный индивид в качестве единичного стоит выше всеобщего, единичный оправдан перед всеобщим, не подчинен ему, но превосходит его, правда таким образом, что единичный индивид, после того как он в качестве единичного был подчинен всеобщему, теперь посредством этого всеобщего становится единичным, который в качестве единичного превосходит всеобщее; вера - это парадокс, согласно которому единичный индивид в качестве единичного стоит в абсолютном отношении к абсолюту. Подобная позиция не может быть опосредована, - поскольку, она была и во всей вечности остается парадоксом, непостижимым для мышления. И все же вера есть такой парадокс... вера никогда не существовала в этом мире именно потому, что она всегда там была; или же: Авраам погиб”.[384]
Осевое историческое время, о котором писал Ясперс, имеет и свою “изнанку”, оно не только утверждает завет, союз Бога с Человеком, но и порождает массу экзистенциальных компромиссов, которые затем составляют основу относительного мифотворчества, побуждающего в одностороннем порядке нарушать оговоренные онтологические приоритеты со стороны все более очеловечивающегося человека. В рамках Ветхого Завета, Человек фактически принудил Бога быть Богом не всего человечества, а лишь одного из его родов. Ветхозаветный Бог по сути является Богом лишь израильского народа, в одностороннем порядке провозгласившего себя «богоизбранным народом».
Родовое начало в жизни все более обосабливающейся человеческой экзистенции было столь сильно, что в рамках Завета-Договора, оно сумело по многим позициям сохранить свою феноменальную значимость. Это ли не прецедент для создания общности людей, Духовным Пастырем которой выступает постоянно страдающий Господь, призванный все время доказывать своей пастве свою правомочность быть Вседержителем Сущего. Не случайно распятием Богочеловека Ветхий Завет с Богом в одностороннем порядке и крайне насильственным образом разрывается родовым человеком, впавшим в фарисейство. Таков основной итог перманентного очеловечения мира и его столь же последовательной последовательной десакрализации.
Суть вселенской драмы, как великолепно подметил Фр.Баадер, заключается в том, что человек захотел быть человеком без Бога, но Бог не хотел быть Богом без человека и потому стал человеком. Новозаветный Бог решается на отчаянный шаг, чтобы спасти опьяненное родовой жизнью человечество, он приносит в жертву Истории по сути Самого Себя. Он показывает человечеству пример того, как необходимо поступать в ситуации, когда целостности космоса угрожает нечто, тем более если это нечто оказывается высшей человеческой ценностью родовой формой жизни, восставшая против жизни в Духе.
Как показывает красноречиво свидетельствует ход истории, последовавший за распятием Богочеловека, Бог этой своей последней искупительной жертвой так и не добился восстановления приоритетности сакрального над человеческим в иерархической экзистенции. За два истекших после Воскресения Богочеловека тысячелетия, человечество сделало поистине гигантский прыжок прочь от своих сакральных первоначал в еще более «счастливое» настоящее, в котором трансцендентный Бог оказался вытесненным рациональным Прогрессом, а вожделенная райская жизнь, понимаемая как «бюро безотказных услуг» постепенно превращается в повседневную и пошлую обыденность. «Бог» - это слишком крайняя гипотеза. - пишет Ницше. - Если наше очеловечение в каком-либо смысле может считаться действительно фактическим прогрессом, то только в том, что мы больше не нуждаемся в крайних противоположностях, вообще ни в каких противоположностях... мы приобрели право на все те вещи, которые до сих пор пользовались самой дурной славой.»[385]. Во имя прогресса родовой жизни, человеку необходимо было окончательно распрощаться с жизнью сакральной. Лишь при этом условии низменные мотивы существования в состоянии были обрести форму непреложного объективного закона и дурные наклонности человека и его самовластие отлиться в форму новейшего завета, однако на этот раз договора человека не с Богом, а с самим собой как Сверхчеловеком. Не с этого ли историцистского момента начинает свое триумфальное шествие его величество Прогресс и берет свои начала законническая Власть или власть Закона, в рамках которого сакрализуется принцип Иметь («сакральная собственность») и десакрализируется принцип Быть («собственная сакральность»). То, что в условиях жизни в Духе, по выражению Ницше, пользовалось самой дурной славой оказалось предметом прославления и эту неблагодарную функцию на себя взяла окончательно обособившаяся от Культа культура и ее порождение - мораль. Диктатура закона существенно усилилась моральным самопринуждением человека. Если Бог лишь увещевал человека, призывая к праведной жизни, то Генерализованный Человек стал Его тотально принуждать посредством как внешних так и внутренних репрессалий. «Кто расстается с Богом, - писал Ницше, - тот тем крепче держится за веру в мораль».[386] Законническое Насилие и моральное Самонасилие становятся основанием «Новейшего Завета» который человек низший и добродетельный принудил подписать человека высшего и свободного. Жан-Жак Руссо этот псевдозавет назвал «Общественным договором», который поставил определенные культурные преграды на пути человеческого самоистребления. Этот «Новейший Завет» – квазиценностная форма относительного мифа и есть первая форма Ложной Идеологии, согласно которой в Мире есть только Человек и он сам в состоянии определять меру своего феноменального присутствия в нем.
С распятием Богочеловека, с уничтожением Бога в Человеке, начинается процесс окончательного грехо-падения человечества, падения его в мир преходящих феноменов. С этого момента перманентная экзистенциальная катастрофа обретает черты необратимости, человек становится, в основном, человеком Истории, которая стремительно движется к своему закату. «Ведь исходная точка босячества - писал Д.С.Мережковский в «Грядущем Хаме», - «существует только человек», нет Бога, Бог - ничто: и, следовательно, «человек – Бог» значит человек - ничто. Мнимое обожествление приводит к действительному уничтожению человека».[387] Однако человек в состоянии прекратить этот самоубийственный историцистский проект становления экзистенции вне и вопреки трансценденции, если найдет в себе силы взойти, как и Бог на свою Голгофу. Человечество должно последовать Его примеру и принести в жертву Метаистории, перефразируя Ницше, «человеческое, которое слишком сверхчеловеческое».
Что же изначально повлекло человека к самообособлению, обособлению себя как Антропоса, от Себя же как Ноумена и Микрокосма. Над этим вопросом до сих пор мучаются миститики и теологи, болевой точкой он был и для неоплатоников. «Отчего и как это происходит, что души забывают Бога - своего отца? – вопрошал Плотин, - Отчего происходит, что они, имея божественную природу, будучи созданием и достоянием Божьим, теряют знание и о Боге, и о самих себе? Причина постигшего их зла лежит в них же самих - в их дерзостно осуществившемся желании рождения, в их замысле ни от кого не зависеть, а быть и жить по своей воле, от себя и для себя. Как только они вкусили сладости такого самостоятельного бытия, они тотчас дали полную волю всем своим прихотливым желаниям, и, став таким образом сразу на путь, противоположный своему первоначалу, постепенно отдалились от Бога до степени полного забвения о том, что они суть Его создание и Его достояние»[388]. В отличие от Плотина видевшего причину забвения человеком Бога в его онтологическом самообособлении Ф.Ницше утверждает ее обнаруживал в воле к власти, без которой человек не смог бы активно противостоять Богу. При всей своей абсолютности Бог властен над творениями своими весьма относительно, если бы его власть была абсолютной то тогда человеческая экзистенция вряд-ли обрела столь драматичное содержание. Чем более абсолютным является экзистенция, как мы выяснили выше, тем она является онтологически более слабой и менее претендующей на власть. И, напротив, чем более относительной она становится, тем более сильной оказывается, что и составляет онтологическую основу перманентного наращивания в ней воли к власти. Начиная с Адама человек испытывает странное и страстное желание сравняться с Богом и даже в чем-то превзойти его, осуществляя перманентную реформацию не им созданного первичного мира под приоритеты своей феноменальной родовой жизни. Смертный и релятивный человек возжелал бессмертия и абсолютности Бога, но не как Ноумен, а как Феномен. Более того человек исторический, выпадая из метаистории, всячески стремится овладеть миром не так как Бог - весьма относительно, а владеть им абсолютно. Путем интенсивного насилия и самонасилия, он пытается установить свое абсолютное господство над миром. Но для того, чтобы окончательно овладеть миром, он должен его максимально десакрализировать, а затем и предельно очеловечить, то есть заключить, инкорпорировать его в свое родовое именитство. «Очеловечить мир, т.е. чувствовать себя в нем все более и более властелином» [389] - считает Ницше. Богоборчество родового человека становится важнейшим средством процесса активного присвоения им мира, присвоения в форме отчуждения и самоотчуждения, так как с этого момента мир, который был всего лишь проекцией его внутреннего апофатического состояния, становится «внешним миром», овладеть которым внешним же образом можно лишь внутренне подчинившись ему. Десакрализация мира оборачивается для квазифеноменального человека полным ему внутренним тотальным подчинением. С отпадением человека от Абсолюта, основу его прогресса начинает составлять перманентное покорение мира и его последовательное преобразование в универсум благ необходимых для удовлетворения постоянно прогрессирующих витальных квазипотребностей, но покорения в форме подчинения, присвоения в форме отчуждения.
На определенном этапе истории антропный принцип построения родовой формы человеческой экзистенции, начинает насильственно распространять свое воздействие на всю космологическую морфологию Духа и постепенно и неуклонно вытеснять сакральное в человеке в сферу его бессознательного, замещая его квазиантропными фетишами. В конце концов антропный принцип окончательно замещает собой принцип сакральный и мироздание начинает центрироваться человеческим квазиобщением на универсум антропных объективаций сущего, антропоцентризм замещает собой космоцентризм и весь мир оказывается вращающимся вокруг некоей абстрактной, абстрагированной от сакральной целостности, гуманистической идеи, идеи всеобщей человечности, оторванной от ее сакральной праформы, т.е. от собственно духовной человечности. Человеческие чувства, связанные с процессом функционирования субъектно-субъектных отношений общения, переносятся на целостность Бытия, из которого вытесняется все то, что присуще свободной самокреации человека. Родовые связи и отношения искусственно универсализируются, а космический универсум столь же искусственно локализуется и начинает рассматриваться в качестве объекта перманентной культурации. Животворящий космос целенаправленно модернизируется в космос культуры, в котором в состоянии существовать лишь окультуренные, ценностно освоенные=присвоенные, его части. «Боги, которых мы призваны низложить, - пишет К.Г.Юнг, - это сделавшиеся идолами ценности нашего сознательного мира».[390]
[ФЮ1]В этом ложном антропоцентристском мировоззрении Абсолют замещается родовым Человеком. Если Бог лишь испытывал Человека-Авраама, пытаясь выяснить способен ли тот в случае необходимости во имя Его пожертвовать Исааком-Человечеством, то в мифе об Эдипе, человек не задумываясь убивает Бога. И тем самым утвердает ценностные приоритеты человеческого над сакральным в экзистенции. По утверждению З.Фрейда именно «комплекс Эдипа», общая вина за убийство Отца-Бога и лежит в основании современной культуры. Культура по его мнению была бы просто навоможна, если бы человек предварительно не разрушил Культ.
Остановимся на основных метаисторических последствиях многовековой оппозиции сакрального и человеческого в экзистенции, основа которой была заложена в то далекое осевое время истории, однако достигшее апогея в Новейшее Время.
Вытеснением сакрального привело к абсолютизации релятивного и релятивизации абсолютного в человеческой экзистенции. Человек не может существовать не укореняясь своей релятивной экзистенцией в абсолютную трансценденцию. Вне абсолютного нет и не может быть никаких форм релятивного. Однако человек – это такое существо, которое может и не осознавать своей сопричастности абсолютной трансценденции и за абсолютное начало почитать одну из релятивных форм своего феноменального существования. Шелер полагал, что сознательно или бессознательно, благодаря собственным усилиям или из традиции – человек всегда необходимо имеет идею абсолютного и соответствующее сакральное чувство к нему. Выбор у него состоит лишь в том, иметь ли ему хорошую и разумную или плохую и противную разуму идею абсолютного. Человек может, искусственно вытеснить ясное осознание этой сферы, уцепившись за чувственную оболочку мира: тогда направленность на сферу абсолютного сохраняется, сама же сфера остается пустой, лишенной определенного содержания. Но пустым тогда остается и центр духовной личности в человеке, и пустым остается его сердце. «Человек, - пишет Шелер, - может заполнить эту сферу абсолютно сущего и высшего добра, сам того не замечая, конечными вещами и благами, с которыми он обходится в своей жизни так, «как если бы» они были абсолютными… Это фетишизм и идолопоклонничество. И если суждено человеку выйти из этого душевного состояния, он обязан научиться двум вещам. Он должен, во-первых, посредством самоанализа осознать своего «идола», занявшего у него место абсолютного бытия и добра; а во-вторых, он должен разбить вдребезги этого идола, т.е. вернуть эту чрезмерно обожаемую вещь на ее относительное место в конечном мире. Тогда сфера абсолютного вновь появляется – и тогда только состояние духа человека позволяет ему самостоятельно философствовать об абсолютном».[391] Вещью, которая начинает заполнять пустотность абсолютного на этапе нисхождения от космологической к родовой форме жизни оказывается само релятивное и феноменальное человеческое существование. Сферой абсолютного в его экзистенции становится его собственная относительная родовая определенность. При трансцендентной норме экзистенциального целого, ее центром может быть лишь апофатическая неопределенность восходящая к изначальному Ничто, онтологическая же патология сущего всегда связана с центрированием экзистенции на некоей феноменальной определенности. Предельной формы патологии человеческая экзистенция достигает тогда когда центрирует себя не на трансцендентной неопределенности, а на своей собственной феноменальности. В этом как раз и есть метафизический смысл грехо-падения, падения из жизни в свободном Культе в детерминированную родовую жизнь. Конституировав себя в качестве сакральной и абсолютной вещи, человек начинает относиться к Богу как к своей собственной абсолютной самоперсонификации.
Все более утверждавшееся в культуре антропного субъекта отчуждение от Бога, а следовательно и сакральное самоотчуждение, делало космологическую самотрансценденцию относительной а родовую самоактуализацию абсолютной, т.е. превращало последнюю в гиперактуализацию, в сферу действия которого начинает подпадать уже не только человеческое, но и сакральное в сущем. Трансценденция становится все более непроницаемой для антропной формы экзистенции, так как та обособившись от нее, конституирует себя в качестве высшей и абсолютной формы жизни.
Завоевываемый антропным субъектом мир стремительно десакрализируется. Обезбоживание мира Хайдеггер понимает как двоякий процесс: расхристианизация картин мира сопровождается модернизацией учения христианских церквей. Состояние нерешительности по отношению к Богу и богам – главный симптом обезбоженности. Отношение к богам становится отныне религиозным переживанием. Это и есть по утверждаению Хайдеггера, исчезновение богов, при этом возникшая пустота заполняется историческим и психологическим исследованием мифа. Десакрализация мира есть следствие глубинного самоотчуждения человечества в космологических глубинах Духа. Хайдеггер вменяет в заслугу Маркса то, что тот сконцентрировав свое внимание на феномене отчуждения, проник в “сущностное измерение истории”. Маркс представляется ему уловившим средствами исторического деконструирования ситуацию “бездомности новоевропейского человека”, навсегда расставшегося с Богом[392]. На этой историоцистской фазе феноменальная самосакрализация родового человека и его космологическое самоотчуждение оказываются двумя сторонами его онтологического самообособления.
С вытеснением сакрального из экзистенции и Бог и Человек становятся экзистенциально одинокими существами, не случайно в архетипических глубинах человеческого самосознания космологическое детство отождествляется с навсегда утраченным раем. В своей глубинной интенциональности человек не может не осознавать свою непосредственную связь с абсолютным. Что же может Человек отпавший от Абсолюта осознавать в своих духовных глубинах? По всей вероятности лишь свою богооставленность, абсолютное отсутствие прежней связи с Абсолютом. Вытесняя трансцендентное Я в сферу бессознательного, антропное Я, хотя и осознает необходимость единения с ним, однако уже не как с символической реальностью, а как с реальностью вытесненной на периферию своего эмпирического существования. При этом человек страстно желает возродить утраченное экзистенциальное всеединство. Не только абсолютное в человеческой экзистенции – трансцендентное Я, оказавшись заточенным в темницу бессознательного, но и антропное Я, его вытеснившее начинают испытывать, если можно так выразиться, свое онтологическое одиночества. Не только Бог, но и Человек начинает осознавать свое одиночество в пределах единого для них Сущего, так как между Неиным и Человеком, вклинилось Иное, все более блокирующее связи между самотрансценденцией и самоактуализацией, пытающееся заместить трансцендентное Ничто феноменальным Ничтожеством. С.Л.Франк полагал, что человеческая самость не есть всеединство, а, напротив противостоит и противопоставляет себя ему, отделяется от него и имеет себя именно только в этой своей отдельности и отделенности. «Самость» есть некое всеединство, одно из всеединств, которое, однако, не есть всеединство вообще – всеединство как таковое – и имеет себя именно вне последнего. Самый общий смысл самобытия заключается, в том, что в его лице безграничное выступает в конкретной форме ограниченного. Будучи в каком-то смысле всеобъемлющим, абсолютным, оно все же выступает таким абсолютным, которое отделяется от всего остального и имеет его вне себя; оно как бы сжимается, уходит вовнутрь себя и именно в качестве лишь одного среди многого иного. И каждое «самобытие» есть вместе с тем нечто незаменимо своеобразное. Именно поэтому оно в известном смысле абсолютно одиноко, не может без остатка исчерпать, выразить, осуществить себя ни в каком обнаружении для другого, ни в каком общении; оно содержит в себе и есть нечто – именно самый момент «самости», - себя самого. Но именно в этом отношении оно опять-таки подобно и внутренне сродно Абсолютному – безусловно единственному. Абсолют как Единое и единственность человеческого самобытия, с момента грехо-падения утрачивают былое Всеединство. Но если Единый не был столь одинок до момента порождения им Человека, так как он пребывал в потенциальном Всеединстве, то автономизация Человека от Бога, сделало их обоих относительно одинокими во Вселенной.[393]
В последние годы все активнее в философский дискурс с легкой руки Левинаса стали входить понятия «Другой», «Другость», проясняющие якобы характер отношений между Богом и Человеком. Редукция Абсолюта к Другому не только непривычна, но и вызывает внутреннее сопротивление. Сразу же возникает вопрос по отношению к кому и чему Абсолют выступает Другим? По отношению к моему трансцендентному Я, или по отношению к несовершенному Сущему, или к Ты, как принято обозначать личного Бога? Не содержит ли это новое поименование момент переноса самоотчуждения с человеческой души, которая давно стала «потемками» даже для самого человека на Дух – абсолютную субъектность? Не является ли появление этих понятий в последние годы следствием обострившейся оппозиции «внешнего человека» к «внутреннему человеку», который при всех перипетиях истории сохраняет за собой трансцендентный статус Становящегося Абсолюта? Необходимо выявить тот экзистенциальный контекст, который обусловил редукцию Неиного как Своего к Другому как Чужому (?), чтобы провидеть какую-то новую модальность Перво-Значения, обусловленную очередным витком «развития» философского дискурса. Пока что Абсолют как Другой находится не в эпицентре интуиции=интенции, а обнаруживается лишь «боковым зрением» и где-то на обочине предельно обмирщвленной действительности. Абсолют как Другой может быть таким же одиноким как и мое абсолютно отчужденное Я, которое по отношению к Нему может выступать лишь как Другость. Трудно представить какие-либо личные отношения между этими одинокими Другими, между ними не может складываться единое поле трансцентентных по характеру внутрисубъектных отношений, а вне этих отношений, обусловливающих трансценденцию во-внутрь невозможна и самотрансценденция. Сразу же напрашивается аналогия с «Ожиданием Годо» Самюэля Беккета, ведь Годо не знает Того кого ожидает и не испытывает в нем какой-либо Нужды, Тот для него Абсолютно Другой и необходим ожидающему лишь как персонификация своей собственной Другости Миру, отчужденному от Него.
Довольно часто в философских текстах Бог предстает в виде некоего третьего или третейского лица по отношению к человеческой диаде, составляющей основу антропного Мы. Так довольно распрострененным в современнной западной философии культуры является утверждение, что предельное понятие человечества как тотальности мы-объектов предполагает и предельное понятие Бога. Эти взаимно предполагающие друг друга и коррелятивные понятия позволяют выявить объективный смысл истории, связанный с “обнаружением некоторого конкретного испытания, которое надлежит выдержать в присутствии абсолютного третьего, то есть Бога”[394]. Но ведь это явная передержка известного библейского свидетельства: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф 18, 20)». Здесь отчетливо говорится, что Бог всегда находится внутри человеческого сообщества, а не вне его, он не может быть третьим, разве что «третьим лишним» для тех двоих, каждый из которых обожествляет другого, а потому и не нуждается в личном Боге. Ведь согласно Л.Фейербаху «человек человеку бог»[395]. Бог всегда внутри человеческой души и когда люди приходят к единению во имя Бога, он всегда оказывается внутри создаваемого ими духовного храма, выстраивающимся из их собственных сакральных интенций. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы (1 Кор 3, 16-17)».
Человек может в своем радикальном самоотчуждении быть другим и даже выступать третейским по отношению к Богу, ведь он продолжает свое грехо-падение, однако Он, не ведающий греха не может быть другим по отношению к Человеку. Если мы от Всеединства – этой вселенской сакральной общности все более обосабливаемся своими локальными и замкнутыми общностями, в которых по отношению друг к другу не всегда дружествены, то Бог по катафатическому определению есть абсолютные любовь и благо, а потому всегда открыт для людей как свой, а не другой, только эту свою свойственность в Нем необходимо осознать на пути единения с Ним, на пути восхождения к Все-единству, являющемуся альтернативой одиночества и Бога и Человека.
Вся история человечества – это не только история его онтологического самообособления, но и история поисков пути и способов восхождения к изначальной экзистенциальной целостности Богочеловечества. «В глубине духа, - писал Н.Бердяев, - не только рождается Бог в человеке, но и рождается человек в Боге, не только говорит Бог, но и отвечает человек. Есть тоска человека по Богу, но есть и тоска Бога по человеку, нужда Бога в человеке».[396] Не случайно влечение человеческой души к Абсолютному, к Богу, есть – по меткому определению Плотина – бегство единственного (одинокого) к единственному (одинокому).
С вытеснением сакрального из экзистенции начался процесс формирования десакрализированного гуманизма, чреватого своим иным – антигуманизмом, человеконенавистничеством. Гуманизм как вера в человеческое в человеке является экзистенциально позитивным, если является производным от веры в бога. Только Бог, как сейчас принято выражаться, может быть гарантом человеческой свободы и достоинства. «Божество, - учил Николай Кузанский, - как бы одевает и берет на себя человечность, и, неотделимая от божества благодаря предельному соединению с ним, человечность сама по себе, в своей обособленной личностной основе существовать уже не может».[397] Н.Бердяев, неоднократно подчеркивал в своих работах, что высшая человечность есть божественное в человеке, и человеческое в Боге и что это и есть величайшая тайна богочеловечности. Богоуподобление означает не умаление и угашение человеческого, а достижение максимальной человечности. Чистая же человечность и есть божественное в человеке. И в этом основной парадокс бого-человечности. Именно независимость человеческого от божественного, свобода человека, творческая его активность - божественны.[398] Как считает Жак Маритен радикальный недостаток антропоцентристского гуманизма состоял в его антропоцентризме, а не в гуманизме. Антропоцентристский гуманизм ведет к антропономии, а последняя к абстрактному гуманизму, который теряет из вида живое конкретное самобытие человека. Сакральный тип гуманизма признает, что Бог есть центр человека, десакрализированный тип гуманизма исходит из веры, что сам человек есть центр человека и, следовательно, всех вещей. Если эта концепция ложна, то понятно, что антропоцентристский гуманизм заслуживает названия негуманного гуманизма и что его диалектика должна рассматриваться как трагедия гуманизма.[399] «Когда устранили великое дао, - учил Чжуан-цзы, - появились «человеколюбие» и «справедливость». Когда же появилось мудрствование, возникло и великое лицемерие... следует... отвергнуть гуманность и справедливость, и тогда моральные качества в Поднебесной начнут объединяться с непостижимым дао»[400].
С эпохи Возрождения берет свое начало не только десакрализированный гуманизм, но и соответствующая ему антропоцентристская философема. Согласно ей центральное положение человека в мироздании уготовано самим Богом. Этот мировоззренческий антропоцентризм Ренесанса ярко представлен в словах, с которыми Бог адресуется к своему созданию в «Речи о достоинствах человека» Пико делла Мирандолы: «Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь»[401]. Величайшим парадоксом эпохи Возрождения, пытавшейся возродить в человеческом существовании высшие формы духовности, итогом явился еще более серьезный духовный раскол, еще более глубинное духовное самоотчуждение человека. «Произошел разрыв религиозного и антирелигиозного гуманизма. – пишет Н.Бердяев. - В противоположность христианской богочеловечности, взаимодействию двух начал, божественное начало утверждается против человеческого, человеческое начало против божественного. Бог стал как бы врагом человека, человек же врагом Бога. Страшная вина тут лежала на нечеловеческом и античеловеческом, бесчеловечном понимании Бога и на безбожном понимании человека, превращении его в исключительно природное и социальное, т.е. зависимое существо»[402]. Если Бог, согласно гуманистической версии человеческого существования оказывается выступает противником родовой жизни, конституируется квазиантропным сознанием в качестве не столько порождающего, сколько карающего начала, то богоборчество со стороны человека становится ведущей установкой, придающая историцизму внутреннюю гуманитарную мотивированность. Интересно сопоставить между собой два художественных образа Христа, созданные Феофаном Греком и Андреем Рублевым. Спас Андрея Рублева из Звенигородского чина есть почти предельная персонификация абсолютного добра. Напротив у Феофана Грека, в образе Вседержителя ощущается его непреклонность в стремлении наказать человека за его грехопадение, не случайно эта икона называется “Спас Ярое Око”. Видимо - эти две культуротворческих интерпретации образа Бога были связаны с тем, что Феофан Грек пришел на Русь с Византии, дух которой пребывал в страхе перед возможностью утраты государственности. И, напротив, Андрей Рублев не мог не нести в своем самосознании уверенности, что Россия в грядущем будущем непременно станет “третьим Римом”.
Историцистская линия в человеческой истории, в основном, есть линия богоборческая, вытесняющая линию метаисторическую связанную с последовательным очеловечением Бога и обожением Человека. Основная цель историцизма обожение Человека за счет разбожествления Бога, что в конце концов приводит к идеи атеизма – полного отрицания Абсолюта, а вместе с Ним и всего абсолютного в сущем. Однако реализация подобного рода целей, лежащих в сфере отчужденных сущностей, как правило приводят к обратному, чем более человеческим самосознанием Бог разбожествляется, а следовательно десакрализируется и трансцендентное Я имманентное человеческой ментальности, тем более человек расчеловечивается и вместо Человекобога, все более превращается в Человекозверя.
С вытеснением сакрального из экзистенции начался процесс перманентного растабуирования сакральных основ жизни, процесс последовательного снятия запретов на самообъективацию человека. Именно с этого момента истории человек стал смотреть на окружающую его действительность не как на Храм, а как на мастерскую, в которой он не столько творец, сколько раб-отник. Из подлинного со-творца мира, на все более становится его со-раб-отником, а в конце Всемирной Истории рабом князя мира сего. Снятие табу с мира как совокупности своих же экстериоризаций через интериоризацию растабутрованного не-Я не могло не привести к столь же объектному отношения к своему собственному внутреннему миру. Если «благоговение перед жизнью» было естественным духовным состоянием прачеловека, то сформулированный одним из величайших гуманистов ХХ века Артуром Швейцером в качестве рационального принципа в жизни современного человека оказывается всего лишь призрачным и недосягаемым идеалом. Рациональное человечество стоит на пороге замены естественной жизни жизнью искусственной, а таинство рождения растабуированное наукой видимо превратится со временем в банальную проблему по клонированию самых бездарных представителей рода человечества. Это и есть предел, до которого может дойти процесс растабуирования последних святынь жизни и вырождающееся в духе человечество будет упорядочивать жизнь в телесно организованные формы человечности за счет клонирования и тиражирования своих квазирациональных выродков. «Надрыв Ницше, - писал Н.Бердяев, - был в том, что он хотел, чтобы человек сотворил сверхчеловека, чтобы божественное, которое не было сущим, было сотворено человеком, чтобы низшее породило высшее. Но откуда такое ничтожество, как человек, - а Ницше считал человека ничтожеством - найдет в себе силы сотворить сверхчеловечески-божественное?»[403]. Сдается, что этот надрыв Ницше в грядущем столетии будет воплощен искусственным созданием Сверхчеловеческого Ничтожества, ведь поговаривали же в кулуарах Всемирной Конференции в Рио-де-Жанейро перед принятием «Повестки дня на ХХ1 век», о том, что по современным стандартам потребления, на земном шаре может существовать лишь «золотой миллиард» людей, остается лишь строго научно определить кто из появляющихся на свет должен быть принят в этот «экзистенциальный бомонд», несомненно те, которые по своему генотипу будут соответствовать требованиям, предъявляемым информационно-технологической цивилизацией, идеалом которой выступает Био-робот, а в отдаленной перспективе просто Робот как идеальный Раб Абсолютного Объекта – квазиперсонификация Абсолютного Ничтожества.
С вытеснением сакрального из экзистенции статус веры с трансцендентных, мистических знаний перманентно переносится на все более проявленные и рациональные формы знания. С момента грехо-падения, Бог перестает быть центром человеческого самосо-знания, вера в него все более утрачивает внутренние, интенциональные формы. Человек в своем рациональном дискурсе все чаще вспоминают Его всуе, в контексте решаемых экзистенциальных проблем, вера в Него становится все более внешней и суетной и в конце концов распадается на огромное множество суе-верий. В конечном счете эта суетная вера обретает довольно жесткие формы пантеизма и Бог фактически изгоняется из Космоса, который начинает пониматься лишь в качестве внешней Природы или упорядоченного Хаоса, чьим порождением, человек все более себя осознает. Вера в Единого замещается верой во Множественное, разнообразные природные стихии сакрализируются, а искусственно создаваемые многообразные кумиры наделяются статусами божеств, в которые человек уже не столько сущностно верит, сколько магически использует для решения своих на-сущных задач, чаще всего связанных с насыщением опосредованных культурой витальных нужд, все более обретающих форму антропогенных потребностей. Именно для удовлетворения своих прогрессирующих нужд антропный субъект и при-нуждает своих кумиров творить требуемые ему блага.
Антропным сознанием Божья Благодать модифицируются в совокупность внешних благ, которые человек склонен не столько своими способностями созидать, сколько их активно присваивать и потреблять. «Великая ложь в истории: - пишет Ницше, - будто испорченность церкви была причиной Реформации. Она была только предлогом, самообманом со стороны ее агитаторов: - возникли новые мощные потребности (выделено нами – Ю.Ф.), грубость которых очень нуждалась в духовной мантии».[404] Именно с этого первого осевого времени начинается закат мистического самоосвоения человеком внутренней трансценденции и развитие магических способов воздействий на сферу абсолютного в релятивном. Бог есть бессознательное, он ничего не знает, т.к. и внутреннее и внешнее в сущем в которых он пребывает составляет изначальный трансцендентный синкретизм, именуемый Ноуменом – Непознаваемым. Внутреннее ничего не может знать о внешнем, потому, что внешнее трансцендентно тождественно внутреннему. Здесь нет необходимости в рациональном дискурсе. Это человек приписывает Богу свои знания о сущем, в качестве некой абсолютной истины. Человек находится по эту сторону трансцендентной целостности и пытается пробиться к ней посредством знаний. Рефлектируя по поводу наличного эмпирического бытия, человек пытается придать полученным о нем рациональным сведениям форму трансцендентного откровения. Своим собственным «открытиям» человек стремится придать статус «Откровения».
Взаимоналагаются лишь сопряженные между собой формы рациональных дискурсов в рамках единых для них сциентистских парадигм, самотрасценденция же происходит в сфере взаимоотталкивающихся человеческих интуиций. Такова уж внутрисубъектная природа креативности и высших форм творчества. Если творческие индивидуальности и проявляют интерес друг другу, то лишь в связи с необходимостью отталкиваться от их самосубъективаций в своем индивидуализированном духовном восхождении. В связи с тем, что творчество обусловлено ментальной монадностью человека, а не егопринадлежностью к антропной общности со-творчество между людьми дело безнадежное. Но именно невозможность диалога между творческими индивидуальностями и притягивает их друг к другу. Взаимоотталкивающиеся интуиции радикализируют кумуляцию индивидуальной субъектности в абсолютную точку мироздания из которой исходит креационистская благодать. Ментальная плюральность субъектно-субъектности, требующая антропологической совместимости интуитивных начал, разрушительна для самотрансценденции. В творчестве как и в религии интенция исходит из апофатических глубин Я и гаснет в инаковости Ты, она не в состоянии быть имманентной состоянию самоактуализирующихся друг в друге субъектов, а потому и не отражается вспять. Творческие личности противостоят друг другу не зеркалами своих сознаний, а непроницаемыми “черными дырами” индивидуального бессознательного, без остатка поглощающими интенциональные потоки света. Мое бессознательное мерцает лишь отблесками моего внутреннего света, это мерцание в состояние быть воспринято Другим, если его собственный внутренний свет той же длины и частоты. Но самотрансценденция не имеет подобного рода физикалистских характеристик, а потому каждый из людей пробивается в Потаенное своими тайными, им самим рационально неведомыми, путями. Там где в принципе невозможна моя экстериоризация в другом, не в состоянии может осуществиться и интериоризация другого во мне. Иночество предполагает инаковость и одиночество. И тем не менее людей всегда тянет к некоему трансцендентному единению своего и чужого иночеств, к межсубъектному со-творчеству. Однако чаще подобного родв эксперименты заканчиваются трагически, вспомним хотя бы чем закончилось со-творчество Ван-Гога и Гогена.
Все более расширяющееся силовое поле знаний о релятивном мире кумулируется в магическое насилие, направленное на сферу абсолютного в экзистенции. А так как в качестве абсолютного в ней оказалось собственно человеческое, то насилие над Абсолютом оказывается высшей формой человеческого самонасилия. Именно с этого осевого времени берет свое начало насилие разума над высшими формами экзистенции. Утвердив свою псевдоприоритетность над верой, рациональный дискурс становится тем инструментом, посредством которого историцизм от эпохи к эпохе все более насильственно утверждает исторически преходящие экзистенциальные формы в качестве абсолютных, усиливая внутреннюю напряженность в многомерной человеческой ментальности.
С вытеснением сакрального из экзистенции между Человеком и Богом возникают напряженные отношения, завершающиеся в конце концов космологической катастрофой. Человек всячески пытается устранить Бога, чтобы занять Его место, Бог при этом предпринимает отчаянные усилия (слово «усилия» здесь необходимо понимать сугубо метафорически, ведь Бог онтологически «слабее» своего порождения – Человека), чтобы вернуть его в обитель духа. «Откровение божественного – пишет Н.Бердяев, - всегда носит характер прорыва иного мира в этот мир, в нем есть что-то катастрофическое, переворачивающее»[405]. Эти богооткровенные шаги все чаще воспринимаются человеком как посягательство на его суверенную свободу. Человек начинает отождествлять Бог с силами, препятствующими реализации антропного самопроекта во вселенских масштабах. В человеческом самосознании возникает странная метафизическая рокировка, Неиное и Иное в нем по сути меняются местами. Изначально «слабый» наделяется сущностными силами самого человека, персонифицироваться в качестве жестокого Карателя за человеческие прегрешения. Наступается эпоха апокалиптических ожиданий, породившая секуляризованную форму гуманизма, гуманизма направленного на защиту человека от Бога. Однако подлинной онтологической карой становится отнюдь не насилие Бога-Фатума, а самонасилие – насилие человека над самим собой – выступающее имманентной строной его богоборческой сверхактивности.
Космологическая катастрофа, происшедшая в глубинах духа привела к возникновению Иного или Другого в Сущем, а Неиное и Свое в нем как проявление трансцендентной креационистской слабости начинает постепенно уступать все более усиливающейся квазифеноменальной мощи человеческой культурации. Космологическая катастрофа касается не столько Бога, так как его метаистория все же продолжается, сколько Человека, закрывшего для себя животворящий Космос. Если для Бога эта катастрофа является символической, то для человека – и символической и реальной, на многие тысячелетия вперед определившая направленность и содержание его истории. Бог как Неиное не мог в этой катастрофе окончательно погибнуть, так как вне Его благодати трансцендентное существование не могло бы свертываться в сущее, а сущее развертываться в феноменальные формы человеческого существования – экзистенцию. Если бы в результате космологической катастрофы произошла не «символическая», а «реальная» смерть Бога, то в Сущем не осталось бы не только Неиного, но и Иного и само Сущее прекратило бы свое существование. «С исчезновением неиного, - писал Николай Кузанский, - исчезло бы все иное и все именуемое и даже самое ничто, раз оно именуется «ничто»… с исчезновением самого неиного тотчас же исчезнет все, чему неиное предшествует. И исчезнет не только действительность существующего и его возможность, но и не-сущее и ничто сущего, потому что ему также предшествует неиное… Кто видит, каким образом с удалением неиного не остается не иное, ни ничто (поскольку неиное есть ничто самого ничто), тот, конечно, видит, что неиное есть все во всем и ничто в ничто»[406]. Космологическая катастрофа, в основном относится не к Макротеосу как Неиному, а к Микротеосу – Становящемуся Абсолюту, каким является Человек как Образ и Подобие Бога. Ее суть состоит в существенной утрате человеком своего божественного образа, а потому с этого драматического момента история его экзистенции все более отпадающей от трансценденции становится все более безòбразной и безобрàзной. История человечества продолжится до тех пор пока Неиное будет присутствовать в его экзистенции, несмотря на то, что последняя все менее будет являть собой обитель Неиного и все более становиться обиталищем Иного. Космологическая катастрофа собой закладывает начало не только Началу Истории, но и ее Концу, который произойдет, когда своевольный человек своим запредельным самонасилием окончательно оборвет серебрянную нить, связывающая его отчужденную экзистенцию с божественной трансценденцией.
Итак, трагический характер человеческой истории был предопределен грехопадением человека, которое наиболее явно проявилось в перманентном процессе десакрализации трансцендентного и сакрализации феноменального в его историцистски прогрессирующей экзистенции. В сущем начинает развертывать свои структуры Иное, интериоризация которых все более расширяет сферу Ничтожества в человеческой Самости, которое и становится основным «субъектом» историцистского броска в «светлое будущее», прочь от «темного прошлого», снятием и вытеснением которого не на шутку занялся так называемый «хитрый исторический разум». Неоднозначная эмпирия сущего стала конституироваться посредством его «диалектического инструментария» не иначе как в качестве «разумной действительности», со времен Декарта человечество уверовало лишь в одну действительность – «действительность разума». Божественному Логосу в этой действительности не оставалось уже места, бдительный Разум, все сделал для того, чтобы его луч не высвечивал бы то Ничтожество, которое он привнес с собой в Сущее. И огромную услугу Рацио в этом деле оказала секуляризированная Культура своим активным и деструктивным противостоянием Культу ее породившему.
3.2. Культура как антропная субъективация культа
|
|
Ценности субъективируются постольку, поскольку они уже не могут существовать независимо от субъекта, и релятивизируются постольку, поскольку они уже не могут обладать безусловной значимостью. В.Франкл. Человек в поисках смысла. |
Культура своим генезисом восходит к культу - такова точка зрения не только теологов, но и многих представителей философии культуры. Не культ обязан своим возникновением культуре, как утверждают приверженцы объектного подхода к действительности, а, напротив, культура порождается культом, является его субъективацией. В начальный период метаистории культура не могла быть самодостаточным экзистенциальным феноменом, самодовлеющим началом становящегося бытия, в символической реальности эту роль выполнял трансцендентный Дух, субъективации которого лишь внешне напоминают культуротворческие формы, да и то искушенному культурой человеку, отыскивающему в толще веков праформы привычных ему десакрализированных феноменов. “Религиозный культ, - писал С.Н.Булгаков, - вообще есть колыбель культуры, вернее, ее духовная родина. Целые исторические эпохи, особенно богатые творчеством, отмечены тем, что все основные элементы "культуры" были более или менее тесно связаны с культом, имели сакральный характер”.[407]
Выше мы неявную сакральную праформу культуры обозначили термином “трансцендентная культура”, нам представляется, что это название вполне адекватно схватывает не только генетическую связь культуры с культом, но и неявный трансцендентно-символический характер ее ценностных праформ, которые лишь в результате исторического обособления от культа обретают свои явные феноменально-ценностные формы. Все последующие исторические формы и виды культуры хотя бы в зачаточной форме, но уже оказываются представленными в трансцендентной культуре. Напротив, в объектоцентристской философеме культура порождает культ в силу своей исторической неразвитости, а затем преодолевает его по мере освоения и культурации человеком объективной действительности. Такой диаметрально противоположный подход к соотношению культа и культуры ведет к признанию первичности секулярного над религиозным, феноменального над трансцендентным и проч., подпитывающего атеистическое мировоззрение. Атеизм по сути своему есть отрицательная форма мировоззрения, так как отталкивается в своих основных метафизических посылках от полного отрицания существования Бога, а потому не может стать основой формирования положительной формы мировоззрения, которая всегда исходит из утверждения некоей абсолютной онтологии. Из голого отрицания трансцендентного культа невозможно построить положительную концепцию феноменальной культуры и, напротив, конституировав культ в качестве метаисторического первофеномена человеческой экзистенции вполне возможно сформировать целостное и позитивное представление о феномене культуры. Не атеистическому и отрицательному, а теистическому и положительному, жизнеутверждающему началу обязана своим возникновением и становлением человеческая культура. В рамках субъектоцентристской мифологемы действуют совершенно иные аргументы в пользу онтологической первичности культа и вторичности культуры, подтверждаемые не только целостной исторической ретроспекцией настоящего к изначальному, но и экзистенциальной реконструкцией настоящего с позиции метаисторических перспектив изначального. Частичная и чаще всего искаженная актуализация прафеноменов в сущем отнюдь не может являться самодостаточной онтологической целостностью, эмпирическое познание которой не в состоянии дать целостного представления о таинствах становящегося бытия.
Существуют различные подходы к классификации исторических форм культуры. «Таких оснований, - пишет В.Г.Федотова, - может быть много, например, связь с религией (культуры религиозные и светские); региональная принадлежность культуры (культуры Востока и Запада, средиземноморская, латиноамериканская и пр.); на основе места традиции («теплые», традиционные культуры и «холодные», модернистские); на основе связи с социальной структурой (культуры в различных цивилизациях) и пр.»[408]. Рассматривая в первой книге «Суммы» общую онтологическую структуру знаков и значений, мы показали, что семантическим основанием онтологического соотношения культа и культуры выступает иерархическая подчиненность антропных ценностей сакралным символам. По характеру соотношения символов и ценностей в исторически изменяющемся семантическом пространстве расширяющейся человеческой экзистенции можно выделить следующие формы культуры: а) трансцендентную или культовую культуру, б) эвалюативную или феноменальную культуру и в) квазиэвалюативную или псевдокультуру, пытающуюся заместить собой культ.
Трансцендентная культура – есть культовая праформа культуры. В своей "Этике" Н.Гартман проводит мысль, согласно которой идеальное царство ценностей находится по ту сторону действительности и сознания. При построении своей историософемы к такому же примерно выводу приходит и Тойнби, подчеркивая наличие “абсолютного ядра” в каждой из “высших” религий, являющихся, с его точки зрения, началом единения культурной традиции. Согласно Н.О.Лосскому высшая трансцендентная форма культуры есть средоточие абсолютных положительных ценностей. “Абсолютная положительная ценность, - писал он, - есть ценность, сама в себе безусловно оправданная, следовательно, имеющая характер добра с любой точки зрения, в любом отношении и для любого субъекта; не только сама по себе она всегда есть добро, но и следствия, необходимо вытекающие из нее, никогда не содержат в себе зла. Такое добро есть, например, Божественная абсолютная полнота бытия»[409]. Абсолютные Ценности есть ценности Абсолюта, человеческими они становятся лишь постольку, поскольку экзистенция человека оказывается онтологической вложенностью в сакральной трансценденции.
На первых порах человеческой истории культура выступала эвалюативной, ценностной инфраструктурой, или как сейчас принято говорить «подстилающей структурой» для культовых мистерий, совершавшихся в храмах, а потому ее изначальную праформу можно еще назвать обозначить термином «храмовая культура». «Культура, - писал Н.Бердяев, - родилась из культа. Истоки ее сакральны. Вокруг храма зачалась она и в органический свой период была связана с жизнью религиозной... Культура символична по своей природе. Символизм свой она получила от культовой символики. В культуре не реалистически, а символически выражена духовная жизнь»[410]. Культура была культовой в качестве тех субъективаций Откровения, которые определяли общую стратегию формирования межсубъектных отношений людей укорененных в духе, к ним прежде всего необходимо отнести основополагающие заповеди, в более поздние времена оформившиеся в моральную систему, которая впоследствии стала называться «нравственной культурой», составившей основную предметность для этики как нравственной формы мировоззрения. Храмовой культура выступала в качестве субъективаций первично овнешненных форм сакрально-символической реальности, и именно в этом своем качестве оказывается некой неявной внутренней программой последовательного процесса очеловечения человека. В то же время она содержала в себе и некий онтологический алгоритм очеловечения мира, являлась способом обустройства мира, мироустроения по собственно человеческим меркам. Эти две формы культуры принято еще обозначать не вполне корректными терминами «духовная» и «материальная» культура.
Храмовая культура вне религиозного, трансцендентного значения не имела собственно человеческого предна-значения. Она была лишь “средством” фиксации в человеке сверхценностного – сакрально-символического в Предсущем. «На ранних стадиях развития культуры (в том числе и на так называемой внекультурной стадии), - считает Зиммель, - вообще не существует каких-либо более или менее прочных и длительных, органичных общностей, которые не являлись одновременно культовыми организациями»[411]. Трансцендентные ценности позволяли человеку осознавать органическую встроенность своей экзистенции в трансценденцию, повседневной реальности в реальность символическую, однако эти высшие значения мало что могли поведать о том, что собой представляет феноменальная форма экзистенции за пределами трансценденции. Сакральная жизнь создавала культуру в качестве своеобразной экзистенциальной опоры, чтобы отталкиваясь от нее человек мог более интенсивно восходить к трансцендентным высотам Духа.
Храмовая культура формировала и развертывала в субъекте не столько человеческое, сколько сверхчеловеческое в человеке, субъективировала в нем идею его богоподобия и боговоплощения. Своими сверхценностными значениями (трансцендентные ценности) она фиксировала отношения между индивидами отнюдь не как родовыми половинками, а в качестве целостных микрокосмов, способствуя им посредством глубинного общения («культура общения») совместно восходить к абсолютной Жизни - жизни в Абсолюте.
По отношению к культу культура выполняла вполне конструктивную функцию, извне вовнутрь привязывая постепенно расширяющееся антропное пространство человеческой души к Неиному в сущем, т.е. к Абсолютному Духу. Если Дух и душа человека в семантическом плане и различались, то лишь в «пределах» единого символического бессознательного и символических же праформах ценностного сознания между которыми еще не существовало эвалюативно-ценностных перегородок. Древнейшие культуры по своему содержанию отличались предельной духовностью, а по форме - столь же предельным онтологическим единством. По сути не было локальных культур, была единая пракультура, удивительнейшим образом совпадавшая как по форме так и содержанию у народов, которые могли и не иметь между собой физических контактов. Культура в полном смысле слова была метафизической и метаисторической. «Осевое время, принятое за отправную точку, - считал Ясперс, - определяет вопросы и масштабы, прилагаемые ко всему предшествующему и последующему развитию. Предшествующие ему великие культуры древности теряют свою специфику. Народы, которые были их носителями, становятся для нас неразличимыми по мере того, как они примыкают к движению осевого времени. Доисторические народы остаются доисторическими вплоть до того времени, пока они не растворятся в историческом развитии, идущем от осевого времени; в противном случае они вымирают»[412].
Трансцендентная культура скрепляла своими трансэвалюативными ценностями весь целостный универсум табуированных форм человеческого поведения. Культуры этого типа можно типологизировать по основанию того, насколько в человеческой экзистенции исторически понижался трансцендентный и повышался феноменальный статус, в какой степени осуществлялось феноменальное растабуирование неявных экзистенциальных структур трансценденции и их трансформации в явные структуры сущего. Иерархия трансцендентных ценностей, «онтологический подвал» которой составляют эвалюативные ценностями иррелевантна типологии трансцендентальных культур, восходящих к тому или иному экзистенциальному модусу культа.
Культура наших первопращуров не могла существовать и развиваться лишь в качестве объективации чистой идеи человека, оторванной от сакральной идеи Бога, она являлась органической составной частью общей идеи Богочеловека, ее метафизической субъективацией. И в этом плане трансцендентную культуру можно рассматривать в качестве абсолютной Культуры или культуры Абсолюта. Пауль Тиллих называет ее еще “теономной культурой”. Человек как Образ и Подобие Бога - порождение трансцендентной культуры, а не культуры феноменальной. В момент своего рождения в Духе, в качестве астрального субъекта, человек обрел и условно проявленные формы трансцендентной культуры, которая центрировала его первичную экзистенцию в сакральных глубинах Духа. На первых порах культура, если можно так выразиться, была экзистенциальной инфраструктурой Культа, а Культ ее системообразующим символическим центром. “Культ есть духовное средоточие культуры”[413] - подчеркивал С.Н.Булгаков. Неявная трансцендентная культура призвана была в лоне Духа “формовать” Образ и Подобие Бога, реальным воплощением которого и явилось Существо, которое Бог поименовал Адамом или Человеком. Таким образом культура изначально была неким «инструментарием» Духа, посредством которого Им «проектировалась» и «воплощалась» в реальность человеческая форма экзистенции. Трансцендентная культура есть некий антропологический Самопроект Духа, реализовавшийся в Богочеловечестве. Но и Бог как сакральный прототип Человека мог существовать в сознании Человека в качестве Образа, лишь будучи порождением трансцендентной культуры. Таким образом трансцендентная, мифологическая культура выступала “местом встречи” Бога и Человека. “Не фантазии, - писал М.Бубер, - но настоящим встречам с действительно божественной мощью и величием обязаны своим происхождением все великие божественные образы рода человеческого”.[414] Бергсон утверждал, что в качестве основы основ культурного творчества и открытости истории следует принять мистический “жизненный порыв” человека к божественному абсолюту. «Благодаря духу, - полагает Луис Фарре, - природа в человеке превращается в историю и культуру»[415]. Трансцендентная культура метаисторична, она не имеет своей особой внекультовой истории. История культуры обусловлено процессом ее относительного обособления и той семантической метаморфозой, результатом которой возникли эвалюативные ценности.
Эвалюативная культура или феноменальная культура. Если культовая культура синтезировала собой первичные и неявные трансцендентные ценности, то основу секуляризированной культуры составляют уже явные ценности или эвалюативные значения. Пауль Тиллих в отличие от целостной теономной культуры секуляризированную ее форму называет “автономной культурой”. Эвалюативная культура генетически восходит к трансцендентной культуре, порождается ею и связана с ее дифференциацией и последующей секуляризацией. “Различие между автономией и теономией, - пишет Тиллих, - состоит в том, что в автономной культуре культурные формы проявляются лишь в своих конечных взаимоотношениях, тогда как в теономной культуре - в отношении к безусловному”.[416] В “Закате Европы” О.Шпенглер писал, что культура рождается в тот миг, когда из прадушевного состояния вечно-младенческого человечества пробуждается и отслаивается великая душа, некий лик из пучины безликого, нечто ограниченное и преходящее из безграничного и пребывающего.[417] Схожие идеи о причинах возникновения культуры в качестве особой системы секуляризированных ценностей высказывал и Н.Бердяев. “Культура, - писал он, - явилась дифференциацией культа, она явилась уже в результате выделения из храма, отделения от религиозного центра. И процесс секуляризации культуры - неотвратимый и роковой процесс. Секуляризация и есть внутренняя трагедия культуры”.[418] С возникновением человеческого универсума и онтологического обособления от космического универсума возникает и обосабливается родовая Культура или культура Человеческого Рода. Естественно, что в качестве составной части Культуры Неиного, она не могла быть абсолютно целостной системой ценностных значений. Относително целостной родовая культура могла быть лишь в той степени в какой сам человеческий род своей экзистенцией оказывался интегрированным в целостное и абсолютное бытие, насколько в ней минимизировалось присутствие Иного.
С началом истории человеческого универсума родовая культура берет на себя основную функцию по антропологизации человека, выступает «средством» очеловечения человека. Именно с образованием универсума межсубъектных отношений начинается подлинно человеческий этап в развертывании всеобщего метаисторического процесса, на котором уже не Культу, а Культуре принадлежит особая конституирующая роль в сущем. Однако Культура эту свою миссию в состоянии была позитивно реализовывать лишь под благотворным воздействием со стороны своих трансцендентных прафеноменов, содержавшихся в Культе. Метафизическое содержание антропологического этапа метаистории можно свести к двум взаимообусловленным экзистенциальным процессам: обожению Человека и очеловечению Бога. Экзистенциальный перелив трансцендентного и феноменального в антропно расширяющемся сущем, возможен был при условии если культура продолжала оставаться культовой, а культ становился все более окультуренным. Естественно что соотношение культа и культуры в новой метаисторической ситуации должно было еще более усиливать приоритетность сакрального над человеческим, которое автономизировавшегося от него. Как считает Пауль Тиллих важнейшее следствие «вытекающее из экзистенциальной концепции религии, касается отношения религии и культуры. Религия как предельный интерес есть субстанция, наделяющая смыслом культуру, а культура - это сумма форм, в которых выражается основополагающий интерес религии. Коротко говоря, религия - субстанция культуры, культура - форма религии. Такое понимание полностью препятствует возникновению дуализма религии и культуры. Всякое религиозное действие, не только в ситуации организованной религии, но также и в сокровеннейшем движении души, сформировано культурой».[419]
На первых порах между абсолютной трансцендентной и относительной эвалюативной формами культуры складывались вполне толерантные отношения, так как каждая из них выполняла хотя и различные экзистенциальные функции, но иерархически субординированные между собой. Если астральному субъекту было вполне достаточно некоей совокупности неявных трансцендентных ценностей, чтобы осуществлять свое миротворение, полагаясь на табуированные конструкты сущего, то астрально-антропному субъекту необходимо было в дополнение к ним иметь еще и разветвленную систему ценностей, определявших способы миротворения в рамках феноменального именитства, преобладающими в котором выступают уже не отношения между Богом и Человеком, а отношения между Человеком и Человеком, естественно скрепляемые их отношениями с Богом. Сложнопостроенная экзистенция ноуменально-феноменального Человека требовала существенного расширения структуры культурных значений, за счет включения в них собственно человеческих или относительных ценностей. Н.О.Лосский разделявший ценности на абсолютные и относительные или производные от абсолютных, последние относил к полноте актуализированного бытия. «Понятие производной ценности, - писал он, - легко может быть определено: это бытие в его значении для осуществления абсолютной полноты бытия или удаления от нее… В своем значении производные ценности вообще имеют два возможных направления - к осуществлению абсолютной полноты бытия и к удалению от нее, поэтому они полярно противоположны, могут быть положительными и отрицательными, первые суть добро, а вторые - зло в широком смысле слова… бытие не есть только носитель ценностей, оно само будучи взято в его значительности, есть ценность, оно само есть добро и зло… Относительная положительная ценность есть ценность, имеющая характер добра лишь в каком-либо отношении или для каких-нибудь определенных субъектов; в каком-либо другом отношении или для каких-либо других субъектов такая ценность сама по себе есть зло, или, по крайней мере, необходимо связано со злом»[420]. Как мы видим Н.О.Лосский отождествлял относительные ценности с добром лишь при условии если они оказывались онтологически производными от абсолютных Ценностей или ценностей Абсолюта и предназначались для поддержания трансцендентальной нормали при воплощении экзистенциальных структур Неиного в Сущем. Сам процесс экзистенциального Неиного в Сущем вполне может отождествляться со всеобщим процессом добродеяния, восходящим к божественной Благодати.
Если трансцендентная и символическая культура закрепляла сакральное, ноуменальное в Первочеловеке, то феноменальная и эвалюативная (ценностная) культура была связанной с формированием собственно человеческого образа, призванного стать ценностным ориентиром при строительстве им своего родового именитства. Ее основная онтологическая функция - универсализировать собственно человеческое в человеке, придавать его феноменальной экзистенции свойства антропоморфной целостности, способствовать развертыванию родовых сущностных сил в антропную форму существования, в человеческий универсум. «Культура, - писал А.Белый, - определяется ростом человеческого самосознания; она есть рассказ о росте нашего «Я», она индивидуальна и универсальна одновременно, она предполагает пересечение индивидуума и универсума; пересечение это есть наше «Я», единственно данная нам интуиция; культура всегда есть культура какого-то «Я»»[421]. Если метафизически соотнести между собой историю человечества и эвалюативную форму культуры, то вполне выявится их общая конечная цель дать возможность человеку стать человеком. «Конечный смысл мироздания или конечный смысл истории, - пишет М.Мамардашвили, - является частью человеческого предназначения. А человеческое предназначение есть следующее: исполниться в качестве Человека. Стать Человеком»[422]. Этот вывод является вполне корректным и имеет положительное значение, если не выходит за рамки соотношения указанных выше двух онтологических модальностей истории и культуры. Он становится явно ложными, когда имеется в виду Культура вообще и История вообще, к которым при этом редуцируются Культ и его Метаистория. За пределами своей собственной истории, человеку мало стать человеком, самой метаисторией ему уготовано быть становящимся Абсолютом.
Совокупность относительных и производных ценностей восходящих к абсолютным ценностям позволяет взаимосогласовывать между собой смыслы существования людей из разных исторических эпох, так как они при их позитивной значимости не могут не восходить к ценностному Первозначению. Э.Трёльч считает, что если можно было бы вернуться к лейбницевской идее монады и особенно к идее, занимающей вследствие своей сложности особо высокую ступень, человеческой монады, то тогда ценности могут быть поняты в их само собой разумеющейся субъективности и в их относительном характере, который происходит из целей расширенного воспроизведения полноты жизненных проявлений. Тогда чужие, прошлые и будущие оценки могут быть восприняты как собственные, ибо мы содержим чужие Я одновременно в себе. Тогда возможны совпадения в оценках, потому что все мы в конечном счете происходим из одной и той же полноты жизни и можем чувствовать друг в друге или друг с другом[423].
Между этими двумя метаисторическими формами культуры в принципе не могло быть антагонистических противоречий, так как формирование феноменально-человеческого в человеке изначально предполагает приоритетность ноуменального-трансцендентного в нем. Оказавшись Феноменом, Человек при этом длительное историческое время продолжал оставаться Микрокосмом и Ноуменом, а потому и напряженных отношений между трансцендентной и эвалюативной культурами в его экзистенции в принципе быть не могло. Органический трансцендентальный синтез двух позитивных форм культур давал возможность иерархическому человеку - Богочеловеку - одновременно самотрансцендироваться как Ноумен (“обожение”) и самоактуализироваться как Феномен (“очеловечение”). “Задача культуры, писал С.Н.Булгаков, - дело богочеловечества, т.е. очеловечение мира и обожение человека. В этом смысле задание культуры совершенно беспредельно”.[424] Культура своими двумя позитивными онтологическими формами представляла собой как бы два сообщающихся сосуда, один из которых был трансцендентный Дух, а второй – человеческая душа. Зиммель полагал что в этой своей миссии культуру можно обозначить как путь души к себе самой. Ибо душа никогда не является только лишь тем, что она есть в данный момент, но всегда есть нечто большее: в ней уже заранее задана ее собственная, более высокая и совершенная в сравнении с нею же самой форма.[425] Этот путь важен еще и тем, что ментальность астрально-антропного субъекта состоит из иерархии двух субличностей – из трансцендентного Я и антропного Я, а потому лишь при органической взаимосвязи двух культур, человек в состоянии восходить к Трансцендентному в Сущем.
На первичной фазе развертывания Ничто в Нечто, культура выступила неким внутренним “средством” перманентного автоэманирование Единого во Множественное, «способом» развертывания свернутой в Ничто Гармонии жизни в экзистенциально проявленные структуры Сущего. На эту важнейшую функцию культуры в становлении экзистенциальных структур Сущего, указывал Зиммель. “Культура, - писал он, - есть пункт от замкнутого единства через раскрытое множество к раскрытому единству. Но как бы то ни было, речь здесь может идти о развитии до состояния проявленности лишь того, что уже было заложено в личности в качестве дремлющих в ней сил, намечено в ней самой в качестве ее же идеального плана”.[426] Соотношение Неиного и Культуры в Сущем должно стать особой “предметностью” для теолого-философского исследования начальной стадии становления Человека. Провидением изначально культуре отводилась особая роль в развертывании пустотной абсолютности в экзистенциальную полноту. Культура как бы отвечала за более полную и исчерпывающую представленность в актуализированных формах бытия, онтологических праформ, имманентно содержавшихся в изначальной Пустоте, Ничто. В основании творчества лежит самотрансценденция, а не самоактуализация, творчество всегда связано с выхождением за пределы сущего, есть прорыв в сферу ноуменального. Творчество в рамках культуры возможно лишь в той мере, в какой сама культура интегрирована в перманентный акт творения, в какой мере она интенционально соответствует духовной креативности. В эвалюативной культуре приоткрываются лишь потенцированные Духом ценностные слои, их актуализация и составляет сущность культуро-творческого процесса. Не случайно в этом сложно-построенном понятии на первом месте все же стоит «культура», а не «творчество». Этот процесс раскрывает лишь ту структуру ценностей, которые неявно содержатся в самой культуре в момент ее порождения культом. Бездуховная же культура является и антикреативной и антитворческой силой, силой порождающей антиценности, т.е. ценности, подрывающие целостность бытия.
Полнота Бытия Неиного - есть не что иное как Культура, если последнюю рассматривать в качестве универсума актуализированных ценностных потенциальностей Культа. Согласно Сартру (“Бытие и ничто”) “человеческая реальность есть то, при посредстве чего ценность приходит в мир”. Быть человеком – значит быть устремленным к ценности: полнота собственного существования всегда является абсолютной ценностью. "На более ранних ступенях развития, - писал К.Маркс, - отдельный индивид выступает более полным именно потому, что он не выработал всю полноту своих отношений и не противопоставил их себе в качестве независимых от него общественных сил и отношений".[427] Лишь на заре своего антропологического становления человек был подлинным субъектом своей культуры, а культура позитивным средством его сакральной гуманизации. Характеризуя цель общественного производства при рабовладении и феодализме, Маркс предостерегал от романтической идеализации этих периодов, где объективно торжествуют отчуждение человека, подавленность его общественными обстоятельствами.[428] Весь последующий ход истории есть процесс вырабатывания изначальных культурных форм человеческого самоосвоения.
Эвалюативную культуру можно рассматривать в качестве предельной субъективации («субъективация субъективного») трансцендентной культуры. “Теономия, - пишет Тиллих, - не противостоит автономии, как противостоит ей гетерономия. Теономия есть ответ на вопрос, заключенный в автономии, - вопрос, касающийся религиозной субстанции и предельного смысла жизни и культуры. Автономия настолько жизнеспособна и долговременна, насколько она может отталкиваться от религиозной традиции прошлого, от осколков утраченной теономии. Но она теряет свои духовные основы. Она становится все более пустой и неуклонно движется к скептицизму, к потере смысла и цели. История автономных культур есть история постепенного опустошения духовной субстанции. В конце этого процесса автономия в тщетном порыве оборачивается назад, к утраченной теономии, либо надеется на новую теономию в творческом ожидании кайроса”[429]. Онтологическая вторичность эволюативной культуры заключается в том, что она выступает уже не интенциональным средством само-общения, общения субъекта с Сами Собой как Ноуменом (“глубинное общение”), экзистенциальной производной от внутрисубъектных отношений, а соединяет собой в единую антропную целостность, в со-бытийность, совместное бытие две человеческие половинки - Я и Ты, каждая из которых в состоянии достичь феноменальной субъективности не иначе как актуализируясь в ценностном мире другой половинки. Эвалюативная культура и есть то “средство”, которое соединяет человеческие половинки в единое родовое Человечество, выступает “средством” ценностной консолидации именитствующих субъектов. Если трансцендентная культура в антропном плане, если можно так выразиться, является культурой андрогинной, то эвалюативную форму культуры “изобрели” мужчины для того, чтобы в ценностной форме предъявлять женщинам, дарующим им жизнь (Ева в переводе с древнееврейского означает «жизнь») знаки своей любви к ним. Если символическая форма культуры была порождением взаимной любви Бога и Человека, то ее ценностная форма предназначалась для закрепления конъюнктивных чувств человека – к человеку. Если содержание первой формы культуры схватывается апофатическим определением «Бог есть любовь», то вторая форма культуры вполне может быть понята как ценностная форма любви человека к другому человеку. Однако подлинная любовь человека к человеку может быть достигнута лишь на пути обретения человеком любви к Богу. «Первичный смысл феномена любви, - писал С.Л.Франк, - состоит в том, что она есть актуализированное, завершенное трансцендирование к «ты» как подлинной, я-подобной, по себе и для себя сущей реальности, открытие и усмотрение «ты» как такого рода реальности и обретение в нем онтологической опорной точки для меня… Я не вбираю «ты» в себя, - я, напротив, сам вступаю в него, «переношусь» в него, и оно становится «моим» только на тот лад, что я сам сознаю себя принадлежащим ему. Дело идет здесь о сущем трансцендировании к реальности другого как таковой».[430]
Трансцендентная культура и выступает онтологической точкой опоры для любви в Духе или духовной любви которая может быть лишь интенционально и символически обусловленной. Она оказывается «средством» трансценденции во-внутрь выводящим человека за пределы своей релятивности в сферу абсолютного. Напротив, культура эвалюативная, в состоянии служить лишь «средством» самоактуализации Я в Ты, когда «ты» вбирается в «я» и только в процессе такого ценностного самоприсвоения «ты», «я» в состоянии наполняться собственно антропным содержанием. Однако если эти два, процесса происходят в рамках взаимосогласованных культурных форм, внутренняя гармония души оказывается не только органичной по своей метаисторической ритмике, но и вполне устойчивой в экзистенциальной ситуации, формируемой не только по человеческим, но и сакральным меркам. “Для универсалий глубинного общения, - пишет Г.С.Батищев, - особенно и первостепенно важно именно то, что они лишь векторы-указания, символически представляющие нам перспективы трансцендирования за границы нашей культуры”.[431] Любовь человека к человеку опосредованная любовью к Богу гармонизирует отношения между трансцендентной и эвалюативной формами культуры, не противопоставляет процессу обожения Человека процесс очеловечения Бога и наоборот. Возникая в качестве феноменальной производной от ноуменальной культуры, эвалюативная культура, в состоянии перманентно воспроизводиться и функционировать все же лишь на континууме субъектно-субъектных отношений, отношений между антропными субъектами. В этой связи эвалюативную культуру необходимо рассматривать в качестве феномена, возникающего в ходе перманентного процесса субъективации субъективного. Ценностная, эвалюативная культура или собственно культура в состоянии существовать лишь там и тогда, где и когда, человек относится к другому человеку субъектно, когда индивидуальности субъективируют внутренние миры друг друга, актуализируя свою антропную половинчатость в единую общечеловеческую целостность.
В предельно широком смысле культуротворческий процесс, оставаясь экзистенциальной производной от процесса субъективации субъективного, от процесса межчеловеческого общения, в то же время есть есть двусторонний процесс развертывания общечеловеческого в индивидуальном и индивидуализированного в общечеловеческом. Это такой процесс, в котором Бог и Человек обретают единую для них тео-антропологическую целостность, устойчивость которой придает примат сакральной над секуляризированной культурой в Сущем, органический синтез которых и составляет единую Культуре Неиного.
Квазиэвалюативная культура. При определенных условиях процесс субъективации субъективного может перерасти свои феноменальные, антропные рамки и превратиться в квазисубъективацию субъективного, содержанием которой становится придание Бесконечному Субъекту статуса культурного феномена – артефакта - и псевдоценностное отношение человека к символической реальности - бытии Абсолюта. В рамках такой гипертрофированной культуры Бог оказывается ценностью замыкающей собой иерархию эвалюативных значений, в религиозном сознании квазиантропного субъекта он перестает быть ноуменальным символом сущего, так как таковым себя в одностороннем порядке конституировать себя человек. Бог оказывается всего лишь ценностным артефактом культуры. По Хайдеггеру, Бог оцененный человеком как «ценность» лишается своего абсолютного достоинства, в качестве оцениваемого он начинает существовать лишь как предмет человеческой оценки[432]. Хайдеггер решительно выступает против того, чтобы трактовать “Бога” как “высшую ценность”. Лишь сохранение антиаксиологической, символической традиции во взаимотношениях с Богом позволяет человеку быть как и прежде слушателем гласа бытия, всего того что еще не затронуто тленом псевдокультурной стандартизации. Квазикультура пытается заместить собой культ, с тем чтобы родового человека конституировать в качестве Бога. Культура онтологически конструктивна лишь при условии ее органической встроенности в духовное начало, в качестве же квазикультуры она становится антикреативной силой, разрушающей сакральные основы жизни. Квазикультура подчинена лишь хроносу, а потому и противостоит творчеству, являющемуся экзистенциальным реликтом изначальной ноуменальной креации, которая всегда связана с кайросом, восходящим к Вечности. В эвалюативной культуре творчество возможно лишь в связи с тем, что хронос родовой жизни человека пронизывается кайросом, что обусловлено органической связью эвалюативной культуры с культурой трансцендентной. Когда же культура из трансэвалюативной превращается в квазиэвалюативную, она становится средством тотального разрушения символической реальности. Подчинившись хроносу, культура обречена как и хронос быть жестоким «пожирателем бытия». Как только антропная форма времени отпадает от Вечности, хронос начинает активно противостоять кайросу, культура – культу, а «сверхчеловек» - Богу. «Но как же обстоит дело с самим ценностным полаганием, - вопрошает Хайдеггер, - если оно мыслится в аспекте сущего как такового, а это значит одновременно исходя из взгляда на бытие? Тогда мышление ценностями - это радикальное смертоубийство. Тут сущее как таковое не только забивают в его бытии в себе, тут совершенно отбрасывают само бытие. Бытие - если только есть еще в нем надобность - может признаваться лишь до крайности убийственно. Ценностное мышление метафизики воли к власти до крайности убийственно, потому что оно совершенно не допускает, чтобы бытие входило в свой восход и, стало быть, в свою живую сущность. Мышление по мере ценностей заведомо не позволяет бытию бытийствовать в своей истине»[433]. К сожалению культура никогда не бывает чистой, рафинированной, она всегда есть некий синтез трансцендентных и эвалюативных ценностей с известной примесью ложных эвалюативных символов квазикультуры. Именно это обстоятельство влечет за собой известное напряжение между Духом и Культурой, чреватое дезынтеграцией душевного состояния человека.
Первичную фазу отпадения Человека от Абсолюта необходимо понимать в качестве процесса обеспечивавшего антропоморфизацию сакрального Неиного в Сущем, для ее обозначения вполне подходит понятие квазисубъективация субъективного, выступавшая своеобразной праформой для всех последующих форм самообъективации и самоотчуждения человека. Этот процесс всегда оказывается преобладающим в ситуации гипертрофированной самоактуализации, когда Я и Ты стремятся субъективировать друг друга в Бесконечного Субъекта - в Бога. Две антропные половинки начинают относиться друг другу не как интегральные части единого родового человечества, совместного именитства, а как два божества, два кумира, пытающиеся совместно присвоить животворный Космос и безраздельно господствовать над ним, используя его ресурсы качестве средств насыщения своих гипертрофированных родовых потребностей. В этой ситуации культура из средства расширенного воспроизводства антропной формы бытия в средство насильственного присвоения и «пожирания» элементов космического универсума. Культурно опосредованные субъектно-субъектные отношения начинают возвышаться над внутрисубъектными отношениями Культа, глубинное общение оказывается все более поверхностным и в конце концов, в своей антропно превращенной форме, модифицируется в общение человека уже не с Богом, а с Кумиром - как к персонификатором квазиродовых сущностных сил человека. Таким образом, отношения Человека с Богом переносятся с небес на землю, общение с Ним перестает быть личностно значимым, обретает ритуализированную форму и осуществляется в пределах субъектно-субъектных отношений родового именитства. При этом Человек именно таким образом “заключает” с Богом Завет (Договор), чтобы навечно закрепить в нем свою феноменальную автономность, которая в дальнейшем в процессе бесчисленных историцистских интерпретаций практически сводит на нет обязательства человека перед Богом, ведет к нарушению приоритетности сакрального в экзистенции и в конце концов навязывает Богу собственно человеческие приоритеты в Сущем, пытаясь магическим образом заставить Неиное принять в Сущем не свое Иное в качестве «реальной действительности», к которой следует адаптироваться, приспособиться не только Человеку, но и Богу. Культура, порождаемая мистикой оборачивается жестокой магией – системой принудительных воздействий на Культ в целях его культурации и насильственного присвоения Благодати в виде необходимых человеку благ. Эвалюативный культ - это культ феноменального человека. В семантическом аспекте он есть совокупность ложных "эвалюативных символов". Выходя за пределы родовой определенности человека, культура начинает формировать систему особо ложных значений - эвалюативных символов, замещая ими трансцендентные символы культа. История развития политеизма и пантеизма ярко свидетельствует об антисакральной направленности квазикультурологического процесса, ее связи с мрачной магией. С этого историцистского момента мифологической эпохе с ее спокойной устойчивостью приходит конец, начинается эпоха борьбы ценностной формы рациональности против символических основ мифа (логос против мифа). Человек в качестве отдельного (отделенного) индивидуума отваживается искать опору в ценностных интенциях своей собственной души. Происходит открытие того, что позже получает название разум и личность. Культура конструктивна лишь постольку, поскольку укореняет человека в родовой жизни, не дает человечеству распасться в качестве феноменальной целостности и деструктивна постольку, поскольку разукореняет его в сакральном Духе, разрушает Космос. Когда культура начинает проецировать свои ценностные суждения на символический Логос, пытаясь оценивать элементы космоса с позиции интересов родового человека и решать за Бога кому в нем продолжать свое существование, а кто не достоин присутствовать «в мире оживших ценностей» (Дробницкий), культьура превращается в демоническую силу. Шелер вслед за Зиммелем указывал на имманентную необходимость культуры душить самое себя своим аппаратом и своей объективацией, что придает истории особо трагический характер истории, он ставил в параллель разрушительные последствия культуры с саморазрушением природы в результате рассеяния энергии и энтропии. Подобной же точки зрения придерживался и Вернадский сравнивая мощь антропного воздействия на среду обитания человека с мощью геологических процессов в природе.
Окультурив определенную часть животных и растений, одомашнив и очеловечив их приданием их существованию ценностной значимости, человек стал крайне репрессивно относиться к тем обитателям животворного космоса, которые оказались за пределами его родового именитства. Духовный космос рационализированный им в качестве «космического пространства», превращается в объект покорения, человек начинает осуществлять систематические набеги «в чуждые пределы», в целях расширения своего имения и приумножения имеющихся в нем ценностей, используя в качестве инструментов насилия специально создаваемые квазикультурные артефакты – орудия борьбы и уничтожения. Борьба человека со всем тем, что не входит в его родовое владение становится все более тотальной, а разрушение «противной» стороны все более широкомасштабным. По сути война ведется человеком феноменальным против себя же – человека ноуменального, а потому разрушение «противной» стороны оказывается разрушением всего того «противного» родовому человеку, что составляет в нем высшую его ипостась – его глубинную сакральность. Вот почему глобальные разрушения, которые человек осуществил за всю свою историю есть не что иное как процесс его собственного духовного саморазрушение. История человечествеческой культуры есть в то же время и история последовательного разрушения сакрального генофонда жизни. «Не "истина", - писал Ницше, - борется с жизнью, но один род жизни с другим. Но первый хочет быть высшим родом! Здесь можно перейти к доказательству того, что необходим порядок рангов, что первой проблемой является проблема распределения родов жизни в порядке их рангов»[434]. Квазиэвалюативная культура перераспределяет онтологические ранги таким образом, что родовая жизнь человека оказывается в эпицентре модернизируемого им бытия.
Как только культура начинает примерять человеческие мерки к живому и одухотворенному космосу, она превращается в репрессивную систему антропогенных воздействий на «среду обитания». Культура разрушает символический космос в той мере в какой наделяет его ценностной, эвалюативной значимостью, тем самым превращая субстанциальные структуры бытия в кладовую полезностей, которые в ходе освоения в форме присвоения становятся тривиальными средствами удовлетворения скорее всего недочеловеческих потребностей. Квазикультура своим массированным насилием способна субстанциализировать несубстантивное, ценностно оценивать в принципе не поддащеся человеческой оценке. Субстанциализированный культурой Бог и есть рукотворный культ, олицетворяющий собой образ Сверхчеловека, человека вознесшегося своей экзистенцией над трансцендентным Богом. Человек, а не Бог квазиэвалюативной культурой конституируется в качестве Сверхзначения. В этой связи несколько проясняется смысл одного из самых загадочных пророчеств в Посланиях Апостола Павла: «Ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее (1 Кор 1, 28)». Ложные квазиэвалюативные значения культуры могут быть преодолены лишь на пути восстановления «нулевых значений» какими являются пустотные по содержанию, но бесконечные по валентности трансцендентные символы.
Раздвоение единой трансцендентно-эвалюативной культуры на трансцендентную и эвалюативную не могло не усилить тенденции не только по их субъективации, но и объективации, которые в свою очередь обусловили их дивергенцию друг от друга. «Раздвоенность (сознания - Ю.Ф.), - пишет Рихард Кронер, - ... простирается вплоть до его самообъективации, до культуры, потому что сознание способно объективироваться, только расщепляя себя на формы рациональной и интуитивной культуры… стремясь всегда вместе с тем к абсолютному примирению».[435] Две формы экзистенции астрально-антропного субъекта: трансцендентно-абсолютная и феноменально-релятивная, оказавшись “заключенными” в феноменальные пределы субъектно-субъектных отношений не могли не синтезироваться со временем в некую отчужденную форму бытия, в которой релятивное стало пониматься как абсолютное, а абсолютное – как релятивное. Такой «взаимообмен» статусами между Богом и Человеком мог происходить далеко не на добровольной основе, необходим был «инструмент» репрессивного воздействия человека Феномена на Человека Ноумена, чтобы обрести статус Гиперфеномена=Лжебога и таковым «инструментом» и становится квазикультура. «Пока теономия в силе, - пишет Пауль Тиллих, - ей не может открыться никакой альтернативы. Если сила ее сокрушена, она не может быть восстановлена в прежнем виде; автономный путь должен быть пройден до конца, а именно - до того момента, когда возникнет новая теономия в новом кайросе».[436]
На начало историцистского «развития» культуры приходится небывалый расцвет пантеизма и политеизма, посредством которых человек пытался придать универсуму антропоморфную форму, а потому и осуществлял ценностную персонификацию частично проявленных форм сущего. Именно с этого времени начинает формироваться квазиэвалюативная культура в рамках которой культ обретал несвойственные ему ценностные формы. Пантеизм и политеизм, как известно, дал огромный всплеск для развития секуляризированной культуры. Культура Древней Эллады по своим духовным ориентациям политеистична и пантеистична, но именно это обстоятельство оказалось для нее поистине роковым. Культура Эллады изнутри распалась в связи с довольно слабым присутствием в ней сакрального прафеномена – культуры духовной, способной удерживать в единстве экзистенцию, ставшую онтологически иерархичной. В лучшем случае культура в те времена могла до известной степени поддерживать бытийственную плюральность, довлевшей к мономорфности, к выделению в ней такой структуры, которая в состоянии была бы центрировать собой эклектику полисной жизни и такая структура в конце концов была найдена в самых поверхностных слоях человеческой экзистенции. Именно тогда на смену тео- и космоцентризму пришел антропоцентризм, который стал «обслуживаться» квазиэвалюативной культурой. Однако как только на развалинах политеистической и пантеистической культуры вновь начинает возникать монотеизм, основанный на Откровении, довольно быстро античная квазиэвалюативная культура прекращает свое существование. Ей на смену приходит духовная культура, основу которой составляет идея Богочеловечности. Христианский монотеизм завершил собой историю мифологии и открыл (откровение) начало новой эры – эры единобожия, что явлилось не чем иным как возрождением интуиции первочеловека о своих абсолютных первоначалах. Однако реконструкция двух форм культуры на основе Откровения не могла привести к подлинному духовному ренессансу, так как лишь верхний срез эвалюативной культуры возможно было интегрировать в соборную жизнь, секуляризированная, квазиэвалюативная же ее часть продолжала все дальше дивиргировать не только от трансцендентной, но уже и от эвалюативной культуры. Эпохи Ренессанса и Реформации оказались эпохами возрождения эвалюативной культуры, но отнюдь не эпохами возрождения Духа и связанной с ним трансцендентной культуры. «Религиозная энергия, - пишет Н.Бердяев, - секуляризировалась и направлялась на творчество культуры. Культурные последствия реформации были очень значительны, религиозные же последствия непропорционально малы, несоответственно религиозной энергии и религиозной гениальности Лютера. В религиозной жизни начались процессы разложения».[437] Именно с эпохи Ренессанса берет свое начало как элитарная культура, мимикрирующая под культуру трансцендентную так и культура массовая – срединная культура, подготовившая исторический переход в экзистенции к своему иному – к цивилизации. Таким образом подлинного возрождения культуры первого рода со становлением веры на основе Откровения, так и не произошло. “С откровением, - писал Н.Бердяев, - которое есть основное явление религиозной жизни, произошло то же самое, что и со всеми явлениями Духа, - оно было объективировано”.[438] Реформация Откровения и Ренессанс Культуры произошли почти в одну и ту же историческую эпоху, в результате почти синхронных «операций» на Духе и Культуре, с той поры две формы культуры начинают противостоять друг к другу в качестве антагонистических начал и это их противостояние не могло не породить атеистическую культуру, которая своими разрушительными воздействиями на сферу религиозного сознания оказалась наиболее эффективным средством не только духовного, но и культурного самоотчуждения человека. Возникает контр-трансцендентная культура, мимикрирующая под символический Культ именно в связи с этой ее семантической метаморфозой мы и обозначили «сверхкультуру» термином «эвалюативный культ». Ценностно превращенный символический Культ становится синтезом ложных и репрессивных «эвалюативных символов».
Зиммель утверждал, что культурный дуализм возник в недрах самого Духа и на самой начальной стадии метаистории. Перед лицом духовного дуализма, субъект оказался стесненным в собственных границах. Расширение границ Сущего и его преобразование начинается тогда, когда обе его стороны являются Духом. Но при этом именно субъективный дух вынужден распрощаться со своей субъективностью (но не с духовностью), чтобы пережить свое отношение к объекту, через который осуществляется приобретение им культуры. Это - тот единственный способ, которым дуалистическая экзистенциальная форма, непосредственно заданная содержанием субъекта, организуется во внутренне целостную систему взаимных отношений. Тут имеет место объективация субъективного и субъективация объективного, что и составляет специфический момент культурного процесса и в чем, вне зависимости от наполняющих его частных образований, проявляется метафизическая форма этого процесса. Поэтому глубокое его понимание требует дальнейшего анализа процесса опредмечивания духа.[439]
Призыв А.Блока к человеку “все сущее вочеловечить” неявно содержит в себе прометеевское, богоборческое начало, деструктивно воздействующее на предустановленную Богом мировую гармонию жизни, дает установку на ее ценностную модернизацию под приоритеты экзистенции родового человека. Вочеловечением феноменальных субъективаций, субъектно-субъектных отношений и призвана заниматься культура. Но как только она выходит за пределы родового именитства, за верхние границы человеческого универсума, пытаясь очеловечить Предсущее и Сверхсущее, т.е. феноменологизировать Неиное, превратив Его в компонент человеческой квазиэкзистенции, культура оказывается мощной разрушительной силой, направленной против мировой целокупности. Именно этой ее деструктивной функции человечество обязано тем, что в его метаистории произошел первый прорыв сил хаоса в трансцендентно-феноменальное Сущее, которое человек пытался упорядочить насильственным образом, используя определенную часть своих родовых сущностных сил. Если Культ создал культуру, то культура сотворила кумиров-божеств. Они есть не что иное как персонифицированные силы хаоса. Бог, чьим образом и подобием был Человек-Ноумен, культурой был превращен в образ и подобие Человека-Феномена. Кумир и есть “вочеловеченный Культ”, культ, которому культурой с самого начала предписано преодолевать предустановленную Богом мировую гармонию и всячески поддерживать в Миро-Здании Порядок, устанавливаемый родовым Человеком.
В пределах родовой жизни человека истинная и позитивная культура призвана вочеловечивать не только самого человека как феномена, выступая средством его самоактуализации, но и активно противодействовать экзистенциальному Ничтожеству в Сущем, тем самым способствуя преодолению человеком всех форм самоотчуждения и последствий его грехо-падения, отпадения от Абсолюта. Казалось что культура по самой своей сути, по генетической связи с Духом, должна активно противодействовать силам зла, расширяя сферу Неиного в Сущем. Однако по ходу истории ее активность все более начинает кумулироваться на построении сверхидеального и сверхценного Родового Именитства, которое выстраивается не иначе как из “экзистенциальных кирпичиков”, обжигаемых в горниле, растапливаемый всяческим “мистическим хламом”, доставшимся от трансцендентной культуры. Храм Культуры родовой человек воздвиг на фундаменте им же самим разрушенного Храма Жизни, в котором ранее обитал совместно с Богом. Однако с окончанием строительства Храма культуры в нем поселился отнюдь не Человек, а его зловещая персонификация – Кумир - Человекобог. «Непосредственное восприятие первичных феноменов – писал Гете, - повергает нас в своего рода страх, мы чувствуем свою неадекватность»[440]. Вольно или невольно, вознамерившись вочеловечить все сверхродовое, трансцендентное в Сущем, культура легитимизировала присутствие в нем Ничтожества в форме Кумира, ценностно ознаменовала силы Зла для, которые стали использоваться для полной и окончательной победы Гуманизма в Поднебесной. Если раньше культура развертывалась не иначе как из духовных глубин Космоса, то в новой онтологической ситуации уже она сама начинает развертывать свой особый духовный потенциал, соразмерный идеалу родового человека. С обособлением антропного Ты от изначального сакрального Я уже не Дух определяет содержание и направленность развертывания Культуры, а, напротив, культура оказывается антропной детерминантой развертывания и функционирования в человеческой общности духовных процессов. Перманентно обособлявшееся от астрального Я антропное Ты начинает все более интенсивно расчленять единый духовный космос на антропоморфные элементы и из них выстраивать общую конструкцию родового именитства. Культуротворческие процессы не могли не войти в резонанс с процессами эманационно-креативными, так как активно противостояли всему тому в мироздании, что не укладывалось в собственно родовые, человеческие мерки и масштабы. Вместе с необычайно усилившимся господством культурного человека над сакральным Духом возникает и угроза того, что нечто конституируемое родовым человеком в качестве Духа, оказывается не более чем его антипод – абсолютная бездуховность или дух зла. Как только Дух начинает атрибутироваться силами культуры, он с неизбежностью оборачивается дьявольской силой. Демоническое в культуре и есть проявление контрдуховных сил, вызванное ею своим насилием над “слабым” Духом. ««Злой дух», - писал С.Л.Франк в «Непостижимом», - есть именно коварный дух, соблазняющий нас своей «прелестью», обманчивой видимостью своей самодовлеющей ценности, раз мы ему подпали, мы испытываем наше подчинение ему не просто в форме господства над нами слепой силы, а в форме сознания, что мы «должны», «обязаны» ему следовать; и в этом подчинении, в этом повиновении ему, в этом послушном, добровольном следовании его зову мы испытываем, несмотря на охватывающее нас при этом чувство жути, напоминающее нам об обманчивости, лживости этой силы, - смысл, реальную основу нашего непосредственного самобытия (хотя бы мы сознавали, что эта основа и реальность такова, что уносит нас в бездну)».[441]
Ранее мы уже выяснили, что историческая форма Сущего есть некий экзистенциальный симбиоз Неиного и Иного. Не все в Неином, в Абсолютном в его онтологически развернутой форме, способно быть неким “объектом” вочеловечения, им выступают лишь человек как становящийся феномен и то в пределах родового именитства и все то, что в это именитство вовлечено ценностными формами переживания и проживания. Если Неиное в его космологическом и антропном воплощении может быть описано в качестве иерархии трансцендентных и эвалюативных ценностей, то Иное в нем – соответствующей иерархией ложных квазиэвалюативных ценностей. Таким образом эмпирическая жизнь антропного субъекта фактически поддерживается весьма эклектической системой значений, состоящей как из истинных, так и ложных ценностей. Более того большинство истинных ценностей в связи с их вытесненностью в сферу бессознательного в состоянии лишь опосредованно влиять на человеческую экзистенции и, в основном, в особо критические для нее периоды. Каждая эпоха имеет свой особый ценностный модус, сущность и структура которого может быть выявлена лишь в феноменологическом анализе, а степень его истинности - в процессе интенционального восхождения расширившейся экзистенции к изначальной трансценденции, чем и должна заниматься философия, если она по определению К.Маркса всегда должна быть «квинтэссенцией эпохи».
Мы рассмотрели суть трех основных форм культуры – трансцендентной, эвалюативной и квазиэвалюативной. Каждая из них имеет свою особую форму онтологической процессуальности, свою особую форму времени. Если трансцендентная культура органически связана с кайросом и метаисторией Духа, а эвалюативная культура – с хроносом, пронизанным кайросом и историей человечества, то квазиэвалюативная культура является полностью детерминированной хроносом и историцизмом Иного в гипертрофированной человеческой экзистенции. Таким образом мы выходим на проблему соотношения Культуры и Истории, которая в последние годы в философском дискурсе занимает довольно значительное место.
В феноменологически ориентированной историософеме, которая в настоящее время в методологическом плане является наиболее разработанной, история человечества, в основном, редуцируется к истории культуры. Культура рассматривается в качестве некоей потенцированной истории, а история – в качестве актуализированной во времени культуры. «Культура – писал Шпенглер, - это первофеномен всякой прошлой и будущей мировой истории»[442]. Его работа «Закат Европы» насквозь пронизана культурологическим видением феномена Всемирной Истории. Вслед за Гете и в отличие от Гуссерля, он развивает не гносеологическую, а онтологическую феноменологию, исходит из наличия в сущем некоего первичного феномена или прафеномена, которому сущее обязано своим историческим становлением. История человечества по Шпенглеру есть не что иное как процесс развертывания во времени и пространстве первофеномена культуры. Она имеет свое начало и конец, обусловленные континуумом возникновения, становления и упадка культуры. Культурной детерминированности Всемирной Истории придерживался Данилевский, разрабатывая свою особую систематику культурных форм человеческого существования. Феноменологическую редукцию истории к культуре можно обнаружить и в культурологических работах Зиммеля. «Предметом истории в самом широком смысле, - считает он, - является эволюция культурных форм»[443]. Современным российским философом В.А.Фриауфом, высказана идея, согласно которой историю можно понимать как овремененную срединность двух противоположных культуротворческих потоков в человеческой экзистенции. «Сама культура, - пишет он, - сопрягает в себе два противоположных процесса: движение “от мифа к логосу” и альтернативное движение к инобытию мифа, т.е. к Эйдосу. Культура есть не только предметное инобытие Логоса, но и символическое инобытие Эйдоса, как “бытие по истине”. Срединностью культуры в таком понимании и оказывается история”[444]. Нас интересует феноменологическая соотнесенность Культуры и Всемирной Истории в связи с тем, что именно в этой форме философского дискурса удалось впервые привести в некую упорядоченную систему весьма разнородные формы человеческого присутствия в мире. Тем более что эта культурологическая схематика Всемирной Истории в ХХ веке оказала огромное влияние на развитие самой исторической науки.
Найти онтологическую единицу членения Всемирной Истории на этапы всегда была идеей-фикс для мыслителей, пытавшихся представить становление человека в качестве единой и целостной экзистенциальной процессуальности. Начиная с середины Х1Х века философов все более привлекают деконструктивные возможности культуры, используя которые можно было бы теоретически реконструировать целостность Всемирной Истории. Одним из первых, предложивших рассматривать культуру в качестве ценностного инварианта истории был Зомбарт. По мнению Э.Трёльча, Зомбарт пытался расчленить историю на периоды культуры, каждый из которых он толкует как “систему”, характеризующуюся определенным “духом” и “стилем”, основная идея которого может быть схвачена в понятии. Исходя из этого понятия может быть расчленено и упорядочено все эмпирически-единичное в истории. Зомбарт рассматривал каждый из этих периодов как индивидуальное и неповторяющееся проявление человеческого духа вообще[445]. Идея культурной опосредованности человеческой истории была весьма близкой философам неокантианской школы, к ней довлели и отдельные представители экзистенциализма, особенно К.Ясперс.
Наиболее полно идею систематизации исторических форм человеческого существования по культурологическим меркам удалось осуществить Данилевскому и О.Шпенглеру. Н.Я.Данилевский в книге “Россия и Европа”, отвергая идею об “общечеловеческой культуре”, развил учение о культурно-исторических типах. Он пришел к идее о том, что нет и не может быть одного, для всех единого типа культуры, что все человечество состоит из ряда культурных типов. Каждый культурно-исторический тип есть целый своеобразный мир, это есть самостоятельный и своеобразный план религиозного, социального, бытового, промышленного, политического, научного, художественного, одним словом – исторического развития. Всемирная История, согласно О.Шпенглеру, есть совокупность историй слабо связанных между собой, а порой и совершенно не обусловленных друг другом локальных культур. Развитие того или иного континуального отрезка Всемирной Истории жестко задается «судьбой» доминирующей культуры с ее «вечным» вариантом рождения, роста, старения и гибели. На гибель любой тип культуры осуждена всевластной «судьбой» уже при рождении. Летальный ген заключенный в самой структуре ценностей локальной культуры неумолимо ведет ее эволюцию, в которой всегда можно обнаружить свой особый пик развития, к фатальному трагическому финалу. Согласно О.Шпенглеру история отличается от жизни, которая всегда является «открытой системой» своей «замкнутостью». История оказывается парадоксальным образом «замкнутой» в отдельных локальных культурах, связь между которыми практически отсутствует.
Итак, согласно О.Шпенглеру целостность Всемирной Истории есть некая совокупность историй замкнутых культур. Однако если каждая из представленных им культур являются совершенно локальным онтологическим образованием, не связанным друг с другом, то каким же образом Всемирная История может рассматриваться в качестве целостного и универсального и тем более перманентно эволюционирующего процесса? Целостность истории во многом предопределяется преемственностью между ее отдельными этапами и если эти этапы обозначены понятием «культура», то этот принцип должен распространяться и на целостный культуротворческий процесс к которому редуцируется исторический процесс. Именно «закрытость» и «локализованность» культур действующих в едином поле Всемирной Истории делает ее лишенной какого-либо метаисторического смысла. Мы не будем останавливаться на обзоре критических высказываний в адрес шпенглеровской культурологической концепции истории, остановимся лишь на тех аргументах которые в своей критике выдвигает Р.Арон, т.к. ему, на наш взгляд, удалось вскрыть основные ее противоречия. Р.Арон исходит из того, что все глобальные видения прошлого, считающие себя эмпирическими или метафизическими, связаны с теми перспективами, которые избираются интерпретатором. Когда О.Шпенглер представляет нам замкнутые в себе «культуры», не могущие общаться друг с другом, то он настолько преодолевает опыт в смысле плюралистичности, насколько его преодолевали философы истории в смысле единства. О.Шпенглер выбрал противопоставление «культур» и продвинул это противопоставление так далеко, что его теория, интерпретируемая буквально, исключает саму возможность его творения. Если культуры не в состоянии понимать друг друга, то почему один О.Шпенглер может понимать все культуры. В менее строгой форме философия плюрализма продиктована, по крайней мере, зрелищем людских богатств и заботой иррациональных элементов. Когда связываются с вечным фейерверком мифов, искусств, знаний и мощи, история неизбежно дробится на бесконечное число человечеств: каждое по-своему чувствует, живет и представляет огромный мир. Таким образом, мы приходим к философии истории, которая характеризуется решительным отрицанием исторического единства. В становлении ею дозволено видеть лишь деградацию человека, который сам по себе понятен вне времени. Р.Арон ставит ряд принципиальных вопросов, ответы на которые концепция должна в себе содержать. Как разграничиваются высшие целостности, которые О.Шпенглер называет «культурами»? Как их определить? Сколько их насчитывать? С другой стороны, можно ли ограничиться их рядорасположением? И если их хотят объединить в целостность единой истории, то откуда берутся принципы объединения? Всеобщая история или сравнительная история «культур» в духе Шпенглера является одновременно и более претенциозной и более скромной, чем традиционная философия истории. Более претенциозной, поскольку она хочет прочесть в самой действительности большие линии становления. Более скромной, поскольку она эксплицитно не имеет в виду установления истины о человеке. Остается узнать, не является ли истинная философия истории одновременно более приемлемой и более поучительной, чем эти скрытые в эмпиризме философии. Не нужно ли историку-философу знать истину о человеке и о своем становлении, чтобы была одна целостность человеческого прошлого и чтобы можно было интерпретировать смысл?[446]
Выделим ключевые аргументы в критике Р.Арона: плюралистичность и эмпиричность концепции не дающая возможность выйти на генерализованный образ Истории, который О.Шпенглер пытается вылепить; попытка целое измерять его частями, тем более такими, какие в виду их локальности и замкнутости не содержат в себе качество целостности; полное отсутствие основного субъекта как локальных культур, так и Всеобщей Истории – Человека.
Действительно, несмотря на то что единицей измерения всеобщего исторического процесса взята культура, являющаяся по сути своей есть средством очеловечения человека, обладающая сугубо антропной предопределенностью, однако именно человек и выпадает из шпенглеровской культуротворческой концепции Истории. По сути здесь мы сталкиваемся с еще с одним парадоксом – внеантропологической концепцией культуры и внекультурологической концепцией человека, именно их синтез и лежит в основании шпенглеровской историософемы. Человек, если бы он вклинился бы своей “жизненной открытостью” в эту замкнутую историософему, наверняка бы разрушил представленную в ней логику становления локальных культур, а заодно и логику совершенно замкнутой на саму себя Всемирной Истории. И все же величайшей заслугой О.Шпенглера явиляется то, что он не только предложил, но и с известными издержками построил модель истории по основанию культуры.
Какие необходимо внести коррективы в культурологическую модель Всеобщей Истории, чтобы она перестала быть замкнутой и вобрала в себя метаисторический филогенез Человека? Прежде всего эту модель необходимо включить в более широкий мировоззренческую схематику нежели та которая имплицитно содержится в собственно культурологическом подходе к сущности исторического процесса, необходимо эту модель попытаться встроить в предельно открытую историософему Неиного.
На наш взгляд, предложенная нами субъектоцентристская модель сущего и истории его развертывания вполне способна включить в себя и культурологический подход к анализу особого этапа Всемирной Истории, на котором происходит становление, обособление и отпадение собственно антропологической формы экзистенции, которая вполне соизмерима с культуротворческим процессом. Вернемся к онтологической структуре культуры, какой она представлена в субъектоцентристской мировоззренческой версии с тем, чтобы более корректно подойти к проблеме соотношения Культуры и Истории, не прибегая к искуственному редуцированию их друг к другу.
Трансцендентная или символическая культура имплицитно содержащаяся в культе представляет собой предельно открытый континуум ценностных праформ, прафеноменов. Но в связи с тем, что символическая пракультура является онтологически неявной, непроявленной, она не может иметь своей особой отличной от культа истории, она метаисторична. Зададимся вопросом, может ли эта высшая форма культуры использоваться в качестве “средства измерения” истории, особенно истории самой культуры в ее феноменально-эвалюативной форме? Несомненно да, ибо метаисторическим соотнесением первой и второй типов культур, можно выяснить насколько вторая является экзистенциально изоморфной первой, насколько совокупность эвалюативно-ценностных развернутостей соответствуют трансцендентно-ценностным свернутостям, содержащимся в Неином.
Вторая или явная, проявленная форма культуры – эвалюативная культура, хотя и связана с первой – трансцендентной культурой – метаисторически, в связи со своей относительной от нее онтологической автономией является в полном смысле слова историчной. Антропная по своему содержанию эвалюативная культура и антропная же по своему вектору история человеческого универсума соотносятся между собой по принципу гомоморфизма. Однако эвалюативная культура по отношению к истории человеческого универсума не может выступать неким экзистенциальным масштабом его перманентных изменений, т.к. таким свойством по отношению к истории человечества обладает лишь культ и имплицитная его семантике трансцендентная культура. Необходимо согласиться с Мишелем Фуко, что каждый ансамбль имеет свою форму регулярности, ни один из них не предвосхищает в точности той формы дискурсивной регулярности, которая в дальнейшем примет вид некой дисциплины[447]. Высшее может быть неким всеобщим «мерилом» для низшего, но отнюдь не может выступать «средством самоизмерения». Феноменальная или эвалюативная культура является всеобщей экзистенциальной мерой по отношению к тому, что в онтологической иерархии находится ниже ее – для истории цивилизации и истории технологии. В этой связи необходимо подчеркнуть, что эвалюативная культура в принципе не может быть замкнутой и локальной, так как с одной стороны она является антропной субъективацией культа, а потому открыта для креативной трансценденции, а с другой стороны ее социальной объективацией выступает цивилизация и она по отношению к своему порождению никак не может быть «закрытой системой». Эмпирическим свидетельством предельной открытости, естественно в пределах становления собственно человеческого универсума, являются удивительные метаисторические совпадения содержаний тех культур, которые не имели между собой непосредственных контактов, как, к примеру, культуры Старого и Нового Света, которые «развивались» почти параллельно, этот экзистенциальный параллелизм как раз и обеспечивался их апофатической связью с единой для них трансцендентной культовой культурой.
Квазиэвалюативным культурам, не только отпадающим от Культа, но и активно противостоящим как трансцендентной, так и эвалюативной культурам полностью присущи те онтологические характеристики, которые О.Шпенглер распространил на культуру в целом. Она всегда оказывается «замкнутой» и «локальной», а потому и обречена на неизбежную гибель. «Если культура, - писал Мартин Бубер, - не имеет более своим центром живой, непрестанно обновляющийся процесс-отношение, она, застывая, превращается в мир Оно, в который лишь иногда вулканически прорываются пламенные деяния одиноких носителей духа. С этих пор обычная причинность, которая никогда раньше не могла быть препятствием духовной концепции космоса, вырастает в угнетающий, давящий рок. Мудрая судьба-мастер, господствовала над всякой причинностью, теперь превращается в абсурдный демонизм и сама погружается в причинность»[448]. В мир Оно, или согласно нашей терминологии в мир Иного превращается падшая квазиэвалюативная культура. Ее необходимо отличать от истинных и онтологически конструктивных форм культуры, которыми являются трансцендентная и эвалюативные культуры. К сожалению в связи с методологической неразработанностью онтологической структуры культуры, ее довольно часто редуцируют к квазиэвалюативной контркультуре, недокультуре. Когда Н.Бердяев говорит что культура есть великая неудача жизни, то не всегда при этом уточняет о какой онтологической форме культуры идет речь. Не уточняет о какой метаисторической форме культуры идет речь и Зиммель когда определяет ее в качестве постоянно сдерживаемого кризиса, кризиса собственной человеческой души[449]. Вполне справедливым является вывод одного из ведущих представителей “новой философии” Ж.-М.Бенуа о том, что основной темой современности является “финал гуманистической самомистификации и теологии Человека, это отклонение антропологического проекта в антропотеологию”[450]. Вину за греходадении необходимо возлагать не на культуру, которая является сердцевиной вселенского антропологического проекта, а на самого человека искажающего этот проект самообожествлением, что и вызывает дьявольскую по своему существу мутацию в самой культуре, возникновению квазиэвалюативной культуры.
Является ли квазиэвалюативная культура феноменом истории и можно ли саму историю рассматривать с квазиценностных позиций? Нет, решительно нет. Квазиэвалюативная культура ни к метаистории, ни к истории не имеет никакого отношения. Вернее она имеет к ним отношение, но не как их порождение, а лишь в связи с тем, что выступает инструментом искажения анропологического проекта, средством насилия не только над Богом, но и Человеком. Она аисторична, и полностью принадлежит историцизму Иного в Сущем. Все парадоксы шпенглеровской историософии возникают в связи с тем, что Всемирную Историю он соотносит с Культурой, а с ее антиподом – квазиэвалюативной контркультурой. Однако линия Данилевского - Шпенглера в деле построения глобальных культурологических концептуализаций истории несомненно должна быть продолжена, но на более широких метафизических основаниях - на методологических основаниях мировоззренческого субъектоцентризма.
3.3. Космологическая катастрофа
|
|
Первородный грех есть крушение духа, утвердившего себя не в Боге, а в самом себе. Оно замутнило поток ноосферы, воспрепятствовало ее движению вперед. Объяснить этот порыв назад, этот регресс, это отступление во тьму в рациональных терминах невозможно, здесь порог разума, край бездны. Мень Александр. Истоки религии. |
Изначально метаистория Абсолюта, связанная с онтологическим расширением Вселенной Духа, его перманентной субъективацией и объективацией и метаистория Человека, выполнявшая свою космологическую функцию составляли единый экзистенциальный процесс очеловечения Бога и обожения Человека. В целом это была абсолютная метаистория Сущего, так как оно было трансцендентно тождественным Неиному. Человеческая метаистория являлась интегральной частью метаистории Неиного, «подстилающей процессуальностью» для процесса перманентного “развертывания свернутостей” Ничто в Нечто. Человек осуществлял “обустройство” родового именитства не столько как особого ойкоса, сколько в качестве космологической обители Бога. Человеческая экзистенция была органически интегрированной в абсолютное Бытие или бытие Абсолюта и обладала признаками лишь относительной онтологической самодостаточности. Как существо порожденное Богом, в онтологическом плане, человек отнюдь не замыкался на своей инаковости или другости, так как мир его «внешних отношений» был трансцендентно изоморфен внутрисубъектным отношениям Неиного, т.е. был не феноменальным, а трансфеноменальным. Такое гармоническое соотношение двух форм субъектности в духовно опосредованном и гармонизированном мироздании в христианстве не случайно схватывается трансценденталиями Бог-отец и Бог-сын. В отличие от Бога-отца, который является Богом в его классическом понимании в качестве Абсолюта, Бог-сын, помимо трансцендентного тождества с ним, вмещает в Себя еще и Человека, т.е. оказывается Богом достроившим себя «до-низу» до человеческого существа, а потому в христианской мистике его именуют Богочеловеком. Бог и Человек составляют единое Богочеловечество лишь в онтологических рамках Неиного в Сущем. Отношения между Богом и Богочеловеком прекрасно передаются посредством мистической связи, которая изначально существует между отцом и сыном. В этой трансцендентной связке, отец не может стать сыном, но сын должен со временем стать отцом, чтобы не прервалась гармония жизни. Срохранение в Человеке богочеловечности, несмотря на перманентно расширяющующуюся его экзистенцию, являлось главным смыслом первичного осевого времени ноуменально-феноменальной метаистории.
Однако богочеловеческий синкретизм астрально-антропного субъекта, как свидетельствует книга Бытия мог существовать лишь в пределах райской жизни, т.е. в условиях строгого подчинения антропного модуса модусу астральному в этом ментальном симбиозе. Антропономия могла быть позитивной экзистенцией лишь будучи составной частью теономии. За пределами Неиного внутренние отношения Богочеловечества все более феноменализируются, становятся отношениями между ноуменальным Богом и феноменальным человеком отпавшим от Бога и все более укореняющемся в своем особом родовом именитстве. Богоборчество берет свое начало с того метаисторического момента когда низшее, антропное в экзистенции становится на путь обретения абсолютной автономии от сакрального. Антропная ипостась в Богочеловеке начинает изнутри разрушать первичную форму ментального симбиоза, репрессивно воздействовать на свою высшую сакральную субличность, превращаясь со временем в антропную форму теономии или в квазиантропономию. «Богоборческий выбор, - писал Даниил Андреев в «Розе Мира», - совершается не самою монадою, а низшим Я, душевным, ограниченным сознанием».[451] Результатом богоборчества становится то, что человек утрачивает качества целостной и универсальной Монады и из Богочеловека превращается в свою противоположность в Человекобога, Сын преодолевает в себе Отца, ценностным его устранением из сферы своего непосредственного и автономного существования. Не случайно Христос как ноуменально-феноменальный Богочеловек распинается квазифеноменальным родовым Человеком – Сверхчеловеком. Согласно фрейдистскому психоанализу, дитя человеческое с тем чтобы иметь возможность развиться в полноценного человека на этапе своей ранней социализации должен метафизически убить своего родного отца. Отцеубийство, согласно комплексу Эдипа, «открытого» З.Фрейдом, оказывается непременным условием нормального становления личности, именно он динамизирующим началом для всего культурно-цивилизационного комплекса открытого общества. Отныне и во веке веков, отпавший от Бога Человек, должен вступать в совокупное человечество не иначе как на пути решительного преодоления своих сыновних чувств к породившему его отцу, что позволяет ему быть предельно адаптивным к требованиям внешнего безличного мира. Именно это квазиценностное начало, «благоприобретенное» в момент грехопадения позволяет центрировать человеческую экзистенцию на собственно человеческом аспекте богочеловечности, конституировать в одностороннем порядке человеческую экзистенцию уже не столько в качестве онтологической автономии, сколько в качестве теономизированной автономии Сверхчеловека. «Грехопадение, - писал С.Н.Булгаков, - явилось величайшей религиозной катастрофой... Прямое и непосредственное богообщение, которое было уделом прародителей в раю, прервалось. Бог сделался далек миру и человеку ("трансцендентен"), и человек остался один, - своим собственным господином: "будете яко бози"»[452]. Человек начинает осознавать другого человека в качестве антропоморфного божества, перенося на него всю совокупность тех чувств, которые он ранее испытывал по отношению к Абсолюту. Итогом такого драматического поворота во взаимоотношениях между Богом и Человеком явилось то, что метаистория Человека все более становится историцистской, а метаистория Абсолюта начинает протекать не столь идеально и гармонично. В конечном счете астрально-антропный субъект распадается на астрального субъекта и антропного субъекта и последний начинает активно вытеснять первого из односторонне присвоенных им пределов Сущего. «Между тем, - писал Кант, - это движение, которое для рода является прогрессом, переходом от худшего к лучшему, не имеет того же значения для индивидума».[453] Прогресс культурной, родовой жизни человека начинает обеспечиваться регрессом в его жизни духовной, космологической. Категории «прогресс» и «регресс» суть категории метафизической феноменологии, они отнюдь не являются трансценденталиями мистики или универсалиями философии. Они могут быть полезны разве что для анализа степени исторической дивергированности двух форм человеческого существования: сакрального и десакрализированного, ноуменального и феноменального. Искусственно завышая гносеологический статус этих категорий, феноменология пытается использовать их для анализа актуализированного состояния трансцендентной сферы, что не может не вести к абсолютизации момента развития субъективаций (и объективаций) субъективного и релятивизации креационистско-эманирующего начала в становлении Сущего. Человек как феномен, как род несомненно «развивается», но не иначе как в пределах своей автоэманации в качестве становящегося ноумена. Лишь перманентно самопорождая себя в качестве индивидуальной монады, человек в состоянии столь же перманентно развиваться и как относительно автономное родовое существо. «По мере того как история рода идет вперед, - писал Кьеркегор, - индивид постоянно начинает заново».[454] С утратой же способности человека к самопорождению в качестве трансцендентной индивидуации, он все более впадает в зависимость от исторических закономерностей развития рода. Прогресс родовой жизни, как только она автономизировалась от жизни в Духе, вошла в явное противоречие со становлением трансцендентной и свободной человеческой индивидуальности. Для человека замкнувшегося в своем феноменальном именитстве Богом становится Прогресс родовой жизни, которому он отныне поклоняется как своему основному идолу. Таким образом идолократия зарождается с началом богоборческой активности родового человечества.
Своим отпадением от Бога и активной борьбой против Него за полную автономию своей родовой жизни, за абсолютную суверенность феноменального от трансцендентного в экзистенции, человек перестав ощущать себя Микротеосом и Микрокосмом, стал конституировать Себя в качестве потенциального вседержителя не им сотворенного Космоса. Но именно тогда, когда феноменальный человек посчитал Космос за внешнюю и чуждую его родовой экзистенции реальность, Космос перестал открываться человеку в качестве символической реальности, формируемой перманентной самосубъективацией Духа. Космос закрылся от феноменального человека, универсум внутрисубъектных отношений перестал быть внутренним состоянием человеческой ментальности. До отпадения Человека от Бога, Космос был некоей генерализированной самосубъективацией, поддерживавшей внутреннюю самотождественность Богочеловечества. Духовный космос был экзистенциально проницаем для самотрансцендирующего субъекта, интенционально «изнутри во-внутрь» человек восходил к своему абсолютному Началу, что делало его становление в качестве Иерархического Субъекта внутренне гармоничным. Отныне же душа мономорфного антропного субъекта, задвинувшего свое астральное Я в сферу бессознательного и трансцендентный Дух перестают быть сообщающимися экзистенциальными сосудами, ибо прекратила существовать между ними глубинная ментальная коммуникация, «сосуд» человеческой души оказался герметично закупоренным и все его незамысловатое содержание стало бурлить вокруг «точки кипения», каковой оказывается секуляризированная антропономия. Космос как промежуточная онтология между Трансценденцией Бога и Экзистенцией Человека перестает существовать для Человека в качестве его собственной ноуменальной субъективации и его же интенциональные проекции на космологическое пространство все более оборачиваются внешней Природой. Утратив в глазах человека свою сокровенность, космос приглушил свою былую откровенность. «Совершенно неверно и поверхностно, - писал Н.Бердяев, - делать противоположение между Духом и космосом, между духовным и космическим откровением. В Духе заключен весь космос, все творение, и только в нем есть космос, его нет в природном и феноменальном мире, в котором происходят процессы разложения космоса. Духовное откровение должно быть также откровением космическим, откровением тайны творения».[455] С момента грехопадения, квазиродовая экзистенция начинает осознаваться одновременно и как человеческая сущность природы и как природная сущность человека. Отныне духовному космосу в нем места больше нет. Космос конституированный антропным сознанием в качестве внешней Природы уже не мог восприниматься как самосубъективация Духа, отныне он мог рассматриваться лишь в качестве субъективации родового человека и не иначе как в качестве кладовой полезностей, способной удовлетворять опосредованные культурой витальные потребности родового человека. Падший человек мог иметь дело лишь с духами падшей природы, но отнюдь не с одухотворенным Космосом или космологическим Духом. Не случайно, Н.Бердяев называл необходимость, законам которой подчиняется феноменальная природа, падшей свободой.
Итак, основным содержанием космологической катастрофы явилось разрушение духовного Космоса или космоса Духа. Разрушая космический универсум, человек тем самым разрушал в себе астральное Я, существование которого в ментальности свидетельствовало о том, что развиваясь в качестве Феномена, он все еще продолжал оставаться Ноуменом. Космологическое саморазрушение и самоотчуждение человека не могло не привести к утрате им своего сакрально-космологического статуса, которым он поступился в пользу развития своей антропности в квазицелостную человечность. «Бог и только Бог, - писал Шелер, - может быть вершиной ступенчатого пирамидального строения царства того, что достойно любви, истоком и целью целого одновременно».[456] Как только человек принял самовластное решение занять вершину вселенской пирамиды, так в одночасье она утратила свою былую трансцендентную монадность, превратилась в крайне неустойчивую онтологическую квазицелостность. Эта катастрофа произошла в самом эпицентре Духа, что привело к смещению онтологической оси Мира с экзистенции ноуменального Космоса (тео-космоцентризм) на псевдоэкзистенцию квазифеноменального Человека (антропоцентризм). В связи с тем, что Человек своим отпадением от Абсолюта нарушил процесс развертывания предустановленной гармонии Сущего и в реальной действительности помимо Неиного стало укореняться Иное или упорядоченные структуры Хаоса. Множественное в которое разворачивается Единое перестает быть Ему трансцендентно тождественным, все более модифицируется в Великую Эклектику Сущего, вмещающую в себя «дурную бесконечность» онтологических, семантических и ментальных форм, связанных в псевдоцелостность «квазиантропным принципом». Множественность мира все более модифицируется в онтологическое многообразие, плюральность слабо согласованных между собой форм бытия, которую удерживает от окончательного самораспада лишь символическое присутствие Неиного в Сущем. “Какую, повторяем, иную причину мы придумаем для такого разнообразия мира, - писал Ориген, - как не различие и разнообразие движений и падений существ, отпадших от такого первоначального единства и согласия, в каком они были сотворены Богом? Действительно, не то ли послужило причиной разнообразия мира, что существа, возмутившись и уклонившись из первоначального состояния блаженства и будучи возбуждены различными душевными движениями и желаниями, превратили единое и нераздельное добро своей природы в разнообразные духовные качества, соответственно различию своего намерения?.. Единая сила связывает и содержит все разнообразие мира и из различных движений образует одно целое; иначе столь великое мировое дело распалось бы вследствие разногласия душ”.[457] И когда на исходе нынешнего тысячелетия плюральность становится чуть ли главным метафизическим критерием прогрессивного развития человечества, то это весьма тревожный признак того, что наступает эпоха восхождения еще более низшей онтологии, нежели та которая является доминирующей в современной экзистенции.
Космологическая катастрофа завершается насильственным установлением человеческих порядков в сакральном космосе. “Бессильный Бог” в результате переворота в экзистенциальной иерархии замещается “Сильным Человеком”. Этот переворот оказывается не только метафизическим, но и “физическим”. Пирамида мира переворачивается “с головы на ноги”, в результате такой онтологической метаморфозы, феноменальный низ становится трансцендентным верхом и наоборот. Но если “верховная трансцендентность” в состоянии была ненасильственно править “понизовой феноменальностью”, то в этой перевернутой иерархии экзистенциальная псевдоцелостность могла уже сплачиваться лишь массированным насилием идущем как бы “сверху вниз”. Видимо феномен “воли к власти” обусловлен наличием в человеческой общности подобного рода онтологических перевертышей. Властная экстенция всегда направлена извне во-во внутрь, исходит от низших и поверхностных слоев Я к высшим уровням ментальности, она в принципе не может быть спонтанной и интенциональной, связанной с креативной деятельностью “внутреннего человека”. Особую тоталитарность “воля к власти” обретает в абсолютно перевернутых онтологических пирамидах, когда по принципу “кто был ничем, тот станет всем”, универсум начинает насильственно упорядочиваться под приоритеты насыщения самых низших человеческих потребностей. Власть отличается от со-дружества прежде всего тем, что она по существу своему преступна, так как в ее основе всегда лежит пре-ступление, пере-ступление через известные экзистенциальные приоритеты посредством пере-ворачивания пирамиды связей и отношений, обусловленное необходимостью революционного восхождения низших экзистенциалов и вытеснения ими экзистенциалов высших, отныне не вписывающихся в “новый порядок” жизни. “Получивши место и должность начальств, или властей, или управителей тьмы мирской, или духов непотребства, или духов злобы, или нечистых демонов, - учил Ориген, - все они имеют эти должности не субстанциально и не потому, что сотворены такими; напротив, они получили все эти степени за свои побуждения и те преуспеяния, которых они достигли в преступлении”.[458] Человек преступив черту, отделявшую его как Феномена от его самого как Ноумена, осуществив экзистенциальный переворот в Мироздании уже не мог, подобно любому преступнику-маньяку не наращивать объем и мощь самонасилия, по своему компенсируя отсутствие продуктивной душевности, восходящей к “нищете духа”. Человеческая история, если ее рассматривать сугубо рационально, игнорируя позитивное на нее воздействие со стороны метаистории Духа, есть история преступлений против человечности, история тотального насилия человека над человеком, не случайно именно насилие конституируется историцистским сознанием в качестве “повивальной бабки истории”. «История, - писал Н.Бердяев, - была преступна, она осуществлялась в насилиях и крови и не обнаруживала никакой склонности щадить человека, она раздавливала человека. Гегелевская хитрость разума пользовалась людьми и народами для осуществления своих целей»[459]. Однако известная бесчеловечность собственно человеческой истории на протяжении тысячелетий существенно смягчалась вмешательством Провидения, метаисторическим контекстом трансцендентного становления Неиного в Сущем.
И все-таки начиная с первого осевого времени “безвольное ноуменальное начало” начинает активно замещаться “волющей феноменальностью”, с насильственным устранением Бога из своей обособившейся экзистенции, человек вместо “воли к жизни”, обрел “волю к власти над жизнью”. “Если мертв Бог и мертвы Боги..., - пишет М.Хайдеггер, - если воля к власти сознательно волится как принцип любого полагания условий сущего, то есть как принцип ценностного полагания условий сущего, то тогда господство над сущим как таковым в обличьи господства над землею переходит к новому волению человека, к волению, которое определяется волей к власти»[460]. Активно самоактуализирующийся человек, однако утративший способность к креативной самотрансценденции становится злым гением, разрушающим трансцендентные основы Мироздания. Его «воля к власти над жизнью» становится источником вселенской деструктивности.
Космологическая катастрофа для человечества имела ряд важнейших онтологических, семантических и ментальных последствий.
Семантическая составляющая космологической катастрофы. Семантичестими рамками родового существования человека являются эвалюативные значения или ценности культуры. Для человека, автономизировавшемся в своем родовом именитстве, навсегда закрывается символическая Реальность или реальность Символа. Если “вначале было слово, и слово было у Бога, и словом был Бог”, то в конце осевого времени символическое Слово утрачивает свою сакральность, целостность и универсальность и распадается на совокупность ценностных значений, которые в качестве Речи, принадлежат уже «говорливому» Человеку («Слова, слова, слова» – Гамлет), но уже отнюдь не вечно «молчаливому» Богу, в глубокомысленном молчании которого всегда для человека открывалась бездна символических смыслов, задающих содержание и направленность метаисторического движения экзистенции.
Вслед за Лессингом, Шеллинг исходил из предположения, что разложение единого понятия возникло в связи с тем, что в результате перехода во Множественное Бог различными своими ликами одновременно обращен был к различным своим актуализированным обличиям. Естественно, что каждый из таких возможных ликов божества начинает обозначаться особым именем. С течением времени подобные имена, число которых легион, становятся именами отдельных божеств. Расхождение во множественность имен послужило прелюдией к реальному расхождению[461]. Сакрализация отдельных имен-ценностей в контексте десакрализации единого апофатического Слова-Символа становится внутренней причиной семантической катастрофы. Мудрость, присущая лишь молчаливому Богу, в одностороннем порядке присваивается излишне говорливым человеком, что не могло не объективироваться в безумие Мира или мировое Безумие. «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как писано: уловляет мудрых в лукавстве их (1 Кор 3, 19)». С заменной символической реальности ценностно оформленным бытием, явилось катастрофой для самой человеческой экзистенции. «Когда символика, - писал Н.Бердяев, - перестает выражать события духовного мира, когда в символах уже не присутствует энергия духа, тогда символика разлагается, тогда происходят катастрофы, старый лад рушится»[462]. Человек начинает все более утрачивать всеобщий символический язык глубинного общения с Самим Собой как Ноуменом, однако обретает способность вступать в субъектно-субъектное общение, ценностным инвариантом которого становится общечеловеческий язык, содержащий уже не только эвалюативные и квазиэвалюативные или псевдотрансцендентные значения. Не вся совокупность содержащихся в антропном сознании «символов» имеет отношение к сакральным, трансцендентным значениям. То же самое можно сказать и о символах циркулирующих в специализированных формах сознания, особенно в науках о человеке и обществе. Не вся совокупность содержащихся в литературе суждений по поводу трансценденталии «символ» на самом деле имеет к ней какое-либо отношение. Чаще всего здесь мы сталкиваемся, как ни в какой иной сфере, с созданием многочисленных квазификций, которые, будучи запущенными в «семантический оборот», начинают расширенно воспроизводить особо ложные образы сущего, и тогда мифологема с неизбежностью трансформируется в идеологему. «Чтобы заставить людей принять официальные ценности, - пишет Ф.А.Хайек, - их надо обосновать, то есть показать их связь с другими, очевидными ценностями, а для этого нужны суждения о причинной зависимости между средствами и целями… Чтобы люди действительно принимали ценности, которым они должны беззаветно служить, лучше всего убедить их, что это те самые ценности, которых они (по крайней мере самые достойные из них) придерживались всегда, только до сих пор интерпретация этих ценностей была неверной. Тогда они начнут поклоняться новым богам в уверенности, что новый культ отвечает их чаяниям – тому, что они смутно чувствовали сами. В такой ситуации самый простой и эффективный прием – использовать старые слова в новых значениях»[463].
Для того, чтобы все же исследовать «трасценденталию», а не категоризировать фикции квазирациональных дискурсов, исследователь начальной стадии человеческой истории должен пользоваться особо отточенной «бритвой Оккама», с тем, чтобы с позиции предельно жестких критериев осуществлять фальсификацию отобранных для анализа представлений, извлеченных из конкурирующих между собой школ. С обособлением ценностных значений от символов и стоящей за ними символической реальности возникает полное непонимание между господствующим в сообществе антропным субъектом и реликтовым астральным субъектом, так как слова, которыми они пользуются казалось бы одни, но содержащиеся в них значения оказываются совершенно иными, они не могут друг друга понять, так как обладают совершенно противоположными образами мира.
Каким образом возможно вхождение во внутренний космос астрального субъекта субъекту антропному, чей внутренний мир уже не духовный, а ценностный, культурно опосредованный? Культура диалогична, человек в ней ценностно противостоит другому одновременно и в качестве вопрошающего и в качестве ответствующего субъекта. Самоактуализирующиеся друг в друге антропные субъекты находятся в перманентном диалоге, в процессе которого расширенно воспроизводятся общечеловеческие ценности. Вне диалогической формы общения не может развиваться родовая культура. Напротив, астральный субъект сущностно монологичен, а потому воспринимается антропным субъектом в качестве существа безмолвного, не способного нести в себе молву о сущем, насущную молву. Самотрансцендирующее существо - это самоинтерпретирующийся Миф, содержанием которого есть Ничто, Пустота. В символической форме именитства имплицитно содержится "технология" распаковывания его пустотного содержания, некий "алгоритм" автоэволюции, ее общие этапы и контуры. Символическая форма именитства или протоименитство поддается самоинтерпретации лишь в "пределах" ментальной пустотности. И, действительно астральный субъект вопрошает только самого себя и самому же себе ответствует, его интенции идут «изнутри во внутрь», давая ему возможность мистического приобщения к целостности космического универсума, это особый диалог, сторонами которого выступают абсолютная и именная форма символа, то есть сам символ (трансцендентные значения) и имплицитно содержащаяся в нем абсолютная ценность (трансцендентная ценность). Это если можно так выразиться «монологическая форма диалога», реликтом которого у современного человека является «внутренняя неслышимая речь». Монолог астрального субъекта внутренне диалогичен, так как это извечный диалог между Богом и Человеком, между Духом и душой, который не может быть вынесен за пределы Самости, не может быть достоянием Другого. Это "монологический диалог" между «внутренним» и «внешним» человеком в Человеке, до распадения целостной ментальности на Я и Ты. "Внешний человек" в ментальном пространстве астрального субъекта вопрошает и именитствует, а "внутренний человек" ответствует и инверсирует.
Глубинный диалог возможен лишь между Неиным в Человеке с Неиным в Мире, конструктивный диалог возможен не между феноменальностями, а между трансцендентностями в Экзистенции. Эта форма диалога есть отнюдь не есть следствие ценностной объективации субъектно-субъектных отношений, отношений общения, она имманентна символической субъективация внутрисубъектных отношений, внутренних отношений Духа. “Глубинное общение” - это производная от самокреации, самотрансценденции, оно никакого отношения не имеет к общению между Я и Ты, а восходит к первозданной самосубъективации трансцендентного Я. "Монологический диалог" для внешнего наблюдателя, помещенного в эпистемологическое пространство диалогической культуры воспринимается абсолютной немотой, абсолютным безмолвием, автомонологом вечности. Диалог между астральным и антропным субъектом невозможен, в ценностных пределах культуры потому, что астральный субъект еще не распаковал свою ментальность до антропных форм, в апофатической же беспредельности символического культа он тем более невозможен, так как антропный субъект утратил свою астральность и имманентный ей язык первичных символов. «Язык – писал Шеллинг, - это лишь стершаяся мифология, его абстрактные и формальные различия сохраняют то, что мифология сохраняет в различениях живых и конкретных»[464]. Лишь погрузившись в свое символическое бессознательное, в котором хранится абсолютный миф-архетип, человек культуры в состоянии понять человека, укорененного в изначальную целостность бытия. Ценностное самосознание как «стершаяся мифология» должна вновь реинтегрироваться в абсолютную мифологию и тогда раскроются глубинные и ценностно непостижимые первознаки своей-чужой души.
Десимволизация трансцендентных ценностей и их перевод в собственно ценности культуры ведет к существенной деформации первичных символических значений. Ценностное содержание именитства антропного субъекта поддается лишь внешней интерпретации со стороны другого именитствующего субъекта в едином для них акте самоактуализации, но они не в состоянии с позиции своих антропных Я самотрансцендироваться друг в друге. Если антропный субъект пожелает оказаться в ментальном пространстве утраченного им космоса, прежде всего он должен попытаться его реконструировать в пределах собственной ментальности. Лишь тогда в нем самом приоткроется свое собственное сокровенное, идентичное сакрально-сокровенному астрального субъекта, экзистенцию которого он стремится понять изнутри. Для того, чтобы человек культуры вновь обрел способность к символической самоинтерпретации, ему необходимо оказаться в ситуации полной онтологической неопределенности и не только выжить в ней, но и интенциально ее воспроизвести. Однако особой потребности в самотрансценденции у него быть не может, а потому актуализируя неактуализируемое - астральную форму экзистенции - он сам того не осознавая умерщвляет ее.
В настоящее время реликтовые астральные субъекты доживают свой век в местах, куда были вытеснены в эпоху бурного историцистского становления антропных субъектов, их местами обитания на Земле пока что остаются холодное Приполярье, непроходимые сельва Южной Америки и джунгли Африки. Но как только появляются в этих краях носители антропной культуры их существование в духовном космосе оказывается под угрозой. Величайшей космологической трагедией стало исчезновение древнейших трансцендентных культур, которые основывались на неявных символических ценностях, трансцендентных ценностях. “Осевое время, - считает Л.Ясперс, - знаменует собой исчезновение великих культур древности, существовавших тысячелетиями. Оно растворяет их, вбирает их в себя, предоставляет им гибнуть - независимо от того, является ли носителем нового народ древней культуры или другие народы”.[465] Именно в это первое осевое время берут свое начало эвалюативные культуры, которые по мере того как исчерпывают собственно человеческие смыслы существования оборачиваются квазикультурами, активно противостоящими не только сакральному, но и человеческому в человеке, подготавливая тем самым кризис гуманизма. Культура «оставляет после себя пустыню»[466] как только отпадая от духовного начала, реформирует мир на так называемых гуманистических принципах. В первом осевом времени складывается экзистенциально-культурный параллелизм, человеческая экзистенция и система культуры по отношению друг к другу оказываются настолько гомоморфными, что порой человек утрачивает грань между самобытием и теми ценностными формами в которые оно отливается. Только в осевое время, считал К.Ясперс, существовал параллелизм в целостности культур, а не простое совпадение единичных явлений. Параллелизм находит здесь свое выражение в поразительно стабильных условиях, аналогичным образом восстанавливающихся после разрушительных катастроф. Это - мир, составляющий промежуточное звено между едва доступной нашему взору доисторией и той стадией истории, которая уже не допускает духовной стабильности; мир, который стал основой осевого времени, но обрел свою гибель в нем и из-за него.[467] Начиная с первого осевого времени мир ценностных артефактов начинает активно противостоять реликтовым ареалам символически оформленных ментальных монад, вытесняя их на периферию родового именитства, обрекая на вымирание в чуждых для них пределах человеческого универсума. Именно в первое осевое время всеобъемлющая символическая реальность, в которой изначально был укоренен человек обернулась для него ценностным бытием, вселенский онтологический статус человека оказался на порядок ниже, в связи с тем, что человек «сбросил» с себя бремя символической Свободы или свободы Символа. «Бытие стало ценностью. – писал Хайдеггер. - Установление стойкого постоянства состава - это необходимое, полагаемое самой волей к власти условие обеспечения самой себя. Однако можно ли давать бытию большую цену, нежели возвышая его в ранг ценности? Но только бытие, пока возводится оно в достоинство ценности, уже снижено до уровня всего лишь условия, полагаемого самой же волей к власти. Еще прежде того лишено достоинства своей сущности само же бытие - постольку, поскольку ему вообще дают цену и так возводят в достоинство. Если на бытии сущего ставят печать ценности и если тем самым предрешают его сущность, то тогда в рамках такой метафизики, а это значит - в рамках истины сущего как такового, постоянно и всегда, пока только длится эта эпоха, всякий путь к постижению бытия совершенно стерт»[468].
Символическое бытие модернизированное человеком в бытие сверхценностное становится воистину обителью дьявола. Первой исторической формой геноцида был культурно обусловленный космоцид. Культурно-экзистенциальный параллелизм не мог позволить, чтобы «параллельно» с ним в иерархической человеческой экзистенции продолжал существовать еще и трансцендентно-символический параллелизм
Онтологическая составляющая космологической катастрофы. Противостояние человеческого сакральному в экзистенции повлекло за собой нарушение сбалансированности в двух формах бытия: астральном само-бытии и антропном со-бытии. Свободное самобытие в этой квазиантропологической ситуации оказалось отчужденным в пользу добродетельного события, а внутрисубъектные отношения первого подвернуты под приоритеты развертывания субъектно-субъектных отношений второго. Онтологическая сущность космологической катастрофы заключается в том, что трансцендентная свобода замещается первой формой необходимости, какой является феноменальное добро. Трем формам ценностей культуры соответствуют три онтологические формы добродеяния. Абсолютным трансцендентным ценностям соответствует абсолютное или свободное добро («добро ради свободы»), феноменальным эвалюативным ценностям – феноменальное добро («добро ради добра») и квазиэвалюативным ценностям – квазифеноменальное добро («свобода ради добра») или абсолютное зло. Космологическая катастрофа начинается с отпадения антропного добра от породившей его астральной свободы и его активного противостояния ей. Человек попадая в зависимость к другому человеку вынужден согласовывать свои деяния с так называемой «мерной свободой», т.е. свободой, к которой прикладываются так называемые добродетельные мерки. Делиберализованное добро есть следствие десакрализированной человечности, а потому не может не порождать свое иное – антилиберальное зло, т.е. зло направленное против свободы Духа. Обособившееся от свободы добродеяние есть падшее добро и степень его падения коррелирует со степенью присутствия Иного в Сущем, то есть с силами зла. Добро модифицируется в зло как только противополагает себя свободе. Серафим Соровский проповедовал что "собственная воля наша научает делать все в услаждение нашим похотям, а то и, как враг научает, творить добро ради добра, не обращая внимания на благодать, им приобретаемую... воля Божия и всеспасительная - в том только и состоит, чтобы делать добро единственно лишь для стяжания Духа Святого как сокровища вечного, неоскудеваемого и ничем вполне и достойно оцениваться не могущего".[469] С возрастанием степени зависимости человека от человека нарастает и объем того злодеяния, которое совершается в родовом универсуме по отношению к свободным людям, своей укорененностью в космосе препятствующими прогрессу корпоративного добродеяния.
Добродеяние, противостоящее трансцендентной свободе, ограничивающее креативные проявления духа лишь рамками производства благ потребления, и есть антропная форма злодеяния. Особо зловещий характер антилиберальным добродетелям придает то, что они оказываются инструментами власти и господства Человека-Феномена над Человеком-Ноуменом. Основательную критику квазифеноменальной формы добродетели дал Ницше в своей «Воли к власти». Добродетели столь же опасны, считает он, сколь и пороки, поскольку мы допускаем, чтобы они властвовали над нами извне в качестве авторитета и закона, а не порождаем их, как надлежало бы, сначала из самих себя, как нашу потребность, как условие именно нашего существования и роста. Господство добродетели может быть достигнуто только с помощью тех же средств, которыми вообще достигают господства, и, во всяком случае, не посредством добродетели. Добродетельный человек уже потому низший вид человека, полагает Ницше, что он не представляет собой "личности", а получает свою ценность благодаря тому, что он отвечает известной схеме человека, которая выработана раз и навсегда. Он есть «средний человек» и не должен быть единичным. «Кому добродетель достается легко, - пишет Ницше, - тот даже смеется над ней. В добродетели невозможно сохранить серьезность: достигнувшие, сейчас же спешат прыгнуть дальше - куда? В чертовщину».[470] Если существа свободные хотя и «нищие духом» обладают всей полнотой духовного богатства в лице «царствия небесного», то добродетельные существа, обособившиеся от благодати, но «богатые благами» влачат, как правило, жалкую бездуховную жизнь, однако «они не ведают что творят», а потому и полагают свою жизнь вполней достойной.
Зло, как онтологическая форма Иного в человеческом универсуме, появляется не иначе в результате абсолютизации релятивного и феноменального добра, связывающего антропных субъектов в квазичеловеческий универсум. Преодолеть вечно совершающуюся инверсию релятивного «добра ради добра» в абсолютное зло можно лишь водворением добра под сакральную юрисдикцию свободы – «добро ради свободы». «Раз приходится выбирать между добром и злом, - писал Шестов, - это значит, что свобода уже утрачена: зло пришло в мир и стало наряду с божественным... У человека есть, должна быть неизмеримо большая, качественно иная свобода: не выбирать между добром и злом, а избавить мир от зла. Ко злу у человека не может быть никакого отношения: пока зло существует, нет свободы, и все, что люди до сих пор называли свободой, было иллюзией, обманом. Свобода не выбирает между злом и добром: она истребляет зло, превращает его в ничто».[471] Однако свобода не может силой уничтожить зло, так как, во-первых, она не есть какая-либо сила, напротив, она есть «апофатическая слабость», способная осуществлять спонтанное и ненасильственное порождение целой иерархии форм бытия с их сущностными силами, но отнюдь не насильственно им противополагать себя и реформировать их. Кьеркегор утверждал, что противоположностью свободы является не необходимость, а вина и если вина действительно полагается, то свобода полагает ее через самое себя. «Если на это не обращают внимания, - пишет он, - значит, свобода неким остроумным образом смешивается с чем-то совсем иным, то есть с силой»[472]. Наделив свободу силой и тем самым отождествив ее с волей, свободу в конце концов сводят к познанной необходимости, что позволяет снимать со свое-вольного субъекта вину за последствия насильственного воплощения в жизнь либеральных идей. Во-вторых, зло как и добро находятся за онтологическими пределами собственно духовной свободы. Этот довольно сложный и запутанный вопрос, как известно, пытались решить за счет придания феномену «добро» тех предикатов, которыми характеризуется ее противоположность – «зло», т.е. наделить добро «положительной силой», которая в состоянии бороться с «отрицательной силой». Однако на практике «добро с кулаками» всегда оборачивается насилием, приумножающим силы зла. Насильственное добродеяние и есть высшая форма зла, так как «благими пожеланиями мостится дорога в ад». Непротивление злу силою есть отнюдь не антропный, а сакральный принцип. В пределах человеческого универсума этот принцип реализуем лишь в той мере в какой человеческий универсум продолжает оставаться онтологической вложенностью космического универсума, в котором «господствует» свобода и абсолютное добро. В первичной форме Духа этот принцип вообще не работает, так как в связи с отсутствием в свободной трансценденции не только явных форм добра, но и зла, отсутствует и «борьба» между ними. В ситуации отпадения родового именитства от символической реальности в нем начинает безраздельно господствовать «феноменальное добро» и его порождение «феноменальное зло», при этом борьба добра активно противостоящего свободе со своей «противоположностью» – злом - оказывается крайне бесперспективной, в виду того, что антропная форма несвободы в состоянии лишь вести к смене одной системы зла, другой, еще более жесткой и жестокой, т.е. вести к еще большему сужению сферы свободы в человеческой экзистенции («хотели как лучше, а получилось как всегда». Несомненно проблема эта должна быть переформулирована таким образом, чтобы можно было выйти за дихотомию добра и зла и чтобы она непременно исходила из признания онтологического примата свободы над добром. В онтологии свободного человека нет и быть не может ни радикального добра, ни радикального зла, тем более противостояния между ними, чреватого вселенской катастрофы. Свободный человек всегда находится по ту сторону добра и зла, но таковым может быть лишь астральный субъект. Каков же выход для астрально-антропного субъекта, стоящего одной ногой по ту, а другого – по эту сторону добра и зла? Но кто сказал, что по эту сторону от сакральной свободы зло непременно должно своим насилием дополнять силу добра. Такое возможно лишь в ситуации когда астрально-антропный ментальный симбиоз распадается на двух противопологающих себя друг другу субъектов: астрального и антропного. Именно антропный субъект в своем обособлении кумулирует силы добра таким образом, что они оказываются направленными против бессильной свободы астрального субъекта, что и трансформируетих в силы зла. Таким образом проблема борьбы добра со злом не имеет экзистенциального смысла если не связана с возрождением человека в свободе духа.
Онтологическая сторона космологической катастрофы заключается еще и в том, что человек, в основном, перестает быть самотрансцендирующим, трансцендирующим свою собственную самость существом и все более превращается в субъекта гиперактуализирующего чужую, а затем и чуждую ему самость.
Внутрисубъектные отношения, как мы выяснили ранее, есть отношения Субъекта к самому Себе или внутренние отношения Самобытия. В абсолютной Реальности или реальности Абсолюта Субъект един в своей Бесконечности и бесконечен в своем Единстве. Не случайно Абсолют или Бесконечный Субъект в неоплатонизме именуется "Единый". Каждый из людей в сфере трансцендентных отношений с Самим Собой является Абсолютом в «беспредельных пределах» собственного Самобытия. Это глубинные, апофатические отношения Свободы Духа в пустотной беспредельности которой Единый эманирует во Множественное, осуществляя перманентную самокреацию, самопорождение. В реальности внутрисубъектных отношений перманентно и расширенно воспроизводится весь духовный Космос, в связи с чем предельная форма субъективности и называется Микрокосмом, укорененным в свою собственную овнешненную субъективацию - Макрокосм. Самобытие Человека как Единого одновременно есть онтология и очеловеченного Космоса и космизированного Человека. «Внешний космос» космоантропологичен, а «внутренний космос» антропокосмичен и они составляют собой трансцендентную целостность Неиного. Когда же неявный синкретичный космоантропологизм начинает структурироваться, самопроявляться в сложно построенную иерархизированную онтологию, из него вычленяется и обосабливается от космического универсума явная антропная форма бытия – человеческий универсум, событие начинает дивергировать от самобытия, а субъектно-субъектные отношения от отношений внутрисубъектных. Процесс очеловечения человека, его антропогенезис, при этом обретает явно выраженные гипертрофированные формы.
Бытие человека как феномена-антропоса - это уже совершенно иной экзистенциальный слой Мироздания, имеющий свою особую, внесимволическую, ценностную определенность. Здесь уже человек является не Микрокосмом, а целостным родовым субъектом и его самотождественность носит уже отнюдь не ноуменальный, а феноменальный характер. Субъектно-субъектные отношения - это такие отношения, когда другая моя ипостась автономизируется от меня и начинает обладать таким же онтологическим статусом как и мое Я, то есть общеродовым статусом. В древние времена, утверждал Платон, люди рождались взаи-модополнительными и совершенно неразделенными парами, а потому жили единой жизнью. Они были столь взаимодополнительными половинками единой экзистенциальной целостности, что совершенно забыли о породившем их Боге. Разгневавшись за это, Бог расчленил эти взаимообусловленные половинки на относительно самостоятельные целостности и разбросал их по белу свету. С тех пор люди только то и делают, что ищут свою разделенную половинку, чтобы обрести с ней "неразделенную любовь". Если человек так и не встречает свою половинку, то тогда навсегда остается наедине с самим собой, то есть остается Богом. Может от того творческие индивидуальности столь одиноки. У них второе Я - общечеловеческое - так и остается неразвернутым. Творцам не до человечества, не до людей, вся их жизнь перманентное самопорождение в духе.
В пределах родовых субъектно-субъектных отношений человек не может конституировать себя в качестве Единого, его прежняя ментальная целостность раздваивается на две половинки и лишь в рамках складывающейся антропной диады, эти «нецелостные целостности» в состоянии образовывать собой «ячейку» единой родовой целостности. С утратой статуса Единого, Человек может лишь тогда осознавать себя в качестве феноменального существа, когда в пределах родового Именитства ему противостоит Другой такой же как и он феноменальный Человек, а границы его удвоенного бытия или со-бытия составляет система их субъектно-субъектных взаимозависимостей, отношений "Я - Ты". С утратой космологической само-идентичности самость Я в состоянии осознавать свою антропную идентичность лишь в процессе само-актуализации в самости Ты, за пределами же туистических отношений антропного субъекта существовать в связи с утратой своей трансцендентной монадности не в состоянии. «Возникаю я, - пишет С.Л.Франк, - в качестве «я» – одновременно с «ты», как член одновременно с этим конституирующего единства «мы»».[473] Таким образом, человеческий универсум берет свое начало с трансформации само-бытия в со-бытие, когда индивидуализированное бытие Единого становится совместным бытием Двоих. Их уже объединяют не внутренние отношения трансцендентного Единого, а внешние по отношению к Нему связи двоих - Я и Ты, которые внутренними и системообразующими оказываются лишь для человеческого универсума как интегральной совокупности антропных диад.
Как только человеческий универсум начинает дивергировать от универсума космического, так сразу же возникает напряженность между самобытием и событием, между внутрисубъектными и субъектно-субъектными отношениями. В системе антропных отношений двоих, внутрисубъектные связи каждого из них, т.е. их трансцендентные связи с Богом, оказываются избыточными, в взаимотношениях Двоих Единый становится «третьим лишним», а потому активно вытесняться за пределы туистических отношений. Интересно, что лишь став Третьим в антропной иерархии, Бог как Единый получает пресловутое наименование — «Другой», конституируется антропным сознанием в качестве по качеству своей духовной субстанции существа сугубо внешнего и объективизированного. Бог вытесненный из глубин человеческой души антропным самосознанием конституируется в качестве «Объективного Духа», т.е. Духа, чье существование лежит не только за пределами человеческой субъективности, но и принадлежащему к универсуму объектов, миру субстанций. Такой «Объективный Бог», действительно имеет довольно косвенное отношение и к Я и к Ты, тем более что по своей объективированной природе он к тому же оказывается весьма чужеродным субъективированной природе «чистого антропоса». Не здесь ли уже нужно отыскивать историцистские корни а-теизма, отрицания существования Бога и антропо-теизма – веру в Сверхчеловека. Теизм как вера в Бога замещается антропотеизмом - верой в Человека, однако последняя мере того как человек все более разуверяется в самом себе, осознавая свою абсолютную беспочвенность за пределами Абсолюта, модифицируется в полное безверие - в атеизм, который становится идеологическим основанием нигилизма. «Антропотеизм, - писал С.Н.Булгаков, - в качестве вывода из атеизма содержит в себе внутреннее противоречие, ибо относительно частностей утверждает то, что отрицает в общем и целом, именно, уничтожая Бога, стремится сохранить божественное, святыню. Внутренняя и необходимая диалектика атеизма ведет поэтому от антропотеизма к религиозному нигилизму, к отрицанию всякой святыни, всякой ценности или, что то же, к возведению факта, потому только, что он - факт, в ранг высшей ценности, и приданию религиозного значения факту как таковому».[474]
Итак, Единый конституировавшийся антропным сознанием в качестве Другого перестает непосредственно присутствовать в экзистенции Я и Ты как Неиное и его место в человеческих душах начинает активно занимать Иное. Чем более интенсифицируются субъектно-субъектные отношения в ущерб внутрисубъектным связям, тем более каждый из членов антропной диады, из ноуменально Единого превращается в феноменально Единственного и отношения между этими в своем роде «единственными» половинками, становятся все более эго-истичными. Эгоизм – это и есть крайнее выражение одностороннего самоконституирования антропной половинки себя в качестве не только Единого, но и Единственного человеческого существа, что возможно лишь за счет абсолютного вытеснения последних следов сакрального из экзистенции само-иментствующего ничтожества. И отнюдь не случайно М.Штирнер в своем «Единственном» постулирует: «Все святое (всякая святыня) - оковы, цепи».[475] Частичка Множественного, в которое развертывается Единый, конституируя свою самость в качестве Единственной субстанции, солипсически устраняет мироздание, превращая со-бытие в одномерное бытие своего «единственного единого», бросающему вызов трансцендентному Единому, который воспринимается уже не только как Другой, чреватый положительной дружественностью, но и как индифферентный Посторонний. Другой и есть Единый, ставший Единственным «в своем роде», превратившийся в центр человеческого рода, вы-род-ившегося в антропную форму Ничтожества. В результате космологической катастрофы происходит отрицательная инверсия в трансцендентном Я человеческой ментальности, Единственный становится Иным по отношению к Неиному, то есть Дугим, но эту свою «другость» он приписывает Единому. Определяя Неиное в качестве Другого человек самовластно сакрализирует Иное в Сущем, персонифицируя его в качестве Сверхчеловека. Но Сверхчеловек и есть Человекозверь, т.е. существо окончательно утратившее в себе Образ и Подобие Бога. «Человекозверь беспощадно душит человека - и в обыденной срединности и непритязательности, и на вершинах, где он мнит себя уже человекобогом».[476]
Отношения Я-Ты, внутрисубъектные отношения, могут быть экзистенциально уравновешенными, если восходят к отношениям Я-Я, внутрисубъектным отношениям иначе, как это блестяще показали Мартин Бубур и С.Л.Франк они имеют тенденцию вырождаться в отношения Ты-Ты и даже в Оно-Оно, то есть в такие отношения в которых человек утрачивает свою самость или, точнее «присваивает» ее в качестве «объективного духа» в предельно отчужденной форме. С.Л.Франк в своей блистательной работе «Непостижимое» размышляя о причинах самоотчуждения человека, особую роль отводит метаморфозе человеческой самости, погруженной в систему отношений Я-Ты. Никакая субъективность «другого», «ты», которая как бы извне выступает мне навстречу не может избавить, спасти меня от моей собственной субъективности. Правда в системе отношений Я-Ты посредством любви осуществляется трансцендирование к реальности «другого», выхождения за пределы моей субъективности. Но к ее существу принадлежит именно то, что в нем «ты» воспринимается уже не как чистая, лишь «другая», однородная мне субъективность, а как подлинная «реальность», имеющая собственную имманентную ценность и значимость. А это означает, что «ты» открывается и переживается уже как нечто трансубъективное. Через откровение «ты» и соотносительное ему самораскрытие меня непосредственное самобытие в этом трансцендировании как бы встречает и узнает свое собственное существо – в известном смысле себя самого – за пределами себя самого – именно в «другом» – в динамически-живой реальности непосредственного самобытия, которое идет, однако в противоположном обычному направлении – в направлении извне во-внутрь. Здесь, именно в этой встрече, обнаруживается, что непосредственное самобытие, кроме своего собственного средоточия «внутри себя», имеет еще нечто ему соотносительное вне себя, во «внешней» реальности. Динамическое исхождение из себя самого здесь совпадает с опытом вхождения извне в меня чего-то мне подобного, мне однородного – чего-то или, точнее, кого-то, сущностно со мной связанного на тот лад, что он есть нечто я-подобное за пределами меня и в этом смысле могущее быть названным – на неадекватном конкретному соотношению отвлеченном языке – противоестественным именем «другого». С.Л.Франк делает вывод, что именно «ты» таит в себе опасность врага, вторгающегося в меня, стесняющего саму внутреннюю полноту моего непосредственного самобытия как такового. При этом «я» испытывает страх внутренней необеспеченности; поэтому оно как бы отступает вглубь самого себя – и именно в силу этого впервые осознает себя как внутреннее самобытие; оно замыкается в себе, чтобы защищаться от нападени. «Я» возникает и существует лишь перед лицом «ты» как чужого, жутко-таинственного, страшного и смущающего своей непостижимостью явления мне-подобного-не-я. Реальность «ты», которая в качестве реальности как таковой совпадает со стороны своей непонятности, чуждости открывается здесь как тайна, возбуждающая трепет. Но эта «внешняя инстанция», через противоборство которой я утверждаю свою независимость, суверенность моего «я», есть именно не что иное, как – «ты». Суверенность «я» в отношении всякого «ты» есть сама, таким образом, некая его реальная, хотя и отрицательная по содержания, связь с «ты». Единственно истинное, адекватное, актуальное отношение к «ты» состоит именно в том, что мы улавливаем в его составе трансубъективную глубину реальности. Однако истинную, полноценную реальность непосредственное самобытие обретает, лишь поскольку оно пускает корни в почву иного бытия, чем оно само, - в почву духовного бытия.[477] «Мой проект отвоевывания самого себя, - писал Ж.-П.Сартр, - есть по существу проект поглощения другого»[478].
Итак, вторая моя ипостась, обретшая отчужденную от моей субъективности субъективированную форму и является тем субъектом с которым я пытаюсь сбалансировать свои внутриродовые отношения.
Однако этот баланс достигается за счет дисбаланса во внутрисубъектных отношениях, так как осознав себя в качестве родовой самости, человек утрачивает осознание своей трансцендентной имманентности с Духом, более того его Я актуализированное «Иным Ты» оказывается в оппозиции к «Неиному Я». Наиболее радикальной эта оппозиция оказывается, когда Бог согласованно конституируется и Я и Ты в качестве Другого. «Отчаяние, - писал Кьеркегор, - сгущается по мере осознания Я; однако само Я сгущается соответственно своей мере, а когда такой мерой является Бог, оно концентрируется бесконечно. Я увеличивается с идеей Бога, и соответственно идея Бога увеличивается вместе с Я. Только осознание предстояния перед Богом делает из нашего конкретного, индивидуального Я бесконечное Я; и именно это бесконечное Я как раз грешит перед Богом»[479]. Антропный принцип выходя за онтологические рамки человеческого универсума, распространяя свое влияние на космический универсум, насильственно замещая приоритеты сакральные на общечеловеческие не мог со временем не мог не выродиться в принцип насилия человеческого над сакральным и тем самым поставить под вопрос будущее самого человечества.
Ментальная составляющая космологической катастрофы. Основу абсолютного мифотворчества составляет динамика внутрисубъектных отношений, отношений между душой Микрокосма и Духом Теоса, который есть не только Макротеос, но и Микротеос, а потому они являются внутренними отношениями между двумя трансцендентными формами субъективности - между Богом как становящимся Человеком и Человеком как становящемся Богом. «То, что мы называем “душой” или, образно говоря, “сердцем” человека, - писал Шелер, - это не хаос слепых состояний чувств, якобы только соединяющихся и разъединяющихся с другими так называемыми психическими данностями по каким-то каузальным правилам. Душа есть расчлененное отражение космоса всего могущего быть достойным любви - и потому она есть также микрокосм мира ценностей».[480] Освальд Шпенглер считал, что элементы души являются для каждого человека, к какой бы культуре он ни принадлежал, божествами внутренней мифологии.[481] Космологическая катастрофа в ментальном плане есть известный разрыв, возникший между человеческой душой и сакральным Духом, человеческая душа перестает быть надежным и безопасным укрытием для Духа, так как ценности, которые в ней стали доминировать окончательно сбросили с себя трансцендентно-символическую праформу и обрели свою феноменально-эвалюативную форму. Сугубо ценностная организация антропной души, если и в состоянии была вмещать в себя божественный Дух, то не иначе как в качестве окультуренной духовности. Имплицитная Культу трансцендентная культура Духа модифицируется в эвалюативную духовную Культуру. Эту форму культуры лучше всего обозначить душевная Культура или культура Души, так как она вся соткана из интенций человеческих душ, обращенных друг к другу, но отнюдь не к глубинным слоям Духа.
История космического универсума есть история того, как постепенно внутрисубъектные отношения из сакральной праформы, из внутренних отношений Духа трансформируются во внутренние отношения собственно человеческой души. В процессе отпадения Человека от Бога претерпевает существенные изменения его субъективность, ментальность. Антропная форма субъективности может быть истинной лишь в качестве ментальной «вложенности» в ее трансцендентную праформу, человеческая душа в состоянии самоопределяться без самоотчуждения лишь в пределах абсолютного Духа. При условии онтологической вмонтированности субъектно-субъектных отношений родового универсума во внутрисубъектные отношения космического универсума, каждая из общающихся человеческих душ продолжает оставаться обителью единого для них Духа. «Отношение субъекта к субъекту, - пишет Маритен, - требует, чтобы в знании о несотворенной субъективности, которым обладает субъективность сотворенная, последняя сохраняла бы нечто от нее как субъективности, или тайны личностной жизни».[482] Однако человек, обособившийся в своем родовом именитстве это сокровенное знание о своей душе, ставшей сугубо антропной, окончательно утрачивает. Обрывается непосредственная символическая связь между несотворенной и сотворенной формой субъективности, между Духом Бесконечного Субъекта и душой антропного субъекта. Именно этот разрыв между Духом и душой и составляет существо ментального модуса космологической катастрофы.
Ментальными границами экзистенции антропоса выступают рамки его собственно человеческого самосознания, в котором осознание своей родовой сути осуществляется посредством самоактуализации своей самости в самосознании другого антропоса. Овладев родовыми сущностными силами, человек вступает в совершенно иные отношения с самим собой как Микрокосмом, экзистенциальная сила которого заключена в изначальной онтологической слабости. По сравнению с астральным астрально-антропный субъект представляет собой не вполне устойчивый ментальный симбиоз. Если астральная составляющая стремится к относительному покою, то антропная - к движению, развитию. Относительную устойчивость ему в состоянии придавать лишь строгое следование онтологической приоритетности астрального над антропным в этом иерархическом субъекте, однако проекция его астрального «внутреннего человека» каким является космический универсум, все чаще начинает осознаваться антропным «внешним человеком» в качестве «внешней среды обитания» и в конце концов конституируется в качестве «объекта» его культуротворческих воздействий. Ценностно изменяя «внешнюю символическую реальность» антропная ипостась иерархического человека тем самым осуществляет вполне неосознанное на первых порах ценностное насилие над своей высшей ментальной инстанцией – астральным Я. Такое космологическое самоотчуждение астрально-антропного субъекта не могло не сказаться на актуальном состоянии астрального Я и его «внешней онтологической проекции» – космическом универсуме. Астральное Я, свертывая, интериоризируя в свою пустотность элементы космического универсума, подвергшиеся антропным Я культурации, не могло не структурироваться все более ложными и отчужденными квазисубъективациями, пока окончательно не модифицировалось в псевдоастральное Я, семантическую основу которого стали составлять преимущественно ложные эвалюативные символы. Антропное Я поворачиваясь к астральному Я своей ты-льной стороной оказывается наедине с другим таким же антропным Я, их интенсивно субъектно-субъектное общение все более обосабливается от глубинного внутрисубъектного общения и в конце концов замыкается в своей «диадической определенности». Эти квазиантропные Ты взаимообусловленными «экстериоризациями во-внутрь» начинают активно разрушать астрально-антропный ментальный симбиоз, в котором антропное Я все более абсолютизируется, а астральное Я - релятивизируется, пока окончательно не вытесняется в сферу бессознательного. Таким образом астрально-антропный субъект окончательно сбрасывает с себя сакрально-космологический Лик и обнажается до собственно антропной личины. Современный французский философ Т.Мольнар утверждает, что нас отличает от человека доренессансного периода и жившего также на более ранних этапах истории то, что человек современный не рассматривает себя более как микрокосм, погруженный в макрокосм. Он не верит ни в то, ни в другое.
Свое феноменальное экзистирование антропный субъект, разукоренившийся в космологических глубинах Духа в состоянии осуществлять лишь при условии перманентного развития культуры и эвалюативного насилия над породившим ее культом.
Любая предельно автономизированная ментальность является, как известно, весьма неустойчивой системой. Более того относительную устойчивость ей придает систематическая борьба со всем тем, что «подрывает» ее автономию. В психологическом плане это выглядит как перманентный процесс вытеснений из сферы сознания тех его содержаний, которые входят в противоречие с принципом онтологической автономизации господствующей в ментальной системе Я-концепции. В данном случае речь может идти о вытесняющей функции квазиантропного Я всего того реликтового в ментальности, что еще осталось от прежнего присутствия астрального Я. В ментальном пространстве антропного субъекта начинает разворачиваться конфликт между астральной формой бессознательного и антропной формой сознания.
Этот конфликт осложняется еще и тем, что в изначальном ментальном Ничто, «ментальной пустоте», несмотря на обособление антропного Я продолжает оставаться идеальная трансцендентная праформа антропного Я. Человек, прежде чем стать Феноменом, в качестве Образа и Подобия содержался в Ноумене. Неявная форма антропности синкретично связанная с сакральностью в Иерархическом Человеке и есть та праментальная форма, которая в ходе перманентного эманирования и оказалась воплощенной в антропном, феноменальном Я. Явная форма антропного Я всего лишь ее ментальная овнешненность «внешний человек» выдвинутая из потенциального бессознательного в сферу человеческого сознания. Во всеобщем ментальном пространстве обособившегося антропного субъекта присутствует и астральная праформа антропного Я, которая никогда не покидает Ничто и собственно антропное Я, являющееся уже принадлежностью Нечто. И как только антропное Я оказывается в конфронтации с астральным Я, так сразу же его идеальная праформа становится неким внутренним «эталоном сличения» того, насколько Неиное в нем оказалось вытесненным Иным. Степень рассогласованности в этих двух антропных формах единой человеческой ментальности фиксируется внутренней со-вестью. Совесть антропного субъекта есть совместная весть его идеальной и воплощенной форм человечности. Человек испытывает душевную муку лишь тогда, когда совесть дает ему знать об их несогласованности и несовместимости. Будучи вместе с астральным Я вытесненной в сферу бессознательного (но уже в сферу актуализированного бессознательного), пра-феноменальное Я не может безучастно “наблюдать” за гипертрофией воплощенного антропного Я. Юнг утверждает, что суждение ложно тогда, когда сознательная точка зрения, сознание вообще, является сильным и стойким в своем противоположении бессознательному; оно правильно тогда, когда сильному бессознательному противостоит слабая сознательная точка зрения, которая подчас и должна бывает уступить бессознательному[483]. “Сильное” и неуступчивое квазиантропное сознание, активно противостоящее “слабому” космическому бессознательному порождает особо ложные и репрессивные установки. С универсумом ложных и отчужденных родовых объективаций конфликтует отнюдь не антропное Я их порождающее, а неявное антропное Я, содержащееся в сакрально-космологических структурах Духа. Это и есть внутренняя причина перманентного кризиса человечности, которую испытывает человек с момента своего отпадения от Абсолюта. В акте грехопадения он отпадает не только от Него, но и от самого Себя, от того Идеального Антропоса, который так и остался навечно запечатленным в Образе и Подобии Бога. Астральная катастрофа в ментальном плане есть катастрофа сакральной формы человечности, религиозной формы гуманизма.
Проблема соотношения явной и неявной человечности в человеческой экзистенции является может быть самой актуальной в антропологически ориентированной гуманитаристике. Внутри гуманизма уже давно произошел разрыв между этими двумя формами человечности и именно вторая ее форма квазифеноменальная и секуляризированная как раз и положила начало всеобъемлющей космологической катастрофе. Если “сакральная антропность” кумулирует в ментальности истинный человеческий образ, то “квазиантропность” ведет к его экзистенциальному вырождению.
Согласно субъектоцентристской концепции сущего выделяется три формы гуманизма: а) сакрализированный гумманизм; б) собственно гуманизм; в) квазигуманизм.
Высшей формой гуманизма, естественно, выступает сакрализированный гуманизм. В полемике с Эразмом Роттердамским, пытавшимся утвердить в европейском самосознании секуляризованные формы гуманизма Мартин Лютер со всей ему присущей страстностью доказывал, что собственно человеческие установления в мире не могут привести к желаемой гармонии, что за пределами божественных установлений они могут нести в себе огромный негативный заряд античеловечности. «Ведь ты всегда думаешь - или утверждаешь, - писал Лютер Эразму, - будто думаешь, - что человеческие установления можно сохранить в безопасности наряду с чистотой слова Божьего... Человеческие установления не должны сохраняться наряду со словом Божьим. Ведь они связывают совесть, а слово Божье ее освобождает». [484] Вся история сверхгуманизации человеческих отношений на секуляризированной основе полностью подтвердили правоту Лютера. Внедрявшиеся собственно гуманистические принципы в экзистенцию человека, в которой не оказалось место Богу, обернулись крайней бесчеловечностью. Примером тому может служить хотя бы поведение людей живших в эпоху Возрождения и объявлявших себя гуманистами. Эту обратную сторону Ренессанса А.Ф.Лосев называл возрожденческим титанизмом, который удивительным и на первый взгляд противоречивым образом «гармонировал» с утверждавшимся секуляризированным гуманизмом. Историческую необходимость титанизма в эпоху Ренессанса А.Ф.Лосев видел в том, что в период первоначального накопления капитала требовалась крутая ломка основ феодализма и церковных устоев. Для такой ломки нужны были весьма сильные люди - титаны земного самоутверждения человека. Отсюда, далее, вытекал сам собою антропоцентризм. Стихия безграничного человеческого самоутверждения требовала самооправдания в неимоверных страстях, пороках и совершенно беззастенчивых преступлениях. Возобладала стихийно-индивидуалистическая ориентация человека, мечтавшего быть решительно освобожденным от всего сакрального и признававшего только свои внутренние нужды и потребности. “Не будем упражняться, - пишет А.Ф.Лосев, - в морали, подвергая осуждению... ужасы обратной стороны титанизма... Гораздо труднее понять историческую значимость и историческую необходимость этого возрожденческого титанизма как во всех его положительных, так и во всех его отрицательных проявлениях. Мы твердо убеждены в том, что обратная сторона возрожденческого титанизма была в такой же мере исторически обусловлена, как и его прямая, и положительная, сторона. Но если мы сейчас не сумели формулировать эту историческую необходимость, то это вовсе не значит, что такой необходимости не было. Это значит только то, что у нас не хватило для этого научных возможностей и что они должны быть у других исследователей, научно более вооруженных, чем мы”.[485] Эта возможность появляется на пути преодоления объектного подхода к историческим событиям, в рамках субъектоцентристской методологии понимание парадокса «гуманизированной бесчеловечности» вполне обеспечивается тезисом противостояния истинной и ложной форм гуманности, человечности, обусловленного отпадением Человека-Феномена от самого себя – Человека-Ноумена. «Вера в человека, - писал Ясперс, - это вера в возможности, которые он черпает в свободе, а не вера в обожествленного человека. Вера в человека предполагает веру в божество, благодаря которому он есть. Без веры в Бога вера в человека превращается в презрение к человеку. Утрата уважения к человеку, как таковому, ведет в конечном счете к тому, что мы начинаем относиться к чужой жизни с равнодушием, своекорыстно и не останавливаемся даже перед ее уничтожением».[486] Основу демонизма “секуляризированного гуманизма” составляет его панантропологизм, квазичеловечность и ее противоборство со всем тем сакральным, чему обязан генезис самой человечности в иерархическом человеке. Тирания культуры и человечности всегда оказывается направленной против своей предтечи - духовной культуры и богочеловечности и может порождать разве что титанический тип личности, единственной целью жизни которой является борьба с небожителями, т.е. с людьми истинно духовными. На смену богам приходят их ниспровергатели - герои. Почти все работы Н.Бердяева пронизаны критикой секуляризированного гуманизма. Гуманистический прогресс, считает он, не только уменьшал жестокость, освобождал от насилий, утверждал достоинство человеческой личности, но также привел к новым жестокостям и насилиям, к нивелировке индивидуальности, к безличной цивилизации, к безбожию и бездушию, к отрицанию внутреннего человека.[487] Гуманизм не может быть силой, утверждает Н.Бердяев, способной противостоять процессу дегуманизации. От гуманизма, как торжества серединной человечности, возможно движение в два противоположных направления - вверх и вниз, к богочеловечности и богозвериности.[488] Для того чтобы походить вполне на человека, нужно походить на Бога. Для того чтобы иметь образ человеческий, нужно иметь образ Божий. Человек сам по себе очень мало человечен, он даже бесчеловечен. Человечен не человек, а Бог. Это Бог требует от человека человечности, которая и есть богочеловечность. Человек гораздо более реализует в себе образ звериный, чем образ Божий. Зверечеловечность занимает безмерно большее место, чем богочеловечность. Образ звериный в человеке совсем не означает сходства со зверем, прекрасным Божьим твореньем. Ужасен не зверь, а человек, ставший зверем. Зверь безмерно лучше звереподобного человека. Зверь никогда не доходит до такого страшного падения, до какого доходит человек.[489]
Но не только русская религиозно-философская мысль не принимает десакрализированной формы гуманизма, подобную же позицию занимают и представители современного неотомизма. Так Маритен, полагает, что крушение средних веков открыло двери так называемому новому гуманизму. В рамках нового гуманизма светская форма жизни все дальше отходит от Воплощения, человек переходит от культа Человека-Бога, культа Слова, создавшего человека, к культу Человечества, чистого Человека. Дух эпохи, направляемой гуманистическим Ренессансом и Реформацией сосредоточен был на том, чтобы приступить к антропоцентрическому оправданию сотворенного существа. Возникает параллелограм сил: Бог и человек, каждый тянет корабль его судьбы на свою сторону, но получается так, что тянет его человек, а не Бог. Вот так выглядит человек христианского гуманизма антропоцентрической эпохи, он верит в Бога и в его милость, но он спорит о границах владений, заявляя о своей доле. [490] В конечном счете человек «побеждает» Бога и впадает по отношению к самому себе в крайнюю бесчеловечность. С «победой» гуманизма над сакральностью прекращает действовать «параллелограм сил», отныне направленность исторического развития осуществляет лишь сам человек, на смену трансрациональной Судьбе приходит иррациональный Фатум.
Космологическая катастрофа является первой, но отнюдь не последней в перманентной экзистенциальной катастрофе. За ней исторически следуют антропологическая, социальная, природная (неудачно называемая экологической) катастрофы. Это лишний раз доказывает, что история ничему не учит человечество, которое предпочитает не плавно нисходить в более проявленные формы бытия, а осуществлять это нисхождение революционными скачками, основу которых и составляют онтологические формы экзистенциальной катастрофы.
Возможность целой цепочки катастроф в становлении иерархического человеческого бытия неявно содержатся в библейских пророчествах. Интересно, что ни С.Кьеркегор, ни Л.Шестов, метафизически анализировавшие библейскую мифологему об Аврааме не обратили внимание пророческие свидетельства о возможности возникновения посткосмологических катастроф. Вселенская драма в этой мифологеме разворачивается не в одном только сакрально-космологическом измерении, а во всем многомерном экзистенциальном пространстве еще только чреватого иерархией проявленных форм бытия. В ней описываются драматические отношения Авраама не только с Абсолютом и со своим Родом, но и с Протосоциумом и Протоприродой. Преодолевая многоуровневый экзистенциальный конфликт, некоторые явные формы которого пребывают еще в латентной форме, Авраам избирает строго определенные строго дифференцированные стратегии поведения по отношению, соответствующие иерархии онтологических статусов субъектов (протосубъектов) вовлеченных в единую космологическую драму.
Космологическая катастрофа: снятие трансцендентального напряжения между Богом и Авраамом – его Образом и Подобием (внутрисубъектные отношения). На искушение Бога: "возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение" (Быт. 22. 2.) Авраам безропотно исполняет это повеление как свой внутренний перед Ним долг, причем без всяких сомнений и рационального рефлектирования по поводу столь странного и ужасного требования. Авраам не выдвинул Господу своего альтернативного предложения, свои действия связанные с выполнением Его требования не предварял какими-либо размышлениями, ни разу не проявил душевного колебания готовясь осуществить столь роковое для жизни своего рода деяние. Лишь подвигом веры можно объяснить готовность Авраама принести в жертву Богу не только единственного сына, но и весь род человеческий, который должен от него продолжиться. Убедившись в крепости веры Авраама, Бог отвел нож от Исаака со словами: "теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня... И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего" (Быт. 22. 12, 18.). То что он готов был осуществить по сугубо человеческим меркам величайшее злодеяние – сыноубиуство, а вместе с ним и совершить преступление против человечества, могло находить было поддержку в слепой вере в сакральное. Космологический конфликт разрешается сугубо символическим образом, предъявлением неоспоримых доказательств в готовности неуклонно следовать приоритетам сакрального над человеческим в любой, даже самой крайней экзистенциальной ситуации.
Протоантропная катастрофа: снятие трансэвалюативного напряжения между Авраамом-человеком с проточеловеческим Родом (субъектно-субъектные отношения). К проточеловечеству в этой мифологеме можно отнести главу рода - Авраама, его любимую жену Сарру и «единственного» и любимого сына Исаака. Здесь уже применяется совершенно иная стратагема поведения. Авраам оставляет в полном неведении Сарру насчет истинных целей своего предприятия. На вопрос же Исаака: "вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?" (Быт. 22. 7.) Авраам уклончиво отвечает - "Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой." (Быт. 8.). Готовность Авраама пожертвовать своим родом во имя сверхродового существа приносит неоспоримую "пользу" самому роду, который чудесным образом за короткий исторический срок превратился во всемирное человечество. Еще до возвращения Авраама в Вирсавию стало сбываться обещания Бога: "Я благословляя благословлю тебя, и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря"(Быт. 22. 17.). В протоантропном конфликте человечество еще не выступает самостоятельной стороной, а потому его исход полностью зависит от исхода космологического конфликта. До полного преодоления космологической катастрофы человечество подпитывается лишь такими версиями о сути вселенской драмы, которые могут его на период предельного обострения кризиса наиболее эффективно умиротворить «неведением что творится» в глубинах Духа.
Протосоциальная катастрофа: снятие транспрескриптивного напряжения между Авраамом-вождем и протосоциумом (субъектно-объектные отношения). К протосоциуму неявно присутствовавшему в родовом именитстве Авраама следует отнести всех его детей помимо «единственного сына» Исаака, а также многочисленных наложниц и слуг. По отношению к ним Авраам не только выдерживает соответствующую их низшим статусам "социальную дистанцию", но и управляет их поведением "идеологическими версиями" о грядущих событиях, от которых тотально зависит их судьба. Авраам, оставляя сопровождавших его отроков у подножия горы на вершине которой должен был принести в жертву Исаака, ограничивается довольно правдоподобной, а на самом деле ложной версией восхождения: "останьтесь вы здесь с ослом; а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам" (Быт.22. 5.). Очень символично, что нечто протосоциальное (отроки) и прототелесное (осел) остались за пределами вселенской трагедии, в мифологеме они всего лишь статисты, не по своей воле вовлеченные в драматическое действо основными субъектами которого являлись сакральная и человеческая ипостаси. Знаменательно и то, что явно «ложная» на момент «восхождения» идеологическая версия метаисторического акта в конечнце концов оказалась «истинной». "И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Вирсавию" (Быт. 22. 19.). Однако так никто из протосоциальных субъектов так никогда и не узнал об истинных целях восхождения Авраама и Исаака и что же на самом деле на этой ветхозаветной Голгофе произошло.
Протоприродная катастрофа: Снятие трансдескриптивного, трансрационального напряжения между Авраамом-прототелесным субъектом и Протоприродой (объектно-объектные отношения). К телесным сущностям, включенным в онтологическое пространство духовного конфликта Авраам, как и подобает, осуществил объектный подход, т.е. отнесся к ним как некоей объективной реальности, лежащей за пределами не только сакрального и человеческого, но и социального в экзистенции. Не задумываясь Авраам приносит в жертву Богу невинную овечку, эти действия по меркам современных радикальных зеленых вполне могут квалифицироваться в качестве «экологического преступления». "И возвел Авраам очи свои, и увидел: и вот назади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна, и принес его во всесожжение вместо сына своего" (Быт. 22. 13.). Овца как телесная квинтэссенция естественной природности или природной естественности есть прекрасный заместитель человеческой телесности, которую жертвовать можно лишь в крайнем случае, когда посредством самоотвержения в смерти, человеческая душа обретает бессмертие и соединяется с предвечным Духом.
Итак, как это обнаруживается из метафизического анализа абсолютной мифологемы, космологическая катастрофа есть «катастрофа катастроф», имманентно содержащая в себе весь континуум форм перманентной экзистенциальной катастрофы. На что же уповать человеку прочувствовавшему вселенский масштаб своей духовной катастроф? Лишь на то, чтобы как-то продлить свое существование до неизбежного конца истории или есть иной, более конструктивный исход из этой казалось бы безнадежной ситуации? Современный объективизм выдвигает «концепцию выживания», заметим не концепцию полноценной жизни, а лишь концепцию существования в режиме перманентной катастрофы. Субъектоцентристская мифологема исходит из концепции возвращения в сакральные чертоги Духа. Не случайно догматы о Спасении и Воскресении являются центральными в христианском вероучении. «Если кем-нибудь из находящихся в высшем и совершеннейшем состоянии и овладеет пресыщение, - учил Ориген, - то я не думаю, чтобы он опустел и отпал от него внезапно: он необходимо должен падать понемногу и постепенно. Следовательно, если кто-нибудь иногда случайно подвергнется легкому падению, но скоро одумается и придет в себя, то он, собственно, не может совершенно разрушить свое нравственное состояние, но может снова восстать и возвратиться на прежнюю ступень; он может снова восстановить то, что было потеряно им по небрежении”.[491] К сожалению человек отпал от Бога кардинальным образом, что не скажешь о самом Боге, который никогда его не покидал. И в этом залог чуда, чуда воскресения Человека в Духе. Но это чудо должен совершить сам человек, своим восхождением к Трансцендентному.
Озабоченный кризисом духовности, затрагивающим основы самого существования Человека, Г.С.Батищев в одной из своих последних статей «Особенности культуры глубинного общения», набрасывает, как он оговаривается, самый предварительный и скупой абрис универсалий культуры, в случае возрождения которых Человек в состоянии радикально преодолеть свое вселенское самоотчуждение. Вот эти семь сформулированных им универсальных принципов построения подлинной культуры:
1. Мироутверждение: принятие и всежизненное утверждение несомненной, ничем не колебимой, абсолютной первичности и столь же абсолютной приоритетности универсума, как мира всех возможных миров... мироутверждение есть по сути своей последовательное не-самоутверждение. Напротив, всякое предпочтение себя иному бытию, всякое самоутверждение есть по своей сути именно мироотрицание, есть онтологический и аксиологический нигилизм… В конечном счете в этом нигилизме, обращенном во вне, таится и логика бумеранга: мироотрицание оборачивается отрицанием себя подлинного.
2. Со-причастность: онтологическая, объективно не зависимая ни от какого сознания, ни от какой воли, ни от какого исторически преходящего общества, социальных ролей человека в нем, универсальная взаимная со-причастность каждого всем субъектам в Универсуме и всех - каждому... Чтобы процесс мог продолжаться, необходимо заранее интегральное утверждение нами всех вообще уз со-причастности, включая и все за-пороговые для нас, - как единого происхождения всех возможных субъектов во Вселенной и вместе с тем единство их универсального созидательного назначения.
3. Приоритет безусловно-ценностного отношения к миру над любыми, сколь угодно важными, но условно-локальными и истори-чески ограниченными началами, целями, интересами и т.п.; приоритет абсолютного над относительным, высшего над низшим, более совершенного над менее совершенным - и неукоснительное соблю-дение этой смысловой иерархичности всею жизнью и каждым це-лостным ответственным поступком, следовательно, всею жизнью как единым сложным поступком. Любое нарушение этой вертикальной иерархии в любом ее звене, на любой ступени равносильно отречению от надежности и верности безусловным ценностям в их объективной обязательности вообще, т.е. нигилизмом, разрушающим узы со-причастности и подрывающим мироутверждение.
4. Доминантность на всех Других, устремленность человека каждым поступком и всею жизнью не к тому, чтобы сначала требовать от других и от всего мира убедительности для себя, надежности для себя, заслуженности доверия к ним в своих глазах и т.п., но, совсем напротив, - именно к тому, чтобы начать с себя ради всех других - чтобы от себя потребовать убедительности для других и для всего Универсума, от себя - надежности для других, от себя бытия достойным и заслуживающим доверия других.
5. Предваряющее утверждение достоинства каждого другого в неявных виртуальных слоях его бытия, в его возможности быть инаковым - быть своеобразным субъектным миром, со своим поло-жительным и отрицательным опытом, своими падениями и подъема-ми, со своей способностью к мироутверждению, своей со-причаст-ностью и своим ценностным отношением ко всему.
6. Творчество как свободный дар встречи, дар межсубъектности. Прежде чем быть деянием и для того чтобы быть также и деянием, собственно креативность сначала должна быть дарованием межсубъектным; свежестью души и духа, обретающим встречу с Универсумом как бы впервые, мирооткрывательски. Именно глубинное общение делает возможным творчество как сдвиг самого порога распредмечиваемости.
7. Со-творчество: креативное участие в решении все более и более трудных задач универсального Космогенеза в преданном служении ему, в ценностной посвященности ему и приятии авторитетов такого служения и такой посвященности. Это, конечно же, предполагает сугубо неантагонистический климат - дух полифонического сотрудничества.[492]
Как мы видим, Г.С.Батищев изложил целую программу реконструкции системы отношений, сложившихся между иерархическим человеком и его многомерным миром, с тем чтобы снять вселенский антагонизм, способствовать Человеку сохранить себя в Мире и мира в Себе. Эту метафизическую программу возрождения Человека в Духе и Культуре вполне можно принять, однако с определенными оговорками.
Во-первых, необходимо выяснить что же все-таки выступает «предметом» спасения – Человек или Мир? Мир, который во зле лежит или Человек, который зло, своим отпадением от Абсолюта, в этот мир водворил? Видимо и ни то и ни другое. Человек должен преодолеть в себе падшесть и возвратиться в живительное лоно Духа, лишь в процессе восхождения к своим трансцендентным началам он будет способен по капле «выдавливать из себя раба», а из Мира вытеснять Иное. Лишь на пути преодоления своего онтологического ничтожества, он вновь сможет стать экзистенциально соразмерным с изначальным Ничто. Вряд-ли своей адаптацией к миру сему, им же самим деформированым человек в состоянии духовно преобразиться.
Во-вторых, человек не в состоянии преодолеть космологическую катастрофу лишь путем совершенствования, как считает Г.С.Батищев, субъектно-субъектных отношений, какими бы глубинными они ни были. Гуманизм глубинного общения лишь тогда окажется «фактором стабильности» человеческой экзистенции в космологических масштабах, когда вновь окажется составной частью божественного креативного процесса, процесса творческого созидания мира по «законам» предустановленной гармонии. Лишь на пути воскрешения внутрисубъектных отношений – внутренних отношений Духа, возможно реконструировать подлинные гуманистические устои межсубъектных отношений.
В-третьих, ни о какой «объективной диалектике мира» при разрешении космологического кризиса человечности речь в принципе не может идти, так как «развитие» мира лишь тогда ведет к формированию ненасильственной формы человеческой экзистенции, когда подчинено «субъективной диалектике духа», т.е. перманентному эманационно-креационистскому процессу. Это и есть те важные, на наш взгляд, оговорки с которыми можно было-бы принять программу мироспасения, выдвинутую Г.С.Батищевым. Однако не следует забывать, что существует всеобщая и всеобъемлющая стратегия спасения человека, содержащаяся в Откровении. Именно к этой библейской мудрости необходимо каждый раз обращаться, чтобы осуществлять «трансрациональную экспертизу» конкретных исторических философем, содержащих эсхатологические идеи. Философемы, которые оказываются экзистенциально нерелевантными содержанию абсолютного мифа, лежат за рамками не только теологической, но и собственно метафизической интерпретации и верификации.
Завершая эту главу следует еще отметить, что метаисторический этап, связанный с переходом от Культа к Культуре не мог не завершиться космологической катастрофой, так как в конце концов культура бывшая изначально культовой, превратилась в антикультовый квазифеномен, именно она оказалась той сферой человеческой экзистенции, в которой впервые укоренилось Иное, т.е. то, что не могло содержаться в Абсолюте-Неином. Именно культура впервые оказалась «средством» борьбы Иного с Неиным, Порядка с Гармонией, Ничтожества с Ничто.
Главным «событием» космологической катастрофы явилась «смерть Бога». Одним из первых об этой величайшей духовной утрате человечеству поведал Плутарх. "Великий пан умер" - этими словами, в его изложении, символически обозначался не только конец античного мира, но и мира в целом (Плутарх. О падении оракулов, 27). Другим авторитетным мыслителем повторившим эту печальную версию однако в более неопределенной форме был Паскаль, говоривший о «потерянном Боге». Не прошел мимо этой всемирной трагедии и Гегель. Словами “Сам Бог мертв” Гегель (в работе “Вера и знание”, 1802 г.) пытался выразить сущность ощущения, “на котором покоится религия Нового времени”. Наиболее ясно и отчетливо последствия для всемирной истории «Смерти Бога» разработал Ницше. Высказывание Ницше, что Бог мертв, что мы убили его, в патетической форме обобщает конечное положение, свойственное его эпохе. В качестве одной из центральных проблем философии экзистенциализма этот метаисторический феномен занимает достаточно большое место в творчестве М.Хайдеггера (ей посвящена специальная работа - «Слова Ницше "Бог мертв"»). Эти высказывания, по мнению М.Бубера, отмечают собой чрезвычайно отличные друг от друга этапы одного и того же пути[493]. В современную эпоху большое распространение получило сразу несколько антрополого-пантеистических вариантов теологии «смерти Бога», разработанных Т.Альтицером, П.Ван-Буреном, Г.Ваханяном, Г.Коксом и другими американскими теоретиками неопротестантизма, посредством которой делается попытка дать новую интерпретацию кризиса гуманистической культуры.
Этим сторонникам теологии «смерти Бога» представляется бесспорным суждение Ницше о том, что потусторонний миру Бог традиционной религии безвозвратно утрачен для европейской культуры. Его «смерть», однако, по их мнению, отнюдь не означает покушения на «живого Бога», а всего лишь символизирует гибель конкретного образа творца мироздания, сложившегося в европейской культуре. Вывод, следующий из этих построений, прост: необходимо вернуть жизни утраченное божество, доказать немыслимость истории без его постоянного присутстствия, придающего ей смысл. Создатель, по мысли сторонников теологии «смерти Бога», как бы имитирует «самоубийство», чтобы затем обнаружить незадачливому человеку подлинный смысл осуществленной мистификации, заставляя его с новой силой обрести веру.
Вечный, Бесконечный и Бессмертный Бог, естественно, не мог умереть. Вывод «Бог мертв» может быть сделан отнюдь не в рамках теологии, а лишь в пределах метафизики. Этот вывод является весьма важным для того, чтобы понять истинную суть культуротворческого этапа человеческой истории, на котором верховное место Неиного оказалось занятым Иным – князем мира сего. Согласно Маритену Бог “окончательно умер” лишь для “бездуховной культуры и цивилизации”. “Пусты ли небеса без Бога? – вопрошает французский философ Леви, - Полно, столь полны его отсутствием, этим великим молчаливым отсутствием, более требовательным, нежели всякое присутствие. Освобожденный безбожник? Никогда мы не были столь мало свободны, как с того времени, когда мы более не верим”[494]. Бог продолжает жить в человеческой душе, однако не каждый из нас это сознает. Да, Бог распят человеком и не где нибудь а в своей собственной душе и нечего искать Голгофу за ее пределами. Современная человеческая душа и есть самая настоящая Голгофа Духа и воскреснуть она для праведной жизни может лишь при условии, что из темницы Духа, она вновь станет Его Обителью.
Чем более по ходу истории в культуре нарастал порядок и шла на убыль гармония, тем она все более проявляла свои деструктивные функции и по отношению к человеческой экзистенции. Культура оказалась первой в череде так называемых «упорядоченных систем», деструктивно воздействовавших на целостность человеческой экзистенции. Однако, человек в связи с его грехопадением, обреченный на историческое существование, тем самым обречен и на созидание в экзистенциальном плане весьма неоднозначной культуры. Однако в культуре не только объективируется Иное, но и субъективируется Неиное, она есть не только антропной формой упорядоченного хаоса, но и трансцендентной формой собственно человеческой гармонии. «Только в гармонии, - писал Г.С.Батищев, - с более высокими, абсолютными ценностями человеческая креативность сохраняет “знак плюс”, а в дисгармонии с ними - меняет его на противоположный»[495].
Объективированная культура со своими псевдоценностями столь же жестока к человеческой личности, как и история, как и весь объективированный мир. Культура объективирует бога, превращает Его в безбожную и бесчеловечную вещь. И потому для культуры, утверждал Н.Бердяев, наступит страшный суд, не внешний, а внутренний, совершаемый ее творцами. Необходимо принять и изжить этот трагический конфликт, эту неразрешимую в нашем мире антиномию. Нужно понять историю, принять культуру, принять и этот ужасный, мучительный, падший мир. Но не объективации принадлежит последнее слово, последнее слово звучит из иного порядка бытия.[496] Преодоление объективированной культуры возможно лишь на пути возрождения культуры субъективированной, с ее конструктивными и для Человека и для Бога экзистенциальными функциями. Однако если не игнорировать в метафизическом анализе глубинную космологическую катастрофу происшедшую в сфере человеческого духа, то невозможно будет понять почему именно такую экзистенциальную направленность обрела человеческая история, а следовательно и невозможно будет обнаружить и тот хайдеггеровский «просвет бытия», который человек все еще надеется расширить.
Глава 4.
ОТ КУЛЬТУРЫ К ЦИВИЛИЗАЦИИ
4.1. Оппозиция человеческого и социального
в экзистенции
|
|
Там, где встречаются обычно чуждые друг другу бытие и долженствование, можно с уверенностью сказать, что именно здесь центральная точка всей системы мира. Г.Зиммель. Конфликт современной Культуры. |
Мучительный переход истории с культовой стадии «развития» на культурную имел свои весьма «продуктивные» последствия и для самой истории. История приобрела важный для себя опыт «снятия» высших экзистенциальных форм низшими посредством полного и окончательного крушения первых и установления тоталитарного господства вторых. Переход от предшествующей фазы к последующей посредством всеохватывающей экзистенциальной катастрофы становится апробированным и весьма эффективным механизмом радикального обновления мира. При переходе истории от культурной фазы к цивилизационной «опыт» крушения культа посредством его собственного порождения – культурой - был воспроизведен столь аутентично, что впору обвинять историю в тривиальном самоплагиате. Однако здесь мы имеем дело не только с утратой историей творческих потенций, в связи с ее отпадением от креативной метаистории, но и с возникновением вместе с историцистской тенденцией в ней универсального силового механизма (катастрофа), обеспечивающего резкие «переходы-перепады» (скачки) в перманентном процессе развертывания трансцендентной Пустоты в экзистенциальную Полноту. С появлением в Сущем Иного плавные переходы от высших экзистенциалов к низшим, связанные с метаисторическим нисхождением Неиного оказываются невозможными. Катастрофы становятся проявлением насильственного восхождения Иного во все более объективированные, обмирщвленные и овремененные слои Бытия. Катастрофы становятся средствами тоталитарного самоотчуждения перманентно иерархизирующимся Человеком от своих прежних филогенетических стадий становления, и, прежде всего от своих трансцендентных Первоначал.
Если переход от культа к культуре, а затем и к квазикультуре был обусловлен распадом «бого-человечности», то замена культуры цивилизацией – разложением «человеко-социальности». Антропно-социальный субъект, будучи укорененным одновременно и в родовую и социальную ниши Бытия, в состоянии был существовать в качестве иерархически организованной и относительно самостоятельной ментальной целостности лишь при соблюдении приоритетности антропного принципа над принципом социальным, человечности над социальностью в расширяющемся антропно-социальном мире. Человеку необходимо было одновременно персонифицировать собой и родовые и социальные сущностные силы. Перестав быть Бого-Человеком, Человек, по крайней мере, должен был сложиться в качестве Человеко-Социума, в противном случае переход от Культуры к Цивилизации лишался всякой внутренней мотивированности. Однако «Человеко-Социум» как переходный исторический типаж, в отличие от «Бого-Человека» представлял собой еще более неустойчивую ментальную систему, так как ему было весьма трудно одновременно осознавать себя и антропной целостностью и социальной частичностью, тем более, что его антропное Я, отпав от трансцендентного Я в экзистенциальном плане оказалось предельно ущербным. Естественно, что ущербная антропная ипостась уже не могла «разродиться» идеальным социальным Я, а потому их последовавший симбиоз не мог соответствовать ни собственно культурным, ни собственно цивилизационным меркам, какими те представлены в «трансцендентальной палате мер и весов» - имя которому Провидение. «Никакое движение не может быть равно другому и одно не может быть мерой другого, раз мера наизбежно отличается от измеряемого»[497]. Социальный способ измерения надсоциальных феноменов оказался не только гносеологически некорректным, но и онтологически опасным, так как таил в себе возможность их гибели.
Социальный субъект, обосабливаясь по сути от богоборческого антропно-социального ментального симбиоза, не мог не нести в себе человекоборческого начала. Антропное Я, восставшее против астрального Я и вытеснившее его в сферу бессознательного, модифицировавшись затем в ложное гиперантропное Я, могло эманировать еще более гипертрофированным и ложным социальным Я, которое чуть ли не изначально стало его же и вытеснять из сферы человеческого самосознания. По мере дивергирования человеческого от сакрального, антропная ипостась этого ущербного ментального симбиоза все более противополагала себя Образу Бога, и своим противостоянием Ему, оказывалась все менее репрезентативной и по отношению к истинной общеродовой целостности, что, в свою очередь, затрудняло ей благотворно воздействовать на формировавшуюся социальную действительность. Напротив, конфронтацией с Духом, она демонстрировала своему собственному порождению возможность столь же «эффективно» и «эффектно» восходить на ментальный олимп. Социальная же ипостась по мере того, как становилась все более дробной субличностью, в связи с общественным разделением труда, становилась носительницей все более мощных социально-сущностных сил, основная часть которых в момент «исторического снятия» направлялась на преодоление ментального симбиоза, достигнутого в ходе антропологической катастрофы. Ее важнейшим следствием явилось онтологическое и экзистенциальное обособление социальной ипостаси в личности человека и оформления ее качестве особого социального субъекта. В итоге в этом антропно-социальном кентавре «социальное тело» заняло место «антропной головы». Антропно-социальный синкретизм возникший на антисакральных основаниях распался на внечеловеческий Социум и на социализированного Человека в качестве его зависимой переменной. В переходный от культуре к цивилизации период, в эпоху «бури и натиска» – бесконечной череды реформаций, революций и войн - человеческое из «человеческой экзистенции» все более радикально вытесняется и замещается социальным в ней. Само понятие «человеческая экзистенция» обессмысливается в связи с ее модификацией в «социальную экзистенцию» при которой человеку милостиво разрешено осуществлять свое временное «присутствие» (Хайдеггер). Человеческое в человеке насильственно вытесняется в сферу бессознательного и в конце концов социальное Я начинает замыкать собой перевернутую иерархию субличностей ментальной системы. Человек в этой квазисоциальной ситуации по сути превращается в метафорическое понятие, каким ранее в антропной ситуации оказывался Бог. «Человеческое – пишет Ф.И.Гиренок, - нужно искать не в обществе, а в усилии человека стать человеком. В обществе мы найдем социальное, а в человеке – человеческое и заменить одно другим нельзя. Проблема здесь состоит… в поисках и устроении такого социального порядка в обществе, который бы делал возможным появление человеческого в человеке»[498]. В этом высказывании Ф.И.Гиренок противоречит сам себе, с одной стороны он вполне справедливо утверждает, что в обществе нет и быть не может ничего человеческого, в то же время не чужд утопическому проекту по созданию общества, способного выступать средством формирования человеческого в человеке.
Как мы выяснили выше, «воля к власти», наиболее ярко выражена у более низких экзистенциалов, а потому центр антропно-социального симбиоза не мог не сместиться в конце концов в сторону Социума. И как только центр тяжести оказался внизу этой антропно-социальной матрешки, так сразу же участь самого человеческого в социальном оказалась предрешенной. Любой симбиоз всегда стремится к достижению унитарного структуры сначала за счет усреднения высшего с учетом актуального состояния низшего в сложно построенной, а потому и неустойчивой системе, а затем и редукции высшего к низшему. В целях создания унитарной системы, вмещающей в себя все сущее, общество начинает насильственно деантропологизировать и десакрализировать доставшееся ей «наследие», а затем и предельно социализировать его, придавая сакральным и гуманистическим процессам социосоразмерную направленность и оформленность.
Сначала «Человеко-Социум» превращается в «Социо-Человека», а затем и просто в «Социум» в качестве единого и даже единственного, как утверждают апологеты социологизма, субъекта всемирной истории. Согласно же субъектоцентристской мировоззренческой схематике в онтологической иерархии мироздания социальное бытия занимает третью нишу вслед за космическим и человеческим универсумами. «Общественность, - писал Н.Бердяев, - есть лишь частный случай универсализма, лишь одно из выражений космической общности людей»[499]. Однако в связи с насильственным «социальным переворотом», общество на определеном историческом этапе и на довольно непродолжительный период завершает онтологическую пирамиду мира. Но это совершенно не означает, что в метафизическом анализе позволительно редуцировать к социальности, общественности всю онтологическую многоуровневость Сущего. Такое сциентистское лжесвидетельство красноречиво говорит лишь о том, что социологизм сполна выполняет свою апологетическую функцию.
По завершению антропологической катастрофы, социальный субъект начинает безраздельно господствовать в бывшем родовом именитстве, обустроенном антропосом по общечеловеческим меркам и приступает к его радикальному реформированию исключительно по меркам социальной целесообразности. Такой крутой поворот во взимоотношениях внутреннего мира человекообразного социального существа с внешним социосоразмерным миром приводит к тому, что история Иерархического Человека все более становится историцистской и в конечном счете оказывается всего лишь составной частью истории надчеловеческого общества. Что же тогда говорить об истории антропного субъекта, доживающего свой век в чуждой для него социальной среде в качестве реликтовой формы субъективности? История антропоса с развитием социетального историцизма все более сходит на-нет.
Естественно, что Человек отпавший от Бога не мог долгое время удерживать под своим онтологическим контролем Общество, отпадавшего от него еще более радикальным образом. Человеку попавшему в тотальную зависимость от общественных институций, уже было даже трудно себе вообразить, что еще не в столь отдаленные времена люди обладали более независимым существованием от публичной социальной жизни, от «жизни на миру», что сам мир воспроизводился лишь в качестве зависимой онтологической переменной от человеческой экзистенции. «Сегодня ясно, - подчеркивает Р.Арон, - что публичная жизнь определяет всякую частную жизнь, что, желая определенного социального порядка, хотят жить определенным образом»[500]. В рамках развитых цивилизаций нормативное присутствие человека в социальной жизни становится более приоритетным нежели его ценностное существование в культуре, а тем более свободное самоопределение в животворящем Духе.
По мере прогрессивного развития общества социальная жизнь становится бытием все более «прикрываюшим», нежели «приоткрываюшим» высшие смыслы человеческого существования. Социальная форма жизни, с одной стороны оказывается процессом активного отчуждения от человека его космических и родовых сущностных сил в пользу акосмического и античеловеческого общества, а с другой стороны - способом каким человек активно присваивает отчужденные от него сущностные силы в форме разветвленной системы социогенных потребностей все теснее привязывающих его экзистенцию к весьма далекого от человеческого добродеяния социальному долженствованию. В каждое мгновение отношение с Мирозданием строится таким образом, что человек одновременно является и ноуменальной единичностью и родовой субъективацией и социальной объективацией. Он не может быть безучастным к судьбам сакрального космоса и человеческого рода, но и не может не составлять собой элемент социального множества. Парадокс здесь состоит в том, что именно социально-элементарное в нем становится вершиной в этой перевернутой экзистенциальной пирамиде. Эта квазисоциальная ситуация парадоксальна еще и тем, что человек ее не осознает в качестве парадоксальной и, напротив, отчаянно защищает свое право «стоять на голове, упираясь ногами в небо».
Как в свое время Богу необходимо было заключить Завет с Человеком, что бы тот неукоснительно соблюдал приоритетность сакрального над общечеловеческим при строительстве своего родового именитства, так и человеку в эпоху восхождения цивилизации, необходимо было предложить обособливающемуся от него обществу такие «правила игры», которые поддерживали бы приоритетность общечеловеческого над социальным в расширяющейся экзистенции. В конце концов между гипертрофированно разросшимся социумом и ставшей реликтовой человечностью в экзистенции складывается пресловутый паритет, который и составил основу так называемого «общественного договора», о котором так много говорил Жан-Жак Руссо. Согласно этому Договору Человек получил некоторый минимум «прав и свобод», которые де-юре Социумом закреплялись, хотя фактически де-факто особенно ничем и не обеспечивались. По этому негласному Договору социум обеспечил себе неограниченный доступ к «человеческим ресурсам», оговоренный в «обязанностях» человека перед обществом, подкрепленный нормативным долженствованием и физически обеспеченный созданием разветвленной системы силовых и карательных органов. «Новый цивилизационный сдвиг, - считает Ф.И.Гиренок, - превращает человека в неисчерпаемый ресурс и основное сырье своего развития»[501]. Наличие в тоталитарном обществе «правозащитных движений», а в демократическом - «уполномоченных по правам человека» красноречиво свидетельствует о том, что «человеческое в человеке» фактически оказалось вынесеным за рамки огосударствленного социума и общество лишь в силу своей декларируемой «гуманности», вынуждено считаться с этим «антропным атавизмом».
Изнанкой второго или социального «осевого времени» – этого «скачка» из царства культуры в царство цивилизации явилось то, что в нем союз Человека с Обществом оказался всего лишь декларацией, возникшая вокруг Договора огромная масса «подзаконных актов», давала широкий простор процессу развертывания социальных структур, и, прежде всего таких, которые всемерно усиливали властными отношения, составившие основу функционирования и развития законнического общества, т.е. общества, в котором господствует уже и не Бог и не Человек, а безразличный к ним обоим Закон. Посредством «подзаконных актов» общество фактически “перезаключило” с человеком Договор, на поистине кабальных условиях. Добиваясь полной автономии от собственно человеческих притязаний, оно в то же время принудило человека принять на себя всю ответственность за поддержание священного «общественного суверенитета», естественно суверенитета общества от самого человека. В целях закрепления суверенитета законнического общества его апологетами не только формулируется крайне ригористический моральный категорического императив, но и целая разветвленная система императивных законов, малейшие отступления от которых карается по всей строгости Закона. Неявный «Общественный договор» довольно скоро обретает форму явного «Основного Закона», окончательно закрепляющего социальное в человеке в качестве единственной субличности, лишь с ней одной общество намерено иметь дело, или, изъясняясь юридическим языком, осуществлять «делопроизводство». Таким образом «Основной Закон» оказался всего лишь объективацией Права, присвоенного себе Обществом конституировать любую человеческую индивидуальность в качестве одной из своих социальных функций. Не потому ли «Основной Закон» получил еще одно важное наименование - «Конституция». Социальное нормотворчество становится процессом перманентной интерпретации Основного Закона в целях все более жесткого закрепления и конституирования приоритетности социального над человеческим и сакральным во всех без исключения сферах человеческого существования. «Вся «политика», общественная практика нашего мира, - писал Н.Бердяев, - совсем не сознает своей природы, мнит себя свободным творчеством или стремлением к свободному творчеству. Но природа «политики», общественной практики этого мира всего менее творческая и свободная, она возникает из злой необходимости и является послушанием последствиям зла»[502]. В конечном счете подзаконные акты к Основному Закону складываются в такую жесткую систему прескрипций, знакомство и принятие которой не может не подвести Человека к вполне «осознанному» и «добровольному» служению всему тому Иному и Отчужденному в социально преобразованном Сущем, которое обладает реальной законнической властью.
Процесс преобразования неявного «Общественного Договора» в явный «Основной закон» есть законотворческий процесс по правовому оформлению и закреплению человеческого бесправия, направленный на тотальное подчинение свободного символически-ценностного жизненного цикла экзистенции предельно упорядоченной системе социальных нормативов. В целях придания нормативным правовым актам некоей экзистенциальной обоснованности и легитимности создается разветвленная система ложных социальных мифов именуемая идеологией. Идеология в этом плане может рассматриваться в качестве социальной мифологии права.
Метафизической квинтэссенцией истории становится уже не субъективация абсолютного Мифа в качестве самоисполняющегося Пророчества, и даже не относительные мифы культуры, а утопия, которой социальный субъект сначала пытался придать своей цивилизованной жизни статус священного мифа, а на закате цивилизации – статус достоверного научного знания. Как известно коммунистический проект, сначала был составной частью абсолютного мифа, затем получил свое развитие в некоторой совокупности относительных мифов, опосредованных культурой - утопий, а затем в качестве научно обоснованной программы стал основой мощной идеологии, которая пыталась реконструировать цивилизацию на основании научно просчитанных объективных законов социального развития. Таков путь, который коммунизм, согласно его классиков, проделал от утопии к науке. Несмотря на то, что коммунистическая идеология и социальная система, в которой она нашла свое укоренение потерпела крах, однако как и всякая утопия, она вполне может реализоваться в будущем, в качестве абсолютно тоталитарной системы, необходимость в которой скорее всего будет диктоваться тупиковым развитием цивилизации в качестве абсолютно автономной онтологии. Не коммунистическая, так другая какая-либо иная утопия будет править миром, оказавшимся свободным от всего сакрального и человеческого. Существует же западная цивилизация слепо верящая в миф о всесилии открытого общества и в волшебную силу рыночных отношений, хотя и расплачивается за это перманентным вымыванием из экзистенции невосполнимых человеческих способностей и ресурсов, на смену которым идет такой вал потребностей, насыщение которых несомненно заставит сменить демократические режимы тоталитарными, иначе столь сложно построенный социальный порядок в одночасье может превратиться в хаос, повторное упорядочение которого возможно лишь на пути применения массированного насилия.
Когда идет речь об абсолютном мифе, то имеется в виду такая «программа» развертывания всех свернутостей в Ничто, в которой наряду с более значимыми для экзистенции проектами содержится и «социальная программа», программа развертывания гармонических структур цивилизации. Она в состоянии реализоваться лишь в истинных социальных структурах Неиного, продолжая оставаться интегративной составной частью программ развертывания космического и человеческого универсумов. Гипостазированный же проект социального переустройства мироздания или утопия способна воплотиться лишь в онтологически ущербную форму цивилизации. Социальная идеология есть не что иное мифологизированная утопия, укорененная в общественном сознании в качестве рациональной теории социального прогресса. Совокупность смысловых различий между протосоциальной «программой», имплицитно содержащейся в абсолютном мифе и мифологизированной утопией и выступает идеологическим базисом для социальной формы историцизма. В этой ситуации возникает социальный параллелограмм метаисторического и историцистского силовых полей, противоречиво воздействующий на становящуюся цивилизацию, результирующей которого и оказывается ее реальная история. Здесь уже не Культовое и не Культурное Априори выступает основанием для интерпретаций, способных отлиться в единую и целостную гармонию цивильной экзистенции, а такое Априори, которое, в основном, сращено с упорядоченным социальным хаосом, способным быть сбалансированным лишь за счет привлечения внешних энергетических ресурсов и применения мощных форм самонасилия.
Социальное мифотворчество призвано апологетизировать применение любых форм насилия, направленных на защиту интересов социума, даже если реализация этих интересов ставит под угрозу само человеческое существование. Согласно этой фарисейской мифологии права «не суббота для человека, а человек для субботы» и этой священной субботой становится надчеловеческое общество. На этом новом социогенном витке истории фарисеи вновь обретают власть над человеком, но уже не в качестве Патриархов - наместников рода, а в качестве Политиков – полномочных представителей общества. «Идеология силы в социальной жизни, - писал Н.Бердяев, - очень связана с ложным приматом политики. Поистине роль, которая приписывается политике, не только преувеличена, но и чудовищна. Политика есть вампир, сосущий кровь народов. Притязания политики непомерны, эти притязания всегда тоталитарны... И нет больше пустыни, в которую можно было бы от этой власти укрыться».[503] Общество во имя установления «вечных» социальных порядков руками фарисеев-политиков на плахе Закона приканчивает феноменального Человека, который в «свое время» руками фарисеев-патриархов распял трансцендентного Бога. Со смертью Человека Общественный Договор окончательно утрачивает какую-либо силу и становится одной из «единиц хранения» исторического архива, к которому если и обращаются, то лишь в особо опасные для цивилизованного мира времена. Общественный Договор, хотя и существует во всех цивилизованных странах де-юре в виде разветвленных конституционных актов, однако даже в самых «развитых» демократиях Запада давно перестал действовать де-факто. Так в США несколько лет тому назад в целях изучения актуального состояния гражданского самосознания на страницах одной из газет был опубликован без названия текст «Декларации прав и свобод граждан», принятой вскоре после победы северян над южанами и составляющий основу современной Конституции этой демократической страны. Подавляющее большинство рядовых граждан было возмущено столь явно прокоммунистической публикацией, подрывающей основы американской демократии. Действительно, любая гуманистическая идея не соотнесенная с состоянием современного общественного сознания воспринимается социальным субъектом чуть ли не как призыв к бунту против сложившихся ценностей демократии. Что же тогда говорить о реальном отношении современного человека основательно погруженного в предельно дегуманизированную социальную среду к «Общественному договору», каким он неявно присутствовал в самосознании наших предков, ведь он буквально пронизан идеями гуманистизма.?
В самосознании цивилизованного человека место архаичного «общественного договора» начинают занимать так называемые «объективные законы общественного развития», периодически открываемые особым ведомством, в котором заседают ученые-социологи. Не стесненные никакими обязательствами перед социальными субъектами, описывая их усредненные, среднестатистические формы поведения, социологии придают им законосообразную форму. Опираясь на диктат социального Я во внутреннем мире человека представители социологической науки довольно успешно подводят к единому шаблону поведения и чувствования индивидов-элементов социомассы агрегированной деятельностным процессом в псевдообщность. Политик именно Социологу поручается поставить последнюю точку в затянувшейся истории Общественного Договора. В этих целях создается разветвленная система социальной технологии, представляющая собой набор эффективных средств манипулирования человеческим поведением. Социальная технология становится действенным средством подчинения индивидов требованиям объективным закономерностям общественного развития и таким образом отпадает необходимость в каком-либо едином для всех Основном Законе, в связи с тем что он не в состоянии охватить собой все перипетии социальной динамики. Конституция становится неким семантическим жрецом, к ней обращаются лишь в случаях когда применяемая Политиком социальная технология, разработанная Социологом провоцирует в обществе очередной кризис. Лишь в эти минуты роковые появляется персонифицированный конституционный жрец – конституционный суд – несколько ограничивающий действия наиболее радикальных социальных технологий.
Социальный субъект многолик, а потому может нормативно доопределяться в строгом соответствии с выполняемыми им теми или иными социальными функциями. В связи с тем что социальный субъект выступает переменной функцией общественного организма, тотально управляющего его поведением, его вполне можно доопределить в качестве человека манипулируемого. «Способность человека быть дрессируемым, - писал Ницше, - стала весьма велика в этой демократической Европе; люди, легко обучающиеся, легко поддающиеся, представляют правило; стадное животное, даже весьма интеллигентное, подготовлено... Самообман толпы по этому вопросу, как, например, это имеет место во всей демократии, в высшей степени ценен: к измельчанию человека и к приданию ему большей гибкости в подчинении всякому управлению стремятся, видя в том "прогресс"!»[504]. Социальный субъект готов вести себя по любым предлагаемым обществом стереотипам и клише, лишь бы не утратить своей связи с социомассой. Социальное Я становится надежным гарантом интересов общественного прогресса изнутри карая высшие субличности за попытки вырваться за пределы социально детерминированной экзистенции. Коллоборационистское по сути своей социальное Я становится внутренним палачом, распинающим человеческую индивидуальность внутри «единого» ментального пространства. Не с того ли момента, когда социальное Я окончательно перешло на сторону отчужденного от человека социума, берет свое начало триумфальное шествие общественного Прогресса? Законническую Власть или власть Закона окончательно сакрализирует, естественно лишь в рамках общественного сознания, принцип Иметь (“сакральная собственность”) и десакрализирует принцип Быть (“собственная сакральность”). Однако не надо забывать, что законы общества лишь внешне выглядят проявлениями объективных тенденций. Они квазисубъективны, так как являются не чем иным как объективированными интенциями самого социального субъекта.
В процессе радикального перехода от культуры к цивилизации на смену культуро-творческому процессу приходит процесс законо-творческий, в котором творчество призвано выполнять отнюдь не свойственную ему функцию - обеспечивать перманентное понижение уровня человеческого и повышение уровня социального в экзистенции. Это и есть творчество со знаком минус, ничего общего не имеющее с сакральной креативностью и ценностной виртуальностью человека. Социум становится бытийствующим, а бытие социализирующим и поверженному человеку ничего не остается, как «добровольно» адаптироваться к безличным нормативным требованиям, которые со временем оказываются все более категоричными и непреложными. Социум в качестве некоего внечеловеческого инварианта человечности, предельной его рационализации начинает относиться к человеческой феноменальности как крайне иррациональная и демоническая сила. «Общество, для которого массовое производство и массовое потребление являются определяющими, это общество рационализированное и постоянно тяготеющее к «рациональности», каким бы неясным ни казался многим этот термин. И не в последнюю очередь здесь коренится «детабуизация» и «демифологизация», которые мы все сегодня наблюдаем»[505]. Божествами, которые периодически низлагаются в обществе становятся сами законы социального мира, превращающиеся со временем в тормоза социального прогресса, а потому и заменяемые еще более непреложными и репрессивными подзаконными актами.
Овладев социальными сущностными силами, человек вступает в совершенно иные отношения и с самим собой, нежели те, которые складывались на этапе активного присвоения им своих родовых сущностных сил. На антропологическом этапе его исторического становления, социум был всего лишь онтологической вложенностью в родовое именитство, социальная организация была лишь неким онтологическим каркасом, придававшим системе субъектно-субъектных отношений некую объективированную оформленность. Социальная организация становится основной ячейкой общества, как только само общество перестает быть ячейкой родового именитства. С обособлением общества в качестве особого универсума субъектно-объектных отношений, социальный каркас, который ранее придавал человеческой спонтанности необходимую социальную овнешненность, превращается в предельно жесткую организацию по производству социальных вещей и индивидов, становится единой унифицированной формой, строго упорядочивающей социально значимые акты и акции индивидов. В обществе бытийствует уже не человек, а организация, в которой человек осуществляет лишь свое временное деятельностное присутствие. Если человек и экзистирует, то не иначе как элемент социосоразмерной организации, в качестве объекта тотально подчиненногл социуму-субъекту.
Социальный универсум из которого оказались вытесненными последние остатки человеческой субъектности превращается в социальную систему иерархически соподчиненных социальных кумиров, предельная деперсонифицированность которых схватывается понятием «бюрократия». Если квазикультура прекращает жизнь экзистенциальных монад–микрокосмов, то квазицивилизация ставит предел существованию экзистенциальным универсумам и отныне в этой сверхобъективированной среде в состоянии «развиваться» и «функционировать» лишь системы. Монада - есть «абсолют + человеческий универсум». «Бесконечное, писал С.Л.Франк, - с максимальной адекватностью получает свое выражение только в конкретной точке – в монаде с ее единственностью и абсолютным своеобразием, как и наоборот: лишь то, что может быть признано истинным личным бытием-для-себя, монадой, может воспринять и выразить бесконечное. Сущность всеединства как духа, как реальности самоценного и самозначимого бытия обретает последнюю определенность лишь в конкретной индивидуальности – в противоположность определенности предметного бытия, которая остается всегда отвлеченно-общей»[506]. С отпадением человека от абсолюта прекращает свое существование и экзистенциальная монада. Ранее мы условно определяли универсум как «система + человек». Так как из социального универсума окончательно вычитается человек, то остается одна лишь деперсонифицированная социальная система. Опосредованные цивилизацией субъектно-объектные отношения начинают возвышаться над субъектно-субъектными отношениями Культуры и внутрисубъектными отношениями Культа, высшие формы общения в своей социально-превращенной форме становятся эпифеноменом совокупной деятельности. И таким образом отношения Социума с Человеком оказываются предельно формализованными, а ролевая игра все более перемещается на «чужое поле» и пронизываться «силовым полем» социальной необходимости и целесообразности.
Разрушив договор с Человеком, Общество сумело заключить в свои жесткие объятия все то в нем, что от него еще оставалось - «социально оформленную человечность», которую она переоформила в социального субъекта - члена социального организма. Утратив свою именную форму существования, человек приобрел членство в обществе. Отныне он человеком признается лишь той мере в какой он выступает членом общества, за пределами общества, согласно социологическому теоретизму человека нет и быть не может. Социальный субъект – частичный, нецелостный элемент агрегированной псевдосоциальной целостности, отпавший в качестве особой субличности от высших Я, однако именно эта социальная частичка Иерархического Человека начинает тотально властвовать над внешним миром, активно подчиняя ему свою духовность и человечность. «Социальный процесс автоматизации, - считает Маркузе, - выражает трансформацию или даже транссубстанциацию энергии труда, вследствие чего последний, отделившись от индивида, сам становится независимым объектом и субъектом производства».[507] Чистый социальный субъект и есть персонификация отделившейся от человеческого существа способности к деятельности. Однако за пределами совокупной деятельности сам человек превращается всего лишь в социальную фикцию. Вместе с разделением труда разделяется и сам человек.[508] По мнению Г.С.Батищева, существенным в расщеплении деятельностного процесса следует признать расщепляющее действие его на самого субъекта. Становясь “частичным функционером”, он тем самым превращается также и в “частичного индивидуума”, “частичного человека”, человек делается лишь осколком, лишь уродливым фрагментом самого себя как субъекта, т.е. буквально лишь отчасти человеком.[509] Бытие социального субъекта носит внеценностный, нормативный характер. Здесь человек становится аутентичным не человеческому существу, а социальному организму. Не случайно в социологизме, предметностью которого выступают социальные системы, человек рассматривается лишь как «система в системе», как особая система интериоризованных общественных отношений. Живой человек перестает быть даже социальным существом, ибо овеществил свою собственную социальность, “зато противостоящая ему вещь превратилась теперь в подлинное общественное существо”.[510] «Внутренний человек» оказался в тотальной зависимости от «внешнего человека», который обособившись от него и овеществившись модифицировался в надчеловеческое общество. Если объективация внешнего человека отныне именуется обществом, то внутренний человек, с утратой своего родового именитства оказался безымянным индивидуумом. Позитивизм утверждал, что человечество – понятие бессмысленное, так как не поддается логической операционализации, а потому предлагалось его рассматривать в качестве простого арифметического ряда, членами которого высмтупают индивиды: Адам-1; Адам-2; Адам-3… Адам-N. Не эту ли позитивистскую идею воплотили в реальность в местах не столь отдаленных, в которых человек утрачивает свое словесное имя и обретает один из порядковых номеров числового ряда. В квазисоциальной ситуации сущность человека восходит уже не к неопределенному трансрациональному Слову, а к весьма определенному рациональному Числу. Будучи поставленным вне закона человек превращается в бесконечно малую величину, в почти математическую абстракцию - точку, которой при определенной социальной ситуации можно и пренебречь. Жан-Жак Руссо в «Эмили» или «О воспитании» (1762) писал, что «человек-гражданин – это лишь дробная единица, зависящая от знаменателя, значение которой заключается в ее отношении к целому – к общественному организму. Хорошие общественные учреждения – это те, которые лучше всего умеют изменить природу человека, отнять у него его абсолютное существование, чтобы дать ему относительное, умеют перенести его «я» в общую единицу». В своей книге «Люди против человеческого» Марсель утверждает, что в современном обществе возобладал «дух абстракции», в котором повинен человек массы. «Массы – пишет он, - вот, на мой взгляд, наиболее типичный, значимый пример абстракции, которая остается абстракцией, становясь реальностью, в данном случае – практической силой, властью».[511] Человек массы живет в царстве социальных отношений не знающих собственно гуманитарного соизмерения. Индивид оказывается всего навсего набором интериоризированных социальных функций, за пределами которых по утверждению Дюркгейма он не может конституироваться не только в качестве социального, но даже собственно человеческого существа. В этом кафкианском мире, как утверждает Марсель, где люди поднимаются против человеческого, торжествует всеобщее отчуждение и исчезает подлинно гуманное отношение к ближнему. Шпенглер полагал, что, если «третье сословие» явилось продуктом городской жизни, занимавшей равное положение с жизнью деревенской, то «четвертое сословие» или «социомасса» – это уже продукт мирового города, уничтожающего деревню. Именно в этом псевдосубъекте он видел разрушителя человеческих оснований культуры. «Это, - пишет Шпенглер, - лишенный душевных корней народ поздних состояний культуры, бродячая, бесформенная и враждебная формам масса, которая скитаясь по каменным лабиринтам, поглощает вокруг себя живой остаток человечности, не имея родины, ожесточенная и несчастная, полная ненависти к прочным традициям старой культуры, которая для нее отмерла, она грезит об освобождении из своего невозможного состояния»[512].
Последовательное сведение, редукция человеческого к социальному в экзистенции означает лишь о его фактическом снятии, которое как и любое «диалектическое снятие» есть не столько удержание в социальном всего позитивно человеческого, сколько уничтожение самого ценного в нем, а именно того, что в принципе не может быть инкорпорировано социальным. «Остатки», «останки» человеческого в социальном – эти реликтовые и инородные образования в современном цивилизованном обществе – всего лишь жалкое напоминание о былом величии человека, возродить которое на сугубо социальных основаниях уже не представляется возможным.
Онтологическая сторона антропологической катастрофы заключается еще и в том, что человек, в основном, перестает быть самоактуализирующимся субъектом, он все более превращается в субъекта самосоциализирующегося, способного активно адаптироваться к любой социальной ситуации, сколь бы бесчеловечной она ни была. Социальное отчуждение Человека от Бога и от самого себя как Человека привело к замене самотрансценденции и самоактуализации гиперсоциализацией, «объектами» которой оказались высшие, надсоциальные качества личности. С выделением социальной монады из антропной полноты и с ее обособлением, происходит постепенная и неуклонная объективация человеческого в человеке, являющаяся составной частью его квазисоциализации, выступающая главным средством достижения социумом онтологического обособления в качестве тотальной социальной системы. Процесс социализации человека становится центральным механизмом объективации субъективного, который в новых исторических условиях приходит на смену субъективации субъективного. Вся система воспитания и образования в обществе направлена не на формирование человеческой личности, а расширенное воспроизводство необходимого обществу персонифицированных социальных функций. Еще Жан-Жак Руссо, сетуя на социальную предопределенность системы воспитания, констатировал: «Приходится выбирать одно из двух – создавать человека или гражданина, ибо нельзя создавать одновременно и того, и другого». При переходе от культуры к цивилизации, в ситуации предельной обмирщвленности внутреннего мира человека впервые и явно объект начинает противостоять субъекту в виде внешнего социального мира, в качестве отчужденной от субъекта собственной социальной экстериоризации. «Государство, - пишет Бердяев, - признается субъектом, человек же признается объектом. Это есть крайняя форма объективизации человеческого существования, при котором человек выброшен вовне и за его внутренним существованием не признается никакой цены. Процесс социализации хозяйственной жизни, который есть необходимый и справедливый процесс, переходит в социализацию всего целостного человека, т.е. в подчинение человека обществу в самой сокровенной и интимной его жизни»[513].
В связи с тем, что объект как социальная объективация субъективного на первых порах тотально зависит от субъекта, соотношение субъективного (человеческого) и объективного (социального) в социально оформляемой экзистенции лишь некоторое время не носил форму явно выраженного антагонистического противоречия. Однако чем более социализировался человек, образуя своими отчужденными сущностными силами все более обосабливающийся от высших онтологий социальный мир, тем все более последний становился ему онтологически чуждым, а сам человек весьма чужеродным элементом миру, стремящемуся обрести свою «социальную стерильность». Противостояние человеческого и социального начинает обретать все более непримиримые, антагонистические формы и борьба этих двух тенденций начинает составлять основное содержание перехода от культуры к цивилизации. В конечном счете гиперсоциализация человека приводит к тому, что человек сам начинает активно преодолевать в себе последние остатки гуманного отношения и к себе и к миру. Как только внешняя социализация обретает форму самосоциализации, индивид окончательно утрачивает интерес к тому, что находится за пределами его непосредственной общественной жизни, эмпирической жизни не опосредованной ни символами культа, ни ценностями культуры. Процесс социализации человека, его социогенезис, начинает обретать явную антиантропную направленность. «Ведь все верят, - сетует Юнг, - что нет ничего лучшего и более желательного, чем достижение по возможности полного тождества с одной дифференцированной функцией, потому что такое тождество приносит самые очевидные общественные преимущества; недочетам же человеческой природы, из которых подчас состоит большая часть индивидуальности, оно приносит величайший вред»[514]. И даже если этот новый и с точки зрения объектной историософии несомненно более «прогрессивный» исторический типаж и восстает против «социума», то отнюдь не в борьбе за «человека», а всего лишь за более «справедливые» правила социальной игры.
Возникает чрезвычайная историческая ситуация: чем более интенсивно вырабатывается «внутренний человек», тем более зависимым становится «внешний человек» от мира, который есть его собственная овнешненность, все более ущербной в онтологическом плане становится человеческая само-сть, само-стоятельность которой постепенно сводится лишь к «свободе выбора», который всегда сводится в пользу адаптации к непреложным требованиям социального долженствования. «Непосредственно единичное, - писал Гегель, - живет в царстве необходимости... Единичный человек вынужден превращать себя в средство для других людей, служить их ограниченным целям, или же он сам низводит других людей до простых средств, чтобы удовлетворять свои узкие интересы. Выступая в этом мире повседневной прозы, индивид не исходит в своих действиях из своей собственной целостности и может быть понят не из самого себя, а из чего-то другого. Ибо отдельный человек находится в зависимости от внешних воздействий, законов, государственных учреждений, гражданских отношений, и находит ли он в них свой собственный внутренний закон или нечто навязанное ему извне, он все равно вынужден склониться перед ним. И для других людей единичный субъект не является такой целостностью внутри себя, а выступает для них лишь со стороны ближайшего изолированного интереса, который представляют для них его поступки, желания и мнения. Людей прежде всего интересует то, что связано с их собственными намерениями и целями».[515] Инородность человеческого в социальном постепенно преодолевается последовательным обобществления всего индивидуализированного в человеке. Стереотипизация уникальных форм человеческого поведения в конце концов дает столь желанный безличныму социуму результат: человек сам того не подозревая начинает думать, действовать и жить по моделям разрабатываемым Социальным Технологом. Несколько остановимся на некоторых последствиях вытеснения человеческого социальным из многоуровневой человеческой экзистенции.
С вытеснением человеческого из экзистенции Человек все более утрачивает непосредственную связь с другим Человеком, социальная общественность заменившая собой антропную общность есть сообщество одиноких людей. Человек отпавший от другого Человека и оба превратившиеся во взаимообусловленные социальные функции начинает ощущать свое одиночество даже тогда, когда составляет элемент довольно плотной по своим контактам социомассы. Цивилизация формирует социальное пространство там где уже нет места для проявления собственно человеческих чувств. Субъект лишенный феноменальной гаммы чувств не в состоянии вступать в полноценные отношения с другим человеком как человеком.
В структуре отношений с другими людьми катастрофически падает количество личностно значимых связей. Социологи посчитали, что в мегаполисе ежедневно на каждого жителя в среднем приходится около десяти тысяч контактов, среди которых личностно значимых не более двух-трех, тогда как деревенский житель обходится не более тридцаться контактами в день, однако большая их часть оказывается значимой для него. Естественно, что индивид составляющий собой элемент социомассы не может не осознавать своей человекооставленности. Личностное одиночество в обществе развитой массовой коммуникации приближается к опасной черте за которой возможно утрата индивидом своей собственно человеческой аутентичности, ведь она может быть верифицирована и подтверждена лишь посредством личностно-значимой актуализации в другом человеке.
В отношениях между нецелостными Ты, целостное Я оказывается – «третьим лишним». Если в отношениях между антропными субъектами «третьим лишним» стал Бог, то в отношениях между социальными субъектами – Человек. Если Бог в этой ситуации оказывается – Другим, то Человек – Посторонним (этот феномен социального отчуждения довольно точно изображен А.Камю в повести «Посторонний»). Э.Ионеско метко охарактеризовал стремление “быть как все” словом “оносороживание”. Но быть как все это означает прежде всего не быть собой в общении с этими всеми, т.е. общаться с ними за рамками своей индивидуальной аутентичности. В пьесе Э.Ионеско “Носорог” такого рода преображение людей предстает в образно-символической форме, звучит обличением абсурдной реальности, которая зачастую выглядит в глазах многих не патологией, а нормой. В строгих, отточенных суждениях Хайдеггера такого рода неподлинное существование именуется усредненным. “Каждый есть другой и никто не есть он сам. Das Man, отвечающий на вопрос «кто» повседневного бытия-сознания, являет собою ничто, которому отдалось все бытие-сознание в совместном существовании с другими».[516]
Другой конституируемый социальным сознанием в качестве Постороннего перестает присутствовать в экзистенции множественных Ты. Чем более интенсифицируются субъектно-объектные отношения, чем более объективируется субъективность, тем менее каждый член такого сообщества осознает свою индивидуальность и все более оказывается формальным и частичным социальным существом. Конституировав Постороннего в качестве Неиного, приписав ему свойства Единого – эта социальная единичность окончательно утрачивает способность самоактуализации, а вместе с ее утратой и собственно человеческую коммуникативность.
Как не усомниться в своей принадлежности к единому человеческому роду, если другой человек, с которым пытаешься наладить личностно-значимые отношения оказавается Другим в сугубо левинасовском значении, в качестве отчужденного Своего. Социальная редукция своей второй половинки к Другому значительно расширяет экзистенциальную базу для формирования и проявления между общающимися субъектами отрицательных дизъюнктивных чувств, что и обрекает большинство человеческие диады на их недолговечность. Человек для человека оказывается не другом, а другим и оба вместе могут подтвердить свою социальную аутентичность лишь за пределами своих межличностных отношений, лишь в качестве партнеров совместной деятельности. Не случайно по мере вытеснения из экзистенции человеческого семья конституируется общественным сознанием отнюдь не структурным компонентом человечества, а лишь в качестве «ячейки общества». Во взаимоотношениях между человеком и обществом на начальном этапе становления системы безличных социальных отношений в качестве довольно серьезного пряпятствия к установлению тотального социального порядка оказывается другой человек. Именно он и оказывается третьим лишним. И уже не Бог, а сам Человек становится субъектной другостью, с устранением которого общество обретает свою идеальную упорядоченность. Волющая власть в социальном субъекте может в полную меру реализоваться, если его сознание будет конституировать иных индивидов в качестве социальных вещей, а не человеческих индивидуальностей. «Тирания как наиболее уродливая форма власти имеет в своей основе отношение с Другим как с внешней вещью, объектом. Может быть, внешнее сходство Другого с вещью является одним из реальных оснований неизбывности этого мирового зла. Воля к власти существует не потому, что есть ее объект, но без объекта она не могла бы существовать… Другой – сам может меня «пометить», посягнуть на мой внутренний мир, на мою самость. Вещь меня может метить только в том случае, если я сам себя мечу с помощью вещи. Другой же может действовать (или стремиться действовать) в отношении меня с моим внутренним самоценным и неприкосновенным миром как с не имеющим «нутра» как с внешним предметом, его предметом»[517].
В рамках социального разделения труда индивиды предстают друг перед другом как персонификаторы функций единого деятельностного процесса, а потому их социогенные чувства друг к другу не могут не быть опосредованными любовью к социальной организации, их объединящую и сплачивающую в единую социальную общность. Общество призвана соединять огромное многообразие индивидуальностей в единый социальный ансамбль, в котором индивиды призваны исполнять отнюдь не солирующие партии, а быть штатными хористами и петь «не со своего голоса», стараясь попасть в унисон с другими хористами. Общество выступает средством соединения в единую социальную целостность дурную бесконечность социальных осколков на которые раскалывается единая человеческая ментальность в процессе ее тотальной социализации. Если первичный смысл феномена любви состоял в завершенном трансцендировании Я к я-подобному Ты в контексте общей их любви к Неиному, то в пределах цивилизованных отношений Ты–Ты, каждое Ты вбирает в себя интенции другого Ты, в той степени, в какой оба они объединены общей любовью к социальному множеству - Мы. Онтологической опорной точкой для Ты становится таким образом не другое Ты, а внешняя для них социальная реальность, долженствующими персонификаторами которой они призваны быть. Ты не выбирает другое Ты – оно ему прескриптивно предписывается в качестве субъекта наделенного взамосвязанными с его структурой диспозиций социогенными свойствами и функциями. И дело идет здесь уже не о сущем трансцендировании друг друга к абсолютной реальности и не о взаимной актуализации в реальное человечество, а о взаимообусловленной социализации и перманентной реадаптации в довольно локализованную ячейку цивилизации, которая и оказывается чуть ли не единственной реальностью для взаимодействующих Ты. Общественная организация является тем экзистенциальным континуумом на котором происходит перманентная самосоциализация Я в Ты, «внутреннего человека», во «внешнего человека». В автономизировавшееся от человека общества способны эффективно укореняться отнюдь не индивидуализированные Я, а лишь индивиды радикальным образом преодолевающие в себе индивидуальность. Взамен утраты способности быть человеком они обретают необходимый набор социогенных качеств, делающих их весьма эффективными в совокупном деятельностном процессе, хотя и недостаточно коммуникативными в сфере межсубъектного общения. Автономное и «суверенное» общество представляет собой сообщество Ты-образных субъектов, утративших свое Я-чество.
С вытеснением человеческого из экзистенции вера в человеческую личность замещается верой в безличный социум. Известно, что вне абсолютного нет и не может быть никаких форм релятивного в сущем. Истинно абсолютным может быть лишь то, что замыкает пирамиду сущего, т.е. Ничто или высшая форма проявленности Неиного. Однако как только пирамиду жизни начинает замыкать самая проявленная экзистенциальная форма, то именно она и возводится ложным сознанием в ранг Абсолюта. При этом, в основном, Иное в онтологически эклектическом Сущем абсолютизируется, а Неиное в нем - релятивизируется. На этапе ускоренного и интенсивного развития так называемого «общественного организма», идея абсолютного и соответствующее сакральное чувство к ее воплощению перемещается с человеческой неопределенности на социальную «предопределенность». “Социальные чувства, - писал Ницше, - связанные с общественной иерархией, переносятся на универсум: так как выше всего ценятся непоколебимость, господство закона, твердый порядок и равенство перед порядком, то их ищут на верховном месте, - над вселенной или позади вселенной”.[518] В связи с тем что на верховном месте ищут именно социальную предопределенность, а не ноуменальную неопределенность или весьма расплывчатую антропную определенность, то именно ее в конечном счете и обнаруживают.
Основным гештальтом Мироздания оказывается Социум, все же иные Универсумы – всего лишь промежуточные ступени на пути восхождения человечества к социальному Олимпу. Согласно так называемому диалектическому материализму социальная форма движения – есть самая высшая и заключительная форма автоэволюции объективной реальности. Как только человек уверовал в то, что отнюдь не антропное, а именно социальное качество в нем выступает тем свойством последовательная и всесторонняя объективация которого позволяет достигнуть высшей формы организации Мира - Социального Универсума, так сразу же социальное Я автоматически становится высшей субличностью в его ментальности. И теперь человеку остается выбирать лишь между хорошей и разумной или плохой и противной разуму идеей социальной абсолютности, т.е. жить ли ему при тоталитарном либо при демократическом режиме.
С этого именно исторического момента социум начинает занимать в мироздании неподобающее ему центральное место, возникает противоестественная социоцентристская ситуация с перевернутой иерархией отношений между основными онтологическими субъектами. Ось мира смещается к социальной нише бытия и она становится тем центром перевернутой пирамиды бытия, откуда начинают исходить управляющие воздействия на всю «экзистенциальную периферию», составленную из сакрального космоса и человеческой культуры.
На этапе перехода истории от культуры к цивилизации вновь возрождается пантеизм в форме разветвленной системы социальных верований. С одной только разницей, что Пан в этой онтологической ситуации сакрализирует собой уже не стихийные силы Природы, а упорядоченные силы Общества. Этот феномен «секуляризированной религиозности» целесообразно обозначить термином социотеизм.
Как полагает Ортега-и-Гассет, верования представляют собой наиболее глубокий, базисный слой любой жизненной архитектуры. В какую бы эпоху человек не жил, он живет верованиями и именно поэтому обычно о них особо не размышляет. Если человек идеями обладает, то верованиями он не просто обладает – он ими является. В каждой человеческой жизни есть базовые, фундаментальные, радикальные верования и вытекающие из них, опирающиеся на них производные и вторичные верования. Тот факт, что верования имеют определенную структуру и иерархию, позволяет увидеть их скрытый порядок и понять жизнь – и свою, и чужую; и современную жизнь, и жизнь другой эпохи. Ортега-и-Гассет считает, что исследование любой экзистенциальной формы – существования человека, народа, эпохи – должно начинаться с обзора системы убеждений в процессе изучения которой необходимо прежде всего выявить фундаментальное, решающее верование, поддерживающее и оживляющее все остальные верования[519]. Суетная вера в человека восходящая к пантеистическим суе-вериям обретает форму организованного социального дискурса, внутренняя логика которого со временем все более сциентизируется. «Это религиозный век, - пишет Леви, характеризуя сущность ХХ века, - более религиозный без сомнения, нежели какой-либо другой, но отмеченный языческой религией, боги которой «идолы из камня и дерева», именуются Государством, Природой, Лагерями или Партией… Партией?»[520]. Вера в общество, если она выступает истинным убеждением, должна предполагать веру в человека, которая в свою очередь должна базироваться на вере в божество, благодаря которому существует и человек и общество. Слепая же вера в общество является псевдорелигиозным основанием разветвленной практики подавления Человека, которая с особым размахом осуществляется в условиях социального тоталитаризма.
Социальная форма веры – это целый спектр верований отдельных социальных групп, общностей, институций, организаций, в момент их временного единения скрепляемая идеологией. Французский философ Жан-Люк Нанси разрабатывая проблему феномена "сообщества", понимаемого им не в качестве организованной тотальности, а как сеть сингулярностей, утверждает, что каждая из них выставляет других на грань существования, заставляет обнаруживать их пределы. В основе плюрализма социальных верований лежит плюрализм интересов разнообразных социальных групп, осознающие не только свои онтологические пределы, но и осуществляющие свою экспансию в жизненные пределы противостоящих им групп и общностей. «Чтобы все служили единой системе целей, предусмотренных социальным планом, - пишет Ф.А.Хайек, - лучше всего заставить каждого уверовать в эти цели. Для успешной работы тоталитарной машины одного принуждения недостаточно. Важно еще, чтобы люди приняли общие цели как свои собственные. И хотя соответствующие убеждения навязывают им извне, они должны стать внутренними убеждениями, общей верой, благодаря которой каждый индивид сам действует в «запланированном» направлении»[521].
Вера антропного субъекта в Родовое Именитство – этого развернутого Множественного, господствовавшая на этапе «восхождения» Культуры заместившая собой веру в Единого, на фазе «прогрессивного восхождения» Цивилизации замещается верой в прескриптивно упорядоченную и организованную часть Множественного – Социальную Организацию. На смену антропотеизму приходит социотеизм. Если Человек, вытесняя Бога, пытался стать Человекобогом, то Социум, вытесняя Человека, вознамерился стать Социочеловеком. Как в свое время антропономия превратилась в антропную форму теономии, так и антропо-социономия постепенно модифицировалась в социономию. Социальный фетишизм и идолопоклонничество начинают составлять основное содержание социальных верований, заместивших собой веру в Бога и Человека. Вера в абсолютное и вера в прогресс сливаются в единую религию имя которой Социальная Идеология.
Если абсолютный миф есть «слабая версия само-бытия», а относительные культурологические мифы – «слабо-сильные версии со-бытия», то социальные утопии являются «сильными версиями социального бытия», актуализация которых возможна лишь при использовании массированного насилия. В условиях социальной тотальности ненасильственная спонтанность «онтологической слабости» характерная для самоинтерпретирующейся абсолютной мифологемы не в состоянии реализоваться «сама собой», для того, чтобы социальная идея овладела массами необходим уже не только Интерпретатор но и Организатор. Оказавшись в плену социальных утопий, человек утрачивает истинную связь с мирозданием, выпадает и из апофатической метаистории и метафорической истории, становится заложником историцизма утопического по своей. Как только антропный принцип окончательно вытесняется социальным принципом, судьба человеческой экзистенции начинает тотально предопределяться все более радикализирующейся социальной утопией.
Забвение всего святого и человеческого позволило особо жестко центрировать экзистенцию на самом низшем полюсе из проявленных форм бытия – Социуме. Сакрализированная автономия социального существа оказалась сущим застенком, чистилищем для всего того, что в нем еще сохранилось от Бога и Человека. Если продолжить рассуждения Фр.Баадера, то суть социального акта вселенской драмы заключается в том, что общество захотело быть обществом без человека, но человек не хотел быть человеком без общества, а потому и согласился стать его дробной частичкой. Как в свое время Новозаветный Бог решается на отчаянный шаг, принося самого Себя в жертву родовой Культуре во имя спасения человечества, так и человек на новом изломе истории пожертвовал своим родовым Именитством и Культурой, чтобы спасти социальную Цивилизацию. Интенциональный по внутреннему источнику абсолютный миф окончательно замещается мифом относительным и внешним - экстенциальной идеологией, которая и становится социальной формой веры, веры в социальную предопределенность человеческой судьбы. Если для родового человечества Бог, по утверждению Ницше, оказался довольной крайней гипотезой, то для социального субъекта уже сам человек становится весьма абстрактным понятием. Вслед за гипотетической сакральностью человека из социально оформленной экзистенции вытесняется и антропная идея, заклейменная идеологией в качестве «абстрактного гуманизма» далекого от реалий массового Общества или общества Масс. Вера в творческую спонтанность человека замещается верой в социальную упорядоченность – в организацию. Социальная организация становится Кумиром массового человека, а ее персонификаторы – божествами, что наиболее явно наблюдается в предельно бюрократизированной социальной системе. Нецелостные индивиды начинают относиться к тем кто занимает более высокую ступеньку в социальной иерархии не иначе как к социоморфным божкам, перенося на них всю ту гамму чувств, которая формировалась ранее в сфере интимных отношений человека с Человеком и с Богом. Социальная иерархия поддерживается уже не верованиями в человеческие качества, объективация которых составляет человеческую общность, а верованиями в их «священные» социальные статусы, которыми те, обязаны социальной общности. Совокупность социальных статусов организации составляет ее «сакральную ауру», поддерживаемую иерархической системой долженствования.
В социально оформленном мире древнейшие архетипы человеческого бессознательного становятся объектом социальной магии, посредством которой элита изнутри принуждает массу осуществлять социально полезные акты, сколь иррациональными по сути своей они бы не являлись. С вытеснением человеческого из экзистенции принцип веры с эвалюативных, ценностных форм самосо-знания переносится на все более прескриптивные формы знания, совокупность которых и составляет «научную основу» социальной идеологии Отныне Человек перестает быть центром своего собственного самосо-знания, теперь все в нем вращается не вокруг антропной со-бытийности, а внешнего социального бытия. Социальные верования, основывающиеся на прескриптивных знаниях становятся основным инструментом идеологического закабаления человека, превращения его в винтик бездушной социальной машины.
Социальная вера может основываться лишь на безверии в человека, как и атеизм – на безбожной вере в него. Социотеизм, вера в общество содержит в себе внутреннее противоречие, вызванное отрицанием человечности во имя социального прогресса. Чем более в обществе подавляется человек, тем более оно им воспринимается как воплощение предельнной святости. Социотеизм как и любая ложная вера содержит в себе нигилистическое отношение ко всему тому, что не не в состоянии абсорбироваться социумом. Он есть не только высшая форма социальных верований, но и высшая форма социального нигилизма. Социальный нигилизм есть внутреннее основание идеологии прогресса.
С вытеснением человеческого из экзистенции собственно человеческое самосознание модифицируется в общественную форму сознания или общественное сознание. Чтобы нецелостный человек воспринимал безличные социальные законы в качестве объективных и непреложных необходимо было его индивидуальную душу преобразовать, модифицировать в надиндивидуальное «общественное сознание». Историцизм весьма легко это осуществил посредством внедрения в индивидуальное сознание веру в незыблемость социальных оснований человеческого существования - социономии. Общественное сознание есть не что иное как отчужденное от человека родовое самосознание, выступающее в социально превращенной (точнее превратной) форме в качестве осознающего «себя» вне- и надчеловеческого общественного бытия. Такая операция на Духе произошла в процессе обособления социального универсума от универсума человеческого, замены анропономии социономией. Процесс вытеснения человека из социально реформируемой экзистенции сопровождался отчуждением обществом от него родовых сущностных сил и присвоением им его духовности. «Дух общества», «общественное сознание» становятся столь расхожими категориями социологизма, что их достоверность уже не вызывает никаких сомнений у обездушенной человеко-массы. Наиболее явно абсолютизация общественной формы сознания нашло свое отражение в различного рода организмических теориях, согласно которым человек всего лишь зависимый член социального организма, саморганизующимся и упорядочивающимся в онтологическую целостность, в целостность «социальной вещи», «социальной субстанции» посредством отнюдь не индивидуального, а общественного сознания.
Социальная идеологема, как ложная форма мифотворчества возводит общественную жизнь нецелостного индивида в ранг Абсолюта, и в то же время пытается придать собственно человеческим чувствам и отношениям предельную социальную оформленность и предзаданность. Известно что социологизмом, который есть не что иное как сциентизированная социальная идеология, именно социальный субъект наделяется абсолютным ментальным статусом, объявляется идеальным человеческим типом завершающим собою галлерею персонажей Всемирной истории. Социальное, а не человеческое в экзистенции конституируется социологизмом в качестве высшей и идеальной формы сущего, которую человечеству предстоит обрести в «прекрасном будущем», составляющим якобы основную цель истории. Противостояние в экзистенции крайне неэффективной и «абстрактной» человечности и весьма «действенной» социальности, естественно решается общественным сознанием в пользу социальной целесообразности.
С оформлением «общественного сознания» в качестве сциентизированной системы социальных верований, начинается борьба прескриптивной формы дискурса цивилизации против ценностностного дискурса культуры. На смену эвалюативной мифологии приходит мифология социальная – идеология в ее «чистом» виде - в виде прескриптивно оформленных социальных ожиданий. Социальный миф необходимо понимать в качестве разветвленной апологии отнюдь не потребностей человека, а законов необходимости, составляющих суть общественного прогресса. Разветвленный миф всегда выполняет три взаимосвязанные метаисторические функции: объяснение прошлого, оправдание настоящего и надежду на будущее. Если истинный миф все эти три компонента относит к развертывающейся трансцендентной целостности, особо выделяя в нем человеческую экзистенцию, то ложный социальный миф под моделируемой им целостностью подразумевает лишь становление новейшей формы цивилизации, социальную ретроспекцию которой тотально проецирует на всю метаисторическую вертикаль перманентно развертывающейся человеческой экзистенции. Социальная идеология как ложная мифология таким образом содержит в себе, если использовать типологию времен, разработанную бл. Августином, свидетельства о социальном настоящем прошлого, социальном настоящем настоящего и социальным настоящим будущего. Мы придерживаемся, исходя их духа субъектоцентристского мировоззрения, иной, нежели августианская, онтологической градации времен, основанием которой составляет не настоящее, стремящееся стать будущим, а прошлое восходящее к Первоначалам, а именно: прошлое прошлого, прошлое настоящего и прошлое будущего. Истинное настоящее есть не что иное как исторически воплощенная историческая перспектива, содержавшаяся неявно в прошлом – прошлое настоящего. «Настоящее настоящего», конституируемое общественным сознанием, в основном, является ложной и фиктивной овремененной онтологией, в связи с ее отпадением Цивилизации от Культуры и Культа, а потому и рационализирует историческую ретроспективу таким образом, чтобы обнаружить в ней лишь обратную проекцию искаженных историцизмом современных социальных форм, но отнюдь не их чистые метаисторические праформы, имплицитно содержавшихся в культурно-ценностных и культово-символических прафеноменах. Ностальгия по «прошлому настоящего» у социального субъекта, не подкрепленная глубинной установкой к возрождению в Духе и Культуре, скорее всего вызывается необходимостью искусственной сакрализации всего того в истории, что составляет существо «настоящего настоящего». Если человек изначально конституируется социологизмом в качестве совокупности общественных отношений, следовательно и филогенез его внутреннего мира и история его внешнего мира оказываются редуцированными всего лишь к процессу развертывания пресловутого изначального «социального качества». Предметностью социальной мифологемы выступает лишь процесс становления цивилизации, как некоей сверхцелостности, сущностью которой выступает социоген, искусственно наделенный способностью к самотрансценденции. Отныне человек находит экзистенциальную опору уже не в символических, непостижимых глубинах Духа, и не в эфемерных ценностных интенциях Души, а в прескриптивных экстенциях Общественного Сознания.
Трансформация относительного антропного мифа в социальную утопию, а человеческого сознания в общественное сознание явилось той негативной инверсией в Духе, которая и обусловила глобальное социальное самоотчуждение человека. Феномен общественного сознания является отнюдь не порождением способностей общественного бытия к гносеологическому самоотражению, своим генезисом он обязан процессу объективации субъективного Духа и его трансформации в объективный Дух или дух Объекта. «В сложной природе понятия индивидуальной коллективности или тотальности, - писал Трёльч, - заключено сильное напряжение между общим и особенным, между общим духом отдельного, обществом и индивидами, объективным и субъективным духом»[522]. Подстрекательство к бунту против человечности во имя утверждения социальной идеи буквально пронизывает собой всю историю идеологии как социальной формы объективации субъективного духа, все без исключения утопические учения и проекты. «Духом общества» или «общественным сознанием» Человек начинает рассматриваться в качестве средства достижения идеального общества, выступающего генеральной целью историии. С возникновением социальной идеологии, обслуживающей запросы общественного прогресса, средство и цель истории конституируются на прямо противоположные: человек как средство построения идеального общества оказывается всего лишь субъективным фактором объективного развития последнего.
Трагическое положение человека в условиях гипостазированного социального развития усугубляется еще и тем, что в рамках реифицированного общественного сознания он уже не в состоянии взглянуть на себя ставшего частичным и дробным существом с позиции субъекта целостного и универсального, каким был его астрально-антропный предок. «В мире, который по существу ложен, - писал Ницше, - правдивость была бы противоестественной тенденцией: она могла бы иметь смысл лишь как средство к особенной, высшей потенции лживости. Чтобы можно было изобрести мир истинного, сущего, надо было сначала создать "правдивого" (включая сюда и то, что он сам считает себя "правдивым")»[523]. Если порой и пробиваются отдельные символические и ценностные интенции из глубин колективного бессознательного в сферу осознаваемого, то актуальное социальное самосознания, облекает их в столь превратные и ложные семантические формы, что те оказываются дополнительными «свидетельствами», в пользу святости и человечности социальной формы существования. Отныне социальная душа индивида массы, задвинувшего свое астральное и антропное Я в бессознательное уже не в состоянии пробиться не только к высшим трансцендентным смыслам, но даже утрачивает способность понимать социальную душу другого индивида, противостоящего в акте совместной деятельности. В позиционной структуре безличной социальной деятельности индивиды, занимающие контр-позиции начинают общаться между собой не как личностные индивидуальности, а как контр-личности, как контр-агенты безличного социума. «Личность в своем внутреннем существовании, в своей единственности и неповторимой судьбе, - писал Н.Бердяев, - всегда остается для общества иррациональной. Рационализация этой иррациональности есть всегда тирания общества над личностью».[524]
То, что в условиях жизни в Духе, по выражению Ницше, пользовалось самой дурной славой оказалось предметом прославления и эту неблагодарную функцию на себя берет окончательно обособившееся от высших форм сознания «общественное сознание» и ее порождение – социальная форма морали с ее категорическим императивом. Диктатура закона при этом оказывается существенно усиленной моральным самопринуждением человека. «Все то, что одобряется как моральное, - справедливо замечает Ницше, - тождественно в своей сущности со всем безнравственным и сделалось возможным, как и вообще все дальнейшее развитие морали, только при помощи безнравственных средств и для безнравственных целей; как, наоборот, все, что клеймится как безнравственное, рассматриваемое со стороны экономической, оказывается более высоким и принципиальным, и как форма развития в направлении к большей полноте жизни в то же время с необходимостью обусловливает прогресс безнравственности».[525] Законническое Насилие и моральное Самонасилие составляет ту репрессивную основу “Новейшего Завета”, под которым человек низший и законопослушный принудил скрепить своей подписью человека высшего и добродетельного.
С вытеснением человеческого из экзистенции начался процесс перманентного растабуирования родовых основ человеческого существования, процесс последовательного снятия запретов на сущностное расчеловечение человека. В связи с экспансией социального в пределы высших экзистенциалов, не только усиливается богоборчество, но и начинается активное человекоборчество. Все то, что антропный субъект в сущем очеловечил, необходимо было прежде всего расчеловечить, чтобы из элементов деантропологизированной «субстанции» отстроить новый социальный мир. Деантропологизация мира ведет не только к расчеловечению человека, но и к тотальному подчинению самого социального субъекта общности приобретшей квазисоциальную форму, в которой социальная тотальность вырождается в явный тоталитаризм основанный на насилие. «Нормальные, прочные отношения между людьми, которые разумеются под словом «правление», - писал Ортега-и-Гассет, - никогда не покоятся на силе; наоборот, лишь господствуя, человек или группа людей получают в свои руки аппарат власти, именующийся «силой»»[526]. Насилие над человеком, в основном осуществляются теми корпоративными группами в обществе, которым дано «право» сверхстатусно присваивают не ими производимые общественные блага. Таковым оговоренным в «общественном договоре» правом обладает лишь социальная элита, которая и выступает основным субъектом насилия над человеческим в человеке.
Если человек по отношению к обезличенному социуму становится «врагом поневоле», то общество, как «волющее начало» выбирает борьбу с Человеком в качестве одной из своих вполне осознанных целей, ибо «понимает» что лишь свергнув Человека с вселенского Олимпа, оно в состоянии реализоваться как «высшая форма исторического движения». Человекоборчество, борьба с проявлениями «абстрактного гуманизма» становится идеей фикс социальной идеологии. При этом историцистская линия в социальной истории получает дополнительную мотивацию, интенционально исходящую из социальной субличности Человека. Метаисторическая линия, связанная с очеловечением Социума и социализацией Человека так и оказывается нереализованным идеальным проектом. В рамках сверхсоциального проекта историцизм вполне достигает целей по «очеловечению» Общества (пресловутое «общество с человеческим лицом») не иначе как за счет расчеловечения Человека.
С вытеснением человеческого из экзистенции начинается процесс формирования социально опосредованной формы гуманизма. Здесь уже высшей формой человечности становится не божественное и не человеческое, а социальное в человеке. Именно оно и конституируется общественным сознанием в качестве социально ориентированного гуманитарного проекта. И, действительно, если человек редуцируется к его социальности, социальным сущностным силам, то именно социальное в нем и должно составлять суть гуманизма. Конституируя социальное в человеке в качестве подлинно человеческого в нем, Социум еще более расширяет свое присутствие в нем. Отнюдь не случайно, что социальная модернизация в России началась под лозунгом реализации гуманистического проекта, который оказался всего лишь идеологической завесой для установления еще более жестких правил социальной игры, партнерами которой могут быть лишь люди утратившие свой человеческий облик. Социоуподобление человека, а не человекоуподобление социума оказалось основным лейтмотивом новоявленного социального гуманизма – составной части идей так называемых «молодых реформаторов». Если чистая человечность, как полагал Н.Бердяев, есть божественное в человеке, то чистая социальность есть откровенно дьявольское в нем. И в этом основной парадокс социо-человечности, человечности к которой приложены внечеловеческие социальные мерки. «Гуманизм, демократизированный начиная с ХVШ века, - писал Бердяев, - идет по пути подчинения человека обществу, социальной обыденности, обобществляет человека, гуманизм теряет себя. Поэтому гуманизм не может быть силой, способной противостоять процессу дегуманизации. От гуманизма, как торжества серединной человечности, возможно движение в два противоположных направления - вверх и вниз, к богочеловечности и богозвериности».[527]
Социоцентристский гуманизм есть не что иное как социальная форма антигуманизма. Сохранить в себе человечность в ситуации социальной тотальности в состоянии лишь незначительная часть в обществе, и, главное вопреки его «гуманитарным нормам». Ощущение трагического, как считает неотомист Марсель, стимулирует размышления человека и человечества в современном социальном мире. «Я полагаю, - говорит он, - что человек, который стремится сконструировать себя или сотворить себя, делая себя все более ответственным, находится в оппозиции тем, кто оставляет себя и в конечном итоге дегуманизирует себя».[528] Радикальным орудием излечения социальной формы гуманизма становится по Марселю путь внутренней рефлексии – «трагической мудрости». Однако идти по этому пути способны лишь избранные, те кто в состоянии осуществлять преобразование своего сознания вопреки диктату общественного сознания.
Процессы перманентной социализации человека и столь же перманентной его дегуманизации есть две стороны единого историцистского процесса, в котором правят балом «объективные законы» социального развития и прогресса. Конституировав себя в качестве сакральной и абсолютной социальной вещи, человек начинает относиться к себе как астральному Ноумену и антропному Феномену не иначе как к фикциям досоциального сознания, которыми необходимо пренебречь. Не случайно Человек умер именно в ХХ веке, в эпоху великих гуманистических надежд и социальных свершений. Человек перестал существовать как вселенский гуманистический проект, так как революция социальных ожиданий сначала спонтанно, а затем вполне осознанно оформилась в квазисоциальный проект, основу которого составила идея процветающего Общества. Этот проект уже явно разрабатывался под интересы и потребности нецелостного социального субъекта, человека социальной массы и открыто противостоял идее Человека как целостного и универсального существа. Да и сам человек со своими стремлениями восходить к вершинам Культуры и Духа, как говорится, лежал поперек дороги ведущей к социальному прогрессу. За счет устранения человеческого в человеке и превращения последнего в «социальную производную», цивилизации удалось сломить последнее препятствие на пути своей самоабсолютизации и самоуниверсализации. Геноцид, обретший форму явного антропоцида становится основным содержанием социального тоталитаризма. Наиболее последовательно и эффективно, как это не покажется странным, он был осуществлен посредством бесчестных спекуляций на альтруизме «социальных мечтателей» и мягких демократических процедур. Не случайно, Н.Бердяев, приходит к выводу, что на альтруизме лежит печать духовного плебейства, что именно он составляет ядро идеологии ложной, механической демократии[529]. Социально превращенный гуманизм становится наиболее эффективным средством борьбы с проявлением так называемого “абстрактного гуманизма”, гуманизма абстрагированного от насущных социальных проблем индивида Массы или массового Индивида. Он оказывается даже более эффективным средством репрессивного воздействия нежели внешнее социальное насилие, которому человек в состоянии хотя бы пассивно противостоять, занимая пацифистскую позицию. Против социально превращенной формы антропного самонасилия человек ничего не может поделать, так как оно изнутри разрушает его над- и внесоциальную феноменальность.
Снятие табу с мира культурных артефактов в свою очередь приводит к снятию неявного запрета на использование человека в качестве инструментального средства для достижения целей социальной организации. Цель и средства в совокупной деятельности меняются местами, социальные цели начинают реализовываться за счет главного средства каким становится нецелостный социальный субъект. Не случайно политэкономическая доктрина определяет человека в качестве основного «средства производства». «Власть над человеком, достигнутая обществом, - пишет Маркузе, - ежедневно оправдывается его эффективностью и производительностью».[530] Но если человек однажды становится средством, то он уже вряд-ли когда-нибудь вновь возродится в качестве цели экзистенциального процесса, какие бы демагогические доводы в пользу его светлого будущего не приводила социальная идеология. Объектное отношение к человеку становится повседневной нормой социальной организации преследующей свои корпоративные цели и он уже не в состоянии восстановить в себе досоциальный уровень своей субъектности. Человек-средство своими же социогенными свойствами насильственно втянутый в совокупную систему средств производства утрачивает способность самостоятельного возрождения в человеко-цель. Если частичный субъект и становится носителем целеполагания то отнюдь не человеческого, а социального, что делает его еще более нецелостным объектом плоской социоэволюции.
Энтропия социальных структур, особо наблюдаемая в бюрократических организациях как раз и обусловлена процессом перманентного вытеснения последних остатков всего человекосоразмерного в безличной социальной деятельности. Однако чем более социосоразмерной оказывается совокупная деятельность, очищенная от своих неявных праформ, генетически связанных с антропным общением и сакральной креативностью, тем менее устойчивыми и живучими оказываются ее организационные формы. Существует прямая зависимость длительности существования социальной организации от уровня инобытийствующей в ней человечности. Абсолютная социальная организация интегрирующая деятельность абсолютно чистых социальных субличностей вещь практически невозможная, так как в качестве именно “социальной вещи”, она в состоянии функционировать и развиваться не иначе как в рамках целостной иерархии овеществленных форм человеческого присутствия в Мироздании. Как только социальная вещь достигает своих предельных форм и значений за счет тотального отчуждения от человека его высших экзистенциалов, она распадается на дурную бесконечность “социальных кварков”, свернуть которые в целостный универсум объективаций оказывается уже невозможным, так как уничтожен тот «человеческий фермент», который смог бы совершить это чудо. Как только место человека в социуме окончательно занимается «человеческим фактором», а затем и вовсе безличной социальной функцией, деградация общественной системы оказывается необратимой. Однако именно реальная возможность “социального коллапса”, в случае окончательного вытеснения последних форм человеческого присутствия в общественном организме, совершенно игнорируется объектоцентристским мировоззрением, которое занято лишь тем, что пытается создать такое “социальное тело”, которое не будет нуждаться не только в интенциях сакрального духа, но и в непредсказуемых движениях человеческой души. Социальная идеология, заменив собой религию, предварительно присвоив ее ритуальную атрибутику возникает из необходимости наращивать трагическое отчуждение человека таким образом, чтобы оно воспринималось как вполне приемлемая плата за возможность насыщения им все возрастающих социогенных потребностей.
С вытеснением человеческого из социально оформленной экзистенции возникает и все более увеличивается ассиметрия между высшими способностями и низшими потребностями человека, катастрофически нарастает невостребованность креативно-творческого потенциала личности. Общество с отпадением от Человека продолжает оставаться «человеческим обществом» лишь формально и только в связи с тем, что представляет собой онтологическую генерализацию социальных Я. В действительности оно оказывается экзистенциально противостоящим человеку, так как основу его «прогресса» отныне составляет перманентное покорение ценностного мира человека и его модификация в систему потребительных стоимостей, предназначенных отнюдь не для гармоничного «развития» целостной личности, а в целях еще большей гипертрофии социальной субличности, формирование в личности таких квазипотребностей, которые способны окончательно дезынтегрировать ментальную целостность человека, внести дисгармонию в соотношение его способностей и потребностей. «Интересы общества и вся его жизнь, - писал Зиммель, - «втискивают» индивидуума в рамки частичного неполного существования, которое полностью противоречит идеалу его собственной природы – выработке гармоничной, всесторонне развитой и законченной целостности. Разделение труда в результате бесконечно растущей конкуренции в своем наиболее законченном виде проявляется как форма, в полной мере служащая внутреннему сплочению и органичному единству – общества, а также удовлетворению его потребностей, но своей законченности и полноты эта форма достигает ценой неполноты и несовершенства индивидуума в результате неестественного втискивания его сил и способностей в узкие рамки строго специализированной деятельности, оставляющей невостребованными бесчисленные возможности применения этих сил»[531]. Совокупная социальная деятельность состоит из частных деятельностных актов, посредством которых индивиды «сцепляются» в качестве элементов «общественного организма», получая возможность посвятить себя удовлетворению потребностей других людей, поскольку другие люди заботятся об удовлетворении его потребностей. Индивиды по выражению Зиммеля «сцепляются» отнюдь не для того, чтобы сообща каждому из них актуализировать креативные способности, а лишь для того, чтобы обеспечить удовлетворение той совокупности потребностей, которые, в основном идут, на сверхкомпенсацию невостребованных способностей. Таким образом уровень социальной аноми вполне может быть определен степенью ассиметрии между способностями и потребностями целостного человека, складывающаяся под воздействием прогрессирующего разделения в совокупной деятельности общества.
В извечной альтернативе «Быть или Иметь», в условиях развертывания социальной онтологии, окончательно побеждает Иметь, при этом Бытие перестает быть чистой актуализированной субъективностью, оказывается весьма эклектичным в связи с развертыванием в нем отчужденных объективированных структур, оно становится не способным вмещать в себя в себя всю тотальность актуализированных потенциальностей человеческой феноменальности. Социальная организация берет на себя «бремя» насыщения социогенных потребностей индивидов, заполняющих ее ролевые ячейки, требуя в замен беспрекословного исполнения безличных функций. Естественно, что вне веры в цели организации человек был бы малоэффективен в ее деятельности, тем более в ситуации когда корпоративные интересы организации, как это часто бывает, входят в явное противоречие с общечеловеческими интересами. Вера в социальную организацию становится центральным моментом самонасилия, которое есть не что иное как интериоризованное внешнее социальное насилие. Не случайно совесть в социологизме определяется как интериоризованный внешний контроль. Чем больше человек верит в организацию, забывая о своем, хотя уже и неявном присутствии в надсоциальных онтологиях, тем более деструктивным оказывается его отношение к Богу и Человеку. Присваивать и потреблять социальные блага нецелостный социальный субъект в состоянии лишь активно вытесняя из ментальности последние остатки надсоциальных свойств и способностей, особенно креативных и виртуальных, восходящих к «изобильному Ничто», «божественной Благодати». Если вера в Бога есть не что иное как предельная кумуляция трансцендентных способностей на сферу сакрального в экзистенции, а вера в Человека обусловлена кумуляцией культуротворческих возможностей и их актуализацией в сфере межчеловеческих отношений, то вера в Социум обеспечивается незамысловатым набором социогенных способностей и потребностей, позволяющих статусно производить и сверхстатусно присваивать общественные блага.
Наиболее творческие способности человека оказываются социально невостребованными, на их активное сдерживание и сублимацию в социально приемлемые формы самовыражения общество затрачивает колассальные средства специально развивая для этих целей индустрию развлечений, массовую культуру густо замешанную на наркотиках, сексе и насилии. Социальное бытие активно втягивает в свои структуры лишь ту совокупность актуализированных социальных потенциальностей, которые «работают» на общественный прогресс, а не на индивидуацию социальной формы жизни. Потенциальности необходимые и достаточные для интенсивного развития социума вытягиваются изнутри вовне путем интроецирования в ментальность таких квазипотребностей, насытить которые человек в состоянии лишь будучи заключенным в рамки совокупной социальной деятельности. Потребительски ориентированная социальная технология наиболее эффективной становится тогда, когда человеческая активность входит в экзистенциальный резонанс с силовым полем социума, когда человек оказывается тотальным «социальным заключенным». Чем более шкала человеческих потребностей опускается к нижним, витальным отметкам, тем в большей зависимости от общества человек оказывается. При этом человек может искренне заблуждается по поводу истинного характера своего эмпирического бытования, принимая внешние блага, плата за которые связана с еще большим понижением его онтологической значимости, вовлечением в еще более отчужденные и репрессивные формы социальной деятельности, чуть ли не за «социальную благодать». Сверхпотребление социальных благ, квазисоциальная форма потребления вещей, отношений и людей непосредственно коррелирует с уровнем прибавочной репрессивности в обществе. В тоталитарном обществе корреляция между, если можно так выразиться, прибавочной потребительной стоимостью человека и прибавочной репрессивностью общества является абсолютной. «Вовсе не изобилие, - считает Маркузе, - является решающим фактором для примирения принципа удовольствия и принципа реальности. Единственно релевантный вопрос заключается в том, возможно ли разумное построение состояния цивилизации, при котором человеческие потребности удовлетворялись бы таким образом и в такой степени, чтобы устранить прибавочную репрессию»[532]. Ортега-и-Гассет определяет этатизм как высшую форму политики насилия и прямого действия, когда она возводится уже в норму, в систему, когда анонимные массы проводят свою волю от имени государства и средствами государства, этой анонимной машины[533]. Однако определение этатизма не учитывающее сложившейся системы квазипотребностей анонимной массы вряд-ли можно считать полным. Политика насилия выступает всего лишь внешней стороной человеческого самонасилия, орудиями которого как раз и выступают квазисоциальные потребности. Таким образом этатизм представляет собой некий социогенный синтез прибавочной репрессивности и прибавочного потребительства, суммированное насилие осуществляемое сверхцивилизацией против «бессильного» Духа и «слабосильной» Культуры. Как только Человек со своей Культурой оказывается вытесненным Общественным Законом за онтологические границы Цивилизации, так сразу же частичный социальный субъект – элемент «социального множества» - обретает возможность прогрессивного и безграничного развивития социогенных потребностей, возможность активно присваивать все то, на что ранее накладывалось табу со стороны Культа и Культуры, т.е. именно на вещи, производство которых основанно на принципе человеческого самоотчуждения. Во имя социального прогресса, человеку необходимо было отказаться уже не только от жизни в Культе, но и в Культуре. Лишь тогда, когда Общество и Человек наконец-то составили собой взаимодополнительную садо-мазохистскую онтологическую пару, произошло окончательное сращение потребностей с насилием, насилие обрело потребностную, а потребности – насильственную форму. В диспозиционной структуре социальной личности начинают господствовать уже не способности, а потребности и вторые, опираясь на механизмы внешнего и внутреннего насилия заставляют первых находиться в готовности выполнить любой «социального заказа». «Наши потребности, - писал Ницше, - вот что истолковывает мир; наши влечения и их "за" и "против". Всякое влечение есть известный вид властолюбия, всякое влечение имеет свою перспективу, которую оно хотело бы навязать как норму всем другим влечениям»[534]. Социум, привязывая к себе человека провоцированием и развертыванием в нем дурной бесконечности социогенных протребностей, получает в конце концов неограниченный доступ к его ментальным ресурсам. Как только социогенные потребности в диспозиционной структуре ментальности начинают превалировать над высшими потребностями и способностями, так с неизбежностью Человек из антропного феномена превращается в социальный эпифеномен, при этом у него как и у любой социальной вещи появляется «конкретная цена», являющаяся мерой тех социальных платежей, которые идут на насыщение его социосоразмерных потребностей в обмен на столь же социосоразмерную личностную активность. Абсолютной вещью, заполняющей сакральную пустотность его ментальности оказывается «потребительная стоимость», которую субъект, должен обрести в рамках совокупной деятельности, чтобы стать полнокровным членом единого социального организма. Не случайно категория «товар рабочая сила», становится основной категорией политической Экономии или экономической Политики. Сферой абсолютного в социально оформленной ментальности становятся социогенные качества, интериоризируемые человеком в процессе квазидеятельностного саморастворения в отчужденных от его сущности социальных структурах.
Основные при-страстия социального субъекта являются страстями, связанными с перманентным потреблением социальных вещей, статусов, отношений, а потому их вполне можно обозначить страстями при потребностях. Насыщение социогенных потребностей возводится чуть ли не в ранг генеральной задачи, решаемой на пути общественного прогресса. Если вера в Бога делает человека свободным существом, то вера в Социальный Прогресс – крайне зависимым членом общества, так как инициированные обществом его социогенные потребности становятся теми личностно превращенными социальными требованиями, во имя реализации которых человек готов пожертвовать даже своей самобытностью. Как полагает Маркузе, для любой совести, любого сознания и опыта, не принимающих господствующие общественные интересы за верховный закон мышления и поведения, - для них утвердившийся универсум потребностей и способов удовлетворения является фактом, подлежащим проверке - проверки в терминах истинности и ложности. Поскольку эти термины сплошь историчны - исторична и их объективность. Оценка потребностей и способов их удовлетворения при данных условиях предполагает нормы приоритетности - нормы, подразумевающие оптимальное развитие индивида, т.е. всех индивидов при оптимальном использовании материальных и интеллектуальных ресурсов, которыми располагает человек. «Право на окончательный ответ в вопросе, какие потребности истинны и какие ложны, - пишет Маркузе, - принадлежит самим индивидам, - но только не окончательный, т.е. в таком случае и тогда, когда они свободны, чтобы дать собственный ответ. До тех пор, пока они лишены автономии, до тех пор, пока их сознание - объект внушения и манипулирования (вплоть до глубинных инстинктов), их ответ не может считаться принадлежащим им самим»[535]. По мере того как социум наращивает темпы своего прогрессивного развития социогенные по-требности становятся все более ригористичными и непреложными в своих требований, а сомнительная в нравственном плане “революция социальных ожиданий” чреватой социальным хаосом. «Если даже допустить, - пишет Арон, - что все противоречивые требования сегодня будут удовлетворены, то нужно взять на себя риск, и иерархия предпочтений диктует порядок жертвоприношений»[536].
Социальный космос как черная дыра втягивает в свою «ненасытную утробу» и умерщвляет в ней в предметно превращенной форме не только животворящий духовный космос, но и космос человеческой культуры. Однако в цивилизацию в состоянии «интегрироваться», а точнее насильственно инкорпорироваться лишь те из элементов сущего, которые способны обретать социально полезную форму, все что не поддается социальной модификации и модернизации безжалостно уничтожается. Весь вне- и надсоциальный мир, превращенный в сплошную «зону изъятия» (геологический термин), к тому же оказывается еще и сплошной свалкой из отходов всего того, что не в состоянии переварить «индустриальный желудок» цивилизации. Попытка создать безотходную технологию утопична, ибо репрессивная социальная модернизация всего надсоциального в мире не может не вести к катастрофическому захламлению человеческой экзистенции.
Индивида, главным атрибутом которого становится желание, Леви называет “зародышем тоталитаризма”. Несомненно человек желающий вполне искренне жаждет насильственно осчастливить всех тех, кто по его мнению еще не вполне осознал прелесть насыщения социогенных потребностей. Однако в пределах своей квазисоциальной онтологии, человек прельщенный обретает отнюдь не онтологически чистое Ничто, чреватое высшими смыслами существования, а свое собственное грязное Ничтожество, делающее его жизнь бессмысленной погоней за миражами – социальными фикциями, лишь внешне выглядящие благами, однако ничего общего не имеющие ни с прежним родовым благо-родством, ни с божественной благо-датью. Сакральная благо-дать превратившаяся в свое время в антропное благо-деяние в новой экзистенциальной ситуации превращается в социальное благо-получие. Дарующим благо становится уже не Бог и не Человек, а благо-дарное Общество, сполна вознаграждающее тех, кто помогает ему активно преодолевать человеческое благо-родство, истинной родиной которого является Благодать. «Объектно-вещная... позиция,- пишет Г.С.Батищев, - ... предполагает и подразумевает, что коль скоро она - активная, то уже тем самым обладает наивысшим достоинством и правом требовать от мира в одностороннем порядке, что и зафиксировано в понятии по-требность. Она видит альтернативу только в пассивности, рабски покорной»[537]. Особо зловещий характер долженствующему добродеянию придает именно то обстоятельство, что прельщая социальными благами-дарами («бойтесь данайцев, дары приносящие»), инициирую в индивидах соответствующие им потребности-требования, оно оказывается весьма эффективным инструментом власти сверхцелостного общества над нецелостным человеком.
Социогенные потребности лишь тогда работают со знаком плюс, когда соотносятся с актуализированными способностями человека, особенно с его высшими, креативными способностями. Однако весь парадокс заключается в том, что высшие способности могут обеспечиваться лишь необходимым минимумом потребностей-требований, и, в основном, связанных с человеческой витальностью. Перевернутую картину соотношения способностей и потребностей мы обнаруживаем там и тогда, где и когда преимущественное «развитие» обретают потребности, связаные с одной стороны с внешними прельщениями, а с другой стороны с инициированными этими прельщениями внутренними желаниями, основу которых составляет страстное стремления обладать предметом прельщения – опредмеченной прелестью.
Крайне диахронная ментальная система социального субъекта может стабилизироваться лишь за счет резкого понижения уровня способностей в ней. Человек с явно выраженными социогенными потребностями, как правило, обладает неразвитой системой способностей. И чем более «прогрессируют» именно самые низшие социогенные потребности личности, тем более вымываются и регрессируют в ней наиболее высшие способности. Выпустив джина из бутылки, общество в состоянии осуществлять контроль над индивидами уже за счет развития квазипотребностей, бурный рост которых в конце концов ведет к еще большей социальной нестабильности. «Я полагаю, - пишет Фуко, что в любом обществе производство дискурса одновременно контролируется, подвергается селекции, организуется и перераспределяется с помощью некоторого числа процедур, функция которых – нейтрализовать его властные полномочия и связанные с ним опасности, обуздать непредсказуемость его событий, избежать его такой полновесной, такой угрожающей материальности»[538]. Социальная аномия как некая допустимая норма в патологии поведения массового человека напрямую коррелирует с уровнем развертывания его квазисоциальных потребностей, выступающим противоречивым фактором: обеспечивающим новый виток социального прогресса дополнительной активностью масс и одновременно усиливающий натиск асоциальных форм поведения. В конце концов все в мире начинает вращаться вокруг незамысловатой «социальной идеи», суть которой сводится к ускорению исторического процесса в целях скорейшего достижения неких предельных форм насыщении прогрессирующих социогенных потребностей. «Счастливое Сознание, - пишет Маркузе, - убеждение в том, что действительное разумно и что система продолжает производить блага - является отражением нового конформизма, рожденного переходом технологической реальности в социальное поведение. Его новизна заключается в беспрецендентной степени рационализации, поскольку он служит сохранению общества»[539].
Чем более человек социализируется тем менее по отношению к самому себе он оказывается человечным, но и тем более у него возникают потребности в присваивоении своей социальной сущности не иначе как в предельно отчужденных формах. Каждый новый виток социализации человека обеспечивается формированием еще более мощного и разветвленного комплекса потребностей к предметному самоотчуждению. «Люди, - считают Адорно и Хоркхаймер, - платят за увеличение своей власти отчуждением от той сферы, к которой она применяется».[540] Внутренняя парадоксальность истории, подмеченная С.Кьеркегором, на этапе развертывания квазисоциальных структур цивилизации, усиливается многократно.
Социально обусловленная парадоксальность истории фиксируется различными идеологическими формами сознания в качестве объективных «трудностей роста», вполне обоснованными издержками «общественного прогресса». Так, к примеру идеологи любят порассуждать на тему о том, что за блага, предоставляемые цивилизацией, человеку необходимо платить определенными издержками в экологической сфере, в сфере гуманитарных прав и свобод и проч. На этой идеологической базе возникают и паразитируют различные социоцентристские формы онтологической прагматики и праксеологии спекулирующие на социогенных потребностях и игнорирующие высшие способности человека. Предлагаемая нами субъектоцентристская концепция позволяет до предела обнажить эти иллюзорно-ложные идеологемы ("а король ведь голый") и показать за счет чьих онтологических ресурсов социальный субъект реализует свои гипертрофированные цели и интересы.
С вытеснением человеческого из экзистенции «прогрессивное развитие» внешнего мира получает существенное ускорение. Возрастание в человеческой экзистенции социальной формы движения взвинчивает темпы развертывания структур внешнего мира и столь же резко замедляет в ней все до- и вне-социальные процессы, прежде всего те процессы, которые связаны с обожением и очеловечением человека. Свертываются те проекты, которые в досоциальное время были приоритетными - культовые и культурные, придававшие движению экзистенции обратно-поступательный характер и тем самым центрировавшие ее на Первоначалах и на Неином в Сущем. Именно с обособлением социального универсума наступает переломный момент не только в истории, но и в соотношении метаистории и историцизма. В первую очередь это обусловливается тем, что от противостояния человеческого и социального в экзистенции в конечном счете выигрывает безличный социум, внешний социальный мир. «Перестройка», «ускорение» и «прогресс» становятся теми тремя китами, на которых начинает основываться новая историцистская форма развертывания Иного в Сущем. В отличие от покоящегося ноуменального начала, и обратно-поступательного движения человеческой истории, движение социальной истории становится только поступательным. В рамках социального прогресса, большая часть процессов оказываются онтологически необратимыми, их уже невозможно повернуть вспять, если даже своевременно обнаружится, что историцистская направленность заводит экзистенцию в онтологический тупик и необходимо вернуться хотя бы на исходную позицию, чтобы попытаться выйти на «столбовую дорогу», ведущую к сбалансированному развитию в универсуме. При однонаправленном поступательном движении истории становится невозможной не только символическая, но ценностная форма восхождения к прошлому, возрожденческие же проекты, посредством которых делаются попытки вернуться к экзистенциально позитивному на прошлых ступеньках нисхождения Духа, оказываются не более чем благими пожеланиями и прежде всего потому, что не принимаются псевдосоциальным Я безраздельно господствующим в ментальности. Если возрожденческие идеи порой и оформляются в качестве лозунгов, то не иначе как для целей идеологического прикрытия грядущей еще более жесткой и жестокой социальной модернизации. Не случайно социальная модернизация в России началась с выдвижения гуманистических и возрожденческих лозунгов. Но именно с этого момента исторический процесс начал обретать характер необратимых социальных самоизменений, а всякие рассуждения о человечности и гуманизме вне социальной контекстуальности довольно быстро вытеснились особо циничной социальной идеологемой, в которой уже не было места ни гуманизму, ни добродеянию. «Циник, паразит цивилизации, - писал Ортега-и-Гассет, - занят тем, что отрицает ее именно потому, что убежден в ее прочности»[541]. В рамках циничной идеологемы общества, сумевшего осуществить радикальную модернизацию под гуманистическими лозунгами именно последние начинают особо третироваться не только как абстрактные и далекие от реальной жизни, но и как весьма зловредные для законосоразмерного общественного порядка. Человеческое в человеке перестает быть не только сакрально соразмерным, но и человекосоразмерным и измеряется теперь исключительно в категориях социальной эффективности. По мере наращивания темпов развертывания и присвоения человеком «своих» социальных сущностных сил, история не только окончательно выходит из под контроля метаистории, но и начинает активно противодействовать ей, вытесняя за пределы Сущего тонкие сакральные интенции, восходящие к Абсолюту и гуманистические формы Неиного, замещая их упорядоченными структурами социально Иного.
Как только социальное окончательно сбрасывает с себя антропную форму и антропно-социальный субличность превращается в социальную личность, так сразу же темпы развертывания исторического процесса становятся на несколько порядков выше, чем были прежде. Ускорение становится неотъемлемым атрибутом социальной формы движения. По мере наращивания темпов развертывания и присвоения человеком «своих» социальных сущностных сил, история начинает все более все более подчиняться «имманентным» тенденциям поступательного хода развития. В некотором смысле история оказывается в онтологическом плане и одномерной и самотождественной. Более того исторический разум начинает отождествлять Всемирную Историю лишь с историей социальной формы движения. Опираясь на слепую веру людей в социальную организацию историцизм делает весьма ощутимым рывок в направлении создания чистого социума - обществености полностью очищенной от каких бы то ни было человеческих ферментов.
Прогресс, который становится центральным моментом социальной формы движения, явление вполне объективное, порожденное процессом объективации субъективного, социализации человеческого. В пределах деанропологизированной цивилизации социальный прогресс начинает как рок нависать над человеческой судьбой, человек безоговорочно ему подчиняется как «познанной необходимости», опасаясь что бунт против него может обернуться полной экзистенциальной катастрофой. Бытует же мнение, что снижение темпов социального прогресса ведет не только к стагнации, но и чревато гибелью человечества. Отныне социальный прогресс, а не духовное становление человека выступает главной целью истории, становится главной ценностью, во имя которой не возможно пожертвовать такой «химерой» как абстрактная человечность.
В качестве исторического феномена идея прогресса и должна была появиться именно на этапе перехода от культуры к цивилизации, так как необходимо было метафизически закрепить возникшую в экзистенции тенденцию интенсивного и ускоренного развертывания универсума социальных объективаций. Вся трагедия для человеческой истории состоит в том, что познающий разум процесс развития внешнего объективированного мира отождествил с процессом становления внутреннего мира человека, хотя именно в этот исторический момент можно было бы обнаружить явную онтологическую ассиметричность двух взаимообусловленных процессов: объективации субъективного и субъективации объективного. Уже в это переходное время вполне возможным было интуитивное прочувствование того, что используемые прогрессистские мерки к внутреннему миру человека, с неизбежностью усиливают процесс расчеловечения человека. Однако философская мысль, возникшую в связи с отпадением Социума от Человека, прогрессистскую инверсию возвела в ранг всеобщей метафизической универсалии.
Именно на этапе перехода от культуры к цивилизации, «открывается» то, что ранее было якобы «закрыто» для «познающего разума» – законы эволюции и прогресса. Это «великое открытие» становится тем «откровениям», которое кладется в парадигмальное основание предельно расширившегося социального дискурса. Немецкой классической философией, развитие которой приходится на тот период истории, который позже стал называться эпохой «бури и натиска», эпохой социальных реформаций и революций, делается решительный шаг в сторону интеллектуального конституирования «прогресса» в качестве универсального механизма самодвижения Мира. Кант и Гегель – две великие фигуры в новоевропейской философии, которые много сделали для того, чтобы субъективно-человеческое метафизически подчинить объективно-социальному в экзистенции.
Кантовский категорический императив («долг ради долга») и гегелевская идеалистическая диалектика («прогресс ради прогресса») не только вывели человеческую экзистенцию за рамки социальной истории, но и метафизически подчинили, возможное действительному, человеческое социальному. Значимость эти великих метафизических открытий состояла в том, что они, действительно, вскрывали суть отношений между Человеком, отпавшим от Бога и Социумом, отпавшим от Человека, этими категориями они фиксировали отнюдь не момент всеобщего в сущем, а лишь особенное в нем, то особенное, что составляет сущность Иного в социально оформленной действительности. Однако придав категориям «развития» и «прогресс» статус метафизических универсалий и спроецировав их на всю ретро- и перспективу человеческой метаистории, в конечном счете именно Кант и Гегель, сами того не осознавая, оказали величайшую услугу социальной действительности, пытавшейся свести на нет усилия человека сохранить онтологическую независимость от внешнего социального мира. По сути эти два великих метафизических открытия изнутри сломили духовную оппозицию человеческого социальному, конституировав социальное в качестве самодовлеющего онтологическое начала. Диалектика Гегеля, настраивавшая деятельного человека на решительное снятие всего того в сущем, что мешает скачку «из царства необходимости в царство свободы» и использования снятых экзистенциальных форм в качестве «строительного материала» для строительства новой, более прогрессивной, социальной действительности, не могла не породить нигилистического отрицания не только «преодоленных» исторических этапов, но и самих Первоистоков Сущего. Человеческое должно было раз и навсегда подчиниться социальному – таков неявный лейтмотив «категорического императива» И.Канта, требовавшего принимать любые социальные установления как должное, а диалектика Гегеля, «обнаружив», что абсолютный дух полностью воплотился в прусском государстве, потребовала беспрекословно принять его в качестве абсолютной формы социальности, ибо «действительность разумна, а разумность действительна». «Долг ради долга» и «прогресс ради прогресса» становятся двумя метафизическими фикциями, которые сумели придать формированию квазисоциальной действительности характер всеобщего и имманентного закона, закона, в котором приоритетность социального над человеческим оказывалась неким гносеологическим априори. Однако своей предельной рациональности идея социального прогресса обрела лишь в рамках исторического материализма. Социальный мир историческим материализмом К.Маркса и Ф.Энгельса был объявлен «высшей формы движения», которой позволительны любые формы исторического «снятия» любых предшествующих, а портому и более «низших» форм движения материи. Человеческая история начинает рассматриваться в качестве перманентного социального прогресса, сметающего на своем пути все то, что мешает объективироваться социальной идее в абсолютную социальную действительность. Насилие социального над внесоциальным в экзистенции становится основным орудием прогрессивного развития общества.
Вся история социального прогресса красноречиво свидетельствует что он может обеспечиваться лишь симметричным регрессом человеческого в экзистенции иерархического субъекта. Гипертрофированное развитие Социума и гармоничное становление Человека являются процессами онтологически ассиметричными. То что для социального субъекта явилось прогрессом, переходом от низшего к высшему, для антропной индивидуальности – закатом с последующим отмиранием. «Движение понимания, - писал Сартр, - является одновременно прогрессивным (к объектному результату) и регрессивным (я поднимаюсь к исходным условиям)”[542] Прогресс социальной, цивилизованной жизни человека мог обеспечиваться лишь регрессом его жизни в Культуре и Духе.
Нам представляется необходимым развести понятия «прогресс» и «развитие» не только в целях достижения необходимой чистоты метафизической рефлексии, но и преодоления спекуляций социологизма, который тот осуществляет, отождествляя эти разные по смыслу понятия. Развитие предполагает последовательное восхождение феномена от низших форм к высшим, но не иначе как за счет актуализации его имманентных потенциальностей и той внутренней энергетики, которую данный феномен обретает в момент своего генезиса. Развитие есть процесс постепенного перехода имманентного в феноменальное в экзистенции. Применительно же к движению социальной формы экзистенции, развитие есть процесс «вырабатывания» внутренней социальной субличности Человека в объективированные общественные структуры. Однако это «вырабатывание» не должно происходить за счет разрушения и инкорпорирования потенций и энергетики, содержащейся в надсоциальных субличностях. Прогресс есть не только интенсивная форма развития, он всегда связан с выходом за пределы имманентного в феномене в сферу жизненных интересов других, более высших феноменов. По сути своей прогресс – это не столько высшая форма эволюции истинно сущего, сколько насильственная экспансия эклектического сущего в сферу Сверхсущее, Иного в сферу Неиного, Ничтожества в сферу Ничто.
С вытеснением человеческого из экзистенции и Человек и Социум становятся носителями, в основном, отчужденных форм существования – Иного в Сущем. Самовытеснение Человека из созидаемого им социального мира – это еще один из этапов его перманентного грехо-падения, катастрофического падения во все более низшие, а главное онтологически ничтожные формы экзистирования. Сфера Иного в Сущем начинает еще более интенсивно развиваться и социально-онтологическое ничтожество все более репрессивно противостоять своими организационно-упорядоченными структурами Неиному, реликтовые формы которого оказываются все менее востребованными на рынке социальных ожиданий.
Факты истории уникальны и не повторяются, как это имеет место в природе, однако их генерализация от эпохи к эпохе осуществляется почти по одному и тому же онтологическому алгоритму, обеспечивающему перманентное понижение онтологического статуса внутреннего мира человека и столь же ассиметричного его повышения у мира внешнего. В связи с именно такими «павилами игры», навязываемые мирозданию историцизмом, судьба Общественного Договора не могла быть более счастливой нежели судьба Божественного Завета. Грехо-падение не есть некий одноразовый акт отпадения человека от Абсолюта, оно составляет суть многоактной исторической драмы, в которой отпадение низших экзистенциалов от высших носит перманентный и, сдается, необратимый характер.
4.2. Цивилизация как социальная
объективация культуры
|
|
Культура contra цивилизация. Высшие точки подъема культуры и цивилизации не совпадают: не следует обманываться в вопросе о глубочайшем антагонизме между культурой и цивилизацией… Цивилизация желает чего-то другого, чем культура: быть может даже чего-то прямо противоположного. Фридрих Ницше. Воля к власти.
|
Своим генезисом цивилизация, как мы выяснили выше, обязана не имманентной ей социальности, а антропной культуре. Цивилизация есть социальная объективация культуры. Такая точка зрения на такое именно метаисторическое соотношение культуры и цивилизации, по крайней мере, в ХХ веке становится господствующей. Культура в своем метаисторическом развертывании ограничена с одной стороны сакральной метаисторией, а с другой – метаисторией цивилизации. Именно в ХХ веке наиболее явно обнажились ее верхний и нижний онтологические пределы. Такая метаисторическая континуальность культуры дает возможность исследовать ее в качестве особой онтологической целостности и завершенности. Согласно Арону, полный цикл определенной формы бытия наиболее явно себя обнаруживает познающему разуму, если находится между концом цикла предшествующей и началом цикла последующей формы бытия, когда он взят в некую «гносеологическую вилку». С выделением и обособлением западной цивилизации, до предела обнажились ее нижние онтологические пределы культуры.
Ницше хорошо увидел момент перехода культуры в цивилизацию, теоретически предвосхитив появление «сверхчеловека». Он вполне ожидал, что за символической гибелью Бога, положившей начало онтологическому обособлению культуры, непременно должна последовать ценностное поражение самого Человека, вне которой цивилизация не в состоянии стать автономной онтологией. С распадом феноменальной целостности Человека и ее дробления на множество ментальных осколков, ночинает свой исторический отсчет социальная форма бытия. Цивилизация обретает мощный импульс к самодвижению именно с того момента, как только культура заканчила полный цикл своего исторического развертывания. Именно на этапе перехода метаистории от культуры к цивилизации, культура становится доступной историческому сознанию в качестве некоей завершенной предметности. Хотя применительно к целостному метаисторическому этапу понятия «начало» и «конец» являются весьма метафорическими, в связи с тем, что «началу» эвалюативной культуры предшествовали неявная ее трансцендентная форма, а за «концом» следуют социально и рационально превращенные формы культуры, однако именно в этих метаисторических пределах, ограниченных культом и цивилизацией, культура обретает свою явную онтологическую завершенность и целостность.
Однако не только в этот метаисторический период обнажается «нижняя» граница антропной культуры, но и начинает вполне обозначаться «верхний» предел социальной цивилизации, хотя она своими неявными праформами восходит, как мы выяснили выше, к сакральной протоцивилизации. С образованием вполне автономного универсума субъектно-объектных отношений начинается социальный этап в развертывании всеобщего метаисторического процесса, на котором уже не Культу и Культуре, а именно Цивилизации принадлежит особая конституирующая роль в человеческой экзистенции. Именно с эпохи обособления и восхождения Цивилизации история конституируется самосознанием как история общественного Прогресса или прогресса Общества. Цивилизация в этой новой метаисторической ситуации оказывается тем онтологическим центром, из которого развертываются социальные сущностные силы человека и под воздействием совокупной деятельности свертываются в особую онтологию - социальный универсум. Социальный субъект вовлеченный своим становлением в иерархический метаисторический поток обретает свою особую историю, содержанием которой является перманентный процесс объективации субъективного и становление на его основе социальной формы организации, составляющей ядро развивающейся цивилизации.
Чем же по-существу отличается цивилизация от культуры? Вряд-ли мы сумеем дать исчерпывающий перечень онтологических особенностей каждой из них, так как в нашу эпоху, если история культуры уже, в основном завершилась, то история цивилизации, в особенности ее западная модальность, лишь только клонится к своей завершенности. Более основательно соотнести между собой эти две метаисторические целостности представится возможным тем мыслителям, которые будут жить в эпоху перехода всемирной истории от цивилизации к технологии. Однако уже сейчас можно наметить наиболее очевидные сущностные различия между культурой и цивилизацией.
Первой важной особенностью отличающей цивилизацию от культуры является ее ярко выраженная социальность и антиантропная направленность. Если культура призвана закреплять собственно человеческое в человеческой экзистенции и явно служит антропному субъекту всеми своими ценностными доминионами, то цивилизация призвана социальному в экзистенции придавать системный и самодовлеющий характер. Так марксизм рассматривает цивилизацию в качестве той фазы общественного развития, с которой берет свое начало история современного индустриального общества, целью которого является производство прибавочного продукта. “Цивилизация, - писал Ф.Энгельс, - является той ступенью общественного развития, на которой разделение труда, вытекающий из него обмен между отдельными лицами и объединяющее оба процесса товарное производство достигают полного расцвета и производят переворот во всем прежнем обществе”[543]. Суть цивилизационного переворота, считал Ф.Энгельс, состоит в том, что целью общественного развития становится отнюдь не удовлетворение собственно человеческих потребностей, как это наблюдается в архаичных культурах, но именно производство прибавочного продукта, идущего на удовлетворение тех потребностей, которые самим производством провоцируются, что дает возможность целенаправленно придавать социальному прогрессу необходимые ускорение и необратимость. Идея социальной сущности цивилизации разделяется подавляющим большинством современных философов и историков.
Крупнейший мыслитель ХХ века, каким является английский историк А.Дж.Тойнби, в своем многотомном труде «Постижение истории» утверждает, что в целях получения наиболее достоверной картины исторического процесса необходимо «отождествить цивилизацию с состоянием общества, в котором существует, хотя и незначительное, меньшинство населения, свободное от задачи не только производить продукты питания, но и быть вовлеченным в какую-либо область человеческой деятельности – промышленности и торговли, - которая необходима для воспроизводства материальной жизни общества на цивилизованном уровне»[544]. Цивилизация есть вполне определенная онтология, отличная от культуры, а именно такая онтология, в пределах которой инициируется, транслируется и расширенно воспроизводится социальный опыт человечества.
Вторым отличительным признаком цивилизации выступает отсутствие в ней уникального творческого начала, креационистская и продуктивная деятельность замещена в ней деятельностью репродуктивной, обусловленной необходимостью расширенного воспроизводства социального опыта по уже известным рациональным шаблонам, эталонам, схемам. В этой новой онтологической ситуации человечество оказывается перед историческим выбором между продуктивным и репродуктивным способами формирования совокупного социального опыта и отдает предпочтение второму, позволяющему существенно экономить личность за счет привлечения внеличностных ресурсов. «Открываются, - писал С.Н.Булгаков, - два пути для осуществления творческих способностей человека: путь цивилизации и путь творчества (культуры). Цивилизация есть приспособление к условиям природной жизни. Культура - творческое отношение человека к миру и к самому себе, когда человек на свой труд в мире налагает печать своего духа. Впрочем, нет абсолютной культуры и абсолютной цивилизации, потому что человек не может быть до конца рабом, ни до конца творцом»[545]. Если культура есть средоточие актуализированных человеческих потенциальностей, то цивилизация – объективация тех актуализированных потенциальностей, которые поддаются обработке средствами «социальной технологии». Однако это не означает, что в пределах цивилизации нет места творчеству, оно присутствует в ней, однако не в качестве самодовлеющего начала, а теми своими функциями, которые способствуют возникновению социально опосредованных инноваций столь необходимых для придания социальному прогрессу все более ускоренного развития. Социальные инновации, как считает Тойнби не могут возникнуть внутри самой социальной динамики, так как им противится традиционалистское по своим ориентациям правящее меньшинство в обществе. Своим возникновением инновации обязаны деятельности творческого меньшинства, которое их продуцирует, преодолевая сопротивление нетворческого большинства общества. Напрашивается предположение, что творческое меньшинство в пределах цивилизационной фазы истории есть не что иное как реликт творческого большинства, составлявшей ранее ментальный базис культурной фазы, нетворческое меньшинство по мере его перерастания в ментальную основу социума, превратившись в конце концов в его рутинное большинство, рекрутирует из своей среды то самое правящее меньшинство, которое заполняет собой все ячейки властных структур. Внедрение инноваций в социальную традицию обязано феномену трансференции, что означает передачу, перенесение результатов духовной работы личности в сферу внешних социо-культурных отношений. Чтобы феномен трансференции действия имел место, необходимо, чтобы в индивидуальной или коллективной биографии, в которой будет совершен творческий акт ответа на брошенный вызов, существовал аналог такой трансференции. И этим реальным аналогом является движение ухода творческого субъекта и его последующего возврата в общество. Тойнби рассматривает Уход-и-Возврат “двухтактный” ритм творческих актов, составляющих процесс роста. Творческая личность, уходя, выпадая из своего социального окружения, преображенная, возвращается затем в то же самое окружение; возвращается, наделенная новыми способностями и новыми силами. Уход позволяет личности реализовать свои индивидуальные потенции, которые не могли бы найти выражения, подавленные прессом социальных обязательств, неизбежных в обществе. Уход дает возможность, а может быть, и является необходимым условием духовного преображения; но в то же время преображение лишено цели и смысла, если оно не становится прелюдией к возвращению преображенной личности в общество, из которого она удалилась. Возвращение есть сущность всего движения, равно как и его окончательная цель. Однако признаком процесса роста является не наличие особо оригинальных инноваций, ведущих к усложнению социальной системы, а лишь таких нововведений, которые способны вести ее к прогрессирующему упрощению. Итогом такого социально опосредованного творческого акта, считает Тойнби отнюдь не большинство поднимается на более высокий уровень, а творческое меньшинство опускается уровнем ниже[546].
Цивилизация стягивает в единый социальный узел лишь те онтологические процессы, которые не нуждаются в энергетической подпитке уникальными личностными интенциями. «Культура, - писал Бердяев, - есть явление глубоко индивидуальное и неповторимое. Цивилизация же есть явление общее и повсюду повторяющееся»[547]. Цивилизация есть та часть овнешненной культуры, которая утрачивает непосредственную связь со своим собственным ценностным ядром, а потому в состоянии воспроизводиться сугубо нормативным способом, в пределах сугубо внешних форм бытования. К цивилизации таким образом можно отнести все то в культуре, что является продуктами распада ее ценностных структур, предельное овнешнение которых и создает внутреннюю субстанцию нормативной цивилизации. Все то, что в культуре овнешняется и обмирщвляется затем модифицируется во внутреннее состояние цивилизации, оказывается ее «внутренним миром». Шпенглер считал, что у культурного человека энергия обращена вовнутрь, у цивилизованного вовне[548]. Цивилизация – это культура на выворот, в ней культура затвердевает в виде таких артефактов, которые окончательно утрачивают ценностную определенность, однако составляя собой псевдоценностную облицовку внешнего фасада цивилизации, они искусно прикрывают собой довольно банальную архитектонику общественного бытия. «Цивилизация, - писал Шпенглер, - есть неизбежная судьба всякой культуры… Цивилизация есть совокупность крайне внешних и крайне искусственных состояний, к которым способны люди, достигшие последних стадий развития. Цивилизация есть завершение»[549]. В цивилизации угасает подлинное искусство, хотя всячески провоцируется искус к нему, обольщение личности творчеством необходимо ей в сугубо прагматических целях, в целях социального закабаления творческих индивидуальностей.
Третьей важной отличительной чертой цивилизации является то, что основным объектом ее силового воздействия является основной персонаж истории - Человек. Э.Фромм делает свой печальный вывод: по мере цивилизационного прогресса степень деструктивности возрастает. Г.Маркузе приходит к не менее пессимистическому выводу: обратной стороной производства прибавочного продукта, осуществляемого в рамках цивилизации, выступает производство прибавочного подавления личности этот продукт производящей. “Внутри целостной структуры подавляемой личности, - пишет он, - доля прибавочного подавления отражает специфические общественные условия, в которых реализуются специфические интересы господства. Именно степень этого прибавочного подавления и может дать стандарт измерения: чем оно меньше, тем менее репрессивной может считаться данная ступень цивилизации»[550]. Чем выше уровень прибавочного подавления человека тем выше оказывается социетальный уровень цивилизации, а следовательно и степень ее прогрессивности. Он предлагает ранжировать цивилизации не только по уровню производимого «прибавочного продукта», но и по достигнутой степени «прибавочного подавления», согласно этих критериев современная индустриальная цивилизация является не только самой производительной, но и самой репрессивной, в этом плане она побила все «цивилизационные рекорды» всемирной истории.
Можно было бы привести и ряд других существенных отличий цивилизации от культуры, однако все они вполне выводимы из ее основного отличия, каким выступает ее социальная сущность. А потому цивилизацию вполне можно определить в качестве социально объективированной культуры и это будет вполне сущностным ее определением. Есть соблазн и культуре дать соотносительное с цивилизацией определение, обозначив ее в качестве антропно субъективированной цивилизации, однако это будет далеко не сущностное, а скорее всего одно из функциональных ее определений, так как из низшей высшая онтологии в принципе не может быть реконструирована в ее изначальной целостности и тотальности. Культура, как мы показали это в предыдущей главе, есть антропная субъективация культа и редуция ее сущности к цивилизации, что довольно часто наблюдается в объектоцентристски ориентированных социологических доктринах, преследует лишь сугубо идеологические цели. Рассуждая о понятиях “культура” и “цивилизация”, Маркузе подчеркивает, что они в принципе не могут быть синонимичными. Культура им связывается с саморазвитием человека в истории, реализующемся через стремление к трансисторическим ценностям-целям, в то время как цивилизация выглядит сферой стандартного, стереотипного, диктуемого социальной необходимостью.[551] Согласно маркузеанской интерпретации, культура есть сфера духовного труда, праздничности, досуга, свободы, неоперационального мышления, тогда как цивилизация имеет дело по преимуществу с материальным трудом, работой в строго определенные часы, природной необходимостью и операциональным мышлением.
Отождествление цивилизации с обществом, а общества со всем историческим процессом, приводит к заманчивой идее использовать понятие «цивилизация» в качестве онтологической единицы членения истории на отдельные этапы, фазы, формации. Непомерно высокая роль, которую играет общество в жизни современного человека не могло не подвести историков к подобного рода гносеологическому искушению. Первым из наиболее крупных мыслителей на такой искушение поддался А.Дж.Тойнби. С его легкой руки и методологического благословения в современной историософии Всемирная История все чаще редуцируется к истории цивилизации. Приверженцам такого рода редукции вполне искренне верят, что наконец-то историософская алхимия блестяще удалась и что теперь вполне возможным становится построение такого ретроспективного исторического ряда, по отношению к которому современная западная цивилизация будет выполнять роль целостной и завершенной модели, той именно модели к которой всегда в своем историческом восхождении хотя и неосознанно стремился социоген или социальный прафеномен, но прафеномен однако отнюдь не в гетевском, а гегельянском его понимании, не в качестве эманирующего Ничто, а в качестве эвалюционирующего Нечто. Если бы редукция Всемирной Истории к истории цивилизации удалась, то следующим шагом должна стать редукция метаистории к эмпирической истории, а трансрациональной историософии к вполне рациональному историческому разуму. “Речь идет о том, - пишет Арон, - чтобы понять истоки, функцию и характерные черты философии истории. Чем она отличается от исторической науки, целью которой тоже является воспроизведение и интерпретация прошлого человечества? Является ли она пережитком донаучного периода или необходима цивилизациям, которые больше не могут обойтись как без глобального видения своего хода, так и без изображения мира?”[552]. Посредством сведения многомерной мировой истории к истории цивилизации в конечном счете пытались свести к современной фазе исторического процесса не только всю горизонталь Истории, но вертикаль Метаистории. Не потому ли современные историки менее всего исследуют локальные и генерализованные культурные ареалы и все свое внимание сосредоточили на истории цивилизации, они наконец-то обнаружили «подлинный объект» для непосредственных эмпирических наблюдений. Довольно быстро история человечества оказалась сведеной к истории общества, в которой действуют не столько люди, сколько независящие от их субъективности объективные законы становления и развития.
Начиная с Тойнби, цивилизация становится основным объектом исторических исследований, а призыв Шпенглера рассматривать всемирную историю в качестве развертывания “культурного комплекса” так и не был историками услышан. Уж слишком многомерным, а потому и рационально неоднозначным оказался этот парадигмальный конструкт, тем более в структуру локальных культур совершенно не вписывались посткультурные цивилизованные общности, в которых не общечеловеческие ценности, а безличные нормы права выполняют системообразующую функцию. Однако такое резкое изменение методологических установок в науках о человеке и обществе несомненно влечет за собой ряд деструктивных для самого человека последствий. Как справедлипо полагает Луис Фарре «чрезвычайное внимание к цивилизации является угрозой культурной аутентичности»[553].
Если культурный дуализм возник в недрах самого Духа, то цивилизованный дуализм – в недрах Культуры. Социальный субъект перед лицом цивилизационного дуализма оказался стесненным границами родовой культуры. Однако покинув их, он перестал быть и собственно культурным человеком, с утратой же культурной определенности, он утратил и свою антропную аутентичность, а потому и вынужден был всемерно наращивать в своей ментальности именно ту совокупность социогенных качеств, которые давали бы возможность обрести новую социальную форму аутентичности. Действительно, вне цивилизационного контекста невозможно понять сущность нового исторического типажа, кардинальным образом изменившего свое обличие, наконец-то под воздействием цивилизационных условий существования из «антропной личинки» вылупилась «социальная бабочка». Обретение индивидом социальной идентичност могло произойти лишь за счет утраты какого-либо интереса к своей антропной аутентичности. Именно эта ментальная метаморфоза происшедшая с человеком и оказалась основной предпосылкой для создания историософской модели, аксиоматическую основу которой стали составлять уже не ценности антропной культуры, а нормативы социальной цивилизации.
Цивилизация все более рассматривается современным историческим разумом в качестве локальных «экзистенциальных ансамблей» на которые распадается Всемирная история. Неотомист Жан Ладрьер в книге “Социальная жизнь и судьба” пишет: “Можно дать следующее определение истории: это общая последовательность человеческих действий, рассматриваемых как в их свершении, так и с точки зрения их результата (институты и культурные формы) в той мере, в какой они составляют связанные изолированные ансамбли, называемые цивилизациями”[554]. Наиболее последовательно эту метаисторическую идею реализовал А.Дж.Тойнби. Пытаясь примирить функционалистский подход к культуре с аксиологическим, в отличие от Шпенглера, британский теоретик основной единицей членения исторического процесса делает не культуру, а цивилизацию. Тойнби обнаружив, что в историософских построениях Шпенглера история оказывается парадоксальным образом «замкнутой» в отдельных локальных культурах, связь между которыми отсутствует, решил кардинально преодолеть этот методологический дефект представив концепцию локальных цивилизаций в духе «открытости» культурно-исторического процесса. По Тойнби история человеческого общества распадается на такие «локальные цивилизации» между которыми существует явная социальная преемственность, обусловленная изначальной целостностью Всемирной Истории. Однако преемственность между недолговечными локальными цивилизациями он понимает отнюдь с позиции позитивистской традиции в историографии. “Предполагает ли термин “непрерывность истории” в общепринятом смысле, - пишет Тойнби, - что масса, момент, объем, скорость и направление потока человеческой жизни постоянны или если не буквально постоянны, то изменяются в столь же узких границах, что поправкой можно пренебречь? Если этот термин предполагает импликации такого рода, то, как бы ни был он привлекателен, мы придем к серьезным ошибкам”[555]. Тойнби резко выступает против тезиса о “единстве цивилизации”, считая его порождением ложной историософской концепции, весьма популярной среди современных ему западных историков. Одной из причин, породивших это заблуждение, по его мнению заключается в том, что современная западная цивилизация распространила свою экономическую систему по всему миру. За экономической унификацией, которая зиждется на западном основании, последовала и политическая унификация, имеющая то же основание и зашедшая почти столь же далеко[556]. Тойнби убежден, что тезис “единства цивилизации” прикрывает собой экспансию западной технологической цивилизации в более сложно построенные цивилизационные ансамбли, основу которых сотавляет отнюдь не технология, а сверхрациональные (символические, ценностные) факторы социального бытования. “Многие технические и технологические достижения, - пишет Тойнби, - приходили в различные части мира в различном порядке, а некоторых обществ определенные волны технического прогресса вообще никогда не достигали. Например, египетское общество так и не вышло за рамки бронзового века, а общество майя – каменного. И ни одно из известных обществ, кроме западного, не прошло путь из железного века в машинный. Однако едва ли правомерно измерять рост цивилизаций по этим параметрам и ставить тем самым нашу на самый высокий, а цивилизацию майя на самый низкий уровень”[557].
В более поздний период своего творчества Тойнби рассматривал сам факт формирования локальных цивилизаций как некий перманентный процесс ведущий к единству человечества. В совместной с Д.Каплейн работе под названием «Исследование истории», Тойнби говорит о наличии в истории тридцати шести цивилизаций, различаемые им типологически. В первую очередь он выделяет цивилизации, получившие полное развитие, и те, которые именуются им «неудавшимися» (несторианская христианская, монофизитская христианская, дальнезападная христианская и др.). Цивилизации, получившие полное развитие, Тойнби подразделяет на независимые и сателиты. Первые в свою очередь делятся на: цивилизации, которые не связаны с другими (среднеамериканская, андская); цивилизации, порожденные иными (сирийская, африканская, православно-христианская, западная и др.)[558]. Процесс возникновения все новых и новых локальных цивилизаций не исключающий побочных разъединительных тенденций, направлен все же на формирование всемирной цивилизации. На различных стадиях становления цивилизации Тойнби пытается обнаружить такие праформы, которые «работают» на универсализацию общественной жизни и должны составить в будущем онтологическую основу единой человеческой цивилизации.
При построении субглобальной историософии Тойнби как и до него Шпенглера постигла явная неудача по одной и той же причине, выбрана была мерка, которая по своим довольно узким онтологическим возможностям не могла быть универсальным способом членения столь многоуровневой и многомерной целостности, какой является Всемирная История. Более того «цивилизация» оказалась еще менее адекватным «мерилом» тотальной истории нежели «культура». Тойнби своими капитальными историософскими построениями по сути повторил мыслительный эксперимент поставленный до него Шпенглером, получив при этом еще более калейдоскопическую картину единой истории, демонтировал ее целостность на еще более локальные онтологические комплексы. Вместо универсума «локальных культур», была получена довольно умозрительная система «локальных цивилизаций» и при этом совершенно не достигнута предварительная исследовательская цель – представить Историю в качестве единой и целостной экзистенциальной процессуальности. На наш взгляд, всемирная история в принципе не поддается членению по какому-то одному «экзистенциальному комплексу», она имеет более сложную метаисторическую структуру, а потому в исследовательском проекте должна быть предусмотрена целая иерархия средств измерения. Прежде чем пытаться выявить основной структурный компонент исторического процесса, необходимо создать метафизический образ ее целостности. Нам импонирует идея, высказанная французским философом и социологом Р.Ароном в книге «Измерение исторического сознания», согласно которой историк даже при анализе конкретных эпох не должен отодвигать на задний план образ целостной истории. Единственно верным путем воссоздания исторических фактов, есть путь построения исследования целостностей сверху вниз, а не наоборот. «Историк, - пишет он, - разрабатывает целостности и создает значения, что представляет собой двоякую характерную черту воссоздания прошлого. Нет ничего полезнее как для развития логики науки, так и философии истории, чем строгий анализ различных типов целостностей сверху вниз… противоположность проявляется между статической целостностью и целостностью, находящейся в становлении. Средние века можно понять только благодаря тому, что им предшествовало и что последовало, т.е. благодаря античному миру и современной эпохе… Чисто идеальная целостность, как религия, имеет другую структуру, другую форму постоянства и изменения, чем такая реальность, как капиталистический строй. С нашей точки зрения, основной проблемой при обозначении границы между наукой и философией истории является проблема самых крупных целостностей: цивилизаций (или культур на языке Шпенглера). Еще точнее: что происходит, когда историк, намереваясь уловить целостность человеческого прошлого, охватывающую совершенно различные реальности, цивилизаций, которые фактически не были связаны между собой? Пока мы находимся внутри западной цивилизации, у нас складывается впечатление, что мы не покидаем определенную историческую целостность. Каждый согласен с тем, что эта целостность носит туманный характер, что границы неразличимы, что переходы от античного мира к Средним векам и от Средних веков к современной эпохе неощутимы и что историки могут произвольно раздвигать эти разрывы. Данные сомнения неотделимы от действительности и исторического познания. Наилучший метод их преодоления – устроиться в самом сердце периода до того момента, когда отличительные черты стираются и дают возможность увидеть в основном другую целостность»[559]. И Шпенглер и Тойнби, явно обнаруживая закат западного типа культуры и цивилизации, именно эти онтологические формы конституируют в качестве высших достижений исторического промысла и прогресса. Даже в самые драматические моменты рефлексии над смыслом Всемирной Истории они не подвергают сомнению такие исходные понятия гегелевской истории философии как «развитие», «прогресс», «снятие» и проч. При всем фундаментальном значении их вкладов в современную историософию, и «Закат Европы» и «Постижение истории» явно демонстрируют не только ограниченные возможности объектного подхода, но и его мировоззренческую несостоятельность, особо проявляющуюся при формулировании глобальных прогнозов дальнейшего хода и исхода исторического процесса. Противоестественный синтез духовной апокалиптики и социального прогресса чуть ли не в геометрической прогрессии порождает все новые и новые антиномии в череде посылок объектно ориентированного исторического разума. Приведем хотя бы одно из многих внутренне антиномичных высказываний Тойнби: «Стагнация масс является фундаментальной причиной кризиса, с которым столкнулась западная цивилизация в наши дни. Явление это обнаруживается в жизни всех ныне здравствующих цивилизаций и является чертой, характеризующий процесс роста”[560]. О каком прогрессе цивилизации может идти речь если он обусловлен стагнацией масс? Но если социальный прогресс и антропная стагнация составляют две стороны единого развивающегося цивилизационного процесса, то как же его можно использовать в качестве эталона соотнесения со всей целостной метаисторической процессуальностью?
Редукция Всемирной Истории либо к истории культуры либо к истории цивилизации лишь запутывает общую картину исторической ретроспеции. К тому же «культура» и «цивилизация» в качестве избранных «мерил» оказались не вполне соотнесенными не только с тотальностью и целостностью истории, но и между собой, что придает выстроенным по их основанию глобальным историософским построениям весьма произвольный характер, а содержащиеся в них принципы вытекают отнюдь не из монистического произволения, а из плюрального методологического произвола. Хотя Шпенглер отождествляет историю с культурой, а Тойнби с цивилизацией, по существу же они говорят об одном и том же историрическом ряде событий, обладающих одними и теми же онтологическими признаками. «Понятие «цивилизация», - пишет Маркузе, - употребляется взаимозаменимо с понятием «культура»[561]. По сути мы здесь имеем дело с неявным удвоением сущности, что несомненно требует применения «бритвы Оккама», с тем чтобы затем осуществить продуктивную теоретическую фальсификацию полученные посредством такой удвоенной редукции двух глобальных метаисторических теоретизмов при внешнем подходе выглядящие и как альтернативные и как взаимодополнительные историософские концепции. Взаимная редукция культуры к цивилизации к тому же ведется при отождествлении их внутренней природы лишь с социальной сущностью человека. В пределах этих истоиософем возможно вести лишь эмпирическое исследование социально опосредованных ценностных структур замкнутых культур и явных социальных процессов локальных цивилизаций. Следовательно здесь мы к тому же обнаруживаем и редукцию онтологически неравнозначных форм социальности к ее некоему абстрактному модусу. По сути и концепция локальных культур Шпенглера и концепция локальных структур Тойнби есть весьма оригинальные вариации одной и той же концепции социальной истории человечества, восходящей к историческому материализму Маркса. Итак, одной из причин такого взамозаменяемого употребления «культуры» и «цивилизации» при построении современных социально ориентированных историософем, явилось то, что эти понятия не были разведены онтологически и не соотнесены по их значимости с целостной семантической иерархией значений, частными объективациями которой они выступают.
В своей явной форме цивилизация довольно поздний феномен истории, хотя в среде современных историков принято отождествлять с ней даже праисторические формы человеческого существования. Это подтверждает и сам Тойнби. «Если возраст Человечества равняется приблизительно 300 тыс. лет, - пишет он, - то возраст цивилизаций, отождествляемый до сих пор с длительностью человеческой истории, равен менее чем 2% данного отрезка. На этой временной шкале жизни все выявленные нами цивилизации распределяются не более чем в три поколения обществ и сосредоточены в пределах менее пятой части времени всей жизни Человечества”[562]. И тем не менее именно этот совершенно незначительный отрезок истории человечества избирается в качестве единой и универсальной меры всего того, что ей предшествовало.
Да, «цивилизация» может и должна использоваться в качестве средства онтологического членения исторического процесса, но не на всей его горизонтальной протяженности, а тем более по метаисторической вертикали, а лишь на этапе развертывания социальных сущностных сил человека. Категориями являющимися «ступеньками выделения» в целостной истории, согласно разрабатываемой нами субъектоцентристской концепции сущего, помимо «цивилизации» являются «культ», «культура» и «технология», а не какая-то одна из них.
Каким же образом выстраивать внутреннюю типологию цивилизации? Если по основанию нормативных значений, составляющих семантическую основу Права, то последнее пошло с Римской империи. Ренессанс мы обычно понимаем как выхождение за пределы правового пространства, в ценностное измерение человеческого бытия, а потому эталоном для него должен служить греческий антропный в сущности своей полис, а не римская социально ориентированная империя. Ренесансные настроения были очень устойчивыми, в эпоху заката римской государственности - это ли не свидетелство тоски цивилизованных граждан по утраченным культурным формам существования. Не случайно идеи культурного возрождения в определенной степени реализовались в Византии, которая перешла на греческий язык, а не в западной части священной римской империи, в которой латынь была определенным семантическим препятствием для интеграции современности в греческие древности. Таким образом образом раскол между западной и восточной ветвью в христианстве имеет под собой и цивилизационно-культурологическое основание. Однако не будем вторгаться в пределы эмпирической истории, в которой наши познания весьма ограничены. Наша задача состоит не в редукции метаистории к эмпирической истории, а ее историософское обоснование с монистических субъектоцентристских позиций, а потому вернемся к тому, что подсказывает нам Логос.
Семантическим основанием для выявления соотношения культа, культуры и цивилизации, согласно разрабатываемой нами субъектоцентристской мировоззренческой схематике, выступает онтологическая субординация символов культа, ценностей культуры и норм цивилизации. Нормы цивилизации от одного метаисторического этапа к другому все более обретают монадную определенность, пока наконец на этапе социогенеза человека или в социальной фазе исторического процесса не оказываются доминирующими в семантической системе совокупного деятельностного процесса, составляющего онтологическую квинтэссенцию общества (не случайно К.Маркс утверждал, что общество есть не что иное как совокупная человеческая деятельность).
По характеру метаисторических соотношений норм (прескриптивных значений) с иными семантическими монадами, цивилизацию вполне возможно структурировать на следующую последовательность ее исторических форм: а) трансцендентная (символическая) или культовая цивилизация; б) эвалюативная (ценностная) или культурная цивилизация; в) прескриптивная (нормативная) или собственно цивилизация и г) квазипрескриптивная (сверхнормативная) или псевдоцивилизация. Эти основные метаисторические формы цивилизации, обладают своей внутренней типологией, выявление которой вполне поддается обнаружением степени соотношения социальных нормативов как с символами и ценностями, так и с тем уровнем их обособления и последующего превращения в ложные прескриптивные значения призванные семантически закреплять в сущем отчужденные социальные структуры и феномены, исскуственно соединять их в онтологическую псевдоцелостность – в социально упорядоченные структуры Неиного. Вкратце охарактеризуем каждую из выделенных нами метаисторических форм цивилизации.
Трансцендентная или культовая цивилизация (символическая протоцивилизация). Если идеальное царство ценностей находится по ту сторону культуры, т.е. в культе, то высшие формы нормативов – по ту сторону цивилизации - в культе и культуре. На фазе первичного развертывания трансцендентного Ничто в Нечто, цивилизация выступала “средством воспроизводства” неявного совокупного социального опыта, складывавшегося и формировавшегося за счет индивидуализированных вкладов индивидов-микрокосмов посредством столь же неявной и спонтанной креативной само-деятельности. «В глазах христианина, - пишет Маритен, - культура и цивилизация, будучи подчиненными земной цели, должны быть соотнесены с вечной жизнью и подчинены вечной жизни, которая есть цель религии, и им надлежит обеспечивать земное благо и развитие различных естественных способностей человека, уделяя главное внимание вечным интересам личности и облегчая ей доступ к последней сверхприродной цели: это поднимает цивилизацию над ее собственным порядком»[563]. Креативный акт был совокупным лишь по форме, по своему же содержанию он носил печать явного индивидуального авторства. Социальная гармония в качестве составляющей человеческой гармонии изначально выступала составной частью предустановленной мировой гармонии. Символическая протоцивилизация не могла содержать в себе ничего такого, что изначально не предсуществовало бы в неявной трансцендентно-социальной структуре Ничто. В начальный период метаистории цивилизация в качестве некоей совокупности долженствующего протосоциального опыта опиралась на неявную прескриптивную инфраструктуру категорического императива «свободы ради свободы», которому следовал в своей креативной самодеятельности Микрокосм. К неявной трансцендентной цивилизации можно отнести все то в протобытии первопращура, что не подпадало под запреты сакрального Табу. Таким образом цивилизацию на этапе первичного становления сущего можно условно обозначить в качестве «протосоциальной реальности» или, следуя Гете – «социальным прафеноменом», трансцендентная цивилизация была неявно выраженной онтологией социального прафеномена. Ее метафорическую основу составлял Культ в его «саморастабуированной форме», т.е. в форме некоторой совокупности воплощений Неиного в Сущем, оказавшихся за «пределами» трансцендентной реальности, контролируемой разветвленной системой Табу. Условно растабуированная реальность, опосредованная отношениями креативной деятельности микрокосмов и составила в макрокосме неявную онтологическую нишу – трансцендентную протоцивилизацию, основными регуляторами которой выступили трансцендентные нормы. От явных запретов – Табу - они отличались тем, что «разрешали осуществлять то, что не запрещено». Эти неявные трансцендентные нормы, видимо и составили собой копус первичных прескрипций так называемого естественного права. Эту первичную форму права более правильно именовать космологическим правом, так как восходила она к прескриптивным интенциям Духа, а не к квазипрескриптивным экстенциям Тела, составлявшим в более поздние времена право естества. По всей вероятности «естественное право» возникло как феномен и сложилось как понятие под влиянием рационалистической редукции духовного Космоса к телесной Природе, происшедшей в самосознании человека в эпоху Просвещения и нашедшее свое метафизическое оформление усилиями Декарта, Ламетри и Жан-Жака Руссо.
Истинная цивилизация всегда есть такая онтология в пределах которой осуществляется ретрансляция живого социального опыта, первичная форма которого связана с креативной деятельностью микрокосмов. Развертывание социальных потенций Ничто сначала в неявных символических и ценностных праформах Нечто, а затем и их актуализация в целостный универсум социальных объективаций – цивилизацию – в идеале должно было осуществляться таким образом, чтобы перманентно расширяющаяся социальная множественность при всей ее феноменальности и относительной онтологической обособленности постоянно сохраняла бы известный трансцендентный гомоморфизм с исходной неразвернутом и непроявленной единой социальностью. Цивилизация как особое экзистенциальное состояние метаисторически проявленных социальных сущностных сил человека не должна была дисгармонировать с цивилизацией в качестве идеального социального проекта, неявно содержащегося в архетипических структурах Культа и феноменологических структурах Культуры.
История социального универсума, как мы выяснили выше, есть составная часть метаистории Человека и на первых порах она лишь неявно присутствовала во всеобщей космодинамике Абсолюта, а потому и была закрытой для непосредственного эмпирического наблюдения. Вот почему о социальной организации древнейших человеческих собществ мало что повествуется первичной мифологией. Однако с возникновением Человека-Микрокосма, возникают и первичные человеческие общности, обладающие неявной прасоциальной инфраструктурой, обусловленной их единой креативной деятельностью. Цивилизации-империи Древнего Мира в качестве онтологических целостностей менее всего удерживались совокупным деятельностным процессом и имманентными ему нормативными актами, они были «завязаны» на культовую форму социальной харизмы, а потому не были столь краткосрочными как империи, созданные в рамках современной западной цивилизации.
Первобытному человеку присуще было энтузиастическое, экстатическое состояние, обусловленное его всемерным служением Богу, всему тому, что «не от мира сего». И строительство, к примеру, пирамид в Древнем Египте лишь внешне выглядит неким феноменом социальной деятельности и действительности, на самом деле оно представляет собой объективацию сугубо сакрального поведения людей той исторической эпохи, в которой торжествовл принцип «не хлебом единым жив человек». Есть исторические свидетельства тому, что на строительстве пирамид из принципа не применялся принудительный труд рабов. Пирамиды как и иные памятники древнейшей цивилизации не имели иного предна-значения, кроме как культового, а потому опирались на относительно свободную самотрансценденцию глубоко верующего человека. Построение гигантских культовых сооружений несоразмерных с теми, которыми пользовался человек в своей бытовой обыденности и повседневности, было обусловлено отнюдь не его социогенными потребностями, а стремлением быть замеченным Богом, дабы соединиться с Ним в вечной и бесконечной Жизни, которая, как он искренне полагал, находится по ту сторону духовного преображения человека. Разве христианская религия с момента своего возникновения не потребовала от Человека постоянной работы по возведению «пирамиды», но уже символической - в апофатических глубинах собственной душе - всего того надсоциального в ней, что современным рациональным и объектным сознанием конституируется в качестве иррационального в экзистенции. Процесс созидание человеком храма в своей душе сродни возведению культовых сооружений в честь Бога и являет собой отнюдь не иррациональное, а трансрациональное действо, составляющее собой духовную основу «трансцендентной цивилизации».
Как известно, деятельность в ее узком смысле является категорией сугубо социальной, однако своими трансцендентальными праформами она восходит к сакральной креации («креативная деятельность»). Неявным формам деятельности соответствуют столь же неявные прасоциальные структуры в сущем. Именно эти неявные социальные прафеномены в своем движении внутри космологической спонтанности и составляли на первых порах существо протосоциальной истории или истории трансцендентной цивилизации. При таком метаисторическом подходе появляется возможность идентифицировать начальные стадии общественной жизни первобытных народов и ныне реликтовых этносов, в основном, с культовой формой цивилизации. Это позволяет в значительной мере мировоззренчески преодолевать ставшие весьма расхожими суждения о якобы социальной неполноценности и примитивности первобытных форм жизни, а также весьма плоскую редукцию многомерной экзистенции первопращура, в которой цивилизационные процессы не играли самодовлеющей роли, к современной в онтологическом отношении унифицированной и довольно примитивной в ценностно-символическом плане информационно-технологической квазицивилизации.
Соотношение Неиного и Цивилизации в Сущем должно стать центральным моментом философско-социологического первичной формы социогенезиса Человека. На начальном этапе воплощения Неиного в Сущее протосоциальные структуры в их неявной онтологической генерализированности лишь условно можно обозначить термином «цивилизация». В широком смысле Цивилизация есть не что иное как Социальная Полнота Бытия Неиного - универсум актуализированных социальных потенциальностей, трансцендированных Культом и потенцированных Культурой.
Эвалюативная или культурная цивилизация (ценностная протоцивилизация). Культурологические процессы обретают свою социальную твердь не иначе как в процессах цивилизационных. Цивилизация создавалась культурой в качестве социального основания, опираясь на которое человек в состоянии был более эффективно достраивать свою индивидуальность до родовой целостности. Социальные субъекты в культурном плане онтологически не различимы. Культурно обусловленная форма цивилизации всего лишь «системное средство» способствующее придавать дополнительную устойчивость процессу очеловечения человека, дальнейшей гуманизации среды его обитания. Если культура замысливалась в качестве обители культа, то свою собственную обитель она должна была обрести в «своем ином» – в цивилизации. Если Человек создавался трансцендентным Богом для Себя, то феноменальный Человек стремился создавать цивилизованное общество под себя, под цели и задачи завершения своего антропо-социогенеза. На протяжении многих столетий, говоря метафорическим языком, человек занимался лишь тем, что к метаисторическим подмосткам на которых разыгрывалась мистерия Духа, пристраивал некую малую сцену, кулисы, предназначавшиеся для постановки многоактной драмы, имя которой Цивилизация, причем в качестве ее единственного режиссера-постановщика предполагалась Культура. «Что такое цивилизация, - задавался вопросом Шпенглер, - понятая как органически-логическое следствие, как завершение и исход культуры? Ибо у каждой культуры есть своя собственная цивилизация. Впервые эти оба слова, обозначавшие до сих пор смутное различие этического порядка, понимаются здесь в периодическом смысле, как выражение строгой и необходимой органической последовательности. Цивилизация - неизбежная судьба культуры. Здесь достигнут тот самый пик, с высоты которого становится возможным решение последних и труднейших вопросов исторической морфологии»[564]. Культурно опосредованный протосиум является второй неявной исторической формой цивилизации, ее онтологической сверхзадачей являлось подведение под Храм Культуры надежного социального фундамента. Таковы уж не совсем обычные принципы построения онтологической архитектоники, когда строительство осуществляется по нисходящей иерархии «сверху вниз», при этом нижние этажи как бы выдвигаются из верхних и таким образом «крыша» Миро-здания постоянно оказывается на одной и той же верхней онтологической отметке, за которой простирается «мир горний» – абсолютная духовная высота.
На момент выделения культуры из культа она содержала в себе уже совершенно иную праформу цивилизации, нежели та которая была имманентной трансцендентной праформе культуры, ее основу составляли уже не трансцендентные, а эвалюативные нормы, то есть прескрипции, генетически связанные с общечеловеческими ценностями. Эвалюативная цивилизация вне общечеловеческого, общекультурного контекста не имеет собственно социального предна-значения. На этом этапе метаистории цивилизация выступала всего лишь “средством” фиксации в человеке сверхнормативного – ценностного начала в экзистенции. Эвалюативные нормы способствовали поддержанию органической встроенности деятельностного процесса в активацию именитствовавшего человечества, сердцевиной которой являлось глубинное общение. «Что представляло собой первоначально то бытие, - вопрошал Г.С.Батищев, - которое потом подверглось воздействию активности, - это по природе вещей недоступно активности, так сказать, потусторонне для нее. Деятельность как предметная начинается не с активности, а в совершенно иных измерениях действительности»[565]. Ценностное измерение протосоциальной деятельности позволяло ее удерживать в пределах собственно человеческой активности, не позволяя ей становиться средством человеческого самоотчуждения.
Ценностные формы общения между антропными субъектами не могли еще базироваться на откровенно безличных нормативных прескрипциях, предписаниях. На этапе метаисторического восхождения культуры, цивилизация была всего лишь ее экзистенциальной инфраструктурой, а культура - ее системообразующей ценностной детерминантой. Культура была эвалюативным средоточием цивилизации, ценностным инвариантом «социальной идеи». Эвалюативная цивилизация выступала “местом встречи” Человека и человекосоразмерного Общества. Общество составляло собой социальную форму человеческой телесности, выступавшей обителью, обиталищем Души-Культуры. «Под "телом", - пишет Сервера А. Эспиноза, - мы подразумеваем общество, а под "душой" – "культуру"[566]. Неявная эвалюативная цивилизация была неким «прескриптивным средоточием» культуры, посредством которой Человек пытался осуществить свой социальный самопроект, основанный отнюдь не на абстрактой социальной идее, а на подлинных гуманистических принципах. Человек как эвалюативный прототип идеального Общества в первичных формах общественного сознания был представлен в качестве высшей ценности, не как набор социальных функций, каким он выглядит в зеркале окончательно обособившегося общественного сознания. Эвалюативной эта форма цивилизации оказывалась еще и потому, что не содержала в себе в явном виде социально отчужденных способов присвоения индивидами общественных благ.
Эвалюативная цивилизация в состоянии была осуществлять свою позитивную экзистенциальную миссию лишь оставаясь онтологической вложенностью культуры. Лишь при соблюдении иерархической зависимости цивилизации от культуры экзистенция антропно-социального субъекта могла сохранять свою устойчивость, несмотря на перманентное развертывания универсума социальных связей и отношений. Процессы социализации человека и очеловечения общества по идее должны были быть подчинены приоритетности человеческого над социальным в расширяющейся экзистенции. В качестве семантически воплощенной формы человечности Культура должна была на протяжении всей истории Цивилизации систематически придавать социальным феноменам надсоциальный ценностный смысл («не хлебом единым жив человек»). Цивилизация же со своей стороны призвана была развертывать такую совокупность иррелевантных социальных форм и структур, которые бы максимально содействовали актуализации ценностных смыслов подлинно человеческого существования. Согласно утверждению Сервера А. Эспиноза, культура должна была стать «душой» цивилизации, а цивилизация – ее «телом». Лишь при такого рода онтологической субординированности культуры и цивилизации мир, расширившийся до социальных пределов, продолжал бы оставаться человекосоразмерным, а гуманистические процессы в нем продолжали быть наиболее приоритетными. Любые цивилизационные процессы должны были органично коррелировать с культуротворческими процессами, способствовать процессу гармонизации отношений между Человеком и Обществом.
Эвалюативная цивилизация, в основном, была человекосоразмерной еще и потому, что общая стратегия формирования субъектно-объектных отношений деятельности задавалась механизмом субъективации субъективного, т.е. антропологическим, а не социальным онтологическим механизмом. Онтологическая зависимость протосоциальной деятельности от антропного общения делала эту форму цивилизации поистине человеческой. Человеческая цивилизация может существовать лишь в онтологических пределах эвалюативной культуры, за пределами ценностного мира цивилизация утрачивает свою феноменальную человечность. Эту не вполне проявленную форму цивилизации можно еще обозначить термином общенческая цивилизация. Она представляет собой такую форму неявной цивилизации в которой уже не господствует сакральная креация, но еще не доминирует социальная деятельность, общность протосоциальных субъектов стягивается в онтологическую целостность феноменом общения, а деятельность здесь выступает всего лишь одной из форм его активности. Эвалюативная цивилизация – есть срединная форма цивилизации, она наиболее характерна для Востока, традиционно тяготеющего к ценностным праформам социальности. В то же время она является тем «онтологическим телом», которое Запад стремится рационализировать в технологию. Скорее всего именно эта форма цивилизации, одной из своих онтологических модификаций составляет существо так называемого «азиатского способа производства», открытого К.Марксом, но так и оставшегося за пределами теоретической рефлексии классической политэкономии, привыкшей фетишизировать лишь товарную форму воспроизводства человеческой жизни. И конечно же отнюдь не на Западе, а на Востоке все еще можно обнаружить реликтовые проявления эвалюативной цивилизации, эмпирически наблюдать такие человеческие сообщества, в которых деятельность осуществляется в сугубо общенческой форме, а нормативные предписания все еще действуют под покровом далеко нерациональных ценностных значений, социальное же долженствование продолжают как и в стародавние времена зависеть не от ригористических требований законнической Морали или морализированного Закона, а от традиционных человеческих добродетелей.
Эвалюативная цивилизация выступает в качестве объективации и социализации той части культуротворческого процесса, который поддается частичной стереотипизации и схематизации, что позволяет расширенно воспроизводить артефакты культуры за пределами авторской формы личностной самоактуализации. Эвалюативная цивилизация, в отличие от спонтанной трансцендентной цивилизации уже предполагает некий культурологический канон, в рамках которого возможны известные его индивидуализированные вариации, позволяющие с известной долей достоверности производить копии с оригиналов, однако копии такого высокого совершенства, что можно говорить об их создателях как об истинных соавторах, сотворцах. Если на начальной стадии «развития» культуры творчество было всего лишь антропной формой сакральной креативности, то в конце ее истории антропное творчество в значительной степени уступает свое место социальному со-творчеству, позволяющему расширенно репродуцивать исходные оригинальные артефакты, отмеченные однако уже не творческим гением, а скорее всего лишь его «печатью», «штампом», которым вполне бессознательно и весьма искусно стали пользоваться его современные адепты гения – «творческое большинство». Культура, с точки зрения Ладрьера, может быть понята в широком и узком смысле. Культура в узком смысле есть совокупность ценностных артефактов, которые не поддаются расширенному воспроизводству. Широкое определение культуры формулируется Ладрьером в книге «Вызов, брошенный культурам наукой и технологией», следующим образом: “Культура сообщества может быть рассмотрена как совокупность его систем репрезентации, систем стандартов, систем выражения и систем действия”[567]. С расширенным определением культуры Ладрьера вполне можно согласиться если его отождествить с предельно узким определением цивилизации, каждое из этих определений с прямо противоположных позиций фиксирует динамику развертывания единого хотя и неявного цивилизационного процесса осуществляющегося внутри культуротворческого процесса. Понятие «печать» («штамп», «клише», «канон», «шаблон» и проч.) вполне аутентично передает характер вещи, возникшей в результате объективации субъективного, того самого субъективного, которое придает артефактам культуры человеческую соразмерность. Эвалюативная цивилизация таким образом может рассматриваться как репродуктивная производная от продуктивной культуры, чья ценностно окрашенная «продукция» предназначается для удовлетворения культурно опосредованных социогенных потребностей. Эвалюативная цивилизация – это такая системная репродукция культуротворческой продуктивности, которая обеспечивает существование антропно-социального субъекта, социальная ипостась которого испытывает нужду, потребность в социально статусном присвоении тех благ, расширенное производство которых является невозможной в довольно узких ценностных пределах культуросозидания. Однако подобного рода псевдоартефакты культуры вполне поддаются расширенному воспроизводству в рамках ценностно опосредованного разделения труда. Эвалюативная цивилизация формирует и развертывает в субъекте не столько социальное, сколько сверхсоциальное начало, что позволяет придавать протосоциальному миру необходимую человекосоразмерность. Своими сверхнормативными значениями (эвалюативные нормы) эта неявная форма цивилизации фиксирует отношения отнюдь не между нецелостными социальными субъектами, а родовыми половинками, способствуя им совместно достраивать свои индивидуализированные формы бытия до общечеловеческого со-бытия.
Эвалюативная цивилизация по отношению к Культуре выполняла вполне конструктивную онтологическую функцию, так как извне вовнутрь привязывала к ее антропной сути постепенно расширяющееся социальное пространство человеческой души. Эвалюативные цивилизации отличаются от современных прескриптивных цивилизаций своей особой человечностью и весьма относительной социабельностью. На культурной фазе человеческой метаистории цивилизация не могла существовать и развиваться в качестве объективации чистой социальной идеи, оторванной от идеи всестороннего и гармонического развития человека, скорее всего она была прямым воплощением идеи Человеко-Социума, идеи так называемого гражданского общества, в котором антропный и социальный субъекты в их экзистенциальном синкретизме прекрасно схватываются понятием «гражданин». Так гражданин эллинского полиса по своему положению был не только долженствующим социальным субъектом, но и свободным частным лицом, ценностная самоидентичность которого закреплялась многовековой культурной традицией. Интересно, что одной из целей современной демократии прокламируется создание наряду с огосударствленным обществом независимого от его законнического права гражданского общества. Это одна из утопий рационалистического сознания, однако утопия особого рода, когда ставится задача не столько реализовать идеальный проект будущего, сколько проект в котором будущее мимикрирует под прошлое, однако при этом утверждается ее абсолютная новизна. Утопична эта идея еще и потому, что в рамках тотальной цивилизации нет и быть не может места обществу, в котором люди придерживались бы сугубо ценностных ориентаций, а не ригористических социальных установок.
В предельно широком смысле цивилизационный процесс, оставаясь экзистенциальной производной от процесса объективации субъективного, есть процесс перманентного развертывания социального в индивидуальном и индивидуального в социальном. Это такой процесс, в котором Человек и Общество в состоянии обрести единую для них антропо-социальную целостность.
Прескриптивная цивилизация или собственно цивилизация. Цивилизация даже при достижении своей относительной самостоятельности должна все же оставаться культурно опосредованной цивилизацией, как в свою очередь культура быть культовой. Это несомненно является гарантией от возможного внутреннего надлома и онтологической деградации. Однако цивилизация в своем восхождении полностью повторила опыт онтологического обособления, который до нее наработала автономизировавшаяся от культа культура. В метаисторическом плане, как мы выяснили выше, культура по отношению к цивилизации столь же первична, сколь сама является вторичной по отношению культовой культуре, производной от нее. Имплицитно содержавшаяся в Культуре «эвалюативная» или «ценностная» цивилизация является предтечей собственно «социальной цивилизации» как особого метаисторического этапа, на котором развертывается во вне социальная сущность иерархического человека. Прескриптивная цивилизация генетически восходит к эвалюативной, а через нее и к трансцендентной цивилизации и является результатом процессов по их секуляризации и деантропологизации.
Если трансцендентная цивилизация синтезировала собой неявные трансцендентные прескрипции и, в основном, в форме табу, а эвалюативная цивилизация – неявные ценностно опосредованные нормы поведения и деятельности, то цивилизация функционирующая на своем собственном социальном основании – синтезирует уже безличные нормы долженствования. Сложнопостроенная экзистенция антропно-социального субъекта требовала существенного расширения структуры нормативных значений, за счет включения в них обезличенных социальных прескрипций. Если антропный субъект в своей деятельностной актуализации вполне обходился неявными эвалюативными нормами, то антропно-социальный субъект нуждался уже не только в них, но и в разветвленной системе прескриптивных, предписывающих значений, призванных нормативно задавать специфические способы миротворения в рамках социально опосредованной цивилизации, регулировать отношения между нецелостными индивидами – репрезентантами целостного общественного организма. Продолжая линию рассуждений Тиллиха применительно к анализу этой новой исторической ситуации, можно придти к утверждению, что вслед за «автономной культурой» с неизбежностью должна была появиться и «автономная цивилизация». Однако в сложно построенных онтологиях допустима лишь относительная автономия частей от целого, их абсолютизация с неизбежностью влечет за собой ее окончательный распад. Автономия прескриптивной цивилизации могла быть жизнеспособной лишь в той мере, в какой способствовала бы созданию дополнительных условий для укрепления традиций эвалюативной цивилизации, сохраняя ее человекосоразмерность и в то же время своими нормативно-технологическими инновациями поддерживала бы столь необходимую для безличной деятельности личностную социосоразмерность.
Производный и вторичный характер прескриптивной цивилизации прежде всего состоит в том, что она онтологически синтезирует не само-деятельность свободных индивидуальностей-микрокосмов и не культуротворческую деятельность индивидов-антропосов интегрированных в подлинно человеческую общность, а разрозненные деятельностные акты наемных акторов, функциональные вклады которых в совокупную социальную деятельность осуществляются на повременной контрактной основе с «труппой» именуемой «социальной организацией». Если устойчивость жизни в Духе придают благоговение и трепет с которыми человек относится к Трансцендентному Началу, являющиеся неотъемлемой стороной любви к Богу, а устойчивость человеческого именитства основывается на любви человека к Человеку, то устойчивость цивилизационных процессов покоится на любви индивида к социально оформленному миру – к Социуму. Но это уже любовь не столько интенциональная, сколько экстенциональная, так как, в основном, исходит от «внешнего человека» и как правило выступает ритуализированной формой эмоциональных отношений человека к «внешнему миру». Любовь к социуму – это скорее всего эмоциональная привязанность к тому общественному порядку, строю, который более всего мимикрирует под социальную гармонию. Ностальгия по прежним социальным порядкам всегда содержит в себе чувство неудовлетворенности от новых порядка и режима социальной жизни устанавливаемых восходящей элитой. Именно различие между прежней и настоящей социальной упорядоченностью, а не их принципиальное отличие от идеальной социальной гармонии, которую индивиды реально никогда не проживают и составляет тот континнум социальных верований и чувств, в пределах которого социальные субъекты эмоционально откликаются на нормативные вызовы общества. В рамках этого же континуума верований и чувств всегда содержится и некоторая совокупность ритуализированных знаков и значений, которые стереотипно используются индивидами для демонстрации своей лояльности к социуму. Лояльность «внешнего человека» к «внешнему миру» есть важнейшая составляющая его долга перед ним, как бы ни страдал при этом свободный и добродетельный «внутренний человек». Социальная любовь - это долженствующая форма коньюнктивных чувств нецелостных индивидов к сверхцелостному обществу. П.А.Флоренский утверждал, что «любовь и есть «да», говоримое Я самому себе; ненависть же – это «нет» себе»[568]. Социальная форма любви это не только «да», которое себе говорит социальное Я, но и столь же решительное «нет», которое оно неустанно твердит антропному и астральному Я. Социальная любовь достигает своего конъюнктивного пика, как только сопровождается столь же обостренной ненавистью ко всему надсоциальному, ко всему культурному и сакральному в тех из окружающих индивидов, которые не желают говорить «нет» тому сокровенному, что не вписывается в нормативные прдписания цивилизации. Амбивалентность социальных чувств и верований усиливается по мере онтологической автономизации цивилизации.
Если культуру «выдумали» мужчины, чтобы актуализируясь в ее ценностях, быть на высоте положения в своей любви к женщине как к прекрасной даме, то цивилизацию мужчины изобрели сугубо рациональным образом и для самих же себя, чтобы оказывать друг другу статусные знаки внимания. Жизнь в культуре, ассоциируется с небесной Евой («жизнью»), без которой невозможен экзистенциальный рай, тогда как жизнь в цивилизации вполне можно олицетворять с Адамом, выдворенным из рая и познавшим все тяготы земного существования. Социальная форма любви является весьма обусловленной возможностью присвоения внешних благ, несколько восполняющими утрату индивидами своего человекоподобия. Отныне земной Адам уже необнаруживает в Еве не только ее сакральной жизненности, но и ценностной женственности и все чаще относится к ней как к одному из социальных партнеров, при этом устанавливая с ней далеко неравноправные патерналистические отношения. В пределах единой для них прескриптивной цивилизации социальные партнеры весьма условно различаются на мужчин и женщин. Даже вступая в интимные отношения и составляя собой семью, они умудляются эту древнейшую собственно человеческую общность конституировать в качестве «ячейки общества». Цивилизация в контексте этих метафорических размышлений может рассматриваться как предельно унифицированная культура, в которой мужское и женское начала настолько эмансипируются друг от друга, что становятся социально неразличимыми функциями единого репродуктивной деятельностной. Не случайно даже сакральное по существу своему деторождение в этой социально-нормативной системе отношений конституируется в качестве одной из репродуктивных функций общества. Не случайно З.Фрейд подчеркивал либидоизный характер общественной деятельности, рассматривая ее в качестве сублимированных, десексуализированных отношений. Автономизировавшись от культуры, цивилизация уже не испытывает необходимости в выстраивании системы гуманистически опосредованных прескрипций опирающихся на ценностное ядро культуры. Она начинает аппелировать уже не к феноменальности человека, а к его социальной эпифеноменальности, не к человекосоразмерным ценностям, а к социальносоразмерным нормам, репрезентирующим лишь тенденции развития и функционирования социальных систем, чье целеполагание имеет лишь косвенное отношение к жизненным проявлениям человека. Не случайно проблема Ренессанса наиболее остро встает именно в эпоху расцвета прескриптивной цивилизации. Человек тоскует по тому человекосоразмерному миру, который предшествовал цивилизации и стремится его возродить, однако при этом не желая отказываться от своих «социальных завоеваний». Напрашивается вопрос у кого эти социальные условия жизни отвоеваны? У себя же самого, как человеческого существа? Тогда каковы истинные причины ностальгии по утраченной человечности? Скорее всего это ностальгия по такому идеальному настоящему, в которое так и не состоялось, в реальном настоящем прошлое так и не смогло полностью реализовать свой проект будущего, в связи с тем, что в нем, не только актуализировались потенции Неиного, но и получили свое ускоренное развитие структуры Иного. Возрожденческие проекты не могут не быть утопичными хотя бы по той простой причине, что прошлое пытаются реанимировать под приоритеты настоящего настоящего, но отнюдь не модернизировать настоящее под экзистенциальные приоритеты прошлого, т.е. не ставится задача онтологической реконструкции прошлого настоящего.
Если грубо разделить единую культуру на «духовную» и «материальную», как это делается в объектоцентристкой модели сущего, то прескриптивная цивилизация возникает, в основном, за счет объективации того субъективного, что ранее инобытийствовало в «материальной культуре». Прескриптивная цивилизация в таком случае может быть представлена в качестве некоторого «хирургического извлечения» из «тела культуры» такой именно «субстанции», которая в состоянии не только обособленно от культуры существовать, но и паразитировать на ее душе. При такой форме «клонирования» цивилизаций можно получить лишь ее паразитарную форму. «Тело культуры – пишет Г.С.Батищев, - подвергается беспощадному рассечению, как при вивисекции, чтобы извлечь из него и взять себе “на вооружение” только то, что отвечает нынешним критериям функциональности и что, будучи опрокинуто на былое, прочерчивает строго охраняемые границы высеченной из него таким способом “своей собственной” традиции, которая затем резко противопоставляется всему остальному содержанию исторического культурного процесса»[569]. Мы не являемся сторонниками столь прямолинейного и не вполне обоснованного разделения культуры, так как ее типология в субъектоцентризме основывается на выявлении степени ее человечности, а не на определении степени противопостояния «духовного» и «телесного» в человеческой экзистенции, однако в данном случае такое именно членение дает возможность весьма наглядно показать, что не вся человеческая культура, а лишь ее овнешненная часть, превратившаяся в опредмеченную духовность и становится именно той «субстанцией», которая способна трансформироваться в универсум социальных вещей, структур и отношений который мы обозначили термином «автономная цивилизация».
В автономной цивилизации все социальные формы проявляются в качестве самодостаточных феноменов, тогда как в трансцендентной цивилизации они имеют значения лишь в их соотнесенности с сакральностью, а в эвалюативной – с человечностью в многоуровневой экзистенции. Если культура по Шпенглеру рождается из прадушевного состояния младенческого человечества, то цивилизация в ее явном виде есть признак погружения человечества в старческое состояние. Потребность в цивилизованных, комфортных условиях жизни человек обнаруживает лишь тогда, когда угасают его творческие потенции и он готовится на так называемый «заслуженный отдых». Прескриптивная цивилизация от прежних ее неявных форм отличается непомерным ростом социогенных потребностей человека и катастрофическим падением его способностей к оригинальным видам деятельности. И это еще одна из внутренних причин безудержного развития цивилизационных процессов и столь же стремительного угасания процессов культуротворческих. В этом и состоит парадоксальность прогресса цивилизации, она может развиваться не иначе как за счет стагнации культуры. Но как только истощается сама культура и цивилизация таким образом лишается той «субстанции» из которой она выстраивает свое социальное тело, начинается и ее собственный системный кризис, чреватый социальной катастрофой. Однако на этапе своего прогрессирующего развития цивилизация о такой глубинной зависимости от судеб культуры еще не подозревает. Не случайно в термине «социо-культурные процессы», получившим в современной социологической литературе довольно широкое распространение, отнюдь не культурное, а именно социальное стоит на первом месте.
На первых порах между эвалюативной и прескриптивной цивилизациями складывались вполне толерантные отношения. Помимо «огосударствленного общества» продолжало существовать и так называемое «гражданское общество» – реликт эвалюативной цивилизации. Прескриптивная цивилизация, в состоянии перманентно воспроизводиться и функционировать лишь на континууме субъектно-объектных отношений, объективации субъективного, она в состоянии эффективно функционировать лишь там и тогда, где и когда, человек относится к другому человеку объектно. Лишь в процессе взаимной объектививации частичные субъекты в состоянии расширенно воспроизводить ты-соразмерные вещи, способные удовлетворять их ты-образные социогенные потребности. Только в процессе взаимной объективации субъекты в состоянии интегрироваться в единую для них социальную цивилизацию.
Между тремя выделенными нами метаисторическими видами цивилизации могло и не возникать антагонистических противоречий, если бы неявные праформы цивилизации продолжали сосуществовать с явной прескриптивной формой, в условиях гармонических связей Цивилизации с Культурой и через нее с Культом. Органический синтез трех видов цивилизации в иерархическую целостность давал бы возможность человеку, обретшему социальную ментальность оставаться столь же иерархичным и осуществлять свое органическое присутствие на всех уровнях социального сообщества – сакральном, культурном и цивилизационном. При этих идеальных условиях тремя своими видами генерализованными в органическую социальную целостность, цивилизация представляла бы собой единую систему «сообщающихся сосудов», по которым сверху вниз из Единого в экзистенциальные формы Неиного «перетекал» бы совокупный социальный опыт, который даже при внутренней онтологической дифференциации сохранял бы известную экзистенциальную интегративность. Несмотря на социальное разделение труда, человек оставался бы субъектом надсоциальной культуротворческой и креативной деятельности. Ведь задача цивилизации в ее широком метаисторическом контексте состоит не в том, чтобы делать приоритетным лишь инновационный социальный опыт и отбрасывать все то, что исторически ему предшествует, а, напротив, синтезировать весь совокупный опыт социального поведения человека таким образом, чтобы постоянно воскрешать «мертвый труд» предков в экзистенциально соразмерном живом труде их потомков. Внутренний антагонизм между различными видами цивилизации как раз и обусловлен перманентным отпадением экзистенциалов в многомерном пространстве человеческого существования как по горизонтали, так и по вертикали исторического процесса. Практика «снятий» и «преодолений» прошлых цивилизованных форм активности не могла не привести к нигилистическому отношению к экзистенциальным вкладам не только прошлых поколений, но и тех в современной исторической эпохе, кто своим поведением все еще находится в русле прежних ценностных и символических традиций. Человекосоциум по мере его превращения в социочеловечество, становится все менее отзывчивым к прежним формам социального опыта и не только потому, что воспроизведение этого опыта понижает уровень эффективности деятельностного процесса, а прежде всего потому что его повторение возможно лишь при условии его личностной соотнесенности с более высокими уровнями человечности и сакральности, нежели те, которые данная историческая эпоха признает в качестве рационально допустимых. В принципе не цивилизация борется с культурой и культом, а ставшие несовместимыми формы деятельности имманентные их сущностям. Социальная форма деятельности основанная на все большей дифференциации трудовых вкладов, оказывается непреодолимой преградой на пути интеграции форм социального опыта, основанных на индивидуализированной активности человека. Как известно концепция «неперспективных деревень», полностью отрицающая значимость их уникального ценностного опыта жизни могла появиться лишь при господстве концепции индустриализма, опирающегося на нормативную стереотипность поведенческих актов.
Причина дивергенции между тремя онтологическими формами цивилизации лежит в «развитии» рациональности основанной на все большей унификации и стандартизации совокупного социального опыта, в котором экзистенциальная многомерность имеет тенденцию модифицироваться в мономерность, когда мерой традиции становится инновация, а не наоборот. При нормальной ситуации «развития» инновация должна интегрироваться в традицию, существенно расширяя ее социальную действенность и эффективность. Когда же «развитие» осуществляется не в норме, а в патологии, что особо зримо наблюдается при известных «диалектических скачках» из традиции в социальную инновацию переходит лишь та ее экзистенциальная составляющая, которая в состоянии выполнять функцию «подстилающей структуры» инновации.
Двойственная форма существования антропно-социального субъекта оказавшаяся “заключенной” в пределы прескриптивной цивилизации не могла не превратиться со временем в еще более отчужденную форму бытия, в которой культурное оказалось предельно релятивизированным, а цивилизованное – абсолютизированным. «Взаимообмен» онтологическими статусами между культурой и цивилизацией мог происходить отнюдь не на добровольной основе, инструментом переворота – «выворачивания вывернутого» - становится гиперсоциальность, которая оказывается чуть ли не теономной силой в экзистенции, в которой человечность разрушена до основания. Таким образом прескриптивные цивилизации можно еще ранжировать и по степени снижения онтологического статуса у социального субъекта и его повышения у социального объекта – цивилизованного общества. Абсолютный социум по идее должен быть абсолютно бесчеловечным, как и абсолютный человек в принципе должен быть абсолютно асоциальным существом. Не случайно в порыве полемической запальчивости Н.Бердяев произнес свою знаменитую самооценку: «Я асоциальный тип». А Вл.Соловьев неустанно повторял, что социальный коллектив есть не что иное как общность личностных нулей, мечтая о возрождении истинного сообщества людей, которое он именовал соборностью.
Квазипрескриптивная цивилизация или псевдоцивилизация. Процесс объективации субъективного, перерастая свои социогенные рамки, превращаясь в квазиобъективацию субъективного, порождает сверхцивилизацию или квазицивилизацию. Если вновь вернуться к метафорическому иносказанию, то малая социальная сцена пристроенная к метаисторическим подмосткам Духа со временем превращается в сценическую площадку для весьма грязной закулисной игры Социума с Человеком и Богом, основу которой составляют контр-действия, направленные на дискредитацию сакральной мистерии и подлинной человеческой трагедии. Единственной формой публичного зрелища становится Социально-Ролевая Игра, участниками которой оказываются отнюдь не индивиды, а всего лишь члены общества - акторы-персонификаторы бесконечной череды деперсонифицированных деятельностных актов.
Необходимо иметь в виду, что переход от культуры к цивилизации осуществлялся уже не в тех идеальных условиях, какие сопровождали переход от культа к культуре. Культура в онтологическом плане уже не была столь «чистой» как во времена ее генезиса порождавший ее пустотный Культ, в эвалюативной полноте культуры уже содержалось Иное – структуры трансэвалюативно упорядоченного Хаоса. Культура в момент выделения из нее Цивилизации представляла собой довольно неустойчивую онтологическую монаду, существенно отпавшую от культовой, трансцендентной культуры, своими идеальными праформами продолжавшей существовать в апофатических глубинах Культа. Естественно, что при создавшейся внутренней аномалии эвалюативной культуры, последняя не могла разродиться нормальным детищем – прескриптивной цивилизацией. Непосредственной предтечей квазипрескриптивной цивилизации оказывается изнутри разложившаяся квазиэвалюативная культура, неудачно пытавшаяся заменить собой символический культ и оказавшаяся насильственно вытесненной еще более ущербной в онтологическом плане цивилизацией. «Как только цель достигнута и идея, вся полнота внутренних возможностей, завершена и осуществлена вовне, - писал Шпенглер, - культура внезапно коченеет, отмирает, ее кровь свертывается, силы надламываются - она становится цивилизацией»[570]. Цивилизация таким образом оказалась искусственно изъятой из чрева коченеющей культуры, явилась на свет с «родовыми пятнами» - мрачными метками судьбы - доставшимися от, так и не перенесших свои насильственные роды, культуры. Цивилизация явилась следствием отнюдь не расцвета и консолидации, а дифференциации и внутреннего разложения культуры. Автономная цивилизация есть внутренняя трагедия культуры, так как с ее обособлением из под ценностного доминиона выпало нормативное онтологическое основание в связи с чем культура оказалась «в подвешенном состоянии». К этому времени она уже успела утратить способность укореняться не в «в верху» - в символических глубмнах Духа, так как сама разрушила трасцендентные связи с Культом, а с утратой своего «низа» - цивилизации - ей ничего не оставалось как продолжать доживать свой недолгий век в форме реликтовых ценностей по весьма жесткому и циничному «остаточному принципу».
Пока культура находилась в силе ей в человеческой экзистенции не могло быть какой-либо цивилизационной альтернативы. Однако по мере того как она стала клониться к своему закату, цивилизация все более набиралась социальных сущностных сил, пока не обратила их против ее породившей культуры и окончательно не повергла в прах общечеловеческие ценности. Антропная сила культуры была сокрушена онтологически несоизмеримой социальной силой цивилизации, как в свое время набравшая свою силу культура не остановилась перед насильственным уничтожением «бессильного» Бога. С этого момента цивилизация начинает свой особый путь, свою особую социально детерминированную историю продвижения к своей абсолютной онтологической форме в которой нет места уже не только Абсолюту, но и его порождению – Человеку. «В новой истории, - писал Н.Бердяев, - культура, всегда имеющая религиозную основу, всегда символическая по своей природе, всегда предполагающая бескорыстное созерцание и бескорыстное творчество, начинает переходить в цивилизацию, всегда секуляризированную, всегда наивно-реалистическую, всегда корыстную и одержимую волей к жизненному могуществу и жизненному благополучию. Цивилизация и есть предел механизации человеческой жизни и механизации природы. В ней умирает все органическое. Механика, созданная могуществом человеческого знания, покоряет себе не только природу, но и самого человека. Человек уже не раб природы, он освобождается от власти органической родовой жизни. Но он становится рабом машинной цивилизации, рабом им созданной социальной среды. В цивилизации, как последнем результате гуманизма, начинает погибать образ человека. Культура бессильна бороться с возрастающей властью цивилизации, ибо обнаруживается воля к самой жизни, к изменению и преображению жизни. Культура же не преображает жизнь, она лишь создает великие ценности, творческие ценности жизни»[571]. Если прежде Цивилизация развертывала свои социальные структуры не иначе как из духовных глубин Культа и Культуры, то в новой онтологической ситуации она их выстраивает по сугубо социальным меркам, не обращая внимания на их трансцендентную и феноменальную соразмерность. Социальная функция стремится превратить все надсоциальное в онтологическую фикцию. Фиктивная онтология, стремясь стать квазиреальностью, не может не отрицать онтологию реальной социальности. Если первую фазу перманентного отпадения Человека от Абсолюта необходимо понимать в качестве отрицательной сингулярности, обеспечивавшей антропоморфизацию Неиного в Сущем, то вторая фаза отпадения дала мощный импульс к интенсивной Его социоморфизации.
Фиктивную сторону так называемой «новой цивлизизации» Ортега-и-Гассет называл «историческим камуфляжем». Камуфляж – это то, что кажется чем-то иным, внешность не выявляет сущность, но скрывает ее. Он вводит в заблуждение всех, кроме тех, кто заранее знал, что камуфляж возможен. Это как с миражем – если о нем знаешь, видишь верно. В каждом историческом камуфляже два слоя: глубинный – подлинный, основной; и поверхностный – мнимый, случайный, который тонкой пленкой прикрывает некую «идею фикс», к тому же заимствованную у других цивилизаций. «Есть народы, - пишет Ортега-и-Гассет, - родившиеся в мире, еще не имевшем цивилизации; таковы египтяне и китайцы. У них все свое, коренное; их стиль прям и ясен. Другие народы появляются и развиваются в пространстве, уже насыщенном древней цивилизацией. Таков был Рим, который создавался на побережье Средиземного моря, напоенном греко-римской культурой. Поэтому все повадки римлян лишь наполовину их собственные, а наполовину – заимствованные. А заимствованные, заученные действия всегда двусмысленны, не прямые. Тот, кто делает заученный жест, - хотя бы пользуется иностранным словом, - разумеет под ним свое собственное, переводит выражение на свой язык. Чтобы раскрыть камуфляж, нужен также взгляд «сбоку», взгляд переводчика, у которого кроме текста есть и словарь»[572]. На довольно закамуфлированный характер цивилизованной жизни, в которой уже нет места ни богам, ни героям, под покровом социальных условностей которой скрывается довольно примитивная и ложная форма экзистенции, указывал и Н.Бердяев. «Вся эта цивилизация и социализированная жизнь с ее законами и условностями, - писал он, - не есть подлинная, настоящая жизнь»[573].
С обособлением социального Мы от сакрального Я и антропного Ты, уже не Дух и Культура определяют содержание и направленность развертывания Цивилизации, а, напротив, она сама начинает выступать социальной детерминантой функционирования в обществе духовных и гуманитарных процессов. «Религия, - размышляет Барт о ее судьбе в цивилизованном обществе, - не есть солидное основание, на котором спокойно покоится человеческая культура; это – пункт, в котором цивилизация и ее партнер – варварство подвергается фундаментальному сомнению»[574]. В рамках квазисоциализации начинает формироваться так называемый прескриптивный культ. В семантическом плане прескриптивный культ есть совокупность ложных "прескриптивных символов". Прескриптивные символы лежат в основе процесса искусственной мифологизации властных отношений в социуме. Социальная роль, позиция, функция, замыкающая собой иерархию социума, наделяется искусственной харизмой (культ президента, генсека, вождя), всем же остальным социальным акторам предписывается публично демонстрировать к этим функциям=фикциям сакральное отношение.
Этому историцистскому времени вполне соответствует пантеизм в форме пансоциологизма, в котором место Пана – верховного правителя занимает Пантеон Вождей, ведущих социомассу к сияющим вершинам социального прогресса. Именно с этого времени начинает формироваться квазипрескриптивная цивилизация, а ее нормативы и правовые уложения обретать несвойственную им форму символов и ценностей и, напротив, ценности Культуры и символы Культа искусственно прескриптивизироваться. Социальная форма пантеизма и политеизма (пресловутый принцип плюрализма) придал прогрессу необратимый характер, а индивиду социомассы позволил сверхстатусно присваивать то, что раньше по праву принадлежало творческим индивидуальностям – отчуждать в пользу насыщения социогенных потребностей их творческие интенции преобразованные технологией в товарную массу.
Стремление “все сущее социализировать” содержит в себе уже не только богоборческое, но и человекоборческое начало, дает установку на модернизацию человеческого бытия под приоритеты сверхинтенсивного развития цивилизации. Как только цивилизация начинает свою онтологическую экспансию за верхние границы социального универсума, пытаясь социализировать Человека предстоящего перед Предстоятелем, так с непреложностью она превращается в тотальную репрессивную силу, разрушающую в Мироздании все то, что в нем еще осталось от прежних набегов Квазикультуры.
В сверхцивилизованном обществе начинает интенсивно реформироваться и сама культура, создается ее социальный инвариант – прескриптивная культура. Если с созданием прескриптивного культа погибает личный Бог, то с формированием прескриптивной культуры прекращает свое существование личностная культура и ее замещает обезличенная массовая культура или культура масс. Насколько реликтовыми оказываются истинные артефакты культуры можно судить хотя бы по тому, сколь слаба их востребованность со стороны социальных субъектов, отдающих предпочтение не творениям иррационального Художника, а вещам сработанным рациональным Дизайнером. «В современном государстве, - пророчествовал Гегель, - где все сверху донизу регламентировано, где все, имеющее какое-либо общее значение, изъято из ведения… населения… постепенно сложится нудная, лишенная духовности жизнь»[575]. Совокупность культурных ценностей, которые не в состоянии интегрироваться в рыночные при-страстия социального субъекта, ныне составляют собой «объективированные подвалы» Бессознательного – литературные архивы, музейные запасники, памятники зодчества и проч. Аксиологические "открытия" цивилизации всегда связаны с "закрытиями" сложившихся на протяжении человеческой истории "ценностных доминионов", которые замещаются бесчисленными "псевдоценностными колониями" так называемого «открытого общества». Совокупность истинных ценностей накопленных человечеством и не поддающихся омассовлению современный социологизм снисходительно обозначает термином «элитарная культура», однако это определение скорее всего отражает плебейскую ограниченность современной социальной элиты, так как именно она является основным потребителем «массовой культуры». Здравствующая ныне «социальная элита» никакого отношения не имеет к «элите духа», которая всегда является субъектом культуротворческого процесса, напротив в современной обществе социальная элита и есть именно та политическая сила, которая в полной мере персонифицирует собой контр-культурный процесс, направленный не только на разрушение культуры, но и ценностных основ нормативной цивилизации. Социальная верхушка современной цивилизации, в одностороннем порядке присвоившая себе духовный сан элиты не в состоянии не только воспроизводить ценности культуры, но и личностно их переживать. Статусное же потребление ею культуры есть способ каким она закрепляет свою власть над массами. Востребованная же обществом массового потребления прескриптивная псевдокультура оказывается наиболее эффективным средством, способным изнутри разрушить культуро-творческий процесс.
Цивилизация задумывалась культурой в качестве некоей совокупности внешних стандартов человеческого существования, способных высвободить человека для еще большего развертывания своих творческих способностей. Однако человек взлелеянный цивилизацией, со временем утрачивает свою культуросозидающую функцию и именно в той мере в какой приобщается к массовой культуре. Массовый человек получает особое наслаждение отнюдь не в момент катарсиса, вызванного духовным соприкосновением с культурной ценностью, а в момент, как сейчас принято говорить, кайфа, основу которого составляет контр-культурное действо, сопровождающееся обычно глумлением над истинными духовными ценностями и идеалами. Ортега-и-Гассет не без основания полагал, что массовый человек квазицивилизации с культурологической точки зрения может конституироваться лишь в качестве паразитарного человеческого типа. «Этот тип, - писал он, - не представитель какой-то новой цивилизации, борющейся с предшествующей; он знаменует собою голое отрицание, за которым кроется паразитизм. Человек массы живет за счет того, что он отрицает, а другие cоздавали и копили. Поэтому не надо смешивать его «психограмму» с главной проблемой – каковы коренные недостатки современной европейской культуры? Ибо очевидно, что в конечном счете тип человека, господствующий в наши дни, порожден именно ими»[576].
По завершению строительства Социального Дома, последний оказался заселенным отнюдь не людьми, а социосоразмерными индивидами. Цивилизация становится тем онтологическим основанием над которым в качестве Псевдоноумена и Псевдофеномена начинает возвышаться Социальное Ничтожество. Тотальная объективация всех форм сущего начинается с того момента когда отношения между Ты и Ты обретают чисто объектный, овеществленный и отчужденный характер, при этом каждый из Ты-образных существ уже не столько статусно присваивает, сколько репрессивно инкорпорирует и сакральную благодать и собственно человеческие блага. Каждое Ты стремится вобрать в себя всю тотальность Единого, заменить своей ущербной нормативной социетальностью не только мир ценностей Культуры, но и символический мир Духа. Если антропный субъект пытался «все сущее вочеловечить», то социальный субъект «все сущее обобществить». Нецелостные частички социального множества начинают относиться друг с другом как пантеистические божки, олицетворяя собой социально упорядоченные стихии. Вознамерившись социализировать все надсоциальное в сущем, цивилизация, весьма открыто легитимизирует присутствие в нем Ничтожества в форме Тоталитарного Общества. Цивилизация в своей деструктивной функции есть то “средство”, которое позволяет нецелостному субъекту насильственно присваивать себе статус Абсолюта и Человека. Вождем всех времен и народов, которым в рамках тоталитарного режима может стать лишь одна из самых заурядных личностей есть не что иное как «культ социальной личности», призванной устанавливать в Миро-Здании так называемый «новый социальный порядок».
Демоническое существенно расширяет свое присутствие в социальной экзистенции, по мере того, как Цивилизация добивается очередных исторических побед над более «слабыми» нежели она Культурой и Культом. По мере расширения сферы присутствия Неиного в экзистенции, человек склоняется ко все более добровольному подчинению «злому духу цивилизации», он уже не в состоянии противостоять столь завораживающим воображение социальным прельщениям, обещаниям более комфортабельных условий существования, которые кстати, в основном сбываются. «В свете непрерывного увеличения производительности, - пишет Маркузе, - все более реалистичным выглядит обещание лучшей жизни для всех. Однако ускорение прогресса, похоже, лишь усугубляет несвободу. Повсюду в мире индустриальной цивилизации господство человека над человеком возрастает в объеме и в степени воздействия»[577]. И хотя по мере достижения еще большего социального комфорта приходится за это платить еще большей несвободой, «преимущества» первого все же перевешивают «неудобства» второе, тем более что нецелостный субъект уже не в состоянии соотносить свою эмпирическую жизнь с предельными формами бытия, о го укорененности в которые способно свидетельноствовать лишь бессознательное.
Цивилизация существенно сужает эвалюативное пространство значений человеческого рода, облекая в социальные формы лишь те псевдоценности, которые способствуют тиражированию в человеке качеств потребных безличному Социуму. Если культура сужает поле сакрального в человеческом, то цивилизация - сокращает поле человеческого в социальном. Цивилизация своими прескриптивными воздействиями на гуманистическое содержание культуры столь радикально ее извращает, что та своими социально превращенными ценностями, начинает изнутри разрушать человеческое в человеке. Маркузе вполне обоснованно предупреждает: «Попытка наметить теоретический конструкт культуры трансцендентной принципу производительности, строго говоря «неразумна»[578]. Но для этого ей прежде всего необходимо было изнутри сломать ценностные структуры человеческой ментальности, разрушить родовую целостность и определенность человека. Человеческая жизнь перестала быть ценностью. Достоевский утверждал, что ничего не стоит та цивилизация, которая строится на слезинке хотя бы одного ребенка.
Когда цивилизация начинает проецировать свои нормативные прескрипции на символический Эйдос Культа и ценностный Логос Культуры, то превращается в поистине демоническую силу, решая и за Бога и за Человека кому стоит продолжать существовать в социально оформленном мире, а кому в нем нет и быть не может никакого места. Если культура нанесла удар по сакральному генофонду жизни, то цивилизация существенно подорвала генофонд культурной жизни. Так тяга цивилизации к урбанизации, к росту городов, где ей легко контролировать социальную динамику жизни привела к вырождению традиционной деревни, которая всегда была хранительницей генофонда культурных форм поведения. Как здесь не вспомнить программу уничтожения неперспективных в социально-экономическом плане малых деревень. Все кончилось тем, что окончательно деградировала не только понизовая, но и элитарная культура общества. Если приручив животных и растения культура выдворила за пределы родового именитства остальную совокупность «элементов» еще неосвоенного ею Космоса, то цивилизация безжалостно разрушила прежние свои формы, которые были органически интегрированными в Культуру и в Космос. Цивилизация стала тем плацдармом с которого социальные варвары устраивают свои набеги на те онтологические пространства, в которых еще продолжают существовать досоциальные сообщества, культ и культура которых еще не до конца вытеснена из экзистенции.
Интересно, что основным мотивом продвижения современной цивилизации на Север населенный, в основном, сакрально-антропными сообществами осуществляется под идеологическим прикрытием «промышленного освоения природных богатств». Других форм освоения технологическая цивилизация знать не может. Социогенное освоение сакрально-антропной экзистенции есть не что иное как социальная форма геноцида, так как условием развития социогена, а вместе с ним и техногена в астрально-антропной среде, есть непременное ее разрушение на такие осколки из которых можно слепить разве что свое собственное жалкое подобие. Квазипресриптивная цивилизация разрушает Культуру и Культ одним своим присутствием в тех местах, которые она не имеет право занимать согласно требованиям высших надсоциальных императивов жизни. История становления цивилизованной жизни в то же время есть и история последовательного разрушения сакрального и культурного генофонда жизни. Как только цивилизация начинает примерять социальные мерки к иерархической человеческой экзистенции, она превращается в особо репрессивную систему. Она разрушает символический космос и человеческое именитство в той мере в какой придает им прескриптивную значимость, связанную со все более «прогрессивным» характером удовлетворения социогенных потребностей массового человека.
Став квазипрескриптивной цивилизация безжалостно уничтожает все те социальные формы поведения, которые ранее основывались на формальных правовых предписаниях. Появляется цивилизация «неформалов», основу которой составляют сверханомичное поведение, опосредованное потреблением возбуждающих программ масс-медиа, наркотиков, установками на немотивированное насилие и проч. История автономных, локальных цивилизаций есть история постепенной утраты ими собственно человеческих целей и смыслов. «Выражение инстинкта общественности, - писал Ницше, - основанного на оценке вещей, полагающей, что отдельный индивид имеет вообще мало значения, все же вместе очень большое, причем предполагается, что они составляют именно общественное целое, с общим чувством и общей совестью. Следовательно, это есть известного рода упражнение в умении устремлять свой взгляд в определенном направлении, воля к оптике, которая не позволяла бы видеть самого себя. Моя мысль: тут отсутствуют цели, а таковыми должны быть отдельные индивиды. Мы видим, к чему сводится жизнь в обществе: каждый отдельный индивид приносится в жертву и служит орудием. Пройдите по улице, и вы увидите только "рабов". Куда? Зачем»[579]. В конце концов именно локальность и замкнутость социальных процессов становится внутренним источником распада псевдоцивилизационной целостности.
На этапе перехода от Культуры к Цивилизации в Сущем впервые баланс Неиного и Иного оказывается в пользу социальной формы Ничтожества. Как известно именно современная технологическая цивилизация, а не предшествовавшие ей праформы, породила две мировые войны и в сфере тотального насилия над человеком, особенно насилии информационном, поставило все мыслимые и немыслимые рекорды в человеческой истории. Однако техноген лишь до известной поры верой и правдой служит социогену и ждет лишь подходящего момента для того, чтобы самому определять содержание и направленность социоэволюции. В рамках квазипрескриптивной цивилизации вполне можно выделить внутреннюю типологию, но она уже будет отражать не столько перманентное повышение уровня ее социабельности, сколько последовательное повышение степени ее технологической оснащенности. «Ни механизация и стандартизация жизни, ни духовное оскудение, ни возрастающая деструктивность прогресса, - пишет Маркузе, - пока не заставили поставить под сомнение сам «принцип», направлявший прогресс Западной цивилизации»[580]. Эта типология, если ее когда либо удастся построить, должна отражать ступенчатый характер социального саморазложения технологической цивилизации. И средством такого онтологического самораспада становится для социального «ее иное» – технология, но об этом речь пойдет в следующей главе.
Как в свое время культура Эллады изнутри распалась в связи с тем, что вытеснила из полисной жизни свою предтечу – духовную культуру, так и современная цивилизация Запада начинает клониться к своему закату, в связи с тем что в ней уже совершенно отсутствуют цивилизационные прафеномены – одухотворенные и окультуренные социальные процессы. Цивилизация становится социально мономорфной псевдоцелостностью, а все то, что становится одномерным, а тем более своемерным довольно быстро распадается изнутри. Лишь до некоторого времени относительную устойчивость такой онтологической псевдоцелостности может придавать силовые воздействия на «общественное сознание» эклектичной по своей структуре социомассы. Здесь особую роль начинает приобретать разветвленная манипулятивная система спекулирующая на самых низших социогенных потребностях индивидов. В системе тотальной социальной манипуляции особое место занимают средства массовой коммуникации и информации. Не случайно важнейшим завоеванием информационно-технологической цивилизации считается пресловутая «свобода слова». Однако отнюдь не свобода сакрального Слова, способного освободить человека от всех форм самоотчуждения, а такая свобода словесного произволения, которая по сути сакрализирует социальный Произвол. “Мера нравственного убожества и деградации современного человечества, писал Тойнби, - в полной мере видна на страницах “желтой прессы”. В извращенности западной прессы также ощущается властная сила современного западного индустриализма и демократии, стремящаяся удержать основную массу людей, и без того ущербную в культурном отношении, на как можно более низком уровне духовности”[581]. Как показывает история реформирования средств массовой информации в России именно под прикрытием лозунга «свободы слова» была создана одна из самых репрессивных и лживых коммуникационных систем в мире. Культурные последствия социальной реформации оказались удручающими, однако несомненно они придали «развитию» цивилизации дополнительное ускорение. В культурной жизни же общества вместо Ренесанса истинных ценностей возник Декаданс поставивший производство и потребление псевдоценностей на «конвейерный поток». Социальная консолидация элементов потребительской социомассы сопровождается невиданным доселе разложением уникальной культурной общности людей. К сожалению если Ренесанс осмыслен в качестве особой исторической эпохи, то Декаданс до сих пор еще находится за пределами целостной метафизической рефлексии. На наш взгляд эпоха Декаданса играет такую же важную роль в переходе экзистенции от Культуры к Цивилизации, как в свое время Ренесанс (если его рассматривать в более широкой ретроспективе) – в ее переходе от Культа к Культуре. Именно с эпохи Декаданса берет свое начало псевдоцивилизация основу которой составляет массовое потребление и не иначе как в псевдоценностной форме. Декаданс в культуре и реформация в цивилизации происходят в одну и ту же переходную эпоху и знаменуют собой упадок первой и расцвет второй. В результате таких почти синхронных экзистенциальных «операций», цивилизация становится внутренне антагонистичной. Вслед за контр-культурой возникает еще более репрессивная контр-цивилизация, вступающая в непримиримую конфронтацию не только со своими трансцендентной и эвалюативной праформами, но и с собственной прескриптивной формой.
Итак, в эпоху перехода Всемирной Истории от Культуры к Цивилизации произошел еще один мощный прорыв сил хаоса в пределы Сущего и Иное в нем существенно закрепило свои позиции, оно обрело способность на определенное время упорядочивать социальный хаос, замещать жестким нормативным порядком внутреннюю гармонию социальной жизни.
4.3. Антропологическая катастрофа
|
|
Основная тема нашей эпохи есть вместе с тем и основная тема истории - тема о судьбе человека. То, что сейчас происходит в мире, не есть даже кризис гуманизма, - это тема второстепенная, а кризис человека. Ставится вопрос о том, будет ли то существо, которому принадлежит будущее, по-прежнему называться человеком. Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире |
До поры до времени, до возникновения особой онтологической формы времени - социального хроноса, история цивилизации подчинялась гармоническим пульсациям космического кайроса, исходившим из покоящейся вечности, затем все более учащавшейся кайро-хронологической ритмике развертывавшегося человеческого универсума, форма времени которого, определялась ценностным характером строительства родового именитства. Вплоть до своего онтологического обособления от Культа и Культуры, у Цивилизации, неявно в них содержавшейся не было своей особой социальной формы времени, а потому и не было и своей особой истории. «Исторические хроники» цивилизации были органично вплетены в метаисторические события Культа и историю развертывания ценностных доминионов Культуры. Между историей культуры и историей цивилизации в принципе не могло быть какого-либо экзистенциального антагонизма так как вторая тотально зависела от первой не только онтологически выступая ее неявной вложенностью, но и ритмически, так как социальные процессы выступали внешней инфраструктурой динамических изменений в культуре. Протоцивилизация развертывала во вне социальные потенции в той лишь мере в какой культура их ценностно актуализировала в имманентной ей творческой процессуальности, временная форма которой зависела лишь от темпов человеческой самоактуализации в сущем, а не от «объективных законов социального движения», которых в те досоциальные времена никак себя не проявляли.
Антагонизм между двумя формами истории возник на переходе метаистории от Культуры к Цивилизации и обязан деструктивным центробежным силам последней. В то же время набирало свою силу и центростремительное движение цивилизации, однако социальный его вектор устремлен был отнюдь не к онтологическому центру человеческой экзистенции, а к новому онтологическому центру, создававшемуся цивилизацией - социальному. Центробежные силы цивилизации, направленные на дивергенцию от культуру и ее стремление состать свой особый вне- и надчеловеческий вселенский онтологический центр и стали основой не только социальной, но и квазисоциальной формы времени, определившей социальную форму историцизма. С этого переломного и весьма драматичного этапа метаистории история цивилизации оказалась в явной противофазе к истории человечества. С той поры культуротворческим процессам была навязана и социальная форма времени и социально обусловленная форма истории. Однако все более взвинчивающиеся темпы «развития» социо-культурных процессов вели ко все большему выхолащиванию в них «культурной» составляющей пока она не превратилась всего лишь в онтологический рудимент. С возникновением квазицивилизация история культуры фактически прекращается и у истории цивилизации уже не оказывается каких либо внесоциальных исторических альтернатив.
С тем, чтобы максимально интенсифицировать развертывание своего социального потенциала цивилизация не только обособляется от культуры, но и предпринимает все от нее зависящее, чтобы помочь ей изнутри распасться, действуя по известному высказыванию известного революционного: «нечто не упадет, если его не уронят». Активно став на сторону десакрализированной, квазиантропологизированной культуры, культуры онтологически ущербной, и с ее помощью изнутри надломив эвалюативную культуру, цивилизация без каких либо дополнительных усилий осуществила модернизацию компрадорскую квазикультуру в социальную культуру, используя ее в качестве подстилающей структуру (псевдоценностная подстилка) для своих радикальных социальных преобразований. В “Письмах об эстетическом воспитании” Шиллер, имея в виду основную причину социальной дифференциации индивидов, писал: “Сама культура нанесла новому человеку эту рану”. Культура предавшая человека оказалась весьма преданным слугой цивилизации. «Новизна сегодняшней ситуации, - утверждал Г.Маркузе, - заключается в сглаживании антагонизма между культурой и социальной действительностью путем отторжения оппозиционных, чуждых и трансцендирующих элементов в высокой культуре, благодаря которым она создавала иное измерение реальности. Ликвидация двухмерной культуры происходит не посредством отрицания и отбрасывания “культурных ценностей”, но посредством их полного встраивания в утвердившийся порядок и их массового воспроизводства и демонстрации».[582] Социальная мономерность человека становится основной практической задачей коррумпированной «культурной элиты», лакейски выполняющей любой социальный заказ наведению необходимого «порядка» во внутреннем мире личности. Та предустановленная гармония человеческой души, которая ранее культурой культивировалась, теперь ею же начинает вытесняться, в целях придания ее ценностным интенциям форму социальной упорядоченности. Культура из средства самоактуализации человека становится средством его самосоциализации. Не случайно социализация личности в социологии и социальной психологии определяется как процесс вхождения индивида в культуру (!?). В какую культуру можно войти посредством перманентной социализации личности? Несомненно лишь в псевдокультуру инициируемую псевдоцивилизацией. Но об этой мировоззренческой подстановке социологии предпочитают умалчивать, и многие, вне сомнения по своему простодушному методологическому неведению.
Известно, что чем выше кто-либо возносится, не рассчитав своих реальных сил, тем ниже ему предстоит падать, тем более если вершина, которую он пытается осилить предназначена другому путнику с более высокими мирожизненными ориентациями. Нечто подобное произошло и с культурой, «овладев» сакральной вершиной, надорвавшись в богоборчестве, она не могла не упасть столь низко - в «объятия» самой онтологически низменной и ущербной из форм цивилизаций. Упав с сакральных высот культура распростерлась ниц у подножия цивилизации, превратилась в ее подстилку на тот случай, если и цивилизации придется падать с чужих онтологических высот, которые она намерена штурмовать.
Если источником трагического в истории на этапе антропологизации человека было отпадение феноменального от трансцендентного в экзистенции и его противоестественная десакрализация, то причиной повышенного онтологического напряжения на этапе социализации человека становится обособление социального от человеческого и его последовательная дегугуманизация. В Сущем начинает разрастаться сфера присутствия Иного, в которую втягивается уже не только культура, отпавшая от культа, но и цивилизация, отпавшая от культуры. Начинается процесс перманентной антропологической катастрофы.
Социум, выпадая из метаистории, стремится направить исторический процесс таким образом, чтобы овладеть миром, присвоить его себе, но не в его ноуменальной целостности и феноменальной универсальности, ибо их чистые онтологические формы «желудок» социального организма переваривать не в состоянии, а лишь в качестве неких «зон изъятия», содержащих в себе ресурсы необходимые для производства «потребительных стоимостей». Интересно что этот весьма циничный геологизм вполне коррелирует с понятием «выемка», весьма удачно использованным О.Шпенглером для того, чтобы полнее обнажить некрофильскую функцию современной «чистой» цивилизации. «Чистая цивилизация, как исторический процесс, - писал он, - состоит в постепенной выемке (Abbau) ставших неорганическими и отмерших форм».[583] Квазицивилизация и есть тот исторический псевдосубъект, который в состоянии существовать лишь осуществляя выемку ресурсов из зон изъятия какими для нее символическая реальность Культа и ценностная субстанция Культуры, однако подобного рода геологическую разработку «духовных месторождений», цивилизация в состоянии производить, лишь онтологически умертвив их. Основным субъектом экзистенциального космоцида и геноцида становится социальный субъект.
Центральным моментом антропологической катастрофы явилось внутреннее разложение целостного человека и превращение одной из его субличностей в человекообразного социального субъекта. Цивилизация онтологически конструктивна лишь постольку, поскольку укореняет человека в социальной жизни, интегрирует в некую ментальную целостность определенную совокупность личностных диспозиций, иррелевантных позиционной структуре деятельностного процесса. Онтологически деструктивной она является в той мере, в какой в целях оптимизации социальных процессов разукореняет человеческую индивидуальность в Духе и Культуре. Чтобы добраться до онтологических высот Экзистенции, Квазицивилизация устраняет Человека примерно теми же приемами какими человек в свое время устранил из своей жизни личного Бога. У цивилизации нет и быть не может личного Человека, она вполне обходится его социальной личиной, за которой скрывается набор интериоризированных социальных функций. То, что в результате цивилизаторских «изъятий», «выемок» осталось в ментальности человека – социальная личность или личностная социальность - оказывается вполне соответствующим по своим качествам требованият безличных нормативам, чаще всего идущими вразрез с божественными установлениями и велениями элементарной человеческой совести. «Общество, - писал Н.Бердяев, - есть для меня объект, социальность есть объективация. Общество не экзистенциально, и жизнь в нем, выброшенность в него есть чуждое во мне самом и не решает вопроса о преодолении одиночества... Выброшенность "я" в социальную обыденность есть его падшесть. Но эта падшесть есть событие в его существовании. "Общество" есть судьба "я" в этом мире разобщенности...Человек защищает свое "я" в обществе, играя ту или иную роль, в которой он не таков, каков он в себе».[584] В результате такой онтологической выброшенности в общество, человек привыкший в духовной среде, оказывается обреченным на верную гибель, подобно рыбе выброшенной на берег, лишенной таким образом своей естественной среды обитания. Социальная среда губительна для целостного и универсального человека, лишенного возможности самотрансцендироваться в Духе и самоактуализироваться в Культуре. В ней в состоянии выжить лишь «социальные мутанты». В конечном счете цивилизация и порожденная ею социомасса добиваются главной цели - убрают с исторической подмостков человека, лишая его культурной и духовной форм существования и тем самым снимают последние ментальные преграбы на пути социального прогресса.
Вывод экзистенциальной историософии - «Человек мертв» необходимо понимать отнюдь не в физиологическом, а в сугубо антропологическом аспекте, прежде всего он означает, что то существо которое пришло на смену антропному субъекту в условиях бурного развития цивилизации уже не является субъектом собственно человеческой истории, его исторический горизонт приоткрывается лишь по мере продвижения к нему цивилизации, но отнюдь не культуры. «Человек мертв» еще и потому, что его предала культура, обнажив его наиболее уязвимые места, его «ахиллесова пята» стала известна цивилизации, отныне он перестал быть «тайной» для социальной формы рационального дискурса и довольно человек из субъекта превратился в фактор (человеческий фактор) развития цивилизации, а цивилизация из фактора социального становления человека превратилась в самодовлеющий исторический субъект. И далеко не случайно что современный социологизм именно факторный анализ чаще всего применяет в исследованиях состояния человеческого материала, используемого в социальных структурах, лишь в них обнаруживая истоки субъектного целеполагания. В цивилизации осуществляет свое далеко не ценностное присутствие всего лишь один из «ментальных осколков» осколков, на которые распался целостный человек - социальный субъект – дробный элемент социомассы. Социальный субъект, с экзистенциальным обособлением от антропного субъекта является уже не частью человечества, а лишь персонифицированной социальной функцией, набор которых составляет собой «социальный организм». Леви замечает, что “субстанциальный индивид, гипостазированный в его чистой дефиниции, - это в современную эпоху тот, кого хотят тираны, кого им программируют “науки о человеке” и кто ни в коей мере не желателен для меня”.[585] Этот «тип» весьма нежелателен мне, как человеку, но он ведь есть не что иное как я сам в качестве интегративного элемента социального организма, а потому он мне крайне желателен, так как в состоянии наличием своей органической связью с обществом утолить мои социогенные желания. В условиях цивилизованных отношений социальный лифт поднимает на вершину успеха лишь тех индивидов, которые отличаются минимальной человечностью и максимальной социабельностью. И, напротив, сбрасывает в социальный отстойник тех людей, чьи незаурядные способности в состоянии подорвать устойчивость нормально-нормативной упорядоченности цивилизации. Ярким тому примером может служить жизнь замечательных людей, которые замечаются обществом разве что после их смерти, хотя именно их творческой пассионарности, а не нормированной активности среднестатистических индивидов общество обязано своей онтологической мобильностью и стабильностью.
Антропологическое самовырождение человека не могло не привести к утрате им имманентного его сущности общеродового статуса, но не только отдельный человек, но весь человеческий род перестает быть метаисторическим субъектом, как только цивилизация насильственно присваивает себе этот высокий человеческий сан. Свою онтологическую сановность она закрепляет, называя себя не иначе как человеческая цивилизация. Человек поступается своим родовым именитством в пользу общего Социального Дома, который затем поглощает собой не только человеческое Имение, но и сакральный Ойкос.
Воля к власти при переходе от Культуры к Цивилизации становится доминирующим мотивом социального прогресса, сверхинтенсивного развития цивилизационных процессов. Мишель Фуко утверждает, что власть имеет способность инфильтрироваться по всем структурам социума, она не всегда концентрируется в одной лишь точке социального силового поля. Воля к власти есть воля всего «социального организма» превратиться в сверхсубъекта способного тотально господствовать над миром. Нецелостный по своему истинному онтологическому статусу Социум на первых порах пытается пытается хотя бы сравняться с целостным Человеком и сверхцелостным Богом, чего он в известной степени достигает за счет массированного насилия над Ними. «Сила в социальной жизни людей, - писал Н.Бердяев, - есть власть, и власть обладает могущественными орудиями принуждения. Апофеоз силы есть апофеоз принуждающей власти... Настоящее противоположение есть противоположение силы и насилия. Сила в современном одиозном смысле есть насилие над другим. Насилие означает отношение к человеку как к объекту, а не к субъекту».[586] Конституировав все внесоциальное в качестве объекта последовательной цивилизаторской модернизации, социум приступил к разработкам наиболее эффективных технологий, основанных на силовых методах воздействия на окружающую среду обитания, в том числе и на «ментальную среду» – внутренний мир человека.
С социального осевого времени берет свое начало применение повсеместного принуждения, массированного насилия над всем тем, что мешает социально упорядоченному хаосу распространять свою экспансию в пределы высших форм человеческого бытия. Св. Августин писал: «Вне справедливости, что такое государства, как не большие разбойничьи шайки». Насилие выдается идеологией чуть ли не за сакральное свойство социума, а «силовые структуры общества» начинают особо почитаться законопослушными гражданами. Уверовав в то, что насилие есть повивальная бабка истории, человек стал покорно подчиняться действиям ее суровых «объективных законов». Социальный Молох становится основным Кумиром, которому в ХХ веке человечество принесло в жертву более сотни миллиона людей и, конечно же не во имя «абстрактного гуманизма», а в качестве вполне необходимой платы социальному прогрессу за его прельщения благами и той прелести, которую человек в момент благо-получения. Благо-получие современного цивилизованного человека оплачена отнюдь не той единственной слезинкой младенца, которая по Достоевскому обесценивает любые достижения прогресса, оно оплачено поистине адскими испытаниями лучшей частью человечества, которые цивилизация им уготовала. Однако современный человек, предающийся наслаждениям не хочет об этом ничего знать, не подозревая, что на новом витке восхождения цивилизации он сам окажется в еще более страшном аду. Экзистенциальным основанием современной обезличенной цивилизации является отнюдь не символическое, а вполне реальное человеческое кладбище. Квазицивилизация метафорически можно представить в качестве социального надгробье над погребенной культурой. Это ли не проявление новейшей формы варварства, когда во имя торжества социально отчужденной человечечности, в жертву новоявленному кумиру – цивилизации - приносится жизнь самого человека. Демонизм квазисоциального в человеке есть та внутренняя отрицательная энергетика духа, которая за счет все большего социального самоотчуждения обеспечивает столь необходимое социальному прогрессу ускорение темпов. Основу социального демонизма составляют так называемые объективные законы истории, которым современный человек поклоняется как божествам, беспрекословное следование императивным требованиям которым сводит на нет не только интенции свободного Духа, но и проявления добродетельной человеческой души.
Вся трагедия цивилизованного человека состоит в том, что его социальная экзистенция, осознает он того или нет, направлена против того, что лежит за верхними границами цивилизации. Активно разрушая свой внутренний космос, он тем не менее постоянно сетует на бездуховность современной ему жизни, преодолевая традиционные культурные формы общения, он тщетно стремится возродить им же разрушенные ценности. Он ведет себя подобно варвару, разрушевшему эллинский мир, а затем всячески старавшегося его мумифицировать. Величайшей антропологической трагедией этого второго осевого времени, в котором продолжает жить большая часть современного человечества, является почти полное исчезновение трансцендентных и эвалюативных цивилизаций, безжалостно уничтоженных прескриптивной цивилизацией в связи с их «локальностью» и весьма слабой социальной эффективностью. «То обстоятельство, - писал Ясперс, - что все человечество, все древние культуры втянуты в поток уничтожения или обновления, постигнуто в последние десятилетия во всем его значении»[587]. Как только прескриптивная цивилизация стала ускорять, взвинчивать темпы своего развития, так сразу же превратилась в страшную инкорпорирующую силу, всеядно поглощающую сакральные сообщества и культурные общности, не останавливающаяся и перед «утилизацией» более «низших» нежели она цивилизаций. «Дикари, - писал Шеллинг, - вступив в общение с европейцами, быстро вымирают, - если народности не защищены своей многочисленностью, как китайцы, или климатом, как негры, то им словно на роду написано исчезать без следа, соприкоснувшись с европейцами. В стране Вандимена вымерло все коренное население, когда там поселились англичане. Так было и в Новом Южном Уэльсе. Более высокое и свободное развитие европейских народов словно бы губительно для всех прочих!»[588]. Подобное же признание в ХХ веке делает известный французский антрополог Леви-Стросс. Он менее категоричен в своих свидетельствах, нежели Шеллинг, однако в своих “Печальных тропиках” подчеркивает неоднозначность, а порой и трагические последствия влияния западной цивилизации на жизнь латино-американских индейцев. Леви-Стросс отнюдь не противник социального прогресса, однако ужасается тому, как быстро под его напором гибнут цивилизации, в которых социальность еще находится под контролем человечности. В свое “оправдание” Леви-Стросс подчеркивает, что “стремился не к разрушению идеи прогресса, а скорее к ее переводу из ряда универсальных категорий человеческого развития в ряд особого способа существования, присущего нашему обществу (а может быть, и некоторым другим), когда оно пытается осмыслить само себя”[589]. Однако столь лояльная критика деструктивных функций цивилизации способна лишь распалить ее непомерные аппетиты. Не обходима решительная мировоззренческая фальсификация той внутренней ее природы, которая порождает всемирные катаклизмы, обесценивающие жизнь человека. Лишь перманентно порождая себя в качестве Микрокосма и Микрочеловечества Человек в состоянии развертывать в себе и позитивные социальные качества, а следовательно и быть цивилизованным существом. С утратой способности к самопорождению в качестве целостного, хотя и иерархического существа, человек становится все более незащищенным от деструктивных проявлений общественного прогресса. Для нецелостного целовека социальный прогресс что-то вроде пантеистического божка или языческого идолом, которому он покорно приносит в жертву чуждые ему самому самобытные культы, культуры, цивилизации. Современный цивилизованный человек ведет себя как последний варвар, когда выходит за привычный для него круг социальных условностей.
На наших глазах цивилизация, исчерпав свои конструктивные социальные идеи, превращается в орудие тотальной унификации разнообразных по своим экзистенциальным принципов социальных процессов и систем. Чего стоит претензия западной цивилизации на тотальное внедрение во всех уголках Земного Шара рыночных принципов построения общественных систем и замены так называемым «открытым обществом» обществ основанных на глубинных исторических традициях. И все же, осуществляя редукцию сакрального и человеческого к социальному, человек западной цивилизации порой сомневается в том, насколько его сугубо социетальный образ жизни в предельно широком экзистенциальном плане является более предпочтительным нежели у людей иных, досоциальных цивилизаций. «Перед наукой, являющейся гордостью Запада и его непреодолимой силой, - пишет Арон, - оплоты древних цивилизаций Дальнего Востока рухнули, и едва не закончившаяся во время войны машинная цивилизация совершила победоносное шествие по планете. Но Запад, с тех пор, как он больше не уверен в том, что наука рождает мудрость, и игнорирует то, что сам может стать в свою очередь жертвой своих творений, задается вопросом: предпочитает ли он то, что привносит, тому, что разрушает? Он скорбит о прелестях индивидуальных жизней, которые душит шум машин, покрывает дым доменных печей».[590] Однако такие вопрошания совершенно не затрагивают метафизических глубин настоящего настоящего. Всегда некоторым утешением выступает сентенция, согласно которой история не имеет сослагательного наклонения.
В социальное осевое время складывается экзистенциально-цивилизационный параллелизм, гомоморфизм экзистенции и цивилизации оказывается столь жестким, что существо все еще по традиции именуемое человеком утрачивает грань отделяющую его индивидуальное бытование от тех социальных форм которыми оно штампуется. Этот параллелизм придает социальной псевдообщности нецелостных индивидов поразительную стабильность, естественно применительно к условиям систематического насыщения их социогенных потребностей предусмотренной «стандартами жизни» и «продовольственной корзиной» товарной массой. В промежутках между социальными катастрофами этот мир очень быстро восстанавливается в еще более стабильных формах, мир и война становятся неотъемлемыми атрибутами перманентного повышения социальной стабильности квазипрескриптивной цивилизации.
Антропологическая катастрофа завершается насильственным установлением социальных порядков во всех без исключения сферах человеческого существования. На этапе историцистского восхождения цивилизации путем интенсивного насилия над Человеком и Богом Общество пытается установить свое абсолютное господство над всем трансцендентно-феноменальным миром. Но мир присвоенный насильственным образом, как считал Гоббс есть мир «в ущерб себе», превращается в ущербный мир, господство над которым оборачивается господством завоевателя над самим собой. Социальное насилие не может не сопровождаться антропным самонасилием. «Царство – утверждал в своем “Левиафане” Гоббс, - приобретается силой. Но что, если оно может быть приобретено несправедливым насилием? Не будет ли неразумным приобретением царства подобным образом, если это можно сделать без всякого ущерба для себя? А если это не противоречит разуму, то оно не противоречит также справедливости, ибо иначе справедливость не могла бы быть признана добром. В силу таких рассуждений увенчанное успехом вероломство приобрело название добродетели, и кое-кто, во всех других случаях считая вероломство недопустимым, считал, однако, позволительным совершать его, когда дело идет о приобретении царства”.[591] Царство, которое силой и вероломством решило захватить цивилизация было царством Духа и Культуры. Однако освоение в форме присвоения в конечном счете обернулось самоотчуждением, насильственным отчуждением человека от мира духовных символов и культурных ценностей, от всего того, что составляло сущность его доцивилизационной истории.
По мере того, как цивилизация все более развивается на своей имманентной социальной основе ее репрессивность все более нарастает. Если социальная эволюция коррелирует с социальными сущностными силами, то “высшая” ее форма – социальный прогресс – с квазисущностным насилием. Ускорение темпов плоской социоэволюции коррелирует непосредственно зависит от уровня и объема “производимой” силовыми и идеологическими структурами общества “прибавочной репрессивности”. Согласно Маркузе «принципу осуществления» всегда соответствует «принцип прибавочной репрессивности». Чем более самоосуществлялась цивилизация тем более наращивался объем прибавочного подавления. Эскалация насилия в экзистенции в результате социального переворота в ней становится иррелевантной темпам социальной эволюции и наоборот. О темпах развития общества более красноречиво может поведать не столько статистика производимых в нем товаров и услуг, сколько рост тюрем, психиатрических заведений и проч. Как это ни покажется парадоксальным, но индивид-жертва по мере того как социум-палач превращает его жизнь в сущий застенок, начинает все более сочувственно относиться к проблемам к его проблемам, полагая их своими кровными. Своеобразным лозунгом человека массы становится известное высказывание писателя-гуманиста: “Если враг не сдается, его уничтожают”. И даже когда конкретный человек оказывается зачисленным в стан врагов, он вполне утешается сентенцией: “когда лес рубят – щепки летят”. Чего стоит судьба какой-то щепы вне печальной судьбы подрубленного дерева, тем более выкорчеванного леса. От-щепенец никогда не вызывает человеческого сочувствия в душе социального субъекта, напротив он искренне негодует против него. На то она и социальная революция, чтобы рубить сплеча и нечего жалеть миллионы загубленных душ, ведь всем известно, что “яйцо не съешь, предварительно его не разбив”. Страстно желать более прогрессивной общественной жизни и при этом стремиться не “наступать на горло собственной песни” – две вещи более чем не совместные. Вот таковы незатейливые, однако весьма убедительные сентенции “здравого смысла”, составляющие прескриптивную основу далеко нездорового социального дискурса, цинично апологетизирующего необходимость насилия над человеком во имя торжества социальной идеи.
Согласно утверждениям общественной идеологии, злейшими врагами цивилизации выступают все те, кто не принимают устанавливаемые ею новые “социальные порядки”. Чем более в цивилизации социальное локализуется от своих прежних исторических праформ, тем более она стремится распространить его влияние на все сферы бытия, добиться предельной социальной мономорфности во всем экзистенциальном пространстве. В этом и состоит основная причина бесконечных войн и революций, являющихся неизбежными и постоянными спутниками цивилизации в ее продвижении к своим наиболее мономорфным формам. “Обратимся теперь к механизму роста. – писал Тойнби, имея в виду “механизм роста” цивилизации. -Существует ли определенный ритм его? Признаками роста являются, как мы определили, прогрессирующее упрощение, этерификация, трансференция”[592]. Ритмической основой перманентного упрощения социальной формы цивилизованной жизни более всего ассоциируется с набатным боем революций и барабанной дробью войн, не случайно эта ритмика составляет основу гармонии “железного рока”, ставшего популярным в эпоху “холодной войны”.
Судьба современный относительно благополучного и мирного массового человека западной цивилизации есть ментальная производная от великих революций и войн, расчистившим в антропном пространстве человеческой души плацдарм для социальной экспансии, что позволило в конце концов перевести основное население стран Запада на стандарты массового потребления, а следовательно и придать квазицивилизации мощный импульс к новому броску вперед. Вне зависимости от того в какую форму социального режима избирает цивилизация, основная ее цель остается неизменной – насильственная модернизация человеческого существования под приоритеты своего прогрессивного развития. Для достижения этих целей она чаще всего пользуется двумя, на первый взгляд прямо противоположными формами режима социальной власти: тоталитарной и демократической.
Тоталитарный режим подпитывается абсолютной социальной идеей, демократический режим пытается придать ей привлекательную человекосоразмерность. Эти две формы социально организованного порядка вызывают соответствующие стратегии поведения, посредством которых человек пытается сохранить свою индивидуальность. Активно сопротивляясь тоталитарному режиму, всему откровенно античеловечному в нем, человек тем самым активно культивирует в себе «внутреннего человека». Это весьма заметно по тому подъему, которое испытывает культура и искусство в особо жесткие социальные времена. Протестное искусство всегда насыщено высокими гуманистическими идеями и идеалами. Своеобразное духовное возрождение, как правило, возникает как форма внутреннего сопротивления внешнему социальному насилию, как единственная гуманистическая ему альтернатива, восходящая из глубин человеческой души. Даже будучи в застенке, в духовном плане человек может оставаться абсолютно свободным, ведь свобода – это отражение внутреннего состояния человека, а не результирующая внешних обстоятельств. «Человек, которого сажают в тюрьму и казнят, - писал Н.Бердяев, - может внутренне оставаться свободным и независимым существом, он подвергается материальному насилию. Мученик - существо свободное. Но человек, согласившийся на дрессировку, на оформление своей личности путем психического насилия, делается рабом. Именно согласие на психическое насилие делает человека рабом, материальное насилие не требует согласия и может оставлять внутреннюю свободу. Когда меня расстреливает тирания, то я могу нисколько не поступаться свободой своего духа. Диктатор, исповедующий культ силы, прежде всего хочет совершить психическое насилие над душами, физическое насилие есть уже орудие этого психического насилия. В этом сущность современного тоталитаризма, он хочет владеть душами, дрессировать души. Он требует отказа от свободы и за это дает хлеб».[593] По сравнению с тоталитаризмом демократические режимы своими мягкими социальными технологиями мимикрирующими под гуманитарные процедуры оказываются более эффективными в реализации социальных целей, т.к. человек размягченный псевдогуманизмом постепенно утрачивает какой-либо интерес к культуротворческому самопроекту, все более втягивается в реализацию всеобщего социального проекта, идет ли речь о создании «открытого общества», либо «общества массового потребления», либо «общество с рыночной экономикой» и проч., лишь бы предлагаемая формула будущего соответствовала при всей ее конкретности, содержала бы в себе «блистательную неопределенность». Тоталитаризм и демократизм - это всего лишь две формы одной и той же деантропологизированной социальности безраздельно господствующей в экзистенции. Социальная демократия в ее чистом виде, то есть очищенной от всяких примесей человеческого есть хотя и неявная, но все же высшая форма тоталитаризма, так как основывается уже не только на внешнем насилии, но и на разветвленной системе человеческого самопринуждении. «Современные тоталитаризмы, - писал Н.Бердяев, - суть предельные проявления той автономии раздельных сфер человеческой жизни, которые начались как освобождение и кончились как порабощение»[594]. Если тоталитарный режим прибегает к открытому и последовательному подавлению человека как антропной целостности, то тоталитарность демократизма проявляется в искусственном вычленении в целостном человеке некоторой подсистемы диспозиций с последующей ее автономизацией от ментальной системы и использование ее как средство внутреннего разложения личности в угоду реализации стратегических социальных целей. Демократизм есть неявный, скрытый тоталитаризм внешне мимикрирующий под гуманизм, а потому являющийся наиболее эффективной формой проявления «воли к власти» внешнего социального человека.
При демократической ситуации оказывается еще меньше выбора для реализации гуманитарного проекта, т.к. человек добровольно отказывается от своей духовной свободы в пользу так называемой социальной целесообразности, складывающейся под воздействием непреложных законов общественного развития. «Сегодня демократия, - писал Шелер за несколько лет до прихода Гитлера к власти, - может спасти саму себя от диктатуры и одновременно спасти блага образования и науки только следуя по одному пути: она спасет себя тем, что саму себя ограничит, начнет служить духу и образованию, отказавшись от желания властвовать над ними. В противном случае остается только одно: просвещенная деспотическая диктатура, презирающая враждебную к образованности массу и ее вождей и господствующая над ними с помощью кнута и пряника».[595] Интересно, что именно в годы коммунистического тоталитаризма так называемое диссидентское искусство и культура получает свое наивысшее развитие и именно вопреки идеологическим запретам и так называемому «социальному заказу». Это протестное искусство воплощало идею человечности в той мере в какой противостояло силам, стремившимся воплотить в жизнь чистый социальный проект. Примечательно что с разрушением основ тоталитаризма, на рынке идей, товаров и услуг гуманистическому проекту снова не находится местно. Он оказывается еще более неуместным в условиях процветающей демократии. А потому искуство и культура, вышедшие из «социального подполья» довольно быстро приспособились к более жестким условиям «социального заказа» в моральном плане еще более сомнительного, нежели тот который формировался тоталитарным режимом, отнюдь не принципиальная защита, а радикальное растление человеческих душ становится наиболее выгодным предприятием. Воистину «кто платит, тот и заказывает музыку», однако музыку основывающуюся отнюдь не на предустановленной гармонии.
Борьба за более «прогрессивную» и «справедливую» социальную систему как правило завершается установлением еще более бесчеловечного порядка, оказывается еще большим сужением сферы человеческого в социальном. «Тот, кто хочет другого общества, - пишет Арон, - хочет сам быть другим, поскольку он принадлежит современному обществу, обществу, которое его сформировало и которое его отвергает. Очень часто он ссылается на трансцендентные императивы или на идеальное будущее. Но, как мы уже видели, это идеальное будущее есть только трансфигурация созданная незнанием несовершенной системы, а трансцендентные императивы представляют собой ипостась ценностей, реализованных, утвержденных или вообразимых современным обществом… Идеи будущей системы аккумулируются внутри системы, которая идет к закату».[596] Человек чистой демократии, т.е. власти низших сил в социальном универсуме, начинает лихорадочно заполнять пустотную сферу абсолютного в своей экзистенции «социальными вещами» и обходиться с ними так как буд-то те составляют сакральную основу его жизни. И тоталитарный и демократический режимы есть разновидности одного и того же социального зла, посредством которого общественный организм обретает возможность «развиваться» за счет либо применения либо жестких, либо мягких социальных технологий, ни тому, ни другому социальному режиму никакого дела нет до реализации собственно человеческих целей существования, так как жизнь человека не представляет для цивилизации самодовлеющей ценности и цели.
Антропологическая катастрофа привела не только к кардинальной замене антропной культуры социальной цивилизации, но и явилась кардинальным способом преодоления существовавших до нее экзистенциальных форм человечности. Она явилась не только способом смены социальным субъектом антропного субъекта, но и способом радикального уничтожения вытеснения его неявного присутствия во всех без исключения сферах экзистенции. Антропологическая катастрофа – это “объемный онтологический взрыв”, разрушивший все без исключения своды человеческого Именитства. В этой связи в его метафизическом анализе переходного этапа от Культуры к Цивилизации необходимо коснуться важнейших семантических, онтологических и ментальных последствий антропологической катастрофы.
Семантическая составляющая антропологической катастрофы. Социальная форма экзистенции, как мы выяснили выше, имеет свои особые семантические рамки, ими являются прескриптивные значения или нормы цивилизации. Социальному субъекту интегрированному в квазицивилизацию и дезынтегрированному в Культуре и в Культе оказываются закрытыми не только истинные значения трансцендентных символов, но и человеческие смыслы, заключенные в феноменальных ценностях. Слово, которым, в основном, пользуется социальный субъект утрачивает не только свою изначальную сакральность, но и культурную самовитость. Оно распадается на бесчисленное множество прескриптивных значений, исходящих уже не из интимнейших тайников души, а из волющего «общественного сознания». Нормативная форма социальных суждений оказывается семантически иманентной не внутренним интенциям субъекта, а внешним экстенциям объекта.
Посредством развернутой системы прескриптивных, предписывающих суждений общество моделирует при-нудительную форму поведения человека, пригодную лишь для нудных ситуаций безличной социальной деятельности. За-нудливый характер социальных нормативов обусловлен их зависимостью от социальных нужд, они есть семантическая объективация вечно нуждающегося социума в ресурсном потреблении человеческого материала. По мере интеграции превращения человека в «человеческий материал» его внутренняя жизнь становится столь же однообразной и нудной, как и исполняемые им социальные функции. Духовная интуиция и человеческое понимание оскудевают в той мере, в какой ментальность человека подобно компьютеру «загружается» внешними социальными предписаниями. Одной из центральных тем философских штудий позднего Г.Марселя было выяснение онтологических соотношений между культурным саморазвитием человека и цивилизационным процессом, который, как он полагал, является враждебным подлинным культурным ценностям. Он утверждает, что цивилизационный процесс заключает в себе опасность превращения индивида в хорошо “обработанный” инструмент покорения внешнего мира, анонимную производительную силу, и в этом отношении идет вразрез с задачей культурного самосовершенствования личности. По его мнению цивилизация превращается в разрушительную силу по мере атрофии в ней духовного начала и высших духовных ценностей. Согласно Марселю ни античность, ни средневековье, ни Ренесанс, не приводили к отрицанию необходимости ориентации развития цивилизации на высшие ценности, от них решительно отказывается лишь Новое время. Вся европейская культура Нового времени по Марселю есть иллюстрация пагубного культа обладания, торжества стереотипа мышления, связанного с подчинением социальной действительности. Всемерно способствуя развитию цивилизации, западное общество периода Нового времени отнюдь не ставит цели культурного, а лишь решает задачи формирования послушного “частичного” индивида. Наблюдая драму “расколотого мира”, Марсель утверждал, что цивилизация есть основное препятствие для установления духовной гармонии.
Каждая эпоха имеет свой особый прескриптивный модус, однако в эпоху господства цивилизации этот модус становится некоей псевдодуховной субстанцией, заменяющей собой ценностную душу. Нормативные законы общества становятся чуть ли не сутью человеческого самоопределения в сущем. Пирамиду социальных предпочтений начинают замыкать те из них, которые обслуживаются самыми обезличенными прескриптивными значениями. Наиболее предпочитаемыми оказываются нормы защищающие общество от человека, и, напротив те нормы, которые призваны защищать человека от общества становятся все более формальными и беспрецендентными. Применительно к семантике общественного сознания трудно уже ссылаться на случайные заблуждения предпочтений, так как иерархия социальных нормативов в условиях восходящей цивилизации задается перевернутой пирамидой ценностей, обслуживающей приоритетность социального над человеческим в этой псевдочеловеческой экзистенци.
Между господствующим в цивилизованном сообществе социальным субъектом и реликтовым антропным субъектом возникает и все более углубляется семантическое отчуждение, в связи с тем, что одним и тем же событиям приписываются порой прямо противоположные значения. Так, к примеру, если подвиг человека с позиции ценностно опосредованной рефлексии конституируется в качестве предельной формы самоактуализации во имя Человечества или человеческого Именитства, то с позиции гипернормативной рефлексии - как свидетельство проявления высшей формы социетальности, обусловленной сверхнормативным выполнением индивидом своего общественного долга. Противоположные образы мира, которыми обладают антропный и социальный субъекты вызывают совершенно противоположные мотивы в сфере их не столько совместной, сколько искусственно совмещенной деятельности. Высокая духовная мотивация не требующего внешнего нормативного антуража весьма трудно совмещается с мотивацией нормального социального субъекта, основанного на бихевиоральном подкреплении системой положительных и негативных санкций. Однако эта семантическая неоднозначность характерна лишь для переходного периода, как только социальная цивилизация ликвидирует последние проявления антропной культуры, в коммуникативной системе деятельности наступает полная семантическая определенность за счет тотального господства в ней безличных норм внешнего долженствования.
Ценностную форму нормативного долженствования в качестве своей непосредственной метаисторической праформы прескриптивная цивилизация обретает в эвалюативной культуре. Однако как только цивилизация окончательно освобождается от онтологического патронажа культуры, она начинает осуществлять радикальную переоценку ценностей, прескриптивно модифицируя их таким образом, что последние в конце концов оказываются всего лишь социальной производной от норм долженствования. Более того, со временем сами нормы присваивают себе псевдоэвалюативную значимость, начинают конституироваться общественным сознанием в качестве высших социальных ценностей. Разве к господствующим в обществе прескрипциям, составляющим свод законов, относятся лишь как к нормативным актам? К ним социальные индивиды относятся более чем к ценностям, чуть ли не с сакральным трепетом. Цивилизация сокрушая культуру начинает формировать особый корпус социальных ценностей, точнее разветвленную систему псевдоценностей. «Эти социальные ценности, - писал Ницше, - дабы усилить их значение, как неких велений Божьих, - были воздвигнуты над человеком как "реальность", как "истинный" мир, как надежда и грядущий мир. Теперь, когда выясняется низменный источник этих ценностей, тем самым и вселенная представляется нам обесцененной, "бессмысленной"... но это только переходное состояние»[597]. Социальные ценности являются переходными квазипрескриптивными значениями так как они нужны лишь для камуфлирования истинных целей, которые стремится реализовать сверхцивилизация. Переоценка ценностей происходит с каждой сменой поколений и таким именно образом, что новейшие социальные прескрипции, облаченные в более пышные ценностные наряды, оказываются еще более эффективными регуляторами, нежели те, которые успели дискредитировать свою связь с реликтовой человечностью. «Конечно, каждое поколение, – пишет Хайек, - ставит одни ценности выше, другие – ниже. Но давайте спросим себя: какие ценности и цели сегодня не в чести, какими из них мы будем готовы пожертвовать в первую очередь, если возникнет такая нужда? Какие из них занимают подчиненное место в картине будущего, которое рисуют наши популярные писатели и ораторы? И какое место занимали они в представлениях наших отцов? Очевидно, что материальный комфорт, рост уровня жизни и завоевание определенного места в обществе находятся сегодня отнюдь не на последнем месте на нашей шкале ценностей, Найдется ли ныне популярный общественный деятель, который решился бы предложить массам ради высоких идеалов пожертвовать ростом материального благополучия? И, кроме того, разве не убеждают нас со всех сторон, что такие моральные ценности, как свобода и независимость, правда и интеллектуальная честность, а также уважение человека как человека, а не как члена организованной группы, - являются «иллюзиями Х1Х столетия»? Каковы же сегодня те незыблемые ценности, те святыни, в которых не рискует усомниться ни один реформатор, намечающий план будущего развития общества? Это более не свобода личности... И когда нам все чаще напоминают, что нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц, то в роли яиц выступают обычно те ценности, которые поколение или два назад считались основами цивилизованной жизни. Каких только преступлений властей не прощали в последнее время, солидаризируясь с ними, наши так называемые «либералы»!»[598]. Как только цивилизация обретает необходимую степень своей онтологической тотальности так сразу же социальные ценности отбрасываются в качестве прагматически неэффективных и переоценка ценностей уже происходит лишь для того, чтобы навсегда их вытеснить из массового сознания, а освободившееся от них место в ментальном пространстве заполнить более эффективными социальными нормативами. Ценностный камуфляж с социальных прескрипций цинично сбрасывается, как только они входят в резонанс со столь же циничными социогенными потребностями, процесс насыщения которых носит отнюдь не ценностную, а сугубо технологическую природу. В этой связи семантическую форму антропологической катастрофы, развязанную цивилизацией можно еще обозначить понятием ценностная катастрофа.
По мере того как цивилизация все более прогрессирует на своей имманентной социально-нормативной основе, человек все более утрачивает ценностный язык общения с другими людьми. И даже переходя от ролевых отношений к отношениям межличностным, отношениям между «социальными личинами» он продолжает, в основном, пользоваться социальным сленгом, воспроизводить незатейливые схемки социальной риторики. «Возможен трагический конфликт, - писал Н.Бердяев, - между социальной справедливостью и ценностями культуры и духовной жизни… Этически нужно признать, что духовная жизнь и ее ценности стоят иерархически выше социальной жизни и ее ценностей. И сама социальная проблема разрешима только на почве духовного возрождения».[599] Лишь незначительная толика ценностей циркулирующих по прескриптивным лабиринтам общественного сознания имеет отношение к эвалюативным значениям высокой культуры. В основном это те из них, с которым социум вынужден считаться лишь постольку, поскольку они необходимы для регуляции локальных ячеек, в которых все еще обитает антропный дух, дух человечности, в таких, как семья и творческие коллективы.
Слова, произносимые не иначе как в повелительном наклонении, принадлежат уже не Субъекту, а Объекту. Повелительная по своей сути речь – это речь Социального Повелителя, требующего от Исполнителя строго определенного и однозначно интерпретируемого рисунка поведения. Формула «ты должен, ты обязан» - становится центральной проблемой формальной морали, которая которая давно перестала служить человеку и стала содержанкой у социума. Цивилизацию интересует лишь социальная форма морали и, и прежде всего, как весьма эффективная форма духовного человеческого самонасилия. Эта противоестественная форма морали становится средоточием семантико-лингвистическкого насилия над истинными проявлениями духовной нравственности. Может быть наиболее остро в ХХ веке власть нормативного языка социальной морали, над людьми понимал лишь М.Хайдеггер. Если создатель философии символических форм Э.Кассирер призывал пожертвовать человеческой субъективностью в пользу всеобщих правил построения семантического универсума, то М.Хайдеггер, подметив нормативность и принудительный характер современного языка, утверждал обратное: творческое расширение языкового горизонта, должно сопровождаться диалогической полемикой с общепринятым, с другими людьми и самим собой. Отказ от этой способности означает добровольное предательство человеком самого себя и ведет к самоотчуждению. “Мир бытия-сознания есть мир-с. Бытие-в есть бытие-с другими”.[600] Нормативный язык должен быть вовлечен в ценностный диалог с ценностным языком культуры и символическим языком культа в той мере, в какой собственно человеческий текст оказывается вовлеченным в социальный контекст.
Ценности, которые вместо того, чтобы гарантом истинности предписательных значений, выступают несущей семантической основой нормативного каркаса при тщательном онтологическом анализе оказываются наиболее репрессивными прескрипциями облаченные в ценностные одежды. В этой связи принцип фальсификации Фейерабенда, неплохо зарекомендовавший себя в эпистемологии, вполне мог бы помочь в деле отсечения человеческих ценностей от их социально-нормативных суррогатов. «Социальные ценности» – это всего лишь фикции общественного сознания, своеобразные «семантические оборотни», «прескриптивные мутанты» посредством которых социум стремится покрепче привязать к своим безличным институциям человеческую индивидуальность. «Ценности, - писал Г.С.Батищев, - живы и конкретны только как междусубъектные, как адресующие субъекта к другим и роднящие его с ними. Индивидное же их присвоение и заключение в самоизолировавшийся атом убивает их. Верным признаком их умервщления служит их релятивизация и плюрализация».[601] В ХХ веке социальные псевдоценности становятся настоящими семантическими идолами, заслоняющими собой все подлинное и ценное в человеческой экзистенции, им поклоняются с почти языческой покорностью. Прескриптивные ценности воспроизводят особо ложные образы человека, принуждают человека жертвовать всем святым в себе во имя химерической социальной идеи, оказывающейся господствующей в массовом сознании. В качестве высших ценностей начинают культивироваться гиперсоциальные, антигумманные качества личности, актуализация которых и лежит в основе расширенного воспроизводства прибавочной репрессивности.
Совокупность прескриптивных и квазипрескриптивных значений составляют собой семантический базис пресловутой социальной технологии. Именно падшие и весьма сомнительные социальные гиперфеномены общественным сознанием активно реифицируются в качестве высших исторических символов и ценностей. Социальная технология не ограничивается регуляцией отношений безличной деятельности, важнейшим объектом приложения ее усилий становится сфера ценностно опосредованных межчеловеческих отношений. Прескриптивные ценности - это социально превращенные ценности культуры, используемые в целях целенаправленного манипулирования массовыми формами человеческого поведения. Они “работают” на процесс максимального упорядочения безличных социальных структур путем придания им псевдоценностной формы. Социальные ценности создаются для того, чтобы окончательно раздробить родовую целостность человека на необходимую обществу совокупность социальных диспозиций. Легче манипулировать человеком, если в его ментальности оказываются заблокированными глубинные интенции души, но еще более управляемым он становится если его ценностно-символическую душу удается заместить квазисоциальным Я - интериоризованным обществом. Цель такой вивисекции на внутреннем мире человека – предельно съузить широту человеческой мечты, о чем мечтал один из героев Достоевского. Наиболее эффективной социальная технология оказывается в той мере в какой человек утрачивает свою ценностную широту, в какой степени его внутренний мир скукоживается до узкого социального мирка, предназначенным ему для эмпирического обитания. В рамках применяемой социумом манипулятивной технологии весьма жестко табуируются именно те формы человеческой активности, которые своим ценностным потенциалом могут нанести ущерб и без того ущербной целостности обществу, особо табуируются предельно креационистские и творческие формы человеческой пассионарности. Основная онтологическая функция нормативистики связана с процессом искусственной универсализации социального в человеке, придания внешнему социальному миру свойства целостности, за счет его насильственной трансференции, переноса с человекой феноменальности. Эмпирическая жизнь социального субъекта поддерживается эклектикой из истинных и ложных норм, однако большая часть истинных прескрипций, особенно их эвалюативные и трансцендентные праформы, задвигаются в бессознательное, они в состоянии выдвинуться из него в сферу сознания лишь в особо критические для судеб общества периоды, когда внешний контроль существенно ослабевает.
Социальная идеология семантически подавляет человека в той мере в какой оказывается оснощенной пседоценностями. «Что обозначает нигилизм? – вопрошает Ницше и отвечает. - То, что высшие ценности теряют свою ценность. Нет цели. Нет ответа на вопрос "зачем"?»[602]. Однако нигилизм – это отсутствие ответа на вопрос о собственно человеческом целеполагании, в нем всегда можно обнаружить вполне определенный ответ на вопрос «зачем»?, если этот вопрос касается о социальном целеполагании человеческого деструктивного поведения, этот ответ имплицитен псевдоценностям, которые нигилизм закрепляют в общественном сознании.
Люди оказавшиеся в квазипресриптивной ситуации утрачивают способность семантически фиксировать свои интимнейшие чувства друг к другу, так как ложные социальные ценности способны «вытягивать» из них лишь чувства к обезличенной социальной системе, невольниками которой они оказываются. Вольные, свободные чувства людей друг к другу превращаются в не-вольные и произ-вольные, а еще точнее - производными от социогенных чувств массового человека.
Семантическое насилие в обществе основывается на использовании социально превращенных форм свободного слова. Пресловутая свобода слова фактически есть свобода словесного произволения, свобода придания слову сугубо социальных смыслов, свобода его интерпретации таким образом, чтобы оно эффективно «работало» на социальную необходимость. Принцип свободы слова применительно к тоталитарной социальной обстановки есть семантическая квинтэссенция социума окончательно освободившегося от своей изначальной человеческой и сакральной предзаданности. Любопытно, что так называемая свобода слова, о которой так много говорится в демократическом обществе, побуждает произносить лишь те слова, которые отражают собой так называемую социальную форму правды, и, напротив табуируются те слова, которые ставят под сомнение антропологическую аутентичность сложившихся общественных порядков. «Истина есть тот род заблуждения, - писал Ницше, - без которого некоторый определенный род живых существ не мог бы жить»[603]. Социально оформленная правда есть не что иное как прескриптивная ложь в псевдоценностной упаковке, как правило принимаемая человеком в качестве истины в последней инстанции, если конечно же он считает себя цивилизованным человеком. Цивилизованный человек не мыслим вне текстового массива средств массовой коммуникации, которая по мере ее развития обладает способностью желтеть. И это очень важно, чтобы истина исходила именно из последней социальной инстанции, а не инстанции ей предшествовавшей, правда которой оказалась дезавуированной «бегом истории». Семантическая власть доминирует не только над настоящим, но и над прошлым. С переоценкой ценностей переоцениваются и истины, касающиеся всего того, что относится к прошлому и не соответствует установкам новейшей социальной инстанции. Прекрасной моделью деятельности идеологических институций квазицивилизации является орруэловское “министерство правды”.
Для того, чтобы человек информационной цивилизации вновь обрел способность к ценностной самоинтерпретации, ему прежде всего необходимо возродиться в культуре – хранительнице подлинно человеческих смыслов. Однако если такой переход от цивилизованного полеолога и культурному диалогу и происходит, то человек при этом рискует быть непонятым со стороны своего непосредственного социального окружения, что чревато утратой завоеванных им социальных привилегий. Если конкретный человек и продолжает жить в «параллельных мирах», то не иначе как инкогнито в одном из них, при этом испытывая страшный дискомфорт от столкновения в его актуальном поведении двух конфликтующих нормативных структур – эвалюативных прескрипций и норм социального долженствования.
Интересно, что со «смертью Человека», резко меняется ситуация не только в социологии, которая отныне уже ничего не хочет знать о личности как таковой, а имеет дело лишь с социальными системами, но и в эпистемологии, запрещающей более не употреблять в строгих научных текстах ценностные понятия, восходящие к довольно неоднозначной человеческой сущности. Отнюдь не случайно в момент решительного перехода от культуры к цивилизации логический позитивизм объявляет ценностные суждения псевдопонятиями, которым не должно быть места в строгом социальном дискурсе. Такой поворот в судьбе культурологических категорий и артефактов имеет прямую связь с автогеноцидом, который человек совершил не только над своей антропной субличностью, но и над своим собственным самовитым словом.
Онтологическая составляющая антропологической катастрофы. Онтологическая сущность антропологической катастрофы заключается в том, что межсубъектное общение замещается безличной деятельностью, а феноменальное добродеяние квазисоциальным долженствованием. Цивилизация является устойчивой, если ее основу составляет порядок, основывающийся на нормах безличного долженствования. «Порядок, - писал И.А.Ильин, - может означать, с одной стороны, тот строй отношений, который устанавливается нормами как должный, с другой стороны, тот строй отношений, который наблюдается как эмпирически-действенный»[604]. Онтологическая структура квазицивилизации представляет собой нормативно упорядоченный социальный хаос, в котором нет места предустановленной социальной гармонии.
Четырем формам нормативных комплексов цивилизации соответствуют четыре онтологические формы долженствования. Абсолютным трансцендентным нормам соответствует абсолютное или свободное долженствование («долг ради свободы»). «Либо существует абсолютный долг перед Богом, и если таковой действительно есть, - писал С.Кьеркегор, - он… и представляет собой парадокс, согласно которому единичный индивид в качестве единичного стоит выше всеобщего и единичный индивид стоит в абсолютном отношении ко всеобщему, либо же веры никогда не было, именно постольку, поскольку она была всегда; или же Авраам погиб…»[605]. Абсолютный долг, считал С.Кьеркегор, выше любой другой формы долженствования тем более социального, так как вызывается не социальной необходимостью, а сакральной свободой, а потому может привести рыцаря веры к тому, что запрещает этика, особенно законническая ее разновидность. Н.О.Лосский связывал существование абсолютного Долга или долга перед Абсолютом с наличием в системе значений абсолютных ценностей. «Сознание абсолютных ценностей, - писал он, - сопутствуется у действительной личности признанием долженствования делать осуществление их целью своего поведения»[606]. В досоциальных своих формах долженствования является символическим и ценностным, а не узконормативным и по своей ментальной направленности интенционален. Важнейшей составной его частью выступает обязанность человека перед Космосом и Человечеством и ответственность за состояние их онтологической целостности. «Когда я говорю себе: «я должен», Я. – писал С.Л.Франк. - В сущности, говорю себе самому: «ты должен», т.е. мое эмпирическое «я» является здесь как инстанция подчиненная, воспринимающая повеление»[607]. Эвалюативным нормам имплицитно содержащихся в ценностях соответствует добродетельное долженствование («долг ради добра»).
Прескриптивным нормам онтологически иррелевантно долженствующее долженствование («долг ради долга»). Эта форма долженствования есть не что иное как социальный долг в его узком значении. Наиболее основательную теоретическую разработку эта социальная форма долженствования получила в этике Канта, она лежит в основании сформулированного им категорического императива. Кант отождествлял социальную форму долга с действием основного нравственного закона, что давало повод его критикам обозначить эту форму долженствования в качестве феномена законнической или формальной морали. Действительно, прескриптивная форма долга вполне аутентична нормам цивилизации, однако редукция к ней абсолютной и антропной его форм не только ведет к искажению весьма сложной структуры духовно-нравственного мира личности, но и в условиях социального тоталитаризма может являться весьма эффективным средством нравственного насилия над ней, тем более что по сущности своей требует силового подкрепления со стороны общества. Не случайно законническое долженствование, согласно Канту, лишь тогда является моральным, если подкрепляется внешним насилием, разветвленной системой правовых санкций. Прескриптивное долженствование хотя генетически и связано с трансцендентной и эвалюативной формой долга, в условиях интенсивного восхождения цивилизации, активно противостоит им наращиванием уровня нравственной (безнравственной) репрессивности. «Как идеальное долженствование не имеет ничего общего с долгом и нормой, - писал Шелер, - так и правое - с “правильным”; последнее относится только к поведению, которое таково, как это требует норма»[608]. В условиях складывающейся экстраординарной социальной ситуации долженствующее долженствование выступает на стороне социального права против антропной правды. Предельно ущербной в антропологическом плане социальное долженствование становится, когда обретает квазипрескриптивную форму. Оно становится воистину безнравственным синтезом тотального социального насилия личности и ее столь же тотального духовного самонасилия.
Квазипрескриптивным нормам соответствует квазидолженствование или долженствующие формы несвободы и злодеяния («свобода ради долга» и «добро ради долга»). По мере отпадения цивилизации от культа и культуры, в ее ущербной онтологии нарастают социально превратные формы долженствования, направленные своими прескрипциями на окончательное ниспровержение свободной самотрансценденции и добродетельной самоактуализации личности. В онтологическом плане антропологическая катастрофа начинается с отпадения социального долга от породившего его антропного добра и преобразования последнего в долженствующее добродеяние. Так, «категорический императив» И.Канта, приписывает выполнять человеку свой долг перед обществом, не размышляя о том, насколько оно гуманно, не рефлексируя насколько его требования согласуются с идеалом человечности. Как показала историческая практика применения моральной парадигмы «долг ради долга», наиболее эффективной она оказалась при формировании особо бесчеловечных тоталитарных режимов. «Были пущены в ход, - писал Ницше, - все роды императивов для того, чтобы сообщить моральным ценностям видимую непоколебимость: они дольше всего предписывались - они кажутся инстинктивными как род внутренней команды. То, что моральные ценности ощущаются как стоящие вне спора, это является выражением условий сохранения, социального тела (целого)».[609] Добродеяние становится функцией внешнего социального долга, подкрепляемого необходимыми санкциями и контролем со стороны общества. Сотни тысяч людей, чьи представления о социальном долге восходили к добродеянию, оказались репрессированными в годы тоталитаризма, причем «справедливое» насилие над ними вполне осознанной совершали люди для, для которых долг перед обществом был превыше их долга перед Человечеством и перед Богом. Более того они просто не ведали о более высоких формах долженствования нежели социальная, а потому и не мучились угрызениями совести за преступления против человечности.
Попадая в зависимость к социуму человек осуществляет добродение уже не по велению со-вести, совместной вести с другими людьми, а лишь в соответствии с нормативными требованиями осуществлять человечность по отношению к своим, и быть беспощадным в отношении к чужим, которые осознаются либо как потенциальные, либо как явные враги. Долженствующее добродение индивид в состоянии осуществлять лишь в пределах интерактивного социального поля, к которому принадлежит («свой среди своих»), и, напротив, любые формы долженствующего злодения за его пределами не только поощряются, но чаще всего квалифицируются как героические («свой среди чужих»). Нормативные мерки прикладываемые к добродеянию лишают последнее собственно гуманистического содержания, добротолюбие здесь оборачивается злонамеренностью. Деантропологизированное добро не есть только лишь изобретение социальной цивилизации, оно прежде всго является порождением десакрализированной человечности, добро ставшее мерой свободы, не могло со временем само не быть ограниченным рамками социального долга. Обособившийся долг, ставший законническим и формальным, есть не что иное как падшее добро или социальная форма зла. В соответствии со степенью зависимости человека от социума нарастает и объем и степень того злодеяния, которое совершается в социальном универсуме по отношению к людям, чьи добродетели не согласуются с безличным долженствованием. Добро ради долга есть идеологическая формула социального самонасилия, так как добродеяние здесь предстает в явно отчужденной от субъекта форме, в форме внутреннего средства самозакабаления человека. Чего, например, стоят рассуждения о так называемом «социальном партнерстве», между волками и овцами так называемой рыночной экономики. Онтологическим основанием этой новоявленной формы «человеческого братства» как раз и служит пресловутое долженствующее добродеяние, дающее возможность и волкам быть сытыми и овечью стаю сохранить в «разумных пределах». Не случайно в последние годы на всемирных форумах настойчиво звучит идея об «искусственном» сокращении чистенности населения Земного Шара до «золотого миллиарда», естественно этот проект отнюдь не затрагивает интересы «волчьей элиты» и касается всего лишь численности той «овечьей массы», которую она призвана пасти. Долженствование, противостоящее антропному добру, ограничивающее культуротворческие интенции души рамками производства социальных благ, и есть социальная форма злодеяния, внешне выглядящая не только респектабельно, но и вполне благопристойно по цивилизованным меркам. Господство безличного социального должествования могло быть достигнуто только с помощью тех же средств, обеспечивших в свое время господство антропному добродеянию, поправшему сакральную свободу.
Долженствующий человек - человек социально усредненный, а потому своим поведением не может соответствовать высоким общечеловеческим меркам, как правило, он действительно «не ведает, что творит», так как его деятельностью и поступками ведает социальное ведомство, по отношению к которому он выполняет свой профессиональный долг. Ни в одном обществе не предусматривается наказание за добросовестное выполнение социального долга, если оно сопровождается «неизбежными издержками». Долженствующие американские пилоты, сбросившие смертоносный груз на Хиросиму и Нагасаки отнюдь не квалифицируются общественным сознанием как участники спланированного геноцида, как и те, кто вслед за этой варварской акцией в гуманитарно-благотворительной акции. Акции первых и ре-акции вторых конституировались общественным сознаним в качестве ценностно нейтральных и они и были предметом общественного мнения, то лишь с точки зрения их соответствия нормам социального долженствования. Антиценностное квазидолженствование – есть квинтэссенция социальной формы античеловечности, даже если это относится к сугубо физическому спасению людей, ведь они за эту форму добродеяния должны поступиться базисными ценностями своей души. «Формальные ценности, - пишет Э.Трёльч, - вследствие их формальности и происхождения из долженствования имеют общее необходимое для разума значение там, где долженствование вообще признается, и в той мере, в какой оно ясно для себя разработано и очевидно. Групповые единства признают такие ценности обычно только внутри своих границ, исключая их распространение на чужих»[610]. Долженствующие существа, обособившиеся от божьей благодати и человеческого благодеяния, компенсируют свою духовную и душевную ущербность еще большим уходом в сверпотребление социальных благ, которые есть не что иное как их собственные овеществленные социогенные потребности, то есть по сути занимаются "самоедством", активным проеданием своей надсоциальной самости.
Человек не в состоянии существовать в качестве абсолютно расчеловеченного существа, однако как весьма красноречиво показывает опыт тоталитарных режимов, он вполне может идентифицировать себя с долженствующим социальным субъектом, если существенно снизить уровень его человеческой самоидентичности, ощущение сопричастности с человечеством. Как только человек начинает осознавать себя преимущественно членом «конкретной» социальной общности, а не «абстрактного» человечества, социальный долг в нем берет верх над собственно человеческим добродеянием. Однако с распадом социальной общности, составляющие его индивиды, разукорененные в высших нишах бытия, превращаются в крайне иррациональную толпу. Насилие, которое при «социальной норме» шло сверху вниз, при «социальной патологии» оказывается идущим «снизу вверх, однако при этом мы имеем дело лишь с двумя формами проявлений одного и того же социального силового поля. «Абсолютная государственность и абсолютный анархизм, - подчеркивал Н.Бердяев, - две стороны одного и того же дефектного состояния мира»[611]. Социальная анархия всего лишь объективация сверхупорядоченного социального хаоса, она всегда сопровождает собой смену одной формы государственности другой.
В социальном универсуме Зло как Иное прикрывается ценностно нейтральным Долгом. Социальное зло в онтологическом аспекте есть внедобродетельное долженствование, как и антропное зло – есть делиберализованное добродеяние. С началом отпадения цивилизации от культуры эскалация зла в экзистенции нарастает по мере того как все более формальным становится долженствование, а санкции, которыми оно подкрепляется все более силовыми. Если человеку в социальной организации приходится выбирать между положительными и отрицательными санкциями – этими двумя сторонами нормативного долженствования, то это означает, что не только добро перестало быть мерой его отношений к внешнему миру, но и зло в его самосознании осознается им лишь в качестве некоторой вполне справедливой совокупности негативных санкций, выступающей неизбежным возмездием за аномичное поведение. Таким образом в понятие социального зла включается отнюдь не отклонение действующей социальной системы от идеала человеческого добродеяния, а, напротив, поведение человека, отклоняющееся от норм социального долженствования, если даже они прямо или косвенно побуждают к осуществлению антигуманных акций. Социальная ре-акция как раз и направлена против гуманитарных акций, против тех прав и свобод человека, которые мешают общественному прогрессу.
Как в ситуации антропного общения существует некий допустимый уровень сакральной свободы или «мерная свобода», так и в ситуации социальной деятельности – «мерное добро». В социальной организации человеку приходится выбирать лишь между различными уровнями долженствования и чем выше уровень его социальной самоотдачи, тем меньше у него шансов быть добродетельным, но и тем более он олицетворяет собой силы зла, которые принимает за естественные издержки своей повышенной пассионарности. Человек, который в своих ориентациях разрывается между добродеянием и долженствованием может придти к внутреннему согласию лишь при одном из двух возможных сочетаний добра и долга. Либо, если «добро» и «добродетельный долг» соединяется в некую онтологическую целостность и тем самым возникает возможность уклониться от сотрудничества с силами социального зла. Либо, когда в онтологическую пару соединяются «долг» и «долженствующее добро» и тогда индивиду формальной моралью предоставляется возможность самому олицетворять силы социального зла. Первый вариант чреват «непродуктивным» подвижничеством, благородным донкихотством, второй – повышенной социальной эффективностью, продвижением по ступенькам успеха. В период социальной реформации прикладная этика сделала еще одно головокружительное «сальто мортале», из деонтологической этики с которой она себя отождествляла в эпоху строительства социализма, она модифицировалась в этику успеха, с тем чтобы быть максимально полезной обществу с рыночной экономикой. Тот цинизм с каким официальная мораль пристраивается к любым формам социальной упорядоченности красноречиво свидетельствует о ее сущностной античеловечности.
Если добро и зло лежит по эту сторону свободы, то долг – по эту сторону добра и зла. В социологизме к нему никогда не применяются аксиологических оценок в связи с тем, что само общество им измеряется далеко не человеческими мерками. Должествование отлепившееся как от добра, так и от зла в общественном сознании выступает лишь нейтральным механизмом, придающим общественной системе способность сохранять «устойчивое развитие» вне его соотнесенности с ценностными параметрами человеческой экзистенции. Общественное сознание в отличие от сознания гуманитарного, оперирует не оценочными суждениями, а категориями социальной эффективности и продуктивности. Социологизм искуссно модифицирует категории добра и зла в некую необходимую и достаточную систему положительных и негативных санкции, способствующую процессу перманентного извлечения из «человеческого фактора» социогенные ресурсов, крайне требуемых деятельностному процессу.
Если насильственное добродеяние и есть высшая форма антропного зла, то вненасильственное долженствование – это нонсенс, реализуемый разве что в анархическом типе организации, но и здесь насилие присутствует, хотя и с обратной социетальной направленностью – от личности к организации. В экзистенции, расширившейся до социальных объективаций, начинает складываться жесткий онтологический эксцентриситет, в котором отношения между Человеком и Обществом становятся все более напряженными. Эта напряженность обусловливается тем, что человек, пытаясь сохранить остатки своей феноменальности, всячески «экономит» свои духовные ресурсы, особенно там и тогда где и когда ослабевает социальный контроль, а общество, стремясь окончательно покончить с антропной реликтовостью в человеке, наращивает силы и средства по контролю над формами проявления его личностной активности. Социальное долженствование наиболее эффективно реализуется там и тогда где и когда подкрепляется специально формируемыми «силовыми структурами».
Антропологическая катастрофа влечет за собой кризис в сфере межчеловеческого общения, ее можно еще доопределить как коммуникативная катастрофа, катастрофа человеческого общения. Если сакральная катастрофа привела к утрате человеком своих креативных способностей, то катастрофа антропологическая - способность к подлинно человеческому общению. И основной удар по этой важнейшей экзистенциальной сфере, предназначенной для расширенного воспроизведения собственно человеческих сущностных сил, наносит безличная социальная деятельность. Онтологически антропный и социальный субъект различаются тем, что если первый есть, в основном, общенческое, то второй, в основном, – деятельностное существо. Вся трагедия современного человека заключается в том, что его жизнь проходит скорее всего не среди людей, а среди персонификаторов социальной деятельности, ранее единое ценностно- коммуникативное пространство оказалось распавшимся на довольно локальные межличностные связи. Не случайно вся иерархия сущностных проявлений человека социологизмом редуцируется к креативной пассионарности или общенческой продуктивности, а к деятельностной репродуктивности. В качестве априори предполагается, что человек есть не что иное как интериоризированная социальная деятельность. Деятельностная концепция человека на долгие годы определила формирование ведущих теоретических парадигм в психологии, социологии, политэкономии и других науках. Приведем одно из типичных высказываний представителей социологической мысли об онтологической первичности деятельности, а следовательно и производности от нее человеческой личности. “Человеческая социальная деятельность, - утверждает Г.П.Щедровицкий, - должна рассматриваться не как атрибут отдельного человека, а как исходная универсальная целостность значительно более широкая, чем сами “люди”. Не отдельные индивиды... создают и производят деятельность, а наоборот: она сама “захватывает” их и заставляет “вести” себя определенным образом”. Более того, деятельность не есть также атрибут всех людей, вместе взятых. “Наоборот, сами люди оказываются принадлежащими деятельности, включенными в нее наряду с машинами, вещами, знаками, социальными организациями и т.п.”[612]. До сих пор все еще «большая наука» продолжает доказывать, что содержание человеческого существования можно описать лишь используя социально-экономические категории. Однако как мы выяснили выше явная деятельность, тем более суженная до производственной деятельности, отнюдь не является основой и способом существования ни для астрального, ни для антропного субъекта, т.е. для онтологических субъектов, на протяжении тысячелетий, предшествовавших появлению социального субъекта как нового исторического типа. Их экзистенциальные формы поведения не может быть описаны в экономических категориях, напротив, с точки зрения последовательного экономизма их целостная жизнедеятельность, подчиненная служению Абсолюту и Культуре выглядит как экономически нерентабельная и абсурдная. Так что же во всеобъемлющем метафизическом анализе многомерной человеческой экзистенции исходить из этой весьма узкой точки зрения? Не в этом ли состоит основной грех современных философов, утративших предельную широту метафизического умо-зрения и все более полагающихся на подобного рода ничтожно малые точки зрения.
Да, деятельность в ее явном виде выступает основой существования социального субъекта, однако своими неявными трансцендентной и феноменальной праформами предсуществует и в Ноумене и в Феномене, как составная часть астральной креации и человеческого общения. В рамках космической формы бытия «деятельность» всего транс-социальная, трансцендентно-социальная категория, выступающая неявной составляющей тотальной практики самотрансценденции, в пределах же человеческого универсума она имеет онтологическое значение лишь будучи составной частью практики самоактуализации. Именно это обстоятельство требует с известной долей осторожности осуществлять историческую ретроспекцию современной экономической деятельности человека, редуцировать к ней надсоциальные формы деятельности. Подводить под социально-экономические категории целостное бытие субъектов, чья экзистенция категоризирована более высокими онтологическими принципами, значит вульгаризировать исторического процесс на основе принципа панэкономического детерминизма. Редукция целостного человеческого существования и даже не к социальной форме жизне-деятельности, а всего лишь к ее «способу производства» не может не привести к окончательной утрате человеком способности воспроизводить свои высшие, надсоциальные сущностные силы. «Несомненным остается факт, - пишет Трёльч, - что социально-экономический базис в самом деле лежит в основе всей исторической жизни как самый прочный и самый устойчивый нижний слой, с наибольшим трудом изменяющийся и в своем изменении увлекающий за собою все остальные слои»[613]. Деятельность составляет основу социальной жизни, выступает сущностным атрибутом социального субъекта, однако не она замыкает вершину многоуровневого существования иерархического человека, а скорее является дном его экзистенции расширившейся до цивилизованной формы бытования. Как только антропное общение оказалось вытесненным квазидеятельностным процессом человек очутился в «социальной яме», куда его столкнули совместными усилиями Политик, Социолог и Экономист. «Все эти творения также относятся к сфере жертвенности... - писал Гегель об отчужденном характере социальной формы человеческой активности. - Деятельность, как таковая, вообще есть не что иное, как отказ от чего-либо, но уже не от внешних вещей, а от внутренней субъективности... В этом созидании жертва носит характер духовной деятельности, и в нем содержится напряжение, которое в качестве отрицания особенного самосознания удерживает заключенную во внутренних глубинах и в представлении цель и создает для содержания внешнее выражение».[614] Внешняя социальная деятельность, вычлененная из внутренней духовной и культуротворческой деятельности и превратившая в объективный производственный процесс, становится средством Великого Отказа от присутствия человека в Духе и Культуре.
Выступая контр-агентами «объективной деятельности» по производству социальных вещей, отношений и институтов, индивиды овеществляют в них не только свои социогенные способности, но и при их посредничестве активно присваивают свои отчужденные сущностные силы. Деятельностные контр-агенты если и вступают между собой в контакты, то в связи социально опосредованные, совокупность этих контактных связей образуют собой содержание средств массовой коммуникации. Массовая коммуникация отличается от собственно человеческого общения, что она представляет собой совокупность стереотипных коммуникативных актов, в которые в процессе совместной деятельности вступают ее персонифицированные конр-агенты. Вполне логично обозначить массовую коммуникацию в качестве массированного контр-общения, результатом которого выступает воспроизводство частичного социального субъекта. «Проблема встречи между субъектами, - пишет Г.С.Батищев, - для каждого из которых любой конечный продукт и любой конечный коллектив есть всего лишь выполнение одной из бесчисленных возможностей, присущих потенциальной глубине бытия каждого, подменяется проблемой отношения такой деятельности, у которой нет никакой потенциальной глубины, к самой себе. Вместо общения между различными самостоятельными субъектами мы имеем теперь лишь внутреннюю структуру и лишь внутренние связи, находимые в “едином и целостном” деятельностном процессе, в составе Дела как процесса. Это-то Дело и утверждается как единственный, монопольный всеобъемлющий субъект»[615]. Контр-агенты деятельности в процессе массированного контр-общения интегрируются в некую контр-общность, в пределах которой сублимируют свои репрессивные ре-акции в последовательный ряд акций совокупной социальной деятельности.
Если культура диалогична, то цивилизация полеологична, индивиды в ней не вопрошающе-ответствующие, а лишь внимающие субъекты, способные принять любую точку зрения, лишь бы она подкреплялась волющей социальностью. Они обладают голосом лишь в пределах социальной «полифонии», партитура, которой разрабатывается за пределами человеческой индивидуальности – в довольно узких коридорах власти. Социальный полеолог – это не универсум диалогов, который ведут люди в единой для них культуре. Это скорее монолог социума, который внимающие индивиды воспроизводят своим «внутренним» прескриптивным языком, языком «самоприказа» удивительным образом коррелирующим с языком социальных предписаний. Скорее всего полеолог цивилизованных субъектов – это универсум внутренних монологов, прескриптивно задаваемых монологичной же идеологией. В этом заключается вся смысловая абсурдность массовой коммуникации: адресант и адресат воспроизводят один и тот же текст, который, как им кажется является продуктом их авторского творчества, однако на самом деле является прескриптивной разновидностью дискурса псевдосубъектом которого выступает общественное сознание. Самосоциализирующиеся субъекты погружены в один и тот же социальный кон-текст, а потому в семантическом плане выступают фрагментами единого прескриптивного Текста. Дискурс, овнешненный до прескриптивного полеолога выступает семантической основой кон-текстуальных контр-личностей, а потому весьма логично его обозначить как контр-диалог. Социальный полеолог – это псевдодиалог индивидов, который ведется по подсказкам единого суфлера, каким является Идеология. Идеологически запрограммированный полеолог между частичными субъектами не дает им возможность вырваться за пределы блокадного информационного кольца, им неведомы высшие чувства и ценности, а потому судьба представителей сакральных и культурных сообществ их ни сколько не волнует. В социальный полеологе окончательно гаснут диалогические формы ценностного дискурса, он есть снимает таким образом, что тот становится семантическим базисом принципиального непонимания внимающего социального субъекта вопрошающе-ответствующего антропного субъекта. И никакие услуги герменевтики по расшифровыванию текстов не в состоянии преодолеть это семантическое отчуждение, так как в деятельностном полеологе прескрипции опираются на ложные ценности, они не могут содержать в себе истинных человеческих смыслов, присущих диалогизму общения, а потому бессмысленно осуществлять их семантическую генерализацию, разве что в откровенно матипулятивных целях. «Ложные ценности, - писал Ницше, - невозможно искоренить при помощи аргументов: совершенно так же, как и искаженную оптику в глазу больного. Нужно понять необходимость их существования они суть следствия причин, которые не имеют ничего общего с доводами»[616]. Диалог между антропным и социальным субъектом невозможен уже по той причине, что первый, в основном интенционален, а второй экстенционален, которому нечего добавить от себя лично, к тому что содержится в текстовом массиве социума, он способен лишь озвучивать одну из социальных версий, касающихся его присутствия в мире.
Прескриптивное содержание ментальности социального субъекта может быть «понято» лишь социальным же субъектом, «коммуникативным партнером», который обладает примерно таким же «внутренним текстом». Идеально «понимают» друг друга лишь социальные личины, представляющие собой своеобразные «информационные оттиски» посредством которых тиражируется тексты с единой «информационной матрицы», роль которой выполняет сверхличностное общественное сознание. Так люди одной и той же профессии с полуслова понимают то, что необходимо им делать в акте совместной деятельности. Но уже представителям разных профессий, весьма трудно войти в непосредственное специализированное общение, так как их «индивидуальные тексты» поддаются интерпретации лишь в пределах более всеобъемлющего социального контекста, который им неведом. Иными словами, люди – носители разнообразных фрагментов единого социального текста вполне могут образовывать между собой различные социальные альянсы, однако им не дано интегрироваться в полноценную человеческую общность в связи с утратой способности к ценностной самоактуализации друг в друге. Не случайно пресловутая «новая человеческая общность» распалась на враждебно настроенные друг к другу социальные общности, как только дезавуированными оказались псевдоценности, лежавшие в ее семантическом основании и поддерживавшая ее система подавления.
Одним из существенных онтологических последствий антропологической катастрофы явилось разрушение баланса в соотношении антропного со-бытия и социального бытия в единой человеческой экзистенции. Культурно опосредованное событие родового человека в результате радикальной социальной реформации оказалось отчужденным в пользу социального бытия нецелостных индивидов, а субъектно-субъектные отношения первого стали по существу зависящими от процесса развертывания субъектно-объектных отношений второго, а затем и вовсе модифицировались в так называемые межличностные отношения, составившие основу социально превращенной формы общения. Субъектно-субъектные отношения общения - это отношения Субъекта к другому Субъекту или отношения со-бытия, совместного бытия антропосов. Когда же происходит их метаморфоза в субъектно-объектные онтошения деятельности, то индивиды начинают взамодействовать друг с другом лишь своими объективированными сторонами. Однако отношение субъекта к «другому» как к объекту или иначе объектное отношение субъекта к субъекту лишь тогда имеет какой-либо смысл, если основывается на понимании того непреложного факта, что социально объективированные свойства «другого» не есть проявления его человеческой сущности, а всего лишь внешняя инфраструктура его многоуровневой субъектности, вычленяемая лишь в целях их функционального «сочленения» их усилий в акте совместной социальной деятельности. За пределами совместной деятельности в сфере собственно человеческого общения их социальные субличности должны уступить свое место надсоциальным Я и Ты. Однако такая сугубо гуманистическая интерпретация «объективированной субъективности» в процессе многократного перехода субъекта в объект и наоборот, постепенно утрачивается и индивиды начинают всерьез взаимодействовать друг с другом лишь как персонификаторы внешних социальных функций, т.е. относиться друг к другу сугубо объектно. Именно в этой перманентной взаимо-объективации взаимо-действующих социальных субъектов, которая по мере интенсификации деятельности оказывается все более тотальной и необходимо усматривать, на наш взгляд, основную причину взаимного отчуждения цивилизованных людей.
В пределах квазисоциальных субъектно-объектных отношений человек предстает перед безличным социумом уже и не единой индивидуальностью - Я и не «единственной половинкой Ты», а элементом множественного Мы. Если антропная «ячейка» состоит из «человеческих половинок», то социальная система – из безличных социальных функций, выполняемые личностями-персонификаторами. Последовательный социогенезис человека есть в то же время и процесс перманентного дробления «человеческих половинок» на все более частичных персонификаторов общественных отношений. Социальной плюральности развивающейся цивилизации должна соответствовать множественность социально обусловленных форм человеческой субъективности. С утратой человеком собственно человеческого, феноменального статуса, он в состоянии осознавать только свою социальную аутентичность и не иначе как в совместной деятельности с такими же как он деантропологизированными социальными субъектами. В акте совместной деятельности они выступают как социально родственные индивиды и антропно чуждые индивидуальности. Устойчивость антропно-социальной форме субъективности придает приоритетность человеческого над социальным в экзистенции, которая до поры до времени все еще сохраняется в социальном универсуме в силу неразвитости его отношений деятельности на своей начальной фазе развития. Однако как только цивилизация перестает нуждаться в человеке в качестве главной производительной силы, о чем ярко свидетельствует прогрессирующая безработица в технологически развитых странах, он почти автоматически переводится в разряд внешних факторов общественного производства. Он начинает рассматривается в качестве такой разновидности “социальных вещей”, которая все еще сохраняет антропологическую форму, которая на данном историческом развитии цивилизации не поддается радикальному диалектическому снятию. В этом странном симбиозе по мере технологического развития цивилизации социальное достигает все больших успехов в деле овеществления человеческого, стремясь чтобы из «вещи в себе», он окончательно превратился в «вещь для вещей», т.е. стал чистой персонификацией социальной формы вещественного мира. В отличие от субъектно-субъектных отношений, самим своим названием подчеркивающими, что это отношения между субъектами, межличностные отношения – это отношения между личинами под которыми скрываются отнюдь не человеческие лица, а персонификации «социальных вещей».
Социально обособившееся антропные половинки Я и Ты уже не в состоянии генерализировать отчужденные друг от друга экзистенциалы в единый и целостный человеческий универсум. Более того все культуротворческие процессы в нем постепенно обретают социетальные форму и содержание, процессы гуманитарные все более модифицируются в разновидность процессов социальных. Как только цивилизация становится квазипрескриптивной, граница социального бытия начинает проходить по «тыльной» стороне человеческой самости, образуя систему связей - "Ты - Ты". Отношения Ты-Ты могут быть экзистенциально уравновешенными, если органично восходят к отношениям Я-Ты, субъектно-субъектным отношениям. С утратой же собственно человеческой само-идентичности самость в качестве Ты оказывается в состоянии осознавать лишь свою социальную идентичность и не иначе как в процессе само-социализации в самости Ты, за пределами «Ты-отношений» субъект утрачивает свою социальную аутентичность, а потому он и не отваживается за эту «опасную черту» переступать.
В пределах квазицивилизации отношения «Я-Ты» и «Ты-Ты» становятся экзистенциально несовместимыми. И прежде всего потому, что в этих зауженных онтологических пределах социально превращенные конъюнктивные чувства ничего общего с собственно человеческая любовь иметь не могут, они всего лишь социально-психологический ее коррелят и относятся не к субъекту, а к объекту социальной коммуникации. Известно, что положительное чувство может вызывать не только другой человек, но и любая вещь этим другим созданная и от него отчужденная. Между Ты-субъектами, как между социально овеществленными индивидами в принципе не может быть подлинной человеческой, между ними возможна лишь некоторая совокупность социально опосредованных конъюнктивных и дизъюнктивных чувств. Положительные социальные чувства носят конвенциальный характер, обусловленный необходимостью совместного производства и потребления вещей. За пределами конвенциальных социальных чувств они эмоционально нейтральны друг к другу. Не случайно К.Маркс определял социальную связь как отношение безразличных друг к другу субъектов. Другой особенностью, социально превращенной формы конъюнктивных чувств, подмеченной П.А.Флоренским, является их генетическая связь с вожделением – овеществленной любви или любви к вещам. «Ведь любовь возможна к лицу, а вожделение - к вещи; - писал П.А.Флоренский, - раци-оналистическое же жизне-понимание решительно не различает, да и не способно различить лицо и вещь, или, точнее говоря, оно владеет только одною категорией, категорией вещности, и потому все, что ни есть, включая сюда и лицо, овеществляется или берется как вещь»[617]. В связи с тем, что социальная форма любви есть всего лишь эмоциональная привязанность к вещам, а не к лицам их производимым, субъекты деятельностного единого акта связываются не только отношениями социального безразличия друг к другу, но и теми вожделениями, обусловливают совместное производство вещей. Чувственный трансфер, который цивилизация сумела осуществить с субъекта на объект, с личности на вещь, привело к вырождению человеческой любви к потребительской форме вожделения, в которой человек низводится до вещи, а к вещи относятся по человечески.
В результате антропологической катастрофы в ментальности происходит отрицательная инверсия и на месте Я оказывается интериоризованное чужое Ты. Возникает эффект удвоенного самоотчуждения, заключающийся раздвоении социальной субличности не на Я и не-Я, а на Ты-образное Я и Ты. Отчужденный социальный субъект в ментальном плане есть прежде всего интериоризованное чуждое гиперсоциальное Ты, вытеснившее в бессознательное аутентичное истинной форме субъектно-объектным отношениям социальное Я. Ты-образный субъект – это социально пере-лицо-ванный человек, лицо которого есть не что иное как калька с личины генерализованного Другого – каким выступает гипертрофированно объективированная социальность. Человек оказывается способным втягивать в свое ментальное пространство и интроецировать лишь те вещественные формы бытия, которые лежат за пределами непосредственных субъектно-объектных отношений, т.е. за пределами деятельностного процесса в акте чистого потребления, обособленного от производства. Вещи, которые цивилизованный человек потребляет вне контекста их производства, становятся «чужими вещами», как и люди их производящие «чужими людьми». Разрыв между производством и потреблением в обществе является основной причиной того, что чувственные отношения между социальными субъектами из нейтральных превращаются в амбимвалентные, и, в основном, дизъюнктивные. «Во всяком, даже любимом и родном мне «ты», - писал С.Л.Франк, - есть нечто жуткое и непонятное для меня – именно потому, что в конечном счете я для себе все же есмь безусловно единственный и одинокий и не может быть речи о безусловной, безграничной и безоговорочной однородности мне какого-либо «ты». Именно поэтому вражда и ненависть неким таинственным образом сопряжены между собой»[618]. Если как утверждал Тютчев «союз души с душой родной» всегда есть «их поединок роковой», то что же тогда можно поведать о субъектах, связаны между собой лишь внешним «общественным договором», основная задача которого состоит лишь в минимизации социального зла. Таковы основные онтологические последствия от происшедшей с человеком антропологической катастрофы.
Ментальная составляющая антропологической катастрофы. История цивилизации в метальном плане есть история развертывания социальной субличности человека, история того как социальная функция человека превращалась в доминирующее Я – аутентичное цивилизованным формам человеческого присутствия в мире. Если Человек прежде чем стать Феноменом как Образ и Подобие содержался в Ноумене, то и Социальный Субъект до своего онтологического обособления в качестве своеобразного Образа и Подобия содержался в более высших ментальных монадах. В ментальности астрального и антропного субъектов социальное Я находилось в форме потенциальной субличности и скорее всего выступало социальной функцией в ряду иных этих высших субличностей. Прасоциальное в человеческой ментальности лишь частично проникало в сферу сознания, так как составляло собой одну из неосознаваемых структур ментальности - потенциального бессознательного. Оно превратилось в явную социальную субличность, в явное социальное Я, как только в системе знаков и значений потенциальные прескрипции, содержавшиеся в символах и ценностях выделились в систему явных норм, а в многомерном человеческом бытии возникла особая онтологическая ниша – социальный универсум.
Неявные формы социальности синкретично связанные с сакральностью и человечностью в Иерархическом Человеке и есть те праментальные формы, которые в ходе перманентного эманирования переходя одна в другую в конечном счете оказались воплощенными в явную форму социальной ментальности. При этом, согласно эманационной концепции, порождившие социальное Я перво- и прафеномены не исчезли бесследно, а осели в архетипических структурах бессознательного, генерализировались в гуссерлевского интенционального субъекта, активно воздействующего на открытые формы социального поведения человека. В ментальном пространстве цивилизованного человека можно условно выделить «внутреннюю» и «внешнюю» социальные субличности, первая их них представляет собой «социальное бессознательное», органически связанное с трансцендентными и ценностными архетипами, вторая же выступает «социальным сознанием». Динамическое взаимодействие между социальной субличностью и ее символической и ценностной праформами в состоянии быть конструктивным лишь при условии, если социальная субличность оказывается составной частью астрально-антропно-социального субъекта, в этой сложно построенной ментальности социальная гармония оказывается органично вплетеной в более высокие гармонические ряды, восходящие к пустотной и бесконечной субъективности – Абсолюту как Бесконечному Субъекту. В пределах же антропно-социального ментального симбиоза, со временем антропное Я все более релятивизируется, а социальное Я – абсолютизируется и в конце концов под социальной личиной уже трудно обнаружить собственно человеческое лицо. Своей разукорененностью в высших онтологиях и укорененностью в мире социальных вещей социальная субличность превращается в можный внутренний фактор антропологической катастрофы.
Овладев социальными сущностными силами, социальная субличность вступает, в основном, в силовые отношения с более «слабым» антропным субъектом. Патологическое отвращение, испытываемое «сильным» социальным субъектом к «слабому» антропному субъекту, по закону бумеранга приводит к его онтологическому вырождению в «чистую» функцию внешней социальной действительности. “В наше время, - утверждал Юнг, - зияет глубокая пропасть между тем, что человек есть, и тем, что он собой представляет, иными словами, между человеком-индивидом и человеком, функционирующим как часть коллектива. Функция его развита, индивидуальность же – нет. Или деятельность данного индивида заслужила признание и похвалу, тогда он большею частью тождествен со своей коллективной функцией; или мы имеем обратный случай, тогда он с ней не тождествен; в качестве индивидуальных функций он всецело на стороне своих неполноценных, неразвитых функций и вследствие этого он является просто варваром; первый же, благодаря удачному самообману, сумел закрыть глаза на свое фактическое варварство. Несомненно, что такая односторонность принесла обществу неоценимую пользу, ибо выгод, завоеванных таким путем, никакими иными путями нельзя было бы добиться”[619]. Когда имеется в виду «чистый» социальный субъект, т.е. «очищенный» от всяких антропных и астральных «примесей», то всегда необходимо четко осознавать, что в предельно широком онтологическом контексте он есть существо онтологически «патологическое». Степень онтологической патологигичности социального субъекта прямо пропорциональ степени его ментальной стерильности. Основу его патологии составляет то самое «квазисоциальное свойство» овнешненной стороной которого выступает маниакальная по своей природе «квазиактивная деятельность». Таким образом общество своей онтологической патологией обязана ущербному социальному Я, а социальная патология человека – больному обществу, «страдающему» манией величия. “Общество, - писал Тойнби, - переживающее упадок, стремится отодвинуть день и час своей кончины, направляя всю свою жизненную энергию на материальные проекты гигантского размаха, что есть не что иное, как стремление обмануть агонизирующее сознание, обреченное своей собственной некомпетентностью и судьбой на гибель”[620]. Социальной гигантоманией как правило страдает элемент социальной массы, в особо критический для нее момент, когда ее относительная упорядоченность находится накануне погружения в абсолютный хаос. Неплохо бы осуществить анализ тех гигантских социальных проектов, планирование которых пришлось на канун краха локальных цивилизаций, одним из выводов такого рода исторического исследования, видимо, подтвердил бы гипотезу, выдвинутую Тойнби.
Социальный переворот, происшедший во внешнем мире человека, был предопределен тем переворотом в его внутреннем мире, который совершила социальная субличность. Обретя полный контроль над высшими субличностями, воздвигнув мощный «нормативный экран», не пропускающий ценностные и символические интенции в сферу сознания, квазисоциальное Я получило неограниченную возможность экстериоризироваться в предельно гипертрофированные социальные структуры, их последующая интериоризация личностью еще более делает ее патологичной. Фрейд подчеркивал, что если раньше люди не способные адаптироваться к обезумевшему миру уходили в монастыри, то теперь погружаются в шизофрению. Безумие есть адаптация личности к бесчеловечным условиям социального существования. Психопатология органично связывающая онтологически неполноценную личность социас больным обществом все более из узкопсихологической проблемы перерастает в предельно широкий исследовательский проект, разрабатываемый онтологической антропологии. «Я придерживаюсь идеи, - утверждает Жан Ипполит, - что изучение безумия – отчуждения в глубоком смысле этого слова – находится в центре антропологии, в центре изучения человека. Сумасшедший дом есть приют для тех, кто не может больше жить в нашей бесчеловечной среде»[621]. Фуко считает, что в высказывании Ипполита весьма интересным является его убеждение в глубокой связи безумия и сущности человека вообще, эта связь выражается в том, что безумие есть крайнее проявление отчуждения, а отчуждение принадлежит сущности человека. Когда речь идет о психопатологии (а точнее онтологической патологии) социального субъекта то причины этого безумия необходимо отыскивать в социальной форме отчуждения, а не в чисто физиологических поломках психики. Если они и имеют какое-либо значение в формировании безумного образа жизни, то вряд-ли играют решающее значение на качество жизни целой человеческой популяции.
По мере развития цивилизации уход из общества становится все более проблематичным, так как монастыри давно уже заменены тюрмами и психиатрическими лечебницами, ставшими важнейшими социальными институциями. Правда существует некое альтернативное огосударствленному обществу так называемое «гражданское общество», однако не является ли оно всего лишь фикцией больного воображения? Не является оно всего лишь искусственно созданной буферной зоной, создающей иллюзию альтернативного способа существования, ведь именно оно насквозь пронизывается информационными потоками, генерируемые жрецами «свободы слова». Человек, не способный умертвить или хотя бы умерить в себе «внутреннего человека» свое радикальное спасение способен обрести разве что посредством суицида. «Еще сегодня, - пишет Арон, - тот, кто не ориентируется ни в современном режиме, ни в готовящемся режиме, сохраняет возможность и моральное право бежать из общества: непоколебимый, мудрый или покорный, он согласен жить один. Одиночества никогда не желают, его предпочитают определенному коллективу. Если политический выбор рискует привести к выбору какой-либо смерти, то это всегда означает выбор определенного образа жизни»[622]. Не потому ли процент социально немотивированных самоубийств катастрофически высоким является именно в странах, в которых жизненный уровень является наивысшим, а свобода слова почти тотальной.
В результате «внутреннего переворота» совершенного социальной субличностью субъектом исторический процесса становится не целостный и универсальный человек, а всего лишь социальная форма дискурса или дискурсивная форма социальности. Именно это дискурс, генерируемый социальным псевдо-Я в первую очередь направлен на информационную блокаду ставших реликтовыми «потоками сознаний» исходящих не только из архитепических глубин бессознательного, но и вытесненного в него истинного социального Я. «В бессознательном слое "я", - писал Н.Бердяев, - заключает в себе всю историю мира и общества, все то, что сознанию представляется чуждым и далеким. В сознании "я" раскрывает в себе лишь частичное содержание»[623]. Как только возникает и развивается социальная гипертрофия как во внешнем и внутреннем мире человека, вытесненные в сферу бессознательного истинные Я не могут оставаться безразличными к самовластным решением паразитарной формы социальной субличности. Социальный субъект – это внутренне конфликтогенный человек, который в состоянии снимать стрессы лишь посредством личностной аномии.
Несмотря на свое отпадение от антропного субъекта и решительного преодоления в себе «остаточной человечности» социальный субъект именно свою ущербную субъективность отождествляет с предельно широким понятием «человек», оставляя за пределами этого определения всех тех представителей рода человеческого, которые все еще находятся на пути присвоения своей социальной сущности. Социальная идеология неустанно твердит, что человек есть совокупность социальных отношений или интериоризованное Общество, а общество есть не что иное как экстериоризованный Человек. Эта весьма софистическая посылка является весьма удобной идеологической пред-посылкой для перманентного процесса иллюзорной идентификации нецелостных элементов социомассы с целостным Человеком и даже со сверхцелостным Богом. Отныне ущербная социальная личина мыслит свою жизнь не иначе как в общечеловеческих и вселенских масштабах, активно перестраивает архетипическое Миро-Здание согласно архитектурным стандартам Социального Присутственного Места. Социальные лилипуты начинают обживать родовое именитство своих предков-великанов. Однако как только социальный субъект окончательно поселится в социально модернизированном Миро-Здании, он по существу окажется в «социальной могиле». Но всю глубину этой вселенской трагедии социальному субъекту постичь не дано, так как истинное предназначение этого гигантского строительства окончательно прояснится лишь по его завершению. «Мы можем просто не успеть что-либо понять. – пишет Ф.И.Гиренок. - Помешает антропологическая катастрофа, относительно которой человек продвинулся довольно далеко, называя это продвижение «цивилизационным сдвигом»»[624].
Социальная субличность антропно-социального субъекта, как мы выяснили выше, своими праформами уходит в генезис человеческой экзистенции и именно эта его генетическая линия оказывается «горячей линией», перегруженной интенциями «высокого напряжения», она окончательно разрушается как только социальное Я насильственно овладевает всем ментальным пространством. Начинает разворачиваться внутриличностный конфликт между астрально-антропной формой бессознательного и социальной формой сознания. Сохраняющаяся в изначальном Ничто идеальная праформа социального Я становится внутренним эталоном соотнесения, формирующем со-весть, угрызения которой указывают на степень несовместимости проявленного социального Я с его первичным астрально-антропным проектом. С внешним Социумом конфликтует не социальное Я, его порождающего, экстериоризующего и к нему адаптирующееся, а «идеальные» и неявные его праформы, содержащиеся в надсоциальных структурах человеческой ментальности. “Пафос истины и правды ведет человека к конфликту с обществом. - писал Н.Бердяев, - Наиболее духовно значительное в человеке идет совсем не от социальных влияний, не от социальной среды, идет изнутри, а не извне... ошибочно было бы понять это как индивидуализм и асоциальность. Наоборот, нужно настаивать на том, что есть внутренняя социальность, что человек есть социальное существо и что реализовать себя вполне он может лишь в обществе. Но лучшее, более справедливое, более человечное общество может быть создано лишь из духовной социальности человека, из экзистенциального источника, а не из объективации”.[625] Социальная форма субъективности может быть истинной лишь в качестве «вложенности» в свою антропную праформу, социальное Я в состоянии быть истинной социальной формой самосознания лишь в пределах многоуровневой человеческой ментальности.
Проблема соотношения явной и неявной социальности в человеческой ментальности, к сожалению, так и не поднята ни социологией, ни социальной антропологией. Если бы ее удалось решить на мировоззренческих принципах субъектоцентризма, то вряд-ли теория социальной адаптации была бы столь самодовлеющей в социологизме и социологически ориентированном психологизме. Каждая историческая эпоха характеризуется особой совокупностью онтологических вытеснений и соответствующих ей системой сверхкомпенсаций, к которым человек прибегает, чтобы заполнить в своей ментальности все более расширяющуюся «черную дыру» невостребованных и неактуализированных потенциальностей. По мере того как все более патологичным становится внешний социальный мир, человек вынужденный все более основательно к нему адаптироваться, сублимирует этот свой конформизм все более иррациональными средствами. В доцивилизованных общностях, в извесной степени терпимо относившимся к духовным и ценностным проявлениям в сфере межсубъектных отношений, не было необходимости человеческую активность обеспечивать излишне разветвленной и детализированной нормотивистикой. И лишь с развитием безличной цивилизации особое развитие получают нормы долженствования и силовые структуры, принуждающие к их исполнению. Юридический закон в союзе с нормативной моралью предпринимают отчаянные попытки упредить «деструктивные срывы», человеку же становится весьма трудно не сорваться в этом отчужденном от него мире. Он пытается компенсировать утрату своего человеческого статуса перманентным бунтом против установлений внешнего мира, однако чаще всего его деструктивное поведение оказывается бунтом против самого себя. В открытом поведении цивилизованного человека необходимо выявлять не только социальную, но и личностную аномию, так как именно поведение отклоняющееся от антропологического самопроекта человека, а не от квазисоциального проекта, свидетельствует об известной степени его экзистенциальной деградации. Можно даже предположить, что социальная аномия всего лишь незначительная часть глубинной человеческой самодеструкции. В ней всегда можно обнаружить ту конструктивную составляющую, которая вызвана необходимостью защиты человеческого достоинства от посягательств со стороны общества. Абсолютно адаптированный к социуму человек должен обладать минимумом психологического здоровья и максимумом личностной аномии. Человек по своему отношению к миру является существом адаптивно-адаптирующим. Не только человек своей социальной субличностью должен адаптироваться к своей же собственной социальной обмирщвленности – внешнему обществу, но и социальные структуры должны проектироваться таким образом, чтобы были аутентичны социальной гармонии «внутреннего человека».
Если, согласно Зиммелю, миссия культуры заключается в том, чтобы прокладывать путь души к себе самой, то миссия цивилизации – в построении дороги ведущей от социального сознания к сознанию индивидуальному. Но это применительно к идеальной экзистенциальной ситуации, складывающейся в результате иерархической соподчиненности трех онтологических типов цивилизации. Мы же анализируем кризисную ситуация, складывающуюся в процессе обособления квазитрансцендентной цивилизации не только от культа и культуры, но и от своих высших и истинных праформ. Антропологическая катастрофа произошла в самом эпицентре человеческой души, квазисоциальный субъект – это обездушенный человек, вернее человек у которого изъяли его индивидуальную душу и социальной психеей. Отныне его душа, обретшая социальную эпифеноменальность, предпочитает сообщаться лишь с духом общества или иначе общественным сознанием, но отнюдь не с трансцендентным Духом или феноменальной Душой. Антропологическая катастрофа в ментальном плане есть разрыв, между общественным сознанием индивида и его человеческим самосознанием, так как нормы, которым он вынужден следовать перестали быть иррелевантными его глубинным ценностным ориентациям. В процессе отпадения Общества от Человека происходит мутация в его ментальном строе, душа оставаясь по форме оставаясь антропной, по социальнию оказывается сугубо социальным эпифеноменом. Не случайно к понятию «душа» довольно редко прикладывается прилагательное «социальная», вместо «социальная душа» предпочитают употреблять «социальное сознание». Не является ли это косвенным подтверждением того, что социальный субъект, в основном, является человеком обездушенным, хотя и обладающим более структурированным сознанием, нежели антропный субъект. Воспаряя над индивидуальными душами социальная психея становится той именно преградой, которая блокирует путь не только к небесному Храму, но и к земному человеческому Именитству. Для социальной психеи все индивиды на одно и то же лицо, она особо примечает лишь тех из них кто окончательно утратил человеческую личность и сакральный лик. Видимо онтологические формы цивилизации можно различать и по их толерантности к ментальному разнообразию социальных субъектов. Стремление общественного сознания окончательно вытравить человеческую душу, интроецировать в ментальность свои жесткие прескрипции, придать человеческому поведению социальной осознанности или осознанной социальности. Единое социальное сознание таким образом преодолевает духовно-душевную множественность, предельно унифицирует человеческую ментальность, а затем низводит ее ментальной функции безличного социального универсума – универсума социальных вещей. Именно это обстоятельство и лежит в основании ментального антагонизма, возникающего во взаимоотношениях между представителями отдельных «локальных цивилизаций».
Универсум социальных объективаций в состоянии быть онтологически органичным и устойчивым лишь при условии если в нем продолжает инобытийствовать отнюдь не только социальное Я, но вся целостная иерархия субличностей, восходящая к Бесконечному Субъекту («все во всем»). Чем более дробным и нецелостным становится социальное Я, тем больше требуется привлечения надсоциальных, духовных сил для поддержания гармонии в системе субъектно-объектных отношений совокупной деятельности. Однако именно эти высшие, надсоциальные субличности, будучи вытесненными в сферу бессознательного, и оказываются теми “персонами нон грата”, интенции которых жестко блокируются репрессивными и ложными структурами общественного сознания – этой «душой» цивилизации.
В ментальном плане антропологическая катастрофа есть катастрофа уже не сакральной, а антропной формы человечности, а потому относится ко второму историческому этапу кризиса гуманизма. Цивилизация гуманитарно настроенными мыслителями в ее негативном аспекте чаще всего отождествляется с силами, препятствующими метаистории осуществить свой культур-антропологический проект. С онтологической гипертрофией цивилизации происходит разрыв антропной формы гуманизма или собственно гуманизма с его социально превращенной формой. Разрыв между человечностью и социальностью, наблюдающийся в тоталитарном обществе служит причиной как явного, так и скрытого геноцида. Коренная модернизация социальных структур цивилизации сопровождается массированными преступлениями против человечности, обретающими глобальный и системный характер в моменты радикальных снятий. Гипостазированная цивилизация становится непримиримым врагом всех надсоциальных форм гуманизма, тех форм человечности, которые не вписываются в социальную нормотивистику и не согласовываются с «объективными законами общественного развития». Обратной стороной любой радикальной социальной реформации, как показывает история цивилизации, всегда выступает еще большая радикализация социального отчуждение человека от человека.
Крайняя форма социализированного гуманизма представляет собой всего лишь камуфляж социальной формы античеловечности, а потому ее вполне можно обозначить термином - социальный антигумманизм. Н.Бердяев считал, что основу социальной формы антигуманизма составляет идеологически прикрытое демоническое начало в человеке, называемое бестиализмом. «Бестиализм, - писал он, - есть отрицание ценности человеческого лица, всякого человеческого лица, есть отрицание всякой сострадательности к человеческой участи. Гуманизм новой истории кончается. Это неотвратимо. Но конец гуманизма считается также концом человечности. Это и есть моральная катастрофа. Мы вступаем в бесчеловечное царство, царство бесчеловечности, бесчеловечности не фактической только, которая всегда была велика, а принципиальной»[626]. Тирания так называемой цивилизованной жизни своим острием всегда направлена против любых видов «человеческого образа жизни», в рамках квазицивилизация практически невозможна какая-либо гуманитарная альтернатива «социальному образу жизни». Если культура породила героев, чей титанизм был направлен против богов, то цивилизация – революционеров, чей бестиализм составил ментальную основу геноцида. Далеко не случайно Ф.М.Достоевский социальных революционеров называл бесами. Между антропным титанизмом и социальным бестиализмом общим является их приверженность использовать для достижения своих целей массированного насилия, которое, в конечном счете оказывается направленным против человечности. Радикальная социальная революция и даже довольно «мягкие» ее формы – реформации - по методам целенаправленного изменения мира своей предтечей имеют «героическую эпоху» всемирной истории, эпоху в которой войны считались всего лишь продолжением политики, но только иными, насильственными средствами. Социальные бесы становятся отцами-основателями новой исторической формы гуманизма, о чем художественным образом и засвидетельствовал Ф.М.Достоевский в своем романе «Бесы». Восставшие массы – вот тот весьма динамичный псевдосубъект, который окончательно ниспровергает Человека, делает решение проблемы гуманизма в обществе массового потребления, довольно бессмысленным делом. Социальный гуманизм допускает лишь защиту прав потребителя – того именно псевдосубъекта, который своими растущими потребностями выступает «двигателем общественного прогресса». О какой защите человека как человека может идти в обществе речь, которое, в основном состоит из социально оформленной человеческой массы?
Цивилизация, автономизировавшаяся от более высоких онтологий, не в состоянии быть силой способной утверждать гуманизм в хорошем смысле абстрактный и возрожденческий. В лучшем случае, при условии ее органической встроенности в культуру, цивилизация может быть нейтральной по отношению к собственно человеческим проявлениям, к трагическому восприятию «слезинки младенца», о которой писал Ф.М.Достоевский. Такую весьма «положительную» форму цивилизации вполне можно персонифицировать с «Пилатом, умывающим руки», которые и необагрены кровью праведника, однако участвовавшие в утверждении неправедного приговора. Отпадая же от культуры и тем самым подрывая ценностные основы человеческой жизни цивилизация не может не превратиться в явно антигуманную силу, ей никогда уже не отмыться от человеческой крови.
В связи с явной своей социабельностью цивилизация в принципе не может быть гуманной, как и гуманизм – цивилизованным. Если гуманизм, как считает Н.Бердяев, есть торжество серединной человечности, то цивилизация есть нижний предел этой срединности, за которым гуманизм в своей антропологической форме исчезает окончательно. Экзистенциальные рамки гуманизма как квинтэссенции человеческой феноменальности заключены между Богочеловечностью и Человекосоциальностью. Как только Человекосоциальность прескриптивно модифицируется в Социочеловечность, человек из феномена культуры превращается в эпифеномен цивилизации, что закрывает проблему гуманизма в качестве антропологической проблемы. Именно в этот период истории человечность начинает конституироваться общественным сознанием в качестве вредных проявлений «абстрактного гуманизма» с которыми необходимо решительно бороться. Если Культ побуждает человека в любых ситуациях проявлять свою богочеловечность, а Культура постоянно напоминает о его самоценности, то Цивилизация, напротив, требует решительного преодоления этих пережитков во имя без-заветного служения Обществу, т.е. такого ему служения, которое требует расторжения Завета с Богом и Договора с Человеком. Как только человек перестает быть «слугой двух господ» и всего себя отдает без-заветному служению обществу, он окончательно утрачивает подобие Бога, а вместе с ним и свою человеческую аутентичность. Социабельность и бесчеловечность – это две стороны менталитета сугубо цивилизованного человека. Выступая слепком общественных отношений социальный субъект, адаприруясь к социуму и внутренне уподобляясь ему, если и хранит в себе Образ Бога и свое человекоподобие, то не иначе как в архетипических тайниках души, подальше от социальных соглядатаев. Таким образом социальный прогресс – это не только высшая форма социального развития, но и высшая форма человеческого регресса. Это такое развитие социума, в угоду которому в жертву приносятся более высшие, нежели социальный, формы человеческого существования и самоосуществления. Интенсификация развития частных экзистенциальных процессов, может идти лишь за счет онтологического вампиризма над высшими экзистенциалами. При этом разрушается не только целостность онтологической ниши, в которой данный феномен интенсивно прогрессирует, но и деформируется все онтологические этажи Миро-Здание, а сам прогрессирующий в своем плоском развитии феномен превращается в свою противоположность – квазифеномен, гиперфеномен - в феномен со знаком минус. Но именно эту обратную сторону социального прогресса, как раз и скрывает от целостного человека его познающий разум.
В рамках социального гуманизма выстраивается целая система оправданий античеловечной в своей сущности истории современной цивилизации. По отношению к обществу социальный гуманизм призван выполнять свою апологетическую функцию. Само его название свидетельствует, что социальный гуманизм есть нечто прямо противоположное гуманистической социальности, а потому он призван активно защищать не человека от общества, а общество от человека. И если наиболее эффективной формой обороны является наступление, то тогда понятным становится наступательный характер социального гуманизма, направленный на преодоление подлинных форм человечности. Преодолев в себе искус возродиться в качестве человека, став «полноценным» социальным субъектом индивид начинает вполне обходиться комфортабельными условиями своего цивилизованного существования, предоставляемые ему взамен человеческого статуса, который в ходе экзистенциальной трансференции перешло к человеческокому обществу.
Порой, остро осознавая эту несправедливую во всех отношениях экзистенциальную трансференцию, человек, как говорится, выбивается из «социальной колеи» и начинает лихорадочно предпринимать усилия по возвращению цивилизации под онтологическую юрисдикцию культуры. Эта отчаянная попытка особо наглядно проявляется в различных ренессансных проектах, в стремлении возродить утраченную в ходе цивилизационных преобразований ценностную ауру во взаимоотношениях между людьми. Как утверждает Хайдеггер стремление реанимировать, а затем и возродить человеческий образ жизни в истории цивилизации наблюдаются с известной периодичностью. Он полагает, что первый тип гуманизма возник давно, в эпоху римской республики, несколько утратившей образ “эллинского человека”. Римлянам гуманизм был необходим прежде всего в связи с постоянными войнами, которые они вели с сопредельными народами. Именно тогда в общественном сознании “человечный” человек начинает противостоять человеку “варварскому”. “Гуманный” индивид, активно борющийся с любыми проявлениями “варварства”, призван был совершенствовать и облагораживать римскую добродетель, осваивая греческое наследие эллинизма. Становление второго типа гуманизма Хайдеггер относит к 14-15 вв., который связан был, по его мнению, с возрождением римской добродетели и греческого наследия в его позднеэллинистическом облике. Третьей разновидностью возрождения по Хайдеггеру становится новоевропейский гуманизм. Если придерживаться нашей версии онтологических видов гуманизма, то в известной степени с этой третьей разновидностью гуманизма можно отождествить с социальной формой гуманизма. Хайдеггер структурирует онтологические формы гуманизма исходя из неявного следования принципам европецинтризма. Тойнби вполне справедливо утверждал, что традиционный подход к феномену “ренессансов” страдает европоцентризмом, игнорирует существование “других ренессансов”, иных “мертвых” культур кроме эллинской, так же как ренессансов канувших в лету фаз существующих сейчас культур в истории других, незападных цивилизаций”.[627] На наш взгдяд, европецентризм в метафизическом анализе онтологических стадий гуманизма должен быть вытеснен субъектоцентризмом, способным учесть многообразные возрожденческие проекты, которые разрабатывались и воплощались во Всемирной Истории, а не только в истории Европы.
Несомненно, что ренессансные явления выступают про-явлениями гуманистической ре-акции, т.е. акции по ре-анимации снятых, преодоленных цивилизацией духовных и культурных форм человечности. Возрожденческие проекты как правило появляются в пиковые моменты истории цивилизации, когда в своих стремлениях покончить с человеком и его культурой она заходить уж слишком далеко, когда антропологическая катастрофа может вызвать необратимую деструкцию в самом социальном основании цивилизации. «Не предстают ли реально в различных циклах культуры гуманистические периоды как антиподы героическим периодам, - вопрошает Маритен, - не выглядят ли они как упадок героического в человеке или как возобладание человеческого над героическим, как более или менее общее отвержение сверхчеловеческого?... Разве гуманизм может заявить о себе, обозначить себя и свои собственные постулаты, только тогда, когда энергия иссякает, когда наступает время разложения и упадка, когда (прибегнем один раз к этой оппозиции терминов) "культура" становится "цивилизацией", когда страдание обнаруживает себя и становится невыносимым?»[628]. Ренесансные явления, происходящие внутри квазицивилизации скорее всего инициируются ею же, а не раздавленному социальным прессом человеком. Цивилизации делает попытки несколько реанимировать человеческое в человеке, но в той именно степени, которая позволяла бы использовать невостребованный ранее гуманитарный потенциал в борьбе против наиболее вероятного своего могильщика – технологии.
Ощущая онтологический надлом, испытываемый современной западной информационно-технологической цивилизации, раздаются призывы по ее сохранению. Гибель человечества почему-то связывается с прекращением существования именно западной цивилизации. И здесь мы имеем дело с проявлением пресловутого европоцентризма. Гавной целью для современного человечества выступает отнюдь не спасение одной лишь западной цивилизации, а спасение всего того, в истории, что все еще составляет ее, если можно так выразиться, «экзистенциальный базис», т.е. всего того онтологически конструктивного, что еще содержится в западной цивилизации, но прежде всего того, что ею еще до конца разрушено за пределами так называемого «открытого общества», что еще не успела умертвить «рыночная экономика». «Если человек стремится постигнуть и подчинить себе мир, - пишет Ж.-Э.Никола, - это необходимо ему для самореализации. Через множество цивилизаций, которые он создает, разложение которых допускает или производит сам, через свою бесконечную активность и борьбу он творит и выражает себя. Если и есть объединяющий финал истории, он не может быть чем либо иным, как самим человеком, человеком на пути самореализации».[629] Как показывает история человечества, с закатом одной из форм цивилизации конец света не наступает. Однако это вполне справедливо применительно к тем историческим переходным периодам, когда в небытие уходили так называемые локальные цивилизации, исчерпывавшие свой онтологический ресурс. К сожалению западная цивилизация, начав развиваться в качестве одной из локальных цивилизаций, вознамерилась превратиться в цивилизацию глобальную. Проявив свои явные имперские амбиции она а уже не ограничивается инкорпорированием своего собственного «человеческого материала» пытается превратить в единую социальную массу все человечество Земного Шара. В этом и состоит самая главная опасность, которая таит в себе сбесившаяся цивилизация для Всечеловека. «С наибольшей эффективностью подчинение и уничтожение человека человеком, - пишет Маркузе, - происходит именно на высоком уровне развития цивилизации, когда материальные и интеллектуальные достижения человечества казалось бы, позволяют, наконец-то, создать подлинно свободный мир»[630]. Возникает историческая необходимость спасения Человека от онтологически крайне упорядоченной, а потому и предельной неустойчивой цивилизации, способной погрузить человечество в хаос во имя очередного витка социального прогресса. И это уже далеко не внутренняя проблема цивилизации, а проблема экзистенциального гуманизма, освященная идеей Богочеловечности, идеей примирения Человека с Богом во имя духовного преображения. «Цивилизации, - утверждал О.Шпенглер, - суть самые крайние и самые искусственные состояния, на которые способен более высокий тип людей. Они - завершение, они следуют за становлением как ставшее, за жизнью как смерть, за развитием как оцепенение... Они конец, без права обжалования, но они же в силу внутренней необходимости всегда оказывались реальностью»[631]. Стоит глубоко задуматься о том, стоит ли за продление существования искусственно упорядоченной цивилизованной жизни расплачиваться столь высокой ценой какой является его естественная жизнь, в основе которой лежит трансцендентно-феноменальная гармония Неиного.
Итак, метаисторический этап, связанный с переходом от Культуре к Цивилизации, не мог не завершиться антропологической катастрофой, ибо интенсивное развитие общества требовало кардинальной жертвы идолу Прогрессу и чтобы умилостивить судьбу он приносит в жертву себя самого. Кьеркегор выдвинул основной экзистенциальный лозунг – «Выбери Себя!». Человек цивилизованный провозгласил иной лозунг: «Выбери Общество!», который несомненно должен быть дополнен лозунгом – «Пожертвуй Собой». Такой род самопожертвования и стал основой социальной формы гуманизма, существенно расширившего присутствие Иного в Сущем. С «победой» цивилизации над культурой прекращает действовать «параллелограм сил», сторонами которого выступали Человек и Общество, отныне направленность исторического развития определяет ставшее единым и чуть ли не единственным «силовое поле» объективных законов социального самодвижения. Чем более в цивилизации нарастает социальный порядок, тем стремительней идет на убыль естественная гармония человеческой души. Превратившись в упорядоченный социальный хаос, цивилизация уже не может рассчитывать на естественную сбалансированность субъектно-объектных отношений, так как субъектная сторона в них все более становится объективированной, а следовательно оказывается и менее надежным фактором социального гомеостаза. Преодолевая субъектность в своих социальных структурах, предельно объективируя их цивилизация сама себя изнутри надламывает. Именно этот внутренний надлом и ведет к гибели Цивилизации и замене ее более продуктивным и онтологически устойчивым экзистенциальным комплексом – Технологией - основу которой составляют объектно-объектные отношения, не нуждающиеся уже в явном присутствии социального субъекта и его цивилизованной формы бытования. При этом сама роблема человека оказывается как бы «снятой», возникает лишь вопрос о том, способно ли сохраниться общество, если из экзистенциального процесса оказались выведенными его «члены» – социальные субъекты. Видимо да, однако скорее всего это будет уже отнюдь не человеческое общество, а некая рациональная общность биороботов. Цивилизация оказалась великой неудачей Культуры, однако породив Технологию она сама оказалась в числе «онтологических неудачников. Вслед за судом над Культурой, о чем говорил Н.Бердяев, должен последовать и суд над Цивилизацией – суд человеческой совести, если эта совесть вновь окажется экзистенциально совмещенной благой вестью Бога.
И все же, в состоянии ли человек преодолеть свое социальное самоотчуждение в ситуации, когда антропологическая катастрофа вошла в свой апогей? На наш взгляд, возможность возрождения человека в Культуре все еще имеется, как и чудо его воскресения в Духе. Но сотворение этого чудо зависит только от самого человек, он должен помочь самому себе вновь возродиться в качестве подлинно человеческого существа. Прежде всего, он должен во что бы то ни стало восстановить приоритетность ценностей культуры над нормами цивилизации, антропного принципа над принципом социальным, вернуть своей экзистенции утраченный общеродовой статус. Одним словом он должен осуществить глобальную ре-акцию и ре-трансференцию. Конечно все это выглядит чудом, если на процесс восстановления подлинных форм гуманизма взглянуть с европоцентристских позиций, основанном на объектном подходе к анализу хода и исхода исторического процесса. Ведь бытует же расхожая сентенция, что история не знает сослагательного наклонения. Однако это суждение является истинным лишь в пределах рационального объектоцентризма, с позиции же трансцендентального субъектоцентризма история только и может пониматься в сослагательном наклонении, так как ее «коллективное бессознательное» слагается не иначе как за счет всего того истинного в человеческом опыте, что вытесняется силами Иного в Сущем. Следовательно, вопрос идет о том, чтобы дать возможность интенциональному субъекту, вытесненному в бессознательное вернуться на подмостки истории. И еще одно обстоятельство, которое дает возможность сохранить конструктивные формы цивилизованной жизни человека. На Земле сохранились еще общности, в которых люди живут придерживаясь иных, нежели социальный, онтологическим приоритетам. «Сейчас мы пробуждаемся к восприятию истины, - писал Тойнби, - что мы сознательно поставили себя в новую ситуацию, в которой человечество должно выбрать между двумя крайними альтернативами совершения геноцида и постижения того, как жить дальше в единой семье.”[632] Современная западная цивилизация, должна пойти на выучку к тем реликтовым культам и культурам, которые еще содержат в себе человекосоразмерную цивилизованность.
Проблема, которая во весь рост встает перед современной метафизикой - это обнаружение внутреннего источника движения социальной экзистенциальной формы. На наш взгляд она может найти свое разрешение лишь в рамках субъектоцентристского мировоззрения. Признавая, что история цивилизации движется по своим имманентным законам, все же их «нормальный» онтологический алгоритм необходимо отыскивать не в ней самой как объективации внешнего социального Я Иерархического Человека, а в архетипических глубинах ментальности, в которых “внутренняя социальность” продолжает пульсировать своими сакральными и антропными смыслами. «Трагедия, - писал С.Л.Франк, - есть потеря равновесия, неустойчивое положение, требующее исхода и имеющее смысл только перед лицом покоя и гармонии, в сопоставлении с ними. Сама возможность трагедии предполагает те глубины человеческого духа, в которых он, возвышаясь над ней, имеет прочную основу своего бытия в блаженном покое гармонии»[633]. По крайней мере гармонизация хотя бы внутреннего дискурса, который в состоянии прислушиваться не только к плоским сентенциям Рацио, но и к мудрости молчания Логоса существенно ограничило бы рамки применения так называемого объектного подхода, который со времен позитивизма глубоко укоренился в исторических исследований генезиса и становления так называемого общественного человека.
Именно на этой весьма катастрофической для судеб человечества стадии распадающаяся цивилизация должна примириться со своими реликтовыми праформами. Однако возрождение цивилизации на сугубо ценностных основаниях оказывается уже скорее не трансцендентальным мифом, а трансрациональной утопией, так как культуру раздавленную социальным прессом возродить к жизни становится делом почти безнадежным, а вне культуры ценности сами по себе, наподобие улыбки кота в кэрролловском зазеркалье, существовать не могут.
Глава 5.
ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ К ТЕХНОЛОГИИ
5.1. Оппозиция социального и телесного
в экзистенции
|
|
Не имеется никакой свободы по отношению к технике, так как свобода здесь состоит просто в том, чтобы сказать "да" или "нет"... кто скажет "нет" космическим зондам или генной инженерии? Именно здесь и только здесь мы обнаруживаем абсолютный детерминизм для человека (а не в его генах или в его культуре). Это и есть причина, ключ фундаментальной безнадежности современного человека. Он безнадежен, потому что ничего не может, а смутно ощущает это, неосознавая. Ж.Эллюль. Технологический блеф. |
Мы вплотную подошли к осмыслению новейшего этапа истории в котором историцизм превратился не только в господствующую идеологию, но и практику преобразования всех без исключения форм сущего. Первыми в него втянулись индустриально развитые страны, потянувшие за собой так называемые «развивающиеся» государства. Об этом этапе еще очень трудно что либо говорить определенного, так как предельно ясной становится лишь «левая» сторона «онтологической вилки» – цивилизация. Однакого можно твердо уже утверждать, что сущностью новейшего метаисторического этапа составляет переход к «постцивилизации», принципиально к нечто отличному от цивилизации обозначенному нами понятием технология, выступающая скорее всего не общностью людей, а общностью вещей. Что же может выступать посттехнологией, что же должно вытеснить в конце концов саму технологию и составить своим « прогрессивным развитием» новый метаисторический этап? Мы предполагаем, что сама технология будет иметь некую иерархию онтологических ступеней, которым найдутся в свое время соответствующие обозначения. Однако в самом начале онтологического становления технологии уже довольно явственно проступает и «правая» сторона «отнологической вилки» - Хаос. Технология в своем развитии, говоря языком синергетики, может выйти на такую точку бифуркации, пройдя через которую всемирная эволюция сменится инволюцией и «развитие» пойдет либо как-бы вспять, по ступенькам апокатастасиса, либо оборвется апокалипсисом. В любом случае «правая» сторона этой онтологической вилки является тем пределом в метаисторическом становлении сущего, когда Ничто должно окончательно развернуться в Нечто, а Нечто всей своей экзистенциальной полнотой инверсировать, свернуться в изначальную пустоту Ничто, упорядоченным же структурам Хаоса предстоит свернуться в Ничтожество с последующей его аннигиляцией в апокалипсисе. Если «правая» сторона, с которой граничит технология, вполне поддается метафизическому осмыслению, то «левая» сторона выходит за пределы философского дискурса и своей метафоричностью составляет «предметность» для теологии. Такая «гносеологическая ситуация» весьма осложняет проблему «завершения» построения субъектоцентристской историософемы. Но мы ведь уже находились в подобного рода гносеологически неопределеннной ситуации, когда только приступали к ее построению, а потому пологаем, что своей открытостью для трансценденции она сама нас выведет на определенный образ, содержащийся в абсолютном мифе, содержащий откровение не только о конце телесной формы экзистенции, как последнего метаисторического этапа за которым простирается нижняя бездна бытия, но и о конце самой истории, точнее объектологичного историцизма.
Итак, мы обозначили последний метаисторический этап развертывания Нчто в Нечто понятием «технология», звучащим довольно неуклюже. Но что же поделать, если среди господствующих понятий современного дискурса именно оно является наиболее аутентичным той онтологической общности, в которой, в основном, прописаны отнюдь не люди, а ими производимые, но от них отчужденные вещи-объекты, динамическую основу существования которых составляют не социогенные, а техногенные процессы. Можно было бы придумать для обозначения развертывающейся на наших глазах «онтологической целостности» совершенно новый термин, однако это удел будущих мыслителей, которые, не дай бог, окажутся свидетелями возможной экзистенциальной Агонии или агонизирующей Экзистенции. В качестве самоутешения мы можем сослаться на тот факт, что само понятие «цивилизация» закрепилось в философском дискурсе на довольно продвинутом этапе становления социальной оформленной онтологии. В связи с тем, что избранный нами термин несколько режет слух, постараемся по ходу изложения в качестве его синонимов использовать такие понятия как «технологическая цивилизация», «информационно-технологическая цивилизация», хотя со всей определенностью необходимо заявить, что в рамках избранной нами субъектоцентристской концептуализации сущего подобного рода замена недопустима, и, прежде всего потому, что то, что следует за цивилизацией в своих сущностных проявлениях не есть цивилизация, а нечто, что ее метаисторически, а следовательно и метафизически преодолевает.
Переход от цивилизации к технологии, происходящий на наших глазах, осуществляется столь стереотипно, что трудно что либо добавить к тому, что мы уже говорили о механизмах и стратегиях подобного рода онтологической метаморфозы, применительно к переходным этапам от Культа к Культуре и от Культуры к Цивилизации. Вместо плавного нисхождения цивилизации к технологии, мы вновь обнаруживает «скачок в развитии», а иными словами снятие в форме отпадения и отчуждения. Изнанкой переживаемого нами новейшего «осевого времени» сопровождающего переход от цивилизации к технологии является окончательная системная трансформация внутренней тотальности Предсущего во внешнюю рациональную тоталитарность Сущего, «скачок» из царства свободы в царство необходимости, процесс достижения полного господства Иного в объективной Реальности или реальности Объекта.
Основным противоречием новейшего метаисторического этапа является оппозиция технологического социальному в человеческой экзистенции, которая должна закончиться установлением полного господства первого над вторым. Социальный принцип, выйдя за рамки субъектно-объектных отношений социального универсума, заместив общечеловеческие приоритеты на социетальные не мог со временем не выродиться в идеологему насилия социального над человеческим и тем самым лишить цивилизацию энергетической подпитки со стороны культуры. Однако при этом социальное Я, вытеснившее в сферу бессознательного антропное Я, заменив его ложной субличностью, в состоянии было эманировать еще более гипертрофированным и ложным телесным Я, которое в конце концов займет господствующую вершину в иерархии человеческой ментальности, вытеснив в бессознательное породившее его социальное Я. Уже буквально на глазах наших современников телесное в человеке начинает все более превалировать над собственно социальным в нет, а социальный принцип замещаться телесно-технологическим принципом. Стремительно разрастающаяся раковая опухоль вещественного мира своими метастазами уже проникла во все более ниши иерархического бытия, центр которого начинает явно вращаться вокруг техногенной системы, все более становится техноцентричным. В связи с тем что на верховном месте мироздания ищут именно технологическое качество, а не ноуменальное, антропное или социальное, то усилиями его адептов оно и обнаруживается. Уже даже в пределах обыденного сознания под основой мироздания начинает пониматься предельная форма объективации объективного – телесная субстанция, с которой отныне и связываются экзистенциальные экспектации – ожидания счастливого будущего и требования по его скорейшему достижению. Мало найдется людей, которые поставят под сомнение объективный и поступательный ход своей истории.
Социальный субъект, возникший в результате распада антропно-социального синкретизма, в поисках своей внутренней ментальной опоры, обнаруживает в потенциально-бессознательном «свое иное» - неявную телесную (рациональную) субличность и способствует актуализироваться ей в явного телесного (рационального) субъекта, естественно под своим ментальным патронажем. Именно с момента осознания телесности как относительно автономной онтологической системы, тело обретает свою рациональную форму сознания, а рацио свою телесную репрезентативность. Возникает новая симбиотическая ментальность – социально-телесный субъект. Ментальность социально-телесного субъекта представляет собой социетальное единство социального и телесного начал в той форме человеческой экзистенции, основу которой составляет цивилизационно-технологический способ существования. В экзистенциально-онтологическом плане этот ментальный симбиоз оказывается весьма неустойчивым, так как телесная субличность в нем порожденная субличностью социальной изначально несет в своей «генной памяти» свидетельства о весьма вероломном отпадении социального Я от антропно-социальной формы субъективности. Естественно, что такой путь к обретению своей собственной автономии оказывается весьма заманчивым. Абсолютно устойчивой социально-телесная ментальная связка могла бы быть лишь в качестве интегративной составляющей абсолютной ментальной полноты, т.е. астрально-антропно-социально-телесного субъекта. Лишь при условии последовательного теоцентризма и иерархической подчиненности социально-телесной ментальной связки связке астрально-антропной, каждая субличность в этом идеальном ментальном ряду может быть абсолютно устойчивым субъективным образованием. Но ведь история предпочла на каждой ступени своего «восхождения» осуществлять радикальное «снятие» предшествующей, таким же репрессивным образом осуществляется и система снятий в развертывающейся ментальной системе. Социально-телесный симбиоз, онтологически неустойчивый и экзистенциально ущербный оказался иррелевантным столь же противоречивому переходу цивилизации в технологию. Социотелесность или социально оформленное человеческое Тело и есть та особая “социальная вещь”, которая на этом переходном периоде становится идеальным псевдосубъектом безличного деятельностного процесса.
Социальный субъект, постепенно замещая в своем внешнем мире собственно социальные процессы на процессы технологические, предельно рационализируя сложные и творческие формы деятельности, по мере того, как добивается успехов в этой «социальной технологии» сам становится все более частичным, нецелостным существом и, напротив, вполне ассиметрично начинает разбухать телесное Я, явно обнаруживая признаки сверхцелостности, его рациональное самосознание становится все более адекватным требованиям «технологической социальности». На этом переходном этапе социум становится все более технологизированным, а технология все более десоциализированной. Мы будем довольно произвольно обходиться с терминами «телесное» и «технологическое», так как, на наш взгляд, они находятся в отношении онтологического изоморфизма. На первых порах технология выступает прямой проекцией человеческой телесности, на завершающей же стадии истории сама человеческая телесность становится обратной проекцией технологии. Пока же в этом социально-телесном кентавре «тело» явно стремится занять место «социальной головы» с тем, чтобы иметь возможность проецировать на мир свои технологические интенции, особо не считаясь с такой химерой как «законы общественного развития». Социально-телесный синкретизм уже на наших глазах начинает распадаться на десоциализированное Тело и технологизированный Социум. Телесное Я изнутри разрушает социально-телесный симбиоз, вытесняя и в сферу актуального бессознательного социальную субличность, превращается в абсолютно мономорфного субъекта. Он оказывается последним осколком на который распадается ментальная монада. В телесном Я уже не может содержаться «своего иного» как это было присуще предшествовавшим ему субличностям. Абсолютно обособленное телесное Я – субъект атомарный. В связи со своей атомарностью он оказывается не способным своей рациональностью интегрироваться в «субъективную реальность», всей своей «душой» он принадлежит «объективной реальности, а потому его можно конституировать в качестве предельно обездушенного субъекта. «Такое «одушевленное существо», - писал С.Л.Франк, - обозначается грамматически в третьем лице; оно есть «он» (или «она») по аналогии с «оно», которым мы обозначаем неодушевленные предметы. В качестве такого «он» одушевленное существо входит в нашем опыте без остатка в состав «объективной действительности» и в этом смысле не представляет специального интереса»[634]. Однако если в качестве псевдосубъекта он не представляет особого интереса для онтологической антропологии, к нему должна проявить особый интерес антропологическая онтология, так как он является именно тем историческим персонажем, который призван силами Иного в Сущем поставить последнюю точку в Конце Истории.
Что же служит причиной обособления телесного субъекта от социального мира? Прежде всего стремление телесной организации мира, основу которой составляет рациональный дискурс, полностью освободиться от прескрипций, предписаний социальной организации, ограничивавших «прогрессивное» развертывание искусственных структур в универсум абсолютных объективаций. Однако в этот последний переходный период метаистории телесность обособливается уже не только от социальности, но и от своей изначальной одухотворенной формы? Ответ на этот вопрос находится в сфере трансцендентального и вновь выводит на новый виток трансрационального осознания человеческого грехопадения. Видимо с онтологическим обособлением Тела завершается перманентный процесс его онтологического отпадения от Духа составляющий ментальную основу Всемирной Истории. Человеческая телесность с одной стороны является объективацией «сакральной телесности» имманентно принадлежащей Духу, а с другой стороны выступает высшей формой телесной организации мира структурно принадлежащей Природе. «То, что обычно называют телом, - писал П.А.Флоренский, - не более как онтологическая поверхность; а за нею, по ту сторону этой оболочки лежит мистическая глубина нашего существа. Ведь и вообще все то, что мы называем «внешней природой», вся «эмпирическая действительность» со включением сюда нашего «тела», это – только поверхность раздела двух глубин бытия: глубины «Я» и глубины «не-Я», и потому нельзя сказать, принадлежит ли наше «тело» к Я или к не-Я»[635]. Именно вторая, природная определенность человеческой телесности и ее овнешненная форма – технология и пытаются онтологически обособиться от своего духовного модуса.
Грехопадение есть обратная сторона нисхождения Духа и осуществляется по тем же эманационным ступенькам онтологической лестницы установленной сверху вниз. Тело, последовательно обособляясь от своих астральной, антропной и социальной праформ, в конце истории наконец-то обретает возможность стать полностью независимым от Духа. Последней преградой онтологического обособления была социально оформленная телесность - телесно-технологическая сторона «общественного организма», но именно она сбрасывая с себя социальную предзаданность модифицируется в телесность феноменальную. Покончив со своей социальной эпифеноменальностью, достигнув определенного уровня онтологической независимости, она начинает наращивать темпы технологического освоение мира не иначе как за счет существенного свертывания темпов социального становления человека, а за тем и довольно стереотипного воспроизведения необходимой и достаточной для целей своего восхождения системы общественных отношений по все тому же “остаточному принципу”.
Однако почему на эти условия столь отчужденного существования согласилась социальная субличность? Видимо по той же самой причине, что и ее более родовитые предшественницы: низшие Я в онтологическом отношении являются более сильными субличностями, чем высшие Я. К тому же человек как существо целостное и универсальное (помимо противостояния в нем социального и телесного Я, в сфере его актуального бессознательного присутствуют и вытесненные астральное и антропное Я) не мог окончательно сойти с исторической арены, не предприняв последних усилий на «возвращение блудного Я». Продолжая линию рассуждений, заданную Фр.Баадером, можно предположить, что на заключительном этапе вселенской драмы Тело «захотело» быть субстанцией без Социального Индивида, но тот не захотел остаться без «своего» Тела, все более превращавшегося во внешнюю Технологию, а потому и согласился стать зависимой онтологической переменной от последней. Вслед за Новозаветным Богом, принесшим Себя в жертву родовой Культуре Человека и Человеком пожертвовавшим своим родовым Именитством в пользу Цивилизации, нецелостный Социальный Индивид приносит на алтарь технологического прогресса последнюю жертву – Цивилизацию.
Телесный субъект, интегрированный в свою же овнешненную телесность, становится имманентным средством плоской технологической эволюции, посредством которой универсум объективаций стремится обрести онтологическую универсальность и абсолютность. Формальная организация – эта предельно деперсонифицированная социальная общность - становится исторической предтечей технологической системы, состоящей из морфологических функций, в которых погребены прежние безличные социальные роли. В этой телесной организации мира морфологические функции микротела и технологические функции макротела оказываются все более изоморфными, их экзистенциальный изоморфизм становится основой их совместной эволюции, коэволюции в единой надприродное искусственное Тело – Объективную Реальность. Изоморфными оказываются и их потребности, что делает их коэволюцию предельно динамичной и целеустремленной.
Гипертрофированное развивитие науки, техники и технологии пв ущерб развертыванию символов культа, ценностей культуры и норм цивилизации риводит к техноцентристской ситуации в Мироздании. Онтологическая ось мира смещается к самой низшей и последней нише бытия, за которой простирается онтология хаоса, техноцентризм становится центром окончательно перевернутой пирамиды бытия. В экзистенции, расширившейся до технологических объективаций, между Человеком и Техникой складывается антагонизм, чреватый полной и окончательной экзистенциальной катастрофой. Технология в своем стремлении все сущее объективировать, превращает последние остатки человеческого в человеке в объект целенаправленных изменений. Уже не технология оказывается онтологической проекцией человеческой телесности, а, напротив телесность человека становится гиперрациональной производной от технологической необходимости. Сферой жизненно важных интересов этой техносоразмерной телесности становится вся обозримая, а в перспективе и необозримая Вселенная.
В этот новый переходный период истории между собой должны были об условиях «мирного сосуществования» хоть как-то договориться социальный и телесный субъекты, Политик и Технолог. Новая форма онтологического паритета состоялась за счет того, что они весьма охотно «поступились» чуждыми им интересами целостного и универсального Человека. Если внимательней приглядеться за тем что происходит в современном индустриальном обществе, то вполне можно обнаружить, что отнюдь не Политики, а Технологи занимаются формированием образа потребного будущего, определяя какого рода социум имеет право в нем присутствовать. Именно Технологом, скорее всего, будут определены те из ныне проживащих на Земле этносов, которые достойны составить собой пресловутый «золотой миллиард». Нет сомнения что в него войдут лишь те этносы, которые своими ментальными ресурсами способны обеспечить неуклонный прогресс технологии. Уже сейчас Технолог, а не Политик в значительной мере определяет степень социальной и технологической неполноценности локальных цивилизаций, своим технологическим тараном пробивающим их социальную монадность в целях превращения их в «открытые общества», естественно открытые для беспрепятственного проникновения технологических процессов и структур. Не случайно технологически развитые страны объявляют территории, занимаемые на их взгляд весьма «неперспективными этносами», в качестве жизненно важных для них сфер влияния. Идеология насилия в сфере социальной жизни формируется уже не столько социологами, сколько технократами. Примат технологии над политикой становится все более очевидным. Притязания технологии оказываются столь непомерными, что политике уже трудно их согласовывать с представлениями здравого смысла. Политика становится весьма неэффективным инструментом реализации глобальных технологических программ, а потому Технолог все больше начинает опираться не на здравый смысл, а на научную его интерпретацию.
Добиваясь полной автономии от Космоса, Природа использует созданный человеком «технологический пресс» чтобы принудить одухотворенный Космос принять объективные Законы или законы Объекта в качестве всеобщих и универсальных Законов Бытия. Таков заключительный этап перманетного законотворчества, который на протяжении тысячелетий обеспечивал перманентное отпадение низших форм бытия от высших. «Внутренний человек» оказался в полной зависимости от «внешнего человека», законы небесного Произволения оказались попранными законами земного Произвола. В Писании говорится: «ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих (Рим 7, 23)»; «тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха (Рим 7, 25)». Законы плоти, а не законы духа становятся отныне имманентными человеческой экзистенции отформованной технологическим прессом.
Итак, сначала «Божественный Завет» был вытеснен «Общественным Договором», модифицировавшийся затем в «Основной Закон», последний же ввсе более активно замещается так называемым «Объективным Законом», который его технологические адепты чаще всего выдают ща «Закон Здравого Смысла». Если Бог в стародавние времена заключает Завет с Человеком, дабы тот соблюдал приоритетность сакрального над общечеловеческим в своем родовом именитстве, а человек в эпоху восхождения цивилизации инициирует «общественный договор», чтобы соблюдалась приоритетность общечеловеческого над социальным в ней, то на этапе перехода от цивилизации к технологии возникает и оформляется некий «сциентистский договор», согласно которому технология должна в меру своих возможностей воздерживаться от особо опасных для социальной жизни деструктивных воздействий, а общество всячески содействовать научно-техническому прогрессу. По крайней мере создание «министерства по чрезвычайным ситуациям», в основном, связано с преодолением негативных последствий для общества от массированного использования техники и технологии. Однако сам факт существования такой социальной институции красноречиво свидетельствует, что «сциентистский договор», скорее всего был негласным циничным сговором за спиной широких масс между властвующей и производящей элитами. С самого начала он носил всего лишь рекомендательный характер, так как его основу составляли знания технологической необходимости, а не на нормы социального долженствования. Рациональный дискурс на дескриптивной знаковой основе все более вытесняет социальное нормотворчество, семантическую основу которого составляют прескриптивные значения, учитываюшие реалии социальной практики. Власть «объективных законов» становится все более односторонней и тоталитарной.
Между гипертрофированно разросшейся технологией и постепенно вырождающейся социальностью в экзистенции постепенно сложился односторонний паритет, в котором технология выторговала для себя «право на ошибку», в явном виде такое «право» отсутствовавало даже в общественном договоре. Чем как не ошибкой(!?) чаще всего объясняются социальная и экологическая катастрофы, вызванная взрывом на атомной станции в Чернобыле? Это ли не свидетельство того, что существующим в «социально-природной среде» технологическим монстрам «все дозволено». В рамках сциентистского сговора уже не человек и даже не само общество, а технология получает гарантированные «права и свободы», при почти нулевой с их стороны ответственности за прегрешения против человечности, ибо «не ошибается лишь тот, кто ничего не делает», но так как пассионарность технологии оказалась «вне всяких похвал, то какой же резон «рубить сук на котором сидит»… цивилизация. Жертвы технологического прогресса все чаще рассматриваются не как невинно убиенные, а лишь в качестве персонификации систематических ошибок, погрешностей в рассчетах, попавшие в печальную статистику.
Если в тоталитарном обществе всегда существуют «правозащитные движения», безуспешно пытающиеся восстановить приоритетность общечеловеческого над социальным, то в технологически ориентированном демократическом обществе свою правозащитную миссию, в основном, осуществляет деполитизированное «движение зеленых», защищающее от технологической деструкции отнюдь не традиционные человеческие ценности и формы социального бытования, а всего лишь природную среду обитания, в центре ее внимания отнюдь не социальные, а экологические коллизии. Общество, отпавшее от Человека не может долгое время удерживать под своим онтологическим контролем Технологию от него все более отпадающую. Более того «общество» в своем «развитии» не отказывается от своей ставки на технологию, не замечая что ее карта выскальзывает из ее рук. Однако цивилизация, как верно подметил Ж.Эллюль, продолжает свой «технологический блеф». Любопытно, что «движение зеленых» обществом третируется с еще большей решительностью нежели «движение левых», так как последнее никогда особо не угрожали техническому прогрессу, напротив оно всегда стремится придавать ему еще больший размах, используя его для реализации своих утопических проектов.
Видимо уже в сравнительно недалеком будущем «технологический сговор» потеряет какой-либо смысл, так как мощное информационное силовое поле вполне восполнит своей рациональной информацией устаревшую систему прескриптивных требований. Уже сейчас политики пытаются договориться с так называемой «четвертой властью» – средствами массовой коммуникации, которая несомненно в обозримом будущем станет «первой властью», отражающей интересы технолого-информационного комплекса. «Свобода слова» – вот та ширма, за которой будет скрываться «волющая телесность», «технологическая необходимость». Не свобода человека как существа трансцендирующего сущее, а всего лишь свобода его терминологического присутствия в универсуме дескриптивных значений. Человек в своих поступках будет более всего исходить из складывающейся рациональной, а не социальной ситуации, его поведение опосредованное социальными нормативами превратится в эпифеномен чистого рационального дискурса. Несомненно что уже в недалекой перспективе Закон Здравого Смысла будет окончательно замещен «Законом Науки», основанном не на жизненном опыте, а на доопытном дескриптивным дискурсе, рациональном априори, отражающем, «интересы» технологической необходимости. «Субстанциализм, - писал Г.С.Батищев, - аппелирует к уже накопленному позитивному, достаточно серьезному опыту господства над объектами-вещами по всеобщим законам самих же объектов-вещей. Именно этот опыт и возводится им в универсальную норму, которую он экстраполирует на всю возможную действительность и на всего себя. Иначе говоря, субстациалистски ориентированный человек предполагает в себе единственно достойным субъектом один только центр во вне направленной, объектно-вещной активности. Только этот точечный субъект признается поддающимся обоснованию и укоренению в мире»[636]. Именно этой «высшей» форме Закона суждено будет подвести человеческую экзистенцию под юрисдикцию Абсолютно Иного в Сущем – каким является Квазитехнология.
Наука становится последним Заветом, Договором между рационально оформленным Телом и иррационально бесформенным Хаосом, основу которого составляет псевдотеологема телесного субъекта о якобы вечном его присутствии при Смерти, процесс которого растягивается на весь континуум существования Ничтожества. Власть становится все более технологичной, а технология все более властвующей. Уже в наше время, считает Фуко, особую значимость приобретают «знания о том, в каких формах и по каким каналам, скользя вдоль каких дискурсов, власть добирается до самых тонких и самых индивидуальных поведений, какие пути позволяют ей достичь редких или едва уловимых форм желания, каким образом ей удается пронизывать и контролировать повседневное удовольствие, - и все это с помощью действий, которые могут быть отказом, заграждением, дисквалификацией, но также и побуждением, интенсификацией, - короче, с помощью «полиморфных техник власти»»[637]. Все идет к тому, что Технология на воздвигнутой учеными плахе Объективного Закона когда нибудь прикончит ту часть социомассы, которая окажется неспособной интегрироваться в катастрофически изменяющуюся объективную Ситуацию или ситуацию Объекта. Любая социальная, а тем более гуманистическая идея не соотнесенная с непреложными законами технологической необходимости конституируется рациональным сознанием в качестве «крамольной», способной подорвать устои постиндустриальной общности, оритентированной на тотальное потребление внешних благ.
Завет между субъектом сходящим с исторических подмостков и субъектом, который на них взбирается всегда опирается на определенную символико-мифологическую основу. Каждая метаисторическая эпоха порождает свою особую мифологическую версию сущего и именно такую, которая в состоянии объяснять суть настоящего настоящего, обнаруживать ее ретроспекцию в настоящем прошлого и метафорически проецировать господствующие в ней тенденции на настоящее будущего. В связи с тем, что от абсолютного мифа, который в своих символических суждениях о сущем всегда исходит из примата «прошлого настоящего», относительный миф отличается прежде всего абсолютизацией настоящего настоящего, т.е. выступает разветвленной системой алиби реально сущего, технологическую версию сущности исторического процесса необходимо рассматривать как, в основном, как весьма ложную и опасную мифологему. По сути своей ложная мифологема есть идеологема, искусственно запакованная в трансцендентно-символическую оболочку, выступает концентрированным выражением диктатуры разума над жизнью, провоцирования хаоса в ней. «Диктатура миросозерцания, - писал Н.Бердяев, - есть не реальное преодоление хаоса, а есть формальная организация хаоса, создание деспотического порядка, за которым продолжает шевелиться хаос» [638]. Если абсолютный и истинный миф есть метафорическое свидетельство о целостной экзистенции, то миф относительный повествует лишь о судьбе лишь отдельной ее части, утверждая что именно она выступает онтологическим ядром человеческого существования, а в перспективе своими инфраструктурами окончательно заполнит и всю периферию мироздания и таким образом сама превратится в универсальную онтологическую целостность. Ложной релятивная мифологема является в связи с тем, что нарисованная ею картина мира коррелирует с интересами настоящего будущего потребного субъекту доминирующему в данную историческую эпоху, а не метаисторическому Бесконечному Субъекту. Господствующий относительный миф должен символически закрепить абсолютное господство того субъекта, который призван построить «новый мир».
Какая же относительная мифологема лежит в основании идеологии, обслуживающей переход от цивилизации к технологии? Конечно же модернизированный З.Фрейдом древнегреческий миф об Эдипе, претендующий на роль объяснительной метаисторической модели всего целостного исторического процесса. З.Фрейд сумел построить именно ту мифологему в которой нуждалась новая переходная эпоха, в ней содержится весьма динамичный пересказ всей человеческой метаистории и именно с позиции «настоящего настоящего», с позиции интересов телесной субстанции, составляющей органическую основу естественной жизни и субстанциальной телесности, выступающей неорганической основой искусственной жизни. В деле формирования новой метафорической версии человеческого бытия заслуги З.Фрейда трудно переоценить. «Когда-то, - справедливо считает Фуко, - нужно будет также изучить ту роль, которую играет Фрейд в психоаналитическом знании, роль, несомненно, весьма отличную от роли Ньютона в физике (равно как и всех других оснавателей дисциплин), весьма отличную также и от роли, которую может играть автор в поле философского дискурса (даже если он, подобно Канту, стоит у истоков нового способа философствования)»[639]. Величайшей заслугой З.Фрейда является то, что созданная им мифологема оказалась аутентичной идеологии восхождения технологической цивилизации, в которой отношения между субъектами, в основном носят объектно-телесный характер. Он выявил органичную связь телесности и рационального дискурса, обнаружил либидоизную основу объектно-объектных отношений и тем самым облегчил понимание внутренней мотивации человеческого поведения в условиях предельно отчужденных условий его существования.
В чем же заключается относительность и ложность фрейдистской мифологемы? Прежде всего в том, что сексуальная жизнь человека обрела в ней абсолютно гипертрофированные формы. То что являлось частью целостной экзистенции и дажее ее периферией во фрейдистском мифе составило символическое ядро человеческой метаистории. Согласно фрейдизму все без исключения структуры сущего являются продуктом деятельности либидо, его сублимированными и овнешненными формами. "Идеи психоанализа, — писал Л. С. Выготский, — родились из частных открытий в области неврозов; был с несомненностью установлен факт подсознательной определяемости ряда психических явлений и факт скрытой сексуальности в ряде деятельностей и форм, которые до того не относились к области эротических. Постепенно это частное открытие... было перенесено на ряд соседних областей — на психопатологию обыденной жизни, на детскую психологию, овладело всей областью учения о неврозах... Психоанализ вышел за пределы психологии: сексуальность превратилась в метафизический принцип в ряду других метафизических идей, психоанализ — в мировоз-зрение, психология — в метапсихологию. У психоанализа есть своя теория познания и своя метафизика, своя социология и своя математика. Коммунизм и тотем, церковь и творчество Достоевского, оккультизм и реклама, миф и изобретения Леонардо да Винчи — все это переодетый и замаскированный пол, секс, и ничего больше» [640]. Превратив человеческую сексуальность в метафизический принцип и придав последнему блистательную трансцендентно-символическую неопределенность, З.Фрейд тем самым предложил новый способ видения человеческой метаистории. Если перефразировать известную библейскую формулу в контексте фрейдовской мифологемы, то она быдет выглядеть так: «Сначала было Либидо». Будучи распространенным на всю метаисторию человечества этот миф представляет собой явное лжесвидетельство об основной символической доминанте метаистории. Но ведь этот миф является не только ложным, но и относительным, т.е. содержащим в себе относительную истину. Его относительная истинность заключается в том, что он содержит в себе вполне достоверное знание об исторически превратной форме Сущего. Она вполне красноречиво свидетельствует о присутствии в Сущем не только Неиного, но и Иного, не только предустановленной гармонии, но и упорядоченного хаоса. Скорее всего она репрезентирует собой эту вторую линию в становящемся сущем, хотя пытается свидетельствовать о целостном процессе становления, в чем и проявляется ее ложность. Она вполне достоверно схватывает доминанту поведения современного человека, чья экзистенция погружена в мир телесных сущностей, в которых принцип удовольствия, действительно, выступает одним из ведущих в его жизнеобеспечении. Однако всегда необходимо помнить, что этот миф объясняет генезис и внутреннюю мотивацию жизнедеятельности лишь современной информационно-технологической цивилизации, «внутренним движителем» которой как раз и выступает стремление телесного субъекта максимально удовлетворять прогрессивно возрастающие требования эроса преображенного в голый секс. «Наша цивилизация, - считает Фуко, - по крайней мере на первый взгляд, не имеет никакой ars erotica. Зато это, несомненно, единственная цивилизация, которая практикует своего рода scientia sexualis. Или, скорее, единственная цивилизация, которая для того, чтобы говорить истину о сексе, развернула на протяжении столетий процедуры, упорядоченные главным образом особой формой власти-знания, прямо противоположной искусству посвящений”[641]. Открытие З.Фрейда имеет весьма относительное значение для глубинного понимания тех онтологических детерминант, которые актуально воздействовали на экзистенциальное поле дотехнологических цивилизаций и культур, в которых удовлетворение плоти в основном оценивалось в качестве реликта, доставшегося от животной формы существования. Самым главным прегрешением З.Фрейда явилось то, что он сделал попытку заменить релятивным мифом об Эдипе абсолютный миф о Христе и эта метафорическая подстановка является не случайной в его творчестве, если учесть его неприятие христианского вероучения и даже борьбу с ним.
Самым любопытным в истории возникновения относительных мифов является то, что будучи порождением ложного сознания о ложной онтологии, они в известном отношении оказываются носителями метафизической истины о тех структурах реаьно Сущего, которые обусловлены действиями Иного. Отрицательная мифологема фиксирует идею отрицательной экзистенции и в этом несомненно состоит ее позитивная гносеологическая функция. Но для того, чтобы она, действительно принесла пользу в деле построения истинной картины мира, ее необходимо интерпретировать не изнутри, не герменевтически, а с позиции мировоззрения, восходящего к абсолютному мифу. Действительно, об истинной метафизической сути квазитехнологической цивилизации, на наш взгляд, можно многое узнать, если попытаться фрейдистскую мифологему понять с позиции субъектоцентристского мировоззрения. Что же нам может поведать метафизика либидо о технологии как об особом онтологическом этапе всемирной истории? Несомненно, сущую правду, при условии если мы сумеем эту мифологему ограничить проявлениями Иного в Сущем. Попытаемся это наше убеждение подкрепить некоторыми дополнительными рассуждениями.
Сначала зададимся вопросом об генезисе либидо, на каком витке истории оно возникло, конечно же не в качестве функции Естества или естественной Функции, ибо не ведая того, сексом люди занимались начиная с Адама и Евы, величая его возвышенным словом эрос, а именно в качестве особого предмета публичного обсуждения, специализированной формы рационального дискурса. Оказывается либидо в качестве некоего принципа организации человеческой жизни был осмыслен совершенно недавно, эта форма дискурса возникает с началом так называемой сексуальной революции. Обратимся к работе Мишеля Фуко «Воля к истине» в которой интересующий нас вопрос рассмотрен всесторонне и обстоятельно. Фуко для всестороннего метафизического анализа ставит ряд существеннейших вопросов, касающихся соотношения дискурса о сексе и экзистенциального содержания современной технологической цивилизации. Почему о сексуальности заговорили и что о ней сказали? Каковы были последствия того, что о ней было сказано, в плане власти? Каковы связи между этими дискурсами, этими властными последствиями и удовольствиями, которые были ими инвестированы? Какое, исходя из этого, формировалось знание? «Речь идет о том, - пишет Фуко, - чтобы установить в его функционировании и праве на существование – тот режим власть-знание-удовольствие, который и поддерживает у нас дискурс о человеческой сексуальности»[642]. Фуко относит «выведение в дискурс» секса к концу ХV1 века, именно с той поры он начинает активно использоваться техникой власти, следовавшей принципу рассеивания и насаждения разнообразных форм сексуальности. Три последующие века характеризуются в этой сфере дискурса беспрерывными трансформациями суждений вокруг и по поводу секса. Дискурсы о сексе – дискурсы специфические, разнообразные одновременно по своей форме и по своему объекту, - не прекращая размножались. Дискурсивная ферментация начинает ускоряться с ХV111века, а в ХХ веке в сфере сексуальных отношений произошел настоящий дискурсивный взрыв, они обрели явно выраженный открытый и публичный характер[643]. Возникает вопрос, что же дают нам знания об истории дискурса о сексе для прояснения проблемы основных мотивов перехода истории с цивилизованной фазы на технологическую? В этих знаниях содержится ключ к пониманию субъектно-субъективной стороны онтологического восхождения технологии. Удивительнейшим образом этапы становления сексуального и технологического дискурсов и соответствующих им практик развертывались как два взаимообусловленных процесса, пока окончательно не пересеклись в своих апогеях, которые приходятся на одну и ту же историческую эпоху, этими апогеями являются сексуальная и технологическая революции, как свидетельства того максимума, который в своем «развитии» достигла телесная субстанция.
З.Фрейд абсолютно прав когда указывает на эротический характер грядущей информационно-технологической цивилизации, однако эту ее особенность он отождествил со всеобщим метафизическим принципом, а потому не мог не получить весьма ложную метаисторическую модель мира. Однако вернемся к исследованию истории дискурса о сексе, эта форма дискурса интересна нас интересует не своей феноменальностью, а своими внешними функциями, и даже скорее всего, своей функциональной предзаданностью внесексуальными сферами человеческого бытия. Несомненно, важнейшим заказчиком на разветвленный дискурс о сексе явилось промышленное производство, которое именно в эту эпоху обрело свое системное качество. Промышленная революция явно нуждалась в таком дискурсивном взрыве, который позволил бы обеспечить неограниченный доступ к человеческим ресурсам. Фуко называет «стерильным парадоксом» ставшим расхожим мнение об отношении подавления между экономической необходимостью и сексом. Принять этот тезис означало бы пойти наперекор всей экономике, всем дискурсивным «выгодам», которые этот тезис стягивают. «Цензура секса? – вопрошает Фуко и сам же отвечает. - Скорее, была размещена аппаратура для производства дискурсов о сексе, - все большего числа дискурсов, способных функционировать и оказывать действие в самой его экономике»[644]. Таким образом промышленная революция нуждалась не только в социальной, но и сексуальной революции.
Другим заказчиком на дискурс о сексе выступает власть. С падением доминирующей роли социума, власть претерпевает существенную метаморфозу, из волющей социальности она превращается в волющую телесность, хотя основная ее природа остается прежней воля к власти – концентрированное выражение сил Иного в Сущем. Центр тяжести массированного воздействия на самое «уязвимое место» в экзистенции с социальной организации перемещается лишь на один из функциональных органов человеческой телесности. «Власть, таким образом, взяв на себя заботу о сексуальности, - считает Фуко, - берет на себя обязательство входить в соприкосновение с телами; она ласкает их глазами; она интенсифицирует определенные их области; она электризует поверхности; она драматизирует беспокоящие моменты. Она берет сексуальное тело в охапку»[645]. Возникает особая форма власти, власти функционирующем на теле и на сексе. Эта власть, пишет далее Фуко, выступает отнюдь не в форме закона или в качестве последствия действия какого-то определенного запрета. Напротив, она осуществляет свое действие через умножение отдельных форм сексуальности. Она не фиксирует границу для сексуальности, но она распространяет различные формы сексуальности, следуя за ними по линии бесконечного внедрения. Власть не старается избежать сексуальности, но притягивает ее вариации посредством спиралей, где удовольствие и власть друг друга усиливают; не устанавливает барьеры, но оборудует места максимального насыщения[646]. Власть становится либидоизной а либидо властвующей, экзистенциальный круг оказывается замкнутым на субстанциальное тело в его самом широком метафизическом смысле.
Следующим заказчиком на сексуальный дискурс выступает сам «субъект» дискурса каким является рациональное Я, выступающее ментальным репрезентентом волющей телесности. Дискурс о сексе становится самым важным гносеологическим полигоном для разработки целого веера дискурсов и соответствующих им практик. Дискурс о сексе становится концентрированным выражением «воли к знанию». В целом сам дискурс становится сексуальным, а секс дискурсивным. Секс, считает Фуко, был конституирован Рацио в качестве его главной ставки на истинность. Он не является порогом некой новой рациональности, открытие которой маркировалось бы Фрейдом или кем-нибудь еще, но следствием прогрессирующей «игры истины и секса». Фуко полагает что вполне возможно внутри дискурса выделить некую совокупность процедур, которые осуществляют контроль над самими же дискурсами. Принцип секса, полагает Фуко, есть теоретическая изнанка технического требования: заставить функционировать в практике научного типа процедуры такого признания, которое должно было быть одновременно и тотальным, и детальным, и постоянным[647]. Похоть тела и похоть знания составляют отныне онтологическую основу воли к власти, оказываются неявными принципами лежащими в основании «Объективного Закона» человеческого естества, идущего на смену «Основному Закону» противоестественного общества. Естественное право или «право естества» становится повсеместно признаваемой «мудростью жизни», освобожденной от каких-либо внешних нормативных ограничений.
И все же самым главным заказчиком на дискурс о сексе выступает волющая телесность. Тело желает знать отнюдь не всю правду о себе, тем более о своей изначальной встроенности в Дух, а лишь то, что составляет основу его онтологического обособления от более высших форм телесности – об основном принципе своей «самоорганизации» – принципе удовольствия. По большому счету технология становится сексогенной, а секс техногенным. Лишь с онтологическим обособлением Тела и его внешней проекции – Технологии дискурс становится в полном смысле слова объектным, если его и интересует субъект, то лишь как иррациональная изнанка объективной действительности, вполне поддающаяся рациональному пере-лицо-выванию. Объектный подход становится господствующим, он начинает применяться Технологом ко всем без исключения проявлениям человеческой экзистенции.
Оппозиция телесно-технологического социальному в экзистенции постепенно перерастает в системный кризис цивилизации, социальная катастрофа становится необходимым условием технологического прогресса. Онтологическая сторона социальной катастрофы заключается еще и в том, что человек перестает быть самосоциализирующимся субъектом, перманентно присваивающим внешние социальные функции в процессе своего собственного жизненного опыта. Он все более превращается саморационализирующегося субъекта, способного активно адаптироваться к любой технологической ситуации сколь ассоциальной она ни была. Чтобы эффективно интегрироваться в онтологию объекта человеку необходимо знать посредством какого алгоритма он это в состоянии наиболее эффективно осуществить. С самого начала его появления в мире разветвленной системой дискурса он готовится к тому самому важному моменту в его жизни, когда в качестве строго определенной детали он вбудет вмонирован в машинерию вместо той детали у которой закончился жизненный ресурс. Процесс рационализации человека становится центральным механизмом объективации объективного, пришедшего на смену объективации субъективного, ведь рационализации подвергаются его собственные телесные функции, организуемые в некую витальную псевдоцелостность его же собственным хитрым разумом. Объект начинает противостоять субъекту в виде его же собственного экстериоризованного тела отчужденного от него, а потому и ставшим чуждым ему. Дискурсом, исходящим из рационального Я, подлинным субъектом истории отныне признается лишь внешний технологизированный мир, а сам «человек разумный», носитель рациональной субличности – всего лишь объектом технологических преобразований. Процесс рационализации внешнего мира по сути своей становится основным механизмом господства «внешнего человека» над «внутренним человеком». “Сколько бы ни выигрывал мир как целое от раздельного развития человеческих сил, - писал Шиллер, - все же нельзя отрицать того, что индивид страдает под гнетом мировой цели”[648]. Чем более рационализируется человек, тем более внешний мир оказывается чуждым его витальности, однако рацио всячески скрывает от него все более углубляющийся антагонизм между искусственным и естественным в экзистенции, выдавая спорадически возникающие экологические катаклизмы всего лишь за ошибки проектирования, которые можно вполне исправить на новом витке развития технологии.
Гиперрациализация человека в конечном счете ведет к тому, что он сам начинает активно преодолевать в себе «старомодные» нормы и прескрипции социального долженствования и даже проявлять инициативу по своей десоциализации. Ярким примером тому может служить катастрофический рост отклоняющегося от традиционных норм поведения индивидов, активно приветствуемый адептами так называемого «открытого общества». Однако как только внешняя рационализация обретает форму саморационализации, индивид становится не только десоциализированным, но и дерационализированным субъектом. Как известно, сообщество телесных субъектов, лишенных способности к самотрансценденции, самоактуализации и самосоциализации, вынуждено компенсировать одностороннюю квазирационализацию потреблением наркотических средств, к которым необходимо отнести не только медикаментозные препараты, но и тоталитарную эрзац-культуру, возбуждающую в человеке самые низменные чувства, чувства основанные на удовольствие, получаемом от насилия и самонасилия. Человек технотронной цивилизации все более погружается уже не только в экзистенциальную, но и в витальную патологию. Негативная мутация социо-культурного генотипа не может не повлечь за собой мутацию природного генотипа человека. Лишь здоровый дух может порождать здоровое тело, обездушенное же тело не в состоянии преодолеть своего перманентного распада.
Как только процесс рационализации человека или рациогенезис, обретает гипертрофированные формы его экзистенция все больше начинает походить на разновидность «растительной жизни». Рациональная форма отчуждения связана не только с активным отчуждением от человека внетелесных, внетехнологических сущностных сил, но и способом каким телесный субъект присваивает свои природные сущностные силы. Чем более человек рационализируется, тем более интенсивно он потребляет свои отчужденные силы в виде опредмеченной товарной массы, но и тем меньше у него оказывается способностей рефлексировать по поводу своего изначального предназначения в мире неотчуждаемых сущностей.
По мере того как центр Мироздания смещается к самым низшим экзистенциальным этажам «воля к власти» того онтологического субъекта, который этот этаж обживает, становится все более радикальной, опирающейся на все более прогрессирующие формы насилия. «Волющая телесность» по своим репрессивным возможностям и проявлениям есть пик «воли к власти», так как, на онтологическом континнуме «слабость-сила», она выступает предельной формой объективации сущностных сил человека. Воля телесного Я есть персонифицированная воля объективной действительности, есть проявление тотального господства Объекта над Субъектом. «Несмотря на все исторические изменения, - считает Г.Маркузе, - господство человека над человеком в социальной действительности по-прежнему есть то, что связывает дотехнологический и технологический Разум в единый исторический континуум. Однако общество, нацеленное на технологическую трансформацию природы и уже осуществляющее ее, изменяет основу господства, постепенно замещая личную зависимость... зависимостью от “объективного порядка вещей”»[649]. В связи с тем, «волющая телесность», в значительной мере выступает атбирутом либидо, ее можно обозначить еще и как «похоть власти». Власть становится все более похотливой, а похоть – властвующей. Посредством проникновения во властные структуры либидо пытается сублимировать свою порочную энергетику во всей иерархии надтелесных форм человеческой экзистенции. Власть же в свою очередь получает возможность посредством либидо концентрированно воздействовать на всю ее экзистенциальную инфраструктуру и тем самым тотально контролировать поведение телесного субъекта. Если для тоталитаристского режима в цивилизованном обществе некоей модельной ячейкой господствующих отношений власти является Тюрьма, то для псевдодемократического режима в информационно-технологизированном обществе моделью властных отношений служит Публичный Дом. В отличие от тюрьмы, заточение в публичный дом полностью исключает сохранение не только телесной целомудренности, но и какого-либо присутствия человечности. Катастрофичность всей экзистенциальной инфраструктуры жизненных пристрастий субъекта, вполне добровольно переселившегося из аскетической тюрьмы в гедонистический публичный дом, вполне передает фраза из «Цисимы» Новикова-Прибоя: «пожар в публичном доме во время наводнения». Однако именно такая форма экзистенциальной дисгармонии и сверхупорядоченности хаоса являются весьма благоприятной средой для тоталитарного контроля власть предержащих за поведением этой «рационализированной биотой».
Дискурс о сексе и дискурс о власти настолько переплелись между собой, что человек перестает осознавать онтологическую суть самого насилия. Впервые человек начинает принимать власть в качестве объективации своего собственного волеизъявления, ведь он испытывает мазохистское наслаждение приобретая опыт самонасилия, которое есть не что иное как интериоризованное насилие над ним. Насилие несущее в себе удовольствие, реализацию садо-мазохистских потребностей без особых на то усилий оборачивается личностным самонасилием. «Удовольствие и власть, - пишет Фуко, - не упраздняют друг друга; они не противостоят друг другу; они следуют друг за другом, чередуются друг с другом и усиливают друг друга. Они сцеплены друг с другом соответственно сложным и позитивным механизмам возбуждения и побуждения»[650]. Безвольное существо буквально упивается властью если в основе власти лежит принцип удовольствия. «Воля к власти» и «воля к удовольствию» соединяют свои усилия в целях создания унитарной телесной системы, способной со временем стать самодостаточной онтологией. С началом онтологического восхождения технологии процесс насильственной десоциализации человеческой экзистенции приобретает радикальный характер из нее окончательно искореняются все реликтовые образования, восходящие антропологическому и космологическому этапам человеческой истории. Свою техносоразмерность начинают принимать все без исключения формы человеческого присутствия в мире. Так, к примеру, техническая эстетика, дизайн становится высшей нормой «объективированной духовности», «упорядоченной гармонии».
При переходе от цивилизации к технологии человеку приходится расплачиваться за перманентное увеличение своей власти в сфере отчужденых сущностей перманентным самонасилием – насилием над высшими своими ментальными ипостасями, перманентным вытеснением тех интенциональных субличностей, которые содержатся в застенках актуального бессознательного и пытаются «вырваться на волю», вновь превратиться в самоосознающих субъектов. Однако воля телесной субличности является столь мощной, что вытесненные в бессознательное более высокие Я могут пробить своими «волевыми усилиями» воздвигнутый экран из защитных механизмов разве что в моменты внутренней дезорганизации рационального сознания. В связи с тем, что телесное Я все чаще оказывается в ситуации ментального кризиса, вызываемыми чередой катастроф во внешнем техногенном мире, сознание человека оказывается перенасыщенным интенциями, связанными с «возвращением вытесненного», интенциями со-вести, вестями о явном несоответствии поведения «внешнего человека» с экзистенциальными ожиданиями «внутреннего человека». Чтобы заглушить не вполне приятные предзнаменования бессознательного «внешнему человеку» все время приходится наращивать те из своих защитных механизмов, которые призваны выполнять функцию подавления. Нельзя сказать, что телесный субъект – это человек крайне бессовестный, скорее всего это такой субъект у которой совесть находится в крайне подавленном состоянии, нейтрализовать которое можно лишь сверхкомпенсаторными средствами, способными на непродолжительное время помочь сбалансировать отношения между внутренним и внешним миром человека. При пристальном рассмотрении применяемых сверхкомпенсаторных средств они оказываются не чем иным как довольно разветвленной системой средств репрессивного воздействия на актуальное бессознательное человека, мучающего его со-вестью, совместной вестью всех тех субличностей, которые оказались вытесненными из ментальности в ходе перманентного самоотпадения Человека. В связи с тем, что технология становится неким «онтологическим монополистом», именно за ней оказывается последнее слово, когда решается вопрос о судьбах тех или иных культурных или цивилизованных формах существования. И с этой задачей она блестяще справляется организацией целой индустрии досуга, откровенно адресованной отнюдь не человеку, а лишь его либидо. Именно в век научно-технической революции лозунг римского плебса «хлеба и зрелищ» находит свою предельную форму реализации. «Мягкое насилие» технологического над внетелесным в человеческой экзистенции становится весьма эффективным средством «вырабатывания внутреннего человека» в целях достижения все более высоких темпов развития техногена. Так как это насилие сопровождается сверхкомпенсацией в виде невиданных ранее в истории объемом потребляемых благ, предназначенных «жертвам» прогресса, то сами эти «жертвы» осуществляемое над ними «мягкое насилие» воспринимают разве что за все усиливающуюся заботу об их жизненно важных проблемах. «Никогда прежде общество, - писал Г.Маркузе, - не располагало таким богатством интеллектуальных и материальных ресурсов и, соответственно, никогда прежде не знало такого объема господства общества над индивидом. Отличие современного общества в том, что оно усмиряет центробежные силы скорее с помощью Техники, чем Террора, опираясь одновременно на сокрушительную эффективность и повышающийся жизненный стандарт»[651]. Изменения происходящие в мире телесным субъектом оцениваются казалось бы сугубо прагматически, но это лишь на первый взгляд, ибо эта прагматика восходит не только к рациональному дискурсу, но и к крайне иррациональному и репрессивному «основному инстинкту». С позиции дотехнологических субъектов объемы потребления их тесного отпрыска выглядят крайне избыточными, непропорциональными тем позитивным изменениям в личности, на которые они рассчитывались.
Крайние формы внешней репрессивности в значительной мере снимаются перманентно обновляющимися средствами внутренней репрессивности, а потому мир в глазах индивида рациомассы выглядит более безоблачным, чем он есть на самом деле. Даже если в мире и происходят войны и природные катаклизмы, а большая и может быть лучшая часть человечества ввергнуто в голодную смерть, это особо не волнует телесного субъекта, лишь бы все это проходило там и тогда и не затрагивало основ его существования здесь и теперь. Когда же катаклизмы все же настигают экзистенцию этого атомарного субъекта, он вполне готов принять удар судьбы без всяких к тому сопротивлений, так как все более доминирующим становится его некрофильская ориентацией в мире отчужденных сущностей. «Воля к жизни» все более дополняется «волей к смерти», которая несомненно восходит к тому же самому либидо, которое перебрав все мыслимые и немыслимые формы удовлетворения, стремится испытать самую высшую свою страсть, которая может реализоваться лишь в агонии. Как это не трудно было признавать Фрейду, абсолютизировавшему «волю к жизни», исходящему якобы лишь из либидо, он приходит к печальному выводу, что «принцип наслаждения служит, очевидно, как раз первичным позывам смерти»[652].Согласно поэтической формуле «на свете счастья нет, но есть покой и воля», абсурдно, но факт телеологически волющая телесность стремится к покою, не потому ли излюбленным понятием рационального дискурса является «гомеостаз», а в концепции «устойчивого развития» легко обнаруживаются нотки экзистенциальной усталости.
По мере дивергирования технологического от социального в человеческой экзистенции телесное Я обретает все большую власть над внутренним миром человека и в конце концов превращается в неограниченного монарха, чья диктатура начинает простираться над всей поверженной Вселенной. Человек как Образ и Подобие Бога по сути превращается в образ и подобие дьявола. Таким образом, в чисто религиозном аспекте, этап онтологического обособления телесной субстанции может рассматриваться в качестве одной, а может быть и самой последней ступени перманентного грехопадения человека. На этом новейшем этапе грехопадения не столько внешние обстоятельства подводят к полному и окончательному отпадению Человека от Бога, сколько он сам эти обстоятельства целенаправленно формирует усилиями своей собственной воли. “Коль скоро верно, - учил Ориген, - что души управляются свободой произволения и как свое совершенствование, так и свое падение производят силою своей воли”[653]. Телесное Я в результате своего полного освобождения от надтелесных субличностей становится носителем поистине дьявольских сил. Телесный субъект находится в состоянии повышенной готовности применить все имеющиеся в его распоряжении средства насилия здесь и теперь, если под угрозу будут поставлены привычные стандарты потребления. Он не остановится в применении тотального насилия над миром, даже при условии если эта его «защитная акция» обернется против него самого и он не испытает утовольствия от вожделенного существования там и тогда. Подобного рода действия вполне оправдываются поговоркой «после нас хоть потоп», придуманной как раз для оправдания столь иррационального ухода в небытие.
Постараемся свести в некую систему те последствия для экзистенции, которые возникают в связи с вытеснением из нее социальной формы человеческого присутствия.
С вытеснением социального из экзистенции начался процесс перманентного растабуирования социальных основ человеческого существования, процесс последовательного снятия запретов на полную и окончательную объективацию человека. С вытеснением социального из экзистенции начинается процесс формирования рационально опосредованной формы гуманизма. Ее особенностью выступает активная защита «прав и свобод» человеческой телесности и активное неприятие всех иных надрациональных, надтелесных форм гуманизма. С началом технологической экспансии в пределы высших экзистенциалов, богоборчество и человекоборчество дополняется социоборчеством. Так как технологические функции есть не что иное как десоциализированные социальные функции то именно социальный универсум становится тем онтологическим донором, к которому присасывается технологический вампир. Последовательная десоциализация мира ведет к вытеснению в сферу бессознательного не только социальной субличности, но и к тотальному подчинению всех истинных форм человеческой телесности интересам развития квазитехнологической псевдоцелостности. Основной удар наносится по так называемому «социальному гуманизма». Складывается новая форма гуманизма – «рациональный гуманизм» или «гуманистическая рациональность» установливающая целеполагание развитию такого рода человеческих потребностей, перманентное и интенсивное насыщение которых способно со временем вообще снять проблему человека как проблему мета-физическую и найти ей чисто физическое решение. «История техники, до сих пор не открывшая нам никаких законов общественного прогресса, все же открывает нам принцип, который стоит за прогрессом техническим. Принцип этот можно определить как закон прогрессирующего упрощения”[654]. Рационально превращенный гуманизм становится наиболее эффективным средством упрощения человеческой экзистенции, упорядочения ее витальных структур под приоритеты установления тотальной власти Иного над Сущим. Социальное из социально-телесного синкретизма все более радикально вытесняется телесным в сферу бессознательного и уже обозримой исторической перспективе, телесное Я, видимо, окажется единственным репрезентантом человеческого самосознания.
Высшей формой человечности рациональным гуманизмом объявляется и не сакральное и не собственно человеческое и даже не социальное в человеке, а лишь телесное в нем. Именно телесное конституируется рациональным сознанием в качестве основного ориентира псевдогуманитарного проекта. И, действительно, если человек редуцируется к его телесности, то вполне логично что именно она и должна составлять суть новой формы гуманизма. В рамках технократической идеологемы человеку и его обществу отводится роль посредника во взаимоотношениях технологии и природы. «Человек с его потребностями, - писал Гегель, - практически относится к внешней природе и, удовлетворяя при ее посредстве свои потребности и истощая ее, он играет при этом роль посредника. А именно предметы, существующие в природе, могучи и оказывают разнообразное сопротивление. Чтобы справиться с предметами, человек вставляет между ними другие предметы, существующие в природе; следовательно, он используется природой против самой природы и изобретает орудия для достижения этой цели. Эти человеческие изобретения принадлежат духу, и такое орудие следует ставить выше, чем предмет, существующий в природе»[655]. Конституируя телесное в человеке в качестве подлинно человеческого в нем, универсум отелесненных объективаций еще более расширяет свое в нем экзистенциальное присутствие. Техноуподобление человека, а не человекоуподобление технологии оказывается чуть ли не основной целью самой антигуманной формы гуманизма каким является «рациональный гуманизм». Спекулирующий на витальных потребностях человека рациональный гуманизм по сути низводит его экзистенцию до уровня существования самого безжалостного хищника, превращает его в поистине космического вампира. Рациональный гуманизм с точки зрения метафизического субъектоцентризма крайне иррационален и антигуманен. В его мирожизненных установках антигуманизм достигает своей предельной формы и превращается в идеологию человеческого самоуничтожения. Сохранить в себе человечность в ситуации телесно-субстанциальной онтологической тотальности человек в состоянии лишь на пути радикального преодоления своего по сути «растительного существования». К сожалению суицидальная форма неприятия рациональных «стандартов человечности» в индустриальных странах приобретает все больший размах. Люди этот вполне обеспеченный благами мир прежде всего потому, что они не в состоянии в нем актуализироваться своими собственно человеческими качествами.
Процессы перманентной рационализации человека и столь же перманентной его дегуманизации есть две стороны единого историцистского процесса, в котором безраздельно господствуют «объективные Законы» или «законы Объекта», все то что не укладывается в идею автоэволюции сущего телесным субъектом воспринимается лишь в качестве фикций дорационального, донаучного сознания. В универсуме преодолеваемых «фикций» оказывается и его собственно человеческое прошлое, в своей рациональной ретроспекции он обнаруживает лишь действие законов эволюции и таким образом смысл собственно человеческого существования окончательно обесмысливается.
Рациональный гуманизм есть тот идеологический рычаг посредством которого волющая телесность переворачивает экзистенциальную пирамиду человеческих предпочтений. Оно оказывается мощным средством вытеснения всего того в сознании, человека, что пришло в несоответствие с требованиями технологически оформленной реальности. В этой связи необходимо внести некоторые коррективы во фрейдистскую концепцию вытеснения, которые позволили бы ее использовать в соответствии с принципами субъектоцентристского мировоззрения. Фрейд исходит из того, что все то ценное, что порождено культом, культурой и цивилизацией есть сублимация вытесненных сексуальных влечений. Таким образом мы вновь получаем старую прогрессистскую идею, однако в новой психоаналитической упаковке: низшие экзистенциалы порождают высшие, хотя и в такой, на первый взгляд экстравагантной форме. Отсюда же напрашивается и весьма определенный метаисторический вывод: по мере того как осуществлялось растабуирование «основного инстинкта», человек обретал возможность все более универсальным и целостным образом присваивать свои разнообразные сущностные силы. Последнее снятие оков с либидо есть непременное условие окончательного «очеловечения человека». Согласно же субъектоцентристскому мировоззрению, напротив, механизм вытеснения в состоянии применяться низшим экзистенциалом по отношению к высшим, в связи с тем, что его «силовое поле» является более мощным. По отношению же к низшим экзистенциалам высшие в состоянии применять лишь «механизм сдерживания». «По самой своей природе, — писал Ортега-и-Гассет, — высшее в человеке менее действенно, чем низшее, менее твердо, менее обязательно. С этой идеей следует подходить к пониманию всеобщей истории. Чтобы осуществиться в истории, высшее должно дожидаться, пока низшее освободит ему пространство и предоставит случай. Иными словами, низшее ответственно за реализацию высшего: оно наделяет его своей слепой, но несравненной силой. Поэтому разум, смирив гордыню, должен принимать во внимание, пестовать иррациональные способности. Идея не в силах противостоять инстинкту; ей следует не торопясь, осторожно приручать, завоевывать, зачаровывать его — в отличие от Геркулеса не кулаками, которых у нее нет, а подобно Орфею, обольщавшему зверей, — волшебной музыкой"[656]. Ортега-и-Гассет вполне отчетливо пояснил, в силу каких обстоятельств добро не может быть с кулаками, он весьма рассчитывает на то, что неким волшебным средством можно приручить озверевшее либидо. По всей вероятности это высказывание скорее не реликт мифологических интенций, а весьма облагороженная утопическая экстенция.
Волющая телесность есть самый мощный вытесняющий фактор именно потому, что в онтологическом аспекте принадлежит к самому низшему ярусу бытия. А потому, как нам кажется, если что и происходит в сфере духа, то лишь вопреки вытесняющему напору либидо, но не как не следствие сублимации ее биогенной энергии. Напротив окончательное растабуирование либидо есть тот предел, за которым посредством механизма вытеснения Субъект окончательно задвигается за авансцену истории и его место занимает Объект.
Важнейшей функцией механизма вытеснения является формирование благоприятной ситуации для расширенного воспроизводства все более дробных элементов изначальной синкретической целостности бытия. Отсеиваются все те онтологические формы, которые своими «размерами» не в состоянии «просеяться» сквозь все уменьшающиеся ячейки историцистского «сита». Все в человеческой экзистенции подгоняется под единые онтологические мерки, в данном случае под мерки иррелевантные объективным законам технологии. Какими же человеческими способностями засевается «техногенная нива»? Конечно же только теми, которые способны взрасти новыми технологическими функциями. Таким образом с окончательным вытеснением социального из экзистенции оказываются полностью растабуированными запреты, которые прежде защищали человеческую индидуальность от ее сведения к совокупности телесно-технологических функций. Но ведь фрейдизм признает и способность вытесненного вновь возвращаться из бессознательного в сферу сознания. Этим объясняются ренессансные явления в человеческой экзистенции. Да и в историософии Тойнби подобного рода механизм, обозначаемый понятием «Ухода-и-Возврата», предусмотрен. Однако «возвращающиеся» в сущее ранее вытесненные экзистенциальные формы, оторванные от прежних более целостных и универсальных форм бытия мало что общего имеют со своими истинными праформами. Скорее всего они являются некими обратными экзистенциальными проекциями господствующей в сущем субличности. Чтобы с прошлым окончательно расправиться необходимо его на время воскресить, чтобы в китчевой форме его окончательно вытеснить. Об этой весьма неутешительной стороне действия в истории механизма Ухода-и-Возврата с сожалением повествует и его автор. “Момент примирения реального с идеальным, - пишет Тойнби, - являясь следствием Ухода-и-Возврата, успешно реализованного в истории общества, принадлежащего к растущей цивилизации, заведомо обречен на краткосрочность. Чувство благополучия и стабильности, доминирующее в обществе в этот момент, порождает иллюзию счастья, и человечество готово было бы им наслаждаться, если бы это составляло главную цель его устремлений. А кроме того, достичь подобной цели может лишь общество, состоящее целиком из святых. Но святые, какими их знает мир, способны преобразить только собственную природу да еще оставить след в немногих родственных душах, возвысившихся до уровня святых через общение с ними”[657]. И по возвращению вытесненного оно оказывается отнюдь не на службе у Неиного, а в услужении у Иного. Вот почему все имевшие место в человеческой истории реставрационные и возрожденческие проекты всегда завершались созданием неких китчевых подобий прежних форм жизни, искусственных систем, которые затем сменялись еще более модернистскими онтологическими построениями. Если заговорили о необходимости нечто возрождать, то это первый сигнал к грядущей еще более радикальной модернизации прошлого.
С вытеснением социального из экзистенции социальные верования замещается верой в рациональный дискурс. По мере того как исторически вера в трансцендентный Дух все более падала, возрастала вера в субстанциальное Тело и в его онтологические проекции. «Бог, - писал Ницше, - нужен был как безусловная санкция, для которой нет инстанций выше нее самой, как "категорический император"; или, поскольку дело идет о вере в авторитет разума, требовалась метафизика единства, которая сумела бы сообщить всему этому ло-гичность. Предположим теперь, что вера в Бога исчезла: возникает вопрос: "кто говорит?" - Мой ответ, взятый не из метафизики, а из физиологии животных: говорит стадный инстинкт. Он хочет быть господином: отсюда его "ты должен" - он признает отдельного индивида только в согласии с целым и в интересах целого, он ненавидит порывающего связи с целым, он обращает ненависть всех остальных единиц против него»[658]. Рациональные верования – это вера в Телесную Организацию Мироздания, вера во Множественное, отпавшего от Единого, вера в ее дескриптивно оформленную Логику, представленную рациональным дискурсом совершенно не нуждающимся в Трансценденции. Трансцендентная мистика с которой человек был явлен миру окончательно замещается рациональной магией, мир становится идеально «проницаемым» для познающего Рацио и начинает идеально «реагировать» своими самоизменениями в соответствии с теми проектами, который Рацио разрабатывает на «хороших логических основаниях».
Вера в дескриптивную форму Множественного в качестве абсолютно внесубъектного универсума «объективаций объективного» замещает собой веру в Социальную Организацию, доминировавшая на этапе онтологического восхождения Цивилизации. Социальная форма веры постепенно рассыпается по мере отелеснения и субстанциализации Сущего, перманентной его рациональной модернизации в Абсолютный Объект или Иное. На смену социотеизму приходят гносеологически взаимообусловленные технотеизм и рациотеизм, т.е. вера в Тело, а не в Дух, в Рацио, а не в Логос. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном (Рим 8, 5)». На первых порах технологической реформации структур сущего возникает некая квазипантеистическая форма деизма, вера в два божества, заключенных в одной телесной оболочке – вера в закономерную Субстанцию и субстанциальные Законы.
Если Социум, вытесняя Человека, пытался стать Социочеловеком, то Технология, вытесняя Социум, пытается стать Техносоциумом. Как в свое время социономия превратилась в прескриптивную форму теономии, так и технономия на наших глазах превращается в техно-социо-антропо-теономию. Техно-рациональный фетишизм начинает составлять содержание рациональных верований, сктивно замещаюших собой веру в Бога, Человека и Общество. С возникновением технологии в качестве овнешненной телесности, вера в Тело становится абсолютной, она уже не является предметом обсуждения, как это наблюдалось в тео-логии, так как тело-логия не терпит трансрациональных спекуляций, а основывается на суждениях здравого смысла. Рациональные суждения здравого смысла, если даже смысл в них почти нулевой, вполне поддаются логической и эмпирической верификации на «истинность». И так как они находятся и обнаруживаются в сфере познаваемого, то и не вызывают особых сомнений в их истинности и достоверности. Вера в трансцендентное и непознаваемое окончательно замещается верой в рациональное и познаваемое, истинность которой как правило подтверждается в непосредственного жизненного опыта. Что может быть более основательного чем сциентистская вера в субстанциальную сущность телесности. «Машинный процесс (как процесс социальный) – пишет Маркузе, - требует всеобщего повиновения системе анонимной власти, т.е. требует тотальной секуляризации и еще санкционированного разрушения ценностей и институтов»[659]. Вера в телесную суть человеческой экзистенции есть абсолютно секуляризированная вера в ее духовность. Именно такая контрастная концепция «знаниевой веры» противополагающая себя «уверованного знания» вызывалась необходимостью придания «воле к власти» абсолютного онтологического статуса.
В созидании новой рациональной реальности – «объективной реальности» – наука не нуждается в каких либо посредниках, будь то Политик, Патриарх, а тем более Бог, она является предельно секуляризированной формой сознания и при каждом удобном случае подчеркивает что служит лишь Объективной Истине. Однако на самом деле наука как и любые иные формы человеческого сознания основывается на принципе веры. В ее основании всегда можно обнаружить некую иррациональную аксиоматику иррелевантную «вещи в себе» и систему выводного знания соответствующую «вещи для нас» и если второе принадлежит «принципу знания», то первое – «принципу веры». К этим двум принципам необходимо еще добавить «принцип поседневности», который их в снятом виде в себе содержит. Одну из своих статей современный немецкий философ Бернхард Вальденфельс обозначил весьма символически: «Повседневность как плавильный тигль рациональности». Несомненно, что наука когда-нибудь откажется не только от веры в какие-либо априори, но и от тех форм знаний, которые противоречат принципу повседневности. Это может произойти, если нигилизм в сциентистском мировоззрении окончательно вытеснит внесциентистские формы рационального дискурса.
Перед людьми прошлого проблема верить или не верить в Бога не стояла столь остро, как перед современным человеком всем своим существом погруженным своей повседневностью в мир самообъективаций. Обыденная жизнь нашего пращура была органически “вмонтированной” в жизнь Духа, а потому ее вряд-ли можно квалифицировать в качестве сугубо повседневной и эмпирической. Се-годня («эта година») вбирала в себя весь теургический цикл бытия, а потому являлась проекцией Кайроса – этого посланника Вечности. Напротив повседневность современного человека находится в ведении Хроноса – пожирателя бытия, и, в основном, “вмонтирована” в универсум объективированных, телесных структур. Повседневность ничего не знает о «сегодняшнем», как об экзистенциальном тождестве с Вечным, день за днем идет перманентное хроно-логическое пожирание тех бытийственных форм, век которых недолог. Прожитый день вполне может быть уподоблен одноразовому употреблению предметов, пополняющих собой свалку отходов. День прожитый телесным субъектом с началом нового дня оказывается на свалке Хроноса, вместе с теми отходами бытия, которые он успел за этот день «сожрать». В связи с тем, что телесный субъект практически прекратил свое само-бытное существование в духе, он верит скорее всего не в Разум, а в тот Абсурд, в который тот превращает его некогда сокровенную жизнь и которая все больше начинает напоминать воплощение одной из пьес «театрального авангарда». О повседневной и повсеместной жизни современного человека мало что можно почерпнуть из технологических утопий, однако она весьма точно прописана в антиутопиях Хармса, Кафки, Ионеско, Беккета, и других абсурдистов.
Для рационального сознания трансцендентальная вера абсурдна, в связи с тем, что содержит в себе табу на замену предустановленной гармонии упорядоченным хаосом. Рацио имеет дело с миром объективаций и в состоянии анализировать лишь то, что предстоит ему в качестве объективации его собственного дискурса. «Сознание, - писал Н.Бердяев, - объективирует мир, оно первоначально активно в этой объективации, а потом пассивно в своей зависимости от объективированного мира»[660]. В сферу рационального дискурса попадает не весь универсум связей и отношений, а лишь та его часть, которая им объективирована. Вся история деятельности гносеологического субъекта может быть представлена как процесс объективации объективированного, рацио никогда не имеет дело с метафорическим образом целостного мира, а лишь с рациональной конструкцией одной из его столь же рационально вычлененной части. Секуляризированная вера рацио – это даже не вера в некую интегральную часть экзистенциальной целостности, а всего лишь вера в то априори, которое лежит в основании сконструированной им модели объективации этой искусственно выделенной части. Таким образом разумная вера есть вера в разум, а не в то что этот разум должен собой репрезентировать. Здесь мы имеем дело с порочным гносеологическим кругом, так как вера в объективацию блокирует трансценденцию и мир познаваемых сущностей становится замкнутым, из него почти невозможно вырваться за пределы объективаций в сферу открыого Космоса, креативного Духа. Согласно второму началу термодинамики, замкнутые системы неорганического происхождения энтропийны, то есть переходят от более упорядоченных состояний к менее упорядоченным. Рациональная вера энтропийна так как порождается энтрпией замкнутой системы отнологических объективаций.
Тертуллиановскую формулу веры можно было бы в этой связи представить следующим образом - «верую, потому что разумно». При этом уже отходит на второй план оценка всего того, что этим разумом в мире объективировано, ведь «все разумное действительно, все действительное разумно». Сущностью рациональной веры является процесс взаимной редукции Рацио и Повседневности в единый универсум объективаций объективного. «Мы принимаем за реальность, идущую от объектов, то, - писал Н.Бердяев, - что есть конструкция субъекта, объективация продуктов мысли... Объект создается субъектом путем объективации продуктов мысли, гипостазирования понятий, потому что субъект находится в падшем состоянии, в разобщении и раздоре с другими субъектами и с Божьим миром, космосом»[661]. Если в поле зрения Рацио и попадает какая-либо субъективация, исходящая из трансрационального Духа, то он может ее признать разве что в качестве фикции больного воображения. Вера в повседневню и низшую жизнь также абсурдна как и вера в жизнь духовную и высшую, но это разные формы абсурда. Первая из них абсурдна в связи с принципиальной непознаваемостью Неиного, вторая же абсурдна в связи с весьма прозрачной познаваемостью Иного и абсурдность здесь связана с редукцией Сущего к нему. Однако если первая форма абсурда ведет к гармонии жизни, то вторая – к упорядоченному хаосу. Жизнь в упорядоченном хаосе и есть объективация рациональной формы абсурда. Да, трансцендентная вера абсурдна, однако она не есть вера в абсурд, на чем основаны утопии, особенно технологической утопия. Рациономия телесного существа и технономия рационального существа, разновидности одной и той же веры в Абсолютный Объект, она порождается необходимостью Тела, а потому не может не противостоять свободе Духа. «Требование «научной» веры, замены веры знанием, - писал Н.Бердяев, - есть… отказ от свободы, от свободного избрания и от вольного подвига, требование это унижает человека, а не возвышает его»[662]. Впервые за всю историю человечества формируется вера, основу которой составляют отнюдь не свобода, а необходимость. Видимо гегелевское «свобода есть познанная необходимость» и может служить определением этой противоестественной для духа рациональной формы верования. Тертуллиановское «верую потому, что абсурдно», замещается декартовским «верую потому, что рационально». Но если за абсурдностью веры в Абсолютного Субъекта проступает целая иерархия дискурсов, в том числе и непроявленный рациональный дискурс, то за рациональной верой в Абсолютный Объект стоит лишь квазирациональный дискурс делающей человеческую жизнь экзистенциально иррациональной и абсурдной.
При переходе истории от социальной фазы к технологической возрождатся пантеизм в форме разветвленной системы рациональных верований, эту сциентистскую форму пантеизма, на наш взгляд, целесообразно обозначить понятием рациотеизм. Вера в рационально недоказуемую аксиоматику парадигмально оформленных знаний представляет собой не что иное как секуляризированный инвариант древнейшей веры в Бога. Каждая стихия в науке определяется в качестве некоего феномена=божества, обозначаемого соответствующим понятием. Посредством рационального дискурса ведется перманентная интерпретация логики, которая время от времени сбрасывает с себя отработанные парадигмальные формы. В пределах логического сциентизма достоверность выводного знания опирается на безграничную веру в господствующую в науке парадигмы. Но ведь вся история науки может быть представлена в качестве перманентной смены парадигм, следовательно можно сделать вывод, что со сменой парадигм меняется и суть рациональных верований. Если трансцендентальная вера, вера в единого Бога не претепевает каких-либо изменений в ходе исторического развертывания Сущего, то, напротив исторически господствующая рациональная вера в значительной мере строится за счет отрицания прошлых своих форм. Если трансцендентальная вера в Абсолютное является абсолютной, а потому и неизменной, то рациональная в Релятивное может быть только релятивной, а потому и называться верой может лишь весьма условно и, скорее всего метафорически. Скорее всего это нигилистическая форма веры, отрицающая абсолютность в сущем и абсолютизирующая релятивность в нем.
Суетная вера современного человека есть совокупность пантеистических суе-верий, прикрытых сциентистским флером, основным ее принципом становится Догмат о непогрешимости Лаборатории заменившей собой Церковь. Если Церковь всегда была обителью для одухотворенной телесности, то Лаборатория полигон для вивисекции над обездушенной телесностью. Вера в Науку стала тоталитарной, побудить человека принять за благо очередное технологическое чудо уже не представляет для нее особых трудностей. Все люди технологической цивилизации есть участники единой тоталитарной секты, в которой правят законы вполне познаваемой необходимости. «На меня, - писал Н.Бердяев, - со всех сторон действует необходимость и связанная с ней полезность, и я не могу победить ее в условиях объектного мира. Но я не хочу ни в чем сакрализировать этой необходимости и полезности»[663]. Слепая вера в Науку, Технику и Технологию, вне веры в социальную целесообразность, человеческую предопределенность и сакральную духовность есть не что иное как вера в Иное, что перманентно возникает в процессе научных Открытий, подкрепляемое безверием в Неиное, мудрость мочания которого в особо тяжкие времена оборачивается Откровением. Вера не в Дух, а всего лишь в его рациональную объективацию на древнейшем лексиконе, которым пренебрегает новояз рационального дискурса есть вера в падшего Дьявола. Сциентизм в его крайнем проявлении аутентичен образу и подобию сатаны, такой вывод напрашивается когда интуитивно ощущаешь на какие муки она обрекает всю последующую человеческую историю. Упоенный благами земной жизни, человек технологической цивилизации неосознанно суе-словит дьявола, принимая его прельщения за божью благодать. Рациальные верования, основывающиеся на дескриптивных знаниях очень быстро превращают человека в простой винтик дьявольской машинерии.
Вера в телесную организацию мира, в которой тело моего Я всего лишь зависимая переменная чуждого Оно становится центральным мотивом для самых изощренных форм человеческого самонасилия, лишь бы оно приносило вожделенное удовлетворение Ему – Вселенскому Телу. В основе рациональных верований всегда можно обнаружить сакрализацию садо-мазохистских по своей сущности межтелесных отношений. Рациональным сознанием релятивизируется уже не только онтология Бога и собственно человеческое бытие, но и социальная форма Бытия. Вера в субстанциальное и вера в прогресс сливаются в единую религию имя которой Наука.
С вытеснением социального из экзистенции общественное самосознание модифицируется в рациональную форму сознания, основу которой составляет наука. Чтобы телесный субъект как элемент рационально оформленной биоты мог воспринимать законы телесной организации мира в качестве своих собственных интенций, необходимо было полностью освободить его «тело» от «духа» переподчинив его экзистенцию рациональному сознанию. Общественное сознание, вытеснившее в свое время индивидуальную душу, начинает активно замещаться «рациональным Сознанием» или «сознанием Рацио». Бытие человека становится объектом рационального Дискурса или дискурсивного Рацио, претендующий на роль надындивидуальной Объективной Идеей, которая согласно гегелевской диалектике по ступенькам относительных истин восходит к Абсолютной Идеее. Дескриптивные предписания рационального дискурса становятся теми идеальными основоположениями, которые индивиды призваны объективировать любой ценой, даже ценой возможной утраты своей своей естественной витальности. Не человек, а «объективное сознание», т.е. обособившийся и отчужденный от него Рацио становится субъектом его «объективного бытия», его «объективной истории». Объективное сознание есть не что иное как информационно превратная форма рационального самосознания человека, самочинно конституировавшего себя в качестве самоосознающего бытия. Рациональный дискурс есть порождение эрзац-сознания, призванного собой заместить тотальность Трансцендентного Духа. На этапе онтологического обособления природного универсума от универсума социального и его превращения в универсум технологических объективаций Дух не только насильственно вытесняется Телом, но именно от него насильственно отчуждается его статус статус в пользу Рацио. «Разум есть потенциальная техника, техника есть актуальный разум. - отмечал П.А.Флоренский. – Другими словами, содержанием разума должно быть нечто, что воплощаясь, дает орудие. А так как содержание разума, как выяснено, - термины и их отношения, то можно сказать: орудия – не что иное как материализованные термины, и потому между законами мышления и техническими достижениями могут быть усматриваемы постоянные параллели»[664]. С началом онтологического восхождения цивилизации многократно усиливается борьба дескриптивной формы рациональнальной телесности против прескриптивного дискурса социальной технологии. На смену прескриптивной социальной мифологии приходит мифология дескриптивная, сциентистская, коррелирующая уже не с социальными ожиданиями, а с телесными вожделениями. В ее основе лежит совокупность таких рациональных категорических императивов, воплощение которых и составляет процесс отелеснения мира и обмирщвления тела – онтологию технэ. На этом этапе историческом этапе социализация уступает свое место рационализации внутреннего и внешнего мира человека.
Рациональная идеологема, как самая ложная форма мифотворчества возводит телесное Я в ранг Абсолюта, придавая человеческим чувствам и отношениям объективную значимость, которую весьма легко замерять различными рациональными тестами на лояльность к объективной Реальности. Рациологизм, замещающий собой социологизм, именно телесно-технологического субъекта конституирует в качестве основного персонажа Всемирной истории. Телесное, а не социальное в человеке рациологизмом доопределяется в качестве идеальной ментальной формы, которую человеку предстоит обрести в результате довольно сложных морфологических изменений, в результате которых он обретет вечную жизнь в универсуме оъективаций. Это направление в реформации сущего уже на наших глазах оформляется в самую главную и магистральную линию, о чем свидетельствуют успехи в био-технологии постепенно переходящую в человеко-технологию. Трагическое отчуждение человека становится столь тотальным, что даже не осознается им в качестве трагической и отчужденной, здесь мы имеем дело не с «оптимистической трагедией», а с «трагическим оптимизмом». Современный человек весьма оптимистичен в своей вере в то, что со временем удастся обрести вечную жизнь на земле либо в качестве рационально оформленной биоты, либо в качестве вечно почкующегося клона, либо своего вечного голографического отображения и проч. Вера же в вечную жизнь в Духе все более воспринимается в качестве иллюзорной и даже фиктивной, в связи с ее эмпирической неверифицируемостью.
Рациональный миф есть не что иное как идеологема научно-технического прогресса представленной в нормативно-ценностно-символической упаковке. Рациональная идеология является крайним случаем ложной мифологии, пытающейся средствами дескриптивного дискурса пересказать всю историю человечества таким образом, чтобы главным его персонажем был объект, а не субъект, телесное, а не духовное в экзистенции. Весь филогенез и метаистория человека в этом дескриптивном пересказе есть не что иное как процесс развертывания «воли к знанию», процесс развития отражательных свойств разума, выступающим истинным Духом Тела. Предметностью рациональной мифологемы является процесс перманентного становления способа производства, как некоей целостности, сущностью которой выступает техноген. Человек же признается этой идеологемой лишь в качестве рационально-телесной производной от объективной действительности. Социальные утопии как «сильные версии» бытия, замещаются «сверхсильными версиями» - научными проектами по радикальной реформации объективной действительности. «Для того, чтобы цивилизационный сдвиг закончился антропологической катастрофой, - справедливо замечает Ф.И.Гиренок, - нужно было всего лишь предположить, что бытие исчерпывается знанием о бытии»[665]. Уже нет необходимости в социальном Интерпретаторе – Политике, на роль Мессии выдвигается Технолог - Проектировщик Сущего. Сегодня рынок технологических идей и проектов тотально воздействует на экзистенциальную ориентацию человека. Оказавшись несущественной частью Онтологического Проекта, человек окончательно выпадает из своей собственной метаистории, становится одним из рядоположных объектов процесса научно-технологического освоения действительности, обладающей своей особой внечеловеческой историей.
Любая форма рациональности пытается самообсолютизироваться таким образом чтобы полностью овладеть высшими надрациональными формами человеческого самосознания. Что же тогда говорить о сциентистской форме рационального дискурса? Человеческая экзистенция становится сущим полигоном для постановки широкомасштабных экспериментов с ее возможностями и невозможностями, целью которых является ее преобразование в благоприятную среду для обитания техногена.
Если на этапе перехода от культуры к цивилизации постоянно «открывались» все новые и новые законы общественного развития, то на этапе смены цивилизации технологией – лишь все более впечатляющие законы науки и техники, причем социальные закономерности оказываются всего лишь частными случаями всеобщих законов объективной действительности. Наконец-то гносеологический субъект полностью и окончательно выходит из подчинения социального субъекта и начинает «открывать» законы собственного онтологического восхождения, независимо от социального целеполагания. Ему посчастливилось найти такую форму прогрессирующего развития, которую можно почти без всяких погрешностей редуцировать к формальной логике рационального дискурса. Дискурс социальный, под покровом которого скрывались прескриптивно оформленные знания наконец то замещается своим иным – рационально-дескриптивным дискурсом, окончательно сбросившим с себя социально-прескриптивную оболочку. Социальная катастрофа в гносеологическом плане есть разрыв, возникший между рациональным и общественным сознаниями, так как знания, которые в человеческой душе начинают доминировать окончательно сбрасывают с себя прескриптивную форму, иррелевантную социальному опыту, который увы, становится избыточному и весьма некорректным ориентации на укоренение человеческой телесности в универсум объективаций.
Социальная катастрофа, которая разворачивается на глазах наших современников, происходит в самом эпицентре человеческой души, переполненной репрессивными дескриптивными суждениями о мире. Процесс дескриптивизации человеческой самости порожден эпохой Просвещения. П.А.Флоренский отмечает, что «вся история Просвещения в значительной мере занята войною с жизнью, чтобы всецело ее придумать системою схем». Он обращает наше внимание на то, «что это искажение, эту порчу естественного человеческого способа мыслить и чувствовать, это перевоспитание в духе нигилизма, новый человек усиленно выдает за возвращение к естественности и за снятие каких-то и кем-то якобы наложенных на него пут, причем, поистине, стараясь выскрести с человеческой души письмена истории, продырявливает самую душу»[666]. Социальная рациональность в современную эпоху переживает не лучшие свои времена, ее все более решительно вытесняет чистая рациональность, основу которой составляют логические законы Дискурса или дискурсивные законы Логики. Образно говоря квазителесный субъект – это человек, в котором душа заменена компьютер, постоянно просчитывающим наиболее рациональные способы его присутствия во внешнем мире и калькулирующим необходимые энергетические затраты. Человеческая душа, вырождающаяся в программу рационального самоприсвоения, превратившаяся в Дух Тела, оказывается той последней инстанцией, которая призвана принимать окончательные решения по всем без исключения экзистенциальным проблемам. Со-Знание сбрасывает с себя последний ментальный флер и превращается в чистое Знание, которое если и выступает неким Само-со-знанием, то лишь в рамках внутреннего рационального дискурса, стремящегося О-со-знать всю иерархию гносеологических ступенек по которым восходил Гносеологический Субъект, перманентно отчуждая и присваивая все более высшие формы субъектности. Потребность Знать о том, как Знания исторически восходили к своим чистым и абсолютным формам, оказывается крайне необходимой сциентизму для того, чтобы конституировать «тяжкий путь познания» в единственно достоверную и объективную историю. В глазах рационально-телесного субъекта объективные знания и есть та сциентистская Знать, которой необходимо безоговорочно подчиняться, ибо только она способна его окончательно освободить его от тяжкого бремени самопо-знания. С вытеснением социального из экзистенции принцип веры с прескриптивных, нормативных форм само-со-знания переносится на все более дескриптивные, описательные формы знания, совокупность которых и составляет корпус объективных законов, открываемых наукой. Наука, имеющая дело лишь с объектом, активно редуцирующая к его экстенциям человеческие интенции превращается в самую ложную и весьма мрачную из всех предшествавших ей форм идеологизированного сознания.
Порядок во Вселенной, о котором начинает мечтать человек современной эпохи есть порядок устанавливаемый научными, дескриптивными предписаниями, воплощенными в глобальных технологических проектах. Жизнь становится – экспериментальным полигоном для науки, которая научилась искусственно ее имитировать и расширенно воспроизводить те ее превращенно-превратные формы, которые оказываются востребованными волющей телесностью. На верховном месте Мироздания ищут некое универсальное телесное свойство и обнаруживают его уже не в субъекте, а в объекте, что дает возможность социальную неопределенность заместить технологической однозначностью. Восхождение к Олимпу на котором вместо Бесконечного Субъекта восседает Бесконечный Объект становится основной задачей научно-технической революции. Естественно, что в мировоззрение при этом вносятся существенные коррективы, согласно которым социальная форма движения, как прочем и все ей предшествующие онтологические динамики всего лишь промежуточные ступени на пути восхождения человечества к технологическому Олимпу, к тому вожделенному раю на Земле, который архаичный человек искал на Небесах.
Довольно крайними гипотезами становятся уже не только Бог и Человек, но и само Общество, отныне лишь Тело и его внешняя онтологическая проекция - Технология оказываются вполне продуктивной и эмпирически проверяемой гипотезой, все более обретающей статус вселенской Теории или теории Вселенной. Наконец-то система рационального знания высвобождается от диктата не вполне определенного и определяемого объекта каким является общество и обретает возможность осуществлять поиск истины во вполне однозначной онтологической ситуации. Техносоразмерная «субъективная» телесность и телесносоразмерная «объективная» технология сливаются в единую онтологию, чья внутренняя логика вполне непротиворечиво подчиняется единому рациональному алгоритму – объективному знанию. “Поскольку развитие индустриальной системы опирается на успехи физических наук, - иронизирует Тойнби, - вполне естественно предположить, что между индустрией и наукой была некая “предустановленная гармония”[667]. В этой онтологии начинает безраздельно господствовать воля к власти, объектом которой становится вся Вселенная. Человек своей телесностью оказывается всего лишь средством реализации некоего дьявольского замысла, основу которого составляет стремление Иного окончательно покорить все то что было создано Неиным за всю Всемирную Историю, начиная с момента миротворения. Телесный субъект становится подставным субъектом, псевдосубъектом, которому поредстоит осуществить самую последнюю и кардинальную реформацию всех структур Сущего, перестроить архаичный мир на основе строго научного знания о законах необходимости, составляющих суть «объективной Действительности» или «действительности Объекта».
С вытеснением социального из рационально оформленной экзистенции возникает возникает предельная ассиметрия в структуре человеческих потенциальностей: потребности стремятся к бесконечному развитию, а способности – к нулевой отметке. Если при переходе от культуры к цивилизации «энергетическим источником» являлись социогенные потребности человека, то на этапе отпадения технологии от цивилизации им, в основном, становятся искусственно рационализированные, в основном, биогенные потребности, потребности волющей телесности. С разделением технологических функций окончательно рассыпается изначальное единая креативная способность человека, связанная с перманентным порождением мира в его целостности и универсальности. Интенсивное развитие получают рациональные способности человека, идущие на дробление изначальной целостности мира, развертывания его наиболее объективированных и отчужденных структур. К высшим способностям не применимо понятие «развитие», так как они по сути своей эманационны, интенциональны. Развиваются не способности, а потребности, так как они извне интроецируются. Потребности телесного субъекта в тягивает в свой «гераклитов поток» развития самую низшую часть человеческих способностей, ведающих рациональным дискурсом и именно они становятся «подстилающей ментальной структурой» технологического прогресса. Еще Шиллер подчеркивал, что у универсума “не было другого средства к развитию разнообразных способностей человека, как их разобщение”. Однако посредством онтологического разобщения человека начинают “развиваться” лишь те из его способностей, которые оказываются иррелевантными онтологическим функциям технологической процессуальности. С дроблением человеческих способностей, его потребности обретают все большую целостность и универсальность. Дифференцирование человеческой экзистенции, считал Юнг, создает в конечном итоге диссоциацию, которая идет дальше дифференцирования способностей и захватывает область общей психологической установки, направляющей использование способностей человека в ту или другую сторону. Все то из человеческих потенциальностей, которым не суждено актуализироваться в данной исторической ситуации он называл “запущенными способностями”. Юнг подчеркивал, что именно среди запущенных способностей можно обнаружить настоящий драгоценный клад скрытых индивидуальных жизненных ценностей неизмеримо высших, нежели те которые актуализируются за пределами индивидуальной жизни. Лишь они могут дать возможность единичному человеку переживать чрезвычайную интенсивность и красоту жизни, чего он тщетно ищет бы в функциях коллективных. Дифференцированная способность, подчеркивает Юнг, дает ему возможность коллективного существования, однако ее реализация в ущерб актуализации наиболее ценных, но невостребованных способностей удовлетворения и счастья жизни ему не дает. И часто отсутствие последних ощущается в глубинах души как недочет; а недосягаемость этих богатств порождает внутренний разлад, который можно сравнить с мучительной раной[668]. Чем более рационально-технологизированный мир прогрессирует в своем онтологическом восхождении, тем менее востребованными оказываются человеческие способности. Довольно значительный процент безработных в индустриально-развитых странах показывает, что невостребованными оказываются уже даже самые элементарные трудовые навыки и способности.
По крайней мере не способности, а потребности начинают задавать направленность и содержание пресловутому прогрессу. Даже в марксистской концепции коммунистического будущего акцент делался не на всемерном развитии способностей, а на максимальном удовлетворении потребностей. Известная формула “от каждого по способностям, каждому по потребностям” в явном виде исходила из признания релятивности первых и абсолютности вторых. Интересно, что именно удовлетворение потребностей, а не реализация способностей человека выступают ключевым моментом концепции устойчивого развития, ставшей ключевой в общей стратегии выживания, принятой на Всемирной конференции в Рио-де-Жанейро. «Устойчивое развитие – отмечается в докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию, известной также как «Комиссия госпожи Брундтланд», - это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности»[669]. В рамках поистине вселенского по своему размаху технологического проекта преобразования всех форм сущего уже отнюдь не человек, а всего лишь его потребности, как правило интроецируемые внешним отчужденным миром, становятся предметом особой заботы со стороны власть предержащих. И это неудивительно, так как провоцируемые технологией «витальные потребности» есть не что иное как превращенные потребности самого объективированного мира, имманентные целям достижения им абсолютного господства над человеком и всем тем в мироздании, что еще не успело подвергнуться тотальной объективации, т.е. иерархия экзистенциальных напластований продуктивной активности предшествовавших поколений людей.
С релятивизацией социального в экзистенции индивид «био-рациомассы» обретает возможность прогрессивно развертывать свои потребительские свойства, активно присваивать все то, на что ранее со стороны Цивилизации накладывалось табу, что оценивалось низким со стороны Культуры и кощунственым со стороны Культа. Все в мире начинает вращаться вокруг одной весьма незамысловатой, однако вполне «рациональной идеи», суть которой сводится в обеспечении предельного многообразия удовольствий, позволяющего Телу реализовать пресловутый «принцип удовольствия». Фуко в своей работе «Воля к истине», констатирует печальную истину: удалось почти целиком и полностью поставить нас – наше тело, нашу душу, нашу индивидуальность, нашу историю – под знак логики вожделения и желания. И не одно столетие протекло уже с тех пор, как бесчисленные теоретики и практики плоти слелали из человека – без сомнения, весьма мало «научным» способом – детище секса, секса властного и интеллигибельного. Какая-то скользкая дорожка за несколько веков привела нас к тому, чтобы вопрос: что мы такое? – адресовать сексу. И не столько сексу-природе как элементу системы живого и объекту биологии, сколько сексу-истории, сексу-значению, сексу-дискурсу. Мы сами, считает Фуко, разместили себя под знаком секса, но, скорее, не Физики а Логики секса[670].
Насыщение рационально оформленных биогенных потребностей становится своеобразной движущей силой придающей столь необходимое ускорение для прогрессивного развития Технологии. Если способности восходят к божественному Логосу, то потребности – к греховному Рацио. «Разум в этом смысле, - считает Маркузе, - не тождествен рациональной способности (интеллекту)... Этот термин обозначает часть сознания, попавшую под власть принципа реальности и включающую те организованные способности, которые «отвечают» за «вегетативность», «сенситивность» и «аппетит»»[671]. Рациональная идеологема, как самая ложная форма мифотворчества наделяет телесные утехи индивида рациомассы, как реальные, так и иллюзорные абсолютным статусом, релятивизируя те формы проявления человеческой экзистенции, которые отныне призваны составлять всего лишь онтологическую инфраструктуру вожделения. Технология аппелирует не к способностям человека и даже не к его вожделенным социальным статусам, а к просто к вожделениям, к потребностям, которые при их насыщении внешним образом имеют тенденцию к кумуляции. Нуждающий человек – это такой человек у которого все есть, но он подозревает, что где-то за порогом его существование уже появилось нечто, что способно придать его жизни еще больший смысл. Совокупность потребностей телесного человека всегда гомоморфна структуре онтологических возможностей технологии и если его потребности и опережают ее возможности, то это не что иное как умысел самой технологии, стремящейся таким образом осуществить следующий виток в своем прогрессирующем развитии. И сама экзистенция начинает осмысливаться по весьма незамысловатой формуле: «человек живет, чтобы наслаждаться и наслаждается, чтобы жить». Эвдемонизм становится гедонистическим, а гедонизм эвдемонистическим и оба они оказываются не чем иным как рациональностью мимикрирующей под чувственность.
Рациональная утопия сменяющая собой социальную утопию опирается уже отнюдь не на великие социально-прескриптивные идеи, а на рационально-дескриптивные формулы благо-получия. Экспектации меняют свою онтологическую форму, направленность и структуру, революция социальных ожиданий замещается революцией рациональных требований, в структуре экспектаций требования, связанные с необходимостью насыщения потребностей начинают входят в явное противоречие с ожиданиями благ, производство которых оказывается все менее обеспечивающимся развертыванием соответствующих человеческих способностей. Складывается крайне неустойчивая система экспектаций, в которой требования абсолютизируются, а ожидания релятивизируются. Требования реализовать бурно развивающиеся потребности здесь-и-теперь не подкрепленные способностью индивидов переводить их в ожидание их реализации там-и-тогда, влечет за собой создание разветвленных сверхкомпенсаторных комплексов, дающих возможность телесным субъектам как-то снять остроту переживаний, связанных с томительным ожиданий запланированных и разрекламированных свершений. Такими сверхкомпенсаторными комлексами становятся секс, насилие, наркомания и проч. иррациональные способы «уплотнения времени», которое протекает между осознанием потребности в качестве жизненно важной и моментом ее наиболее полного насыщения. А так как телесный субъект живет в ситуации перманентно сменяющих друг друга рационально осознаваемых потребностей, то и его уход в иррациональные способы ожидания благ становятся столь же перманентными. Технология в целях своего прогрессивного развития формирует такие сверхкомпенсаторные комплексы, способные отвлечь индивидов от процесса реального потребления благ, что сами обещанные ею блага становятся лишь стимулами для их погружения в иллюзорный мир, мир квазификций. Реальное потребление благ таким образом замещается изысканными формами их фиктивного присвоения, а процесс «уплотнения времени» оказывается иррелевантным процессу «ускорения и перестройки», необходимые технологии для достижения своих имманентных целей, целей связанных с формированием универсума искусственных объектов.
Требования, которые предъявляет телесный субъект к миру становятся несоизмеримыми с его продуктивными вкладами, идущими на удержание мира в необходимом онтологическом гомеостазе, его потребительство оказываются все более разрушительным для остатков былой его целостности. Если у телесного субъекта и есть ярко выраженные способности, то лишь способности к перманентному и прогрессирующему потреблению, но отнюдь не способности к производству и воспроизводству целостного и универсального бытия. Если формулу цивилизованной формы экзистенции в известной степени можно представить как «иметь, чтобы быть», то применительно к ее технологически опосредованной формы таковой фомулой является «быть, чтобы иметь». За пределами обладания, бытие для атомизированного индивида не представляет какой-либо ценности. Бытие, составлявшее на заре цивилизации основу и цель целостной экзистенции человека, превращается в средство присвоения внешних благ. Жизнь индивида, соответствующая этой формуле, становится похожей на конвейерную линию по которой направляются на склад готовой продукции все новые и новые товарные массы. Весь мир, согласно потребительской психологии, представляет собой некую кладовую полезностей, которую необходимо присвоить, чтобы затем преобразовать в универсум вещей. Такой человек существовать лишь во имя сверхпотребления, за пределами которого он не в состоянии обнаружить более высоких экзистенциальных смыслов. Основные потребности телесного субъекта лишь внешне выглядят социогенными, по существу же своему это биогенные потребности мимикрирующие под социогенные, так как в их основе лежит пресловутый “принцип удовольствия" вытеснивший из самосознания “принцип реальности”, базировавшийся на всевозможных запретах и отсрочках в реализации осознанных потребностей. Вместо насыщения потребностей “там и тогда”, они получают фантастическую возможность реализовываться “здесь и теперь”. Но это именно такие потребности, насытить которые вполне возможно чисто техногенными средствами. Они не требуют особой креативности, а главное огромной самоотдачи от самого потребителя. Либидо оказывается тем посредником, который одновременно удовлетворяет и потребности внутреннего и потребности внешнего мира. Не случайно, начальный этап перехода от цивилизации к технологии сопровождавшйся “революцией социальных ожиданий”, завершается пресловутой “сексуальной революцией”. Так называемые “новые потребности” по своей природе есть не что иное как развернутая и детализированная инфраструктура “основного инстинкта”, оказавшегося двигателем технологического прогресса. «Поскольку цивилизация в основном – продукт Эроса, - считает Маркузе, - энергия прежде всего отнимается у либидо»[672]. Либидоизная структура потребностей человека эпохи восхождения технологической онтологии вряд-ли вызывает каких-либо сомнений. Телесный субъект – это абсолютно конформное существо, чей разум автоматически подчиняется «волющей телесности», которая есть всего лишь глубинная интериоризация «технологической необходимости».
Покорение Вселенной ведется уже не ради воплощения радикальной социальной утопии, а всего лишь для ее преобразования ее субстратных структур в бесконечный универсум потребительных стоимостей. Прогрессирующие потребности по своей онтологической патологии схожи с болезнью под названием прогрессивный паралич (сексогенного происходения; прогрессирующее нарушение психики; бред величия; депрессивные и эйфорические расстройства и проч.). Психическое заболевание на венерической основе, преследующее на протяжении тысячелетий человека в качестве существа телесного, в век научно-технического прогресса становится почти идеальным аналогом болезни предельно отелесненной цивилизации, патологическая любовь к которой со стороны телесного субъекта становится становится источником не только экзистенциального, но и физического его вырождения. «Каждая жизнь – писал Ортега-и-Гассет, - это борьба за то, чтобы стать самим собой. Препятствия, на которые мы при этой борьбе натыкаемся, и пробуждают, развивают нашу активность и наши способности… Чрезмерное изобилие жизненных благ и возможностей автоматически ведет к созданию людей-выродков… настал момент, когда цивилизованный мир стал по сравнению с потребностями среднего человека чрезмерно изобильным и богатым. В конце концов благополучие и безопасность, созданные прогрессом, испортили заурядного человека, внушив ему чрезмерную самоуверенность, порочную и одуряющую»[673]. В экзистенциальном плане технологический прогресс и прогрессивный паралич оказались феноменами вполне зеркальными и не только по общей симптоматике, но и по тому ускорению, с которым они движутся к своему летальному исходу. Бытие телесного субъекта перестает быть универсумом социальных объективаций: статусов, позиций, ролей и проч., оно превращается в универсум «чистых» объективаций – вещей. Уже Кант осознавал Европу как «цивилизацию вещей». Товарный фетишизм становится основной онтологической фикцией, не учитывая который невозможно понять внутреннюю мотивацию бытия телесного субъекта. Элементы объективированного мира фетишизируются в той мере, в какой они выступают в качестве средств потребления. Но и сам потребитель, утративший качества целостного субъекта фетишизируется не иначе как «субъективированная субстанция» пригодная удовлетворять те из витальных потребностей, которые еще не удается восполнять внеличностным способом. «Каждое Ты в мире, - писал Мартин Бубер, - по сути своей обречено стать вещью или, во всяком случае, вновь и вновь погружаться в вещность. На языке объективном можно было бы сказать, что каждая вещь в мире может до или после своего овеществления являться какому-либо Я в качестве его Ты»[674]. Субъект перестает интересоваться другим субъектом в тех сферах интимных отношений, которые замещаются более «эффективными» интерактивными средствами, разрабатываемые наукой и техникой. Так с расширением действия средств массовой коммуникации катастрофически сужается сфера межличностной коммуникации, видимо на очереди стоит и сфера чувственных отношений, возможность технологизации которой не вызывает особых трудностей, главное рациональным дискурсом подвести людей именно к искусственной форме удовлетновения своих естественных сексуальных потребностей. Предельно отелесненное бытие втягивает в свои либидоизные структуры все то, что осталось от массированного вытеснения в человеческой экзистенции, что составляет еще наиболее ценные элементы его одухотворенного бытия, перерабатывая их совокупность рационализированных потребностей иррелевантных требованиям технологического прогресса. При-страстия телесного субъекта оказываются страстями при биогенных потребностях, насыщение которых становится чуть ли единственной его жизненно важной проблемой. Чем более шкала витальных, а по сути своей рационально превращенных (точнее превратных) биогенных потребностей опускается к самым нижним онтологическим отметкам, тем более технологически самоотчуждающийся субъект склонен полагать свою жизнь более счастливой, нежели та, которые была у их далеких предков. Уровень жизни современного человека измеряется содержимым «потребительской корзины», а не теми творческими потенциальностями, которые успели отлиться в актуализированные способности.
Ментальная система, в которой способности минимизированы, а потребности максимизированы может быть относительно устойчивой лишь в ситуации перманентного восхождения потребностей и столь же постепенного угасания способностей. «Когда мы ищем полноты бытия в таких определенных нашей субъективностью благах, как богатство, власть, всеобщее признание, безмятежность наслаждения, - писал С.Л.Франк, - мы одержимы никогда не утолимой жаждой; скольким бы мы ни обладали, - требование большего, одержимость вечно манящим и вечно ускользающим от нас «еще и еще» своей мучительностью отравляет наше бытие»[675]. Наиболее явным представителем этого типа личности является дебил совершенно не способный к самоактуализации, однако жаждущий удовлятворять свои прогрессирующие потребности по самым «высшим стандартам». Любопытно, что именно эта модель человеческой субъективности, видимо «маячила» в воображении «молодых реформаторов», ориентировавших общественное сознание на «американские стандарты потребления», утверждая что «мы еще не жили по-человечески». Не эта ли потребительская идеологема сыграла свою провоцирующую роль в распаде тысячелетней России. Лозунг «реформация ради потребления», который не мог не привести к деградации общественной жизни, особенно в ее «элитарных кругах».
В контексте развиваемой нами метафизической концепции под квазибиогенными потребностями телесного субъекта мы будем понимать ту часть его витальных, жизненных потребностей, которые обслуживают принцип удовольствия. Принцип удовольствия на этапе свертывания прескриптивных цивилизационных процессов становится верховным законом мышления и поведения, тотально определяющим структуру потребностей и способы их удовлетворения. Оценка «жизненно важных» потребностей телесного субъекта осуществляется уже не с позиции иерархии господствующих в обществе рациональных норм потребления, а с позиции некой объективной структуры знаний о человеке как о сугубо «витальном организме», которому имманентна та система приоритетов в сфере потребления, которая складывается эмпирически и которая способна воспроизводиться строго научным образом. Лишь на первый взгляд кажется довольно странным поведение современной высокой науки, которая на заре своего становления была весьма пуританской, затем вполне бесстрастной и объективной, которую отныне все больше интересует не сама жизнь, а ее изнанка, что относится к ведению скатологии – дискурсу о непристойностях. «Воля к знанию, относящаяся к сексу, - недоумевает Фуко, - заставила ритуалы признания функционировать в схемах научной регулярности: как дошли до того, чтобы конституировать это ненасытное и традиционное вымогательство сексуального признания в научных формах?»[676]. Научный дискурс становится все более циничным и сексуальным, а циничный секс все более научным.
Структура потребностей телесного субъекта удивительнейшим образом коррелирует со структурой производства так называемого постиндустриального общества, способствуя технологии эффективно прогрессировать, достигая своих особых онтологических целей. Проблема манипулирования человеческими возможностями, как довольно сложная в прошлом задача для власть предержащих, до предела упрощается, так как их объектом становятся уже не столько способности, сколько потребности человека. Потребности человека являются тем важнейшим плацдармом, занимая который технология добивается техносоразмерных форм поведения. Отныне в структуре человеческих потребностей господствует не ориентация на освоение субъективаций духа или ценностей культуры и даже не на присвоение социальных статусов, а на инкорпорирование, сверхприсвоение тех потребительских комплексов, которые являются всего лишь побочной продукцией развертывающегося технологического процесса, основная цель которых лежит за пределами собственно человеческой экзистенции. Навязывая человеку разветвленную структуру нужд и всемерно их удовлетворяя, техноген без каких-либо затрат на средства подавления весьма легко при-нуждает человека делать, то, что ему порой не свойственно по внутренней своей природе. «Та сторона, - писал Плотин, - которая чувствует какую-либо нужду, потребность и желает ее восполнения, вовсе не властна над тем, что влечет ее к себе. А если так, разве может быть свободным то, что стоит в зависимости от того другого, в котором имеет свое начало, от которого возникает, которым во всех отношениях определяется, с которым сообразует свою жизнь, от которого имеет саму свою форму?»[677]. Несомненно в нынешней онтологической ситуации мы имеем дело с особого рода трансференцией потребностей идущих от отчужденного мира к чуждому ему человеку. Человеческие (?) потребности в эпоху восходящей технологии всего лишь видимая часть айсберга, под которым скрывается большая часть системы потребностей, выступающей основой реализации экстенций, исходящих от объективной Необходимости или необходимости Объекта. Техногеном удовлетворение «человеческих потребностей» ведется отнюдь не ради самого человека, а в обмен на его столь недостающую ему естественную субъектность. Но и сам телесный субъект отдается во власть техногенной цивилизации весьма расчетливо, калькулируя свою активность таким образом, чтобы обеспечить прогрессивное развертывание тех потребностей, которые выступают инфраструктурой вожделения, составляют либидоизную основу его объектного присутствия в универсуме объективаций. «Если субстанциалистски ориентированный человек и ведет себя как предатель своей субъектной культуры и своих субъектных возможностей, - пишет Г.С.Батищев, - то он в этом далеко не бескорыстен: он не просто отдает себя в рабство, не просто поддается процессу самоаннигиляции, но активно-расчетливо продает нередуцируемую свою субъектность, конкретно-многомерную, особенную, творческую, - за объектно-вещное господство среди объектов-вещей»[678]. Прогресс в потреблении и технологический процесс – две взаимосвязанные стороны процесса отелеснения Мира и обмирщвления Тела.
Человеческие тела – это «собщающиеся сосуды» Единого Мирового Тела, по которым переливаются жизненно важные ресурсы, идущие на удовлетворение многообразных витальных потребностей. Естественно, что система реализации био-техногенных потребностей может быть только принудительной, ибо потребление в ней идет лишь за счет репрессивной формы присваивоения, инкорпорирующей «полезности», а присвоение – за счет деструктивной формы потребления, вытесняющей спобности. Однако присвоение в форме потребления и потребление в форме присвоения в состоянии осуществляться не иначе как при условии перманентного и все более углубляющегося самоотчуждения, которое есть не что иное как самоприсвоение в форме самопотребления. Человеку в этой объективированной системе всего лишь кажется, что он потребляет сугубо внешние блага – они есть отчужденные от него самого его собственные силы, преобразованные технологией в товарную массу, в которой он же и овеществлен в качестве и как особого товара и особой массы. Человек как телесная субстанция одновременно оказывается и вещью и потребительной стоимостью, расширенно воспроизводимых на конвейере рациональной Технологии и технологической Рациональности. «Человек, - писал Ницше, - в конце концов находит в вещах лишь то, что он сам вложил в них: это обретение называет себя наукой, а вкладывание - искусством, религией, любовью, гордостью. И то и другое, будь это даже детская игра, надо продолжать и иметь смелость и для того и для другого; они будут смело находить, а другие - мы - эти другие - вкладывать!»[679]. В конце концов в качестве телесного субъекта человек иррационально инкорпорирует свою же собственную телесность, все более отпадающую от высших его экзистенциальных форм, а потому будучи активно вовлеченным в технологический процесс занимается не чем иным как самоедством, самоинкорпорированием.
Индивид предпочитающий тело духу и делающий все, чтобы следовать требованиям вожделения – это человек избравший путь самовытеснения из Вечности, так как он в нее, в основном, пролагается виртуальными способностями, а преграды на нем возводятся, прежде всего, иррациональными потребностями. Что может быть более антигуманного, нежели использование низших потребностей для блокирования высших способностей человека и прежде всего способностей к свободной самотрансценденции, добродетельной самоактуализации и долженствующей социализации.
С вытеснением социального из экзистенции «прогрессивное развитие» внешнего объективированного мира получает предельную степень ускорения. Как только телесность окончательно сбрасывает с себя «социальные одежды», так сразу же темпы развития исторического процесса становятся столь интенсивными, что при всем желании их уже снизить нет никаких возможностей. Замедление темпов развития – смерти подобно. Во имя прогресса естественной Жизни или жизни Естества, человеческая экзистенция окончательно лишается какой-либо субъектности, что и выступает онтологическим пределом не только существованию Субъекта, но и его объективированных форм, способных своим катастрофическим самораспадом свертываться лишь в экзистенциальное Ничтожество, которое в состоянии инобытийствовать лишь в форме “элементов” структурированного Хаоса. С онтологическим восхождением технологии возникает новый тип онтологии, в которой гармония и креация окончательно замещаются порядком и прогрессом. Отец позитивизма Огюст Конт провозгласил необходимость следующей трансформации человеческого существования: «Порядок и Прогресс!», поскольку «прогресс есть только развитие порядка»[680]. Видимо его призыв был услышан, не свыше, а снизу, из преисподней, в которой царствует князь тьмы.
На этапе перехода цивилизации к технологии прогресс меняет свою форму с социальной на научно-техническую. Прежде всего это выражается в том, что в структуре феноменов человеческой экзистенции лишь наука и техника развиваются по экспоненте. Центральным моментом технологического прогресса становится уже не объективация субъективного - социализация человека - как это наблюдается в прескриптивной цивилизации, а объективация объективного - технологизация социума. Возникает явная онтологическая ассиметричность в двух взаимообусловленных процессах в дескриптивно-технологической «цивилизации»: объективации субъективного и объективации объективного в пользу последнего. В излюбленном понятии социологизма социальная технология происходит семантическая инверсия и то что происходит с социумом на этапе прогрессивного восхождения технологии вполне может схватываться понятием технологичная социальность. Объектно-технологические мерки прикладываемые к внутреннему миру человека становятся столь общепринятыми (взять хотя-бы практику психологического тестирования личности), что десоциализация его внутренних структур не могла не стать неким «объективным процессом», сопутствующим процессу становления так называемого «нового человека».
Прогресс как рок начинает нависать уже не только над человеческими судьбами, но и все больше уподоблять общественные процессы процессам технологическим. Человек привыкает к мысли, что за пользование благами, предоставляемыми технологическим процессом необходимо платить по большому счету и он готов ради вожделенных Благ или благих Вожделений идти на любые жертвы, готов даже заложить душу дьяволу лишь бы быть «халифом на час», лишь бы не откладывать «в долгий ящик» удовлетворение сиюминутных желаний. «Идет ли речь об опасностях, ценах и т.д., - пишет Ж.Эллюль, - по исчерпании аргуменов, ученый или техник заключает дискуссию фразой: "Во всяком случае прогресс не остановить". Следовательно, прдполагается что-то абсолютное, неоспоримое, против чего ничего не поделаешь, чему человек должен просто подчиниться, это - технический рост»[681]. Предельно технологизированное общество уже трудно назвать подлинной социальной общностью, так как в ней господствует не «социоген», а «техноген». Отныне технологический прогресс, а не социальное развитие человека становится целью исторического движения, во имя которой требуется жертвовать теми цивилизационными процессами, которые оказываются онтологически не аутентичными прогрессивно развивающимся технологическим процессам. Технологический прогресс может быть обеспечен лишь социальным регрессом, усложнение телесной организации мира может осуществляться лишь за счет упрощения ее социальной организации. Трагедия иерархического человека на новом историческом витке заключается уже не столько в его целенаправленном расчеловечении социумом, сколько в его последовательной десоциализации наукой и техникой. Научно-технологический прогресс, как показывает еще не столь продолжительная его история, может быть обеспечен лишь за счет трансференции онтологического статуса с социальной субличности на телесное Я и его технологическое не Я. То что для телесного субъекта является прогрессивным присвоением, для социального субъекта – регрессивным отчуждением. Индивид перестает столь явно и однозначно как это было прежде осознавать себя членом «социального организма», он все более ощущает свою самость в качестве ментальной функции «технологической системы». Прогресс технологический может обеспечиваться лишь прогрессирующим разложением традиционного общества. И все же прогресс не есть имманентное свойство «объективной реальности», он есть квазифеномен укорененный в первородный грех человеческой субъективности и по своим темпам иррелевантен темпам катастрофического нисхождения духа в мир самообъективаций, является средством «онтологического затвердевания» Духа, его предельной субстанциализации. Прогресс в развертывании универсума объективаций обязан отнюдь не некоему субстанциальному имманентизму, а тем телесным интенциям имманентным низшим (и даже «низменным») формам человеческой субъективности, которые своими отчужденными и крайне репрессивными формами составляют энергетическую основу динамических изменений в объективной реальности. «Даже “объективнейшая необходимость”, - писал Шелер, - содержит в себе тот “субъективный” элемент, что она конституирует себя только благодаря попытке отрицания обоснованного в некоторой сущностной связи предположения. Она проявляется только в такой попытке»[682]. Как только подталкиваемый «объективным прогрессом» регресс человеческой субъективности завершится окончательной экзистенциальной катастрофой, исчезнет и сама объективная необходимость, которая есть всего лишь объективация субъективной свободы. Как утверждал Н.Бердяев, необходимость есть падшая свобода, а потому с окончательным преодолением свободы духа исчезает и сама необходимость в качестве его отчужденного от духа модуса.
Антагонизм между социальным и телесным, составляющий особенность перехода цивилизации к технологии, преодолевается лишь кардинальным устранением социального в человеческой экзистенции. Последовательное сведение, редукция социального к телесному в сущем означает не что иное как снятие уже не только социального, но и всего феноменального в экзистенции, отличающего человека от иных феноменальных структур объективной действительности, ибо в рамках телесной организации мира он всего лишь его эпифеномен. Преодоление социального – это снятие, демонтаж последней перегородки между природой как отелесненным космосом и природой как космической телесностью, т.е. фактическое уничтожение всех форм человеческого присутствия в мире отчужденных само-объективаций, самостью которой становится «объективная логика».
Итак, на смену социальному процессу приходит процесс технологический, в котором человеческая экзистенция окончательно обретает форму Неиного, а предустановленая субъективированная Гармония – замещается предельно объективированным Порядком. Экзистенция становится упорядоченной, а Порядок экзистенциальным. Технология как некий внесоциальный инвариант экзистенции, как ее предельная рационализация по отношению к иерархическому человеку оказывается его абсолютно отчужденной онтологической формой, в которой он из Неиного превращается в Иное, способное свернуться отнюдь не в изначальное Ничто, а в окончательное Ничтожество. Это и есть становление человека со знаком минус, становление не Богом, а дьяволом, однако при этом полагающим, что наконец-то обретает полноту божественного бытия. Естественно на сей счет человек искренне заблуждается, так как квазирациональный дискурс, который преобладает в его ментальности блокирует его саморефлексию на трансрациональных основаниях. Это искренность человека, который «не ведает, что творит», хотя последствия этого «творчества» красноречиво свидетельствуют о преступном характере его деяний. Субъект, перманентно преступающий заветы и законы, не в состоянии осознавать себя Преступником, а всего лишь Человеком совершающим немотивированные Ошибки. Он уже давно перестал осознавать, что Ошибка и есть тот Закон, которому он покорился, настоящее же имя ей – Самоотчуждение. Божествами, которые периодически низлагаются телесным человеком становятся эти самые Ошибки, приводящие к еще более тоталитарным формам самоотчуждения в мире в котором все более начинает господствовать Технология – онтологическая проекция его собственной Телесности.
В многомерной экзистенциальной процессуальности, как мы выяснили выше, технологические процессы всего лишь низшая их часть. Как только эта низшая (низменная) часть начинает гипертрофированно трансформироваться в некую квазионтологическую целостность, ее «прогресс» становится возможным лишь не за счет онтологического вампиризма – жертвами-донорами которой становятся Цивилизация, Культура и Культ. При этом чем более технология инкорпорирует внетехнологические сущностные силы субъекта, тем более неустойчивой в онтологическом плане она оказывается. Она не в состоянии существовать в качестве абсолютно автономного универсума объективаций, так как не обладает онтологической самодостаточностью. По мере интенсификации технологического прогресса наращиваются силы хаоса, на временное упорядочивание которых требуется привлечение еще более мощных сил, которые в свою очередь еще более интенсифицируют процессы хаотизации в Сущем.Однако на эту обратную сторону технологического прогресса, его репрезентант – гносеологический субъект не только не обращает никакого внимания, но напротив делает все возможное, чтобы поддерживать в человеке постоянную готовность принести технологическому молоху свою «последнюю жертву» – жизнь в теле, прельщая его возможностью вечного существования в качестве перманентно почкующего клона, а в отдаленной перспективе и неуничтожимой голограммы его индивидуальной телесности.
5.2. Технология как рациональная
объективация цивилизации
|
|
Техника рационализирует человеческую жизнь, но рационализация эта имеет иррациональные последствия. Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мре. |
На рубеже тысячелетий вполне обозначился «нижний предел» цивилизации, за которым проглядывается «начало» новой онтологической целостности, основу которой составляет уже не социальный, а телесный принцип организации структур сущего. Эту новейшую онтологическую целостность довольно трудно взять в гносеологическую вилку, посредством которой можно было бы ее исследовать метафизически, т.к. процесс ее становления все еще продолжается. Мы обозначили эту новую онтологическую нишу иерархического бытия понятием «технология» и исходим из предположения, что это не только самая низшая, но и последняя ступень метаистории. Своим генезисом технология обязана цивилизации, она является ее рациональной объективацией. Технология в ее современном виде является следствием развития экспериментальной науки. Ее основные исторические вехи: возникновение экспериментальной науки в конце ХV1 века в связи с деятельностью Галилея; в конце ХV11 века Ньютон дает ей основные установки, и в середине ХV111 она начинает интенсивно развиваться. Однако лишь в ХХ веке становится очевидным, что технологию надо понимать как особую онтологию, которая все более освобождается от своей социоморфности. Отнюдь не цивилизационные, а технологические процессы становятся приоритетными в эпоху научно-технической революции. Несомненно, что сама эта технологический универсум в своем перманентном развертывании будет иметь некие внутренние этапы, обусловленные внутренней логикой нисхождения в субстанциальный мир. Можно уже сейчас предположить, что техногенез затем перейдет в рациогенез, однако, по крайней мере, с позиции современного метаисторического этапа, порождающего систему смыслов и той их части, которую философская рефлексия в состоянии концептуализировать, становится ясным что история клонится к своему нижнему пределу, за которым «хаос шевелится».
Трудно найти какое-либо иное наименование новой нише Бытия, которая на глазах современного поколения все более радикально автономизируется от цивилизации, нежели технология. В названиях форм бытия, предшествовавших технологическому универсуму, хотя и в неявной форме все же содержался намек на их определенную субъектосоразмерность и даже если в них и обнаруживалась онтологическая отчужденность, то отчужденность именно от собственно человеческого самоопределения во внешнем мире. В рамках такого рода обозначениях человек не только доопределялся внешними обстоятельствами, но и сам определял их сущность своим при-сутствием при онтологической сути дотехнологических универсумов.
Хотя опускаясь по ступенькам онтологий человек все более утрачивал свою субъектность, однако именно она в объективированной форме составляла «окружающую среду обитания». Так, в понятии «цивилизация» содержатся такие субъектосоразмерные значения как «цивильность», «социальность», «нормативность» и проч. А потому совершенно не режет слуха не вполне корректное словосочетание «человеческая цивилизация», т.к. требует некоей семантической оппозиции - «внечеловеческая цивилизация», т.е. общности, состоящей не из «человеков», в противном случае совершенно отпадает правомерность использования прилагательного «человек». То что именно «человеческое» прилагается к понятию «цивилизация» скорее всего указывает на то, что реально функционирующая цивилизация редко бывает пронизанной собственно человеческими чувствами и отношениями и связано, в основном, для укрепления веры в то, что социальная цивилизация в обозримом будущем она все же преодолеет свою традиционную «бесчеловечность». В понятии же «технология» уже совершенно трудно обнаружить даже метафорическое присутствие человека. Совершенно бессмысленным является словосочетание «человеческая технология», хотя понятие «социальная технология» прочно вошло в социологический новояз. Современная историческая эпоха есть эпоха перехода «массового общества», «общества массового потребления» в некую общность телесных субъектов, которая не поддается явной социальной атрибуции. Это уже далеко не цивилизация в ее узком онтологическом значении, хотя нарождающееся онтологическое образование иногда называют либо «постиндустриальной цивилизацией», либо «информационной цивилизацией». Телесный субъект – это нецелостный элемент рациомассы, агрегированной технологией в некую онтологическую псевдообщность. Ее не назовешь социальной общностью, ибо принцип социальности в ней замещен принципом телесности. Термин «технология», на наш взгляд, прекрасно схватывает предельно объектный характер общности телесных суъектов. Общность всегда состоит из субъектов, совокупность же объектов фиксируется понятием «система», а потому агрегированную псевдоцелостность телесных субъектов лишь условно можно обозначить термином «технологическая общность».
Когда имеется в виду универсум технологических процессов, то прежде всего предполагается, что человек в нем растворен своими овеществленными, объективированными формами «весь и без остатка», что «человеческие тела» скреплены в некую онтологическую целостность сугубо прагматическим образом. Трех понятий «наука», «техника» и «технология», утверждает Арон, вполне достаточно, чтобы выразить сущность того универсума объективаций, который идет на смену социальному универсуму. И за «концом» этой формы квазиобъективированного существования может быть лишь «начало» вселенского хаоса – то есть абсолютного противобытия, в котором субъект будет представлен лишь своим экзистенциальным ничтожеством.
Будем исходить из гипотетического предположения, что целостность технологического универсума можно исследовать, если гносеологическая вилка будет составлена из онтологической оппозиции цивилизация- хаос. Таким образом, технология нами будет рассматриваться не столько в качестве среднего онтологического члена, имеющего свои «начало» и «конец», сколько крайнего члена метаисторического ряда, на котором обрывается присутствие субъекта в мире, а вместе с ним исчезает и его обмирщвленное состояние реальности – бытие. «Нижний предел» и технологического универсума и бытия в целом мы можем полагать лишь сугубо метафорически, как, кстати и «верхний предел» культового универсума, исходя из тех откровений, которые содержатся в вероучении, в трансцендентальных знаниях абсолютного мифа.
Известно, что абсолютная мифологема от относительных идеологем прежде всего отличается тем, что нижние и верхние пределы мира, чью метаисторию она собой предваряет («Сначала было Слово»), уходят в бесконечность, а потому поддаются известной символизации. В отличие от открытой мифологемы любая относительная идеологема мимикрирующая под абсолютный миф есть некая логическая завершенность, закрытость, пределы мира в нем константны, неподвижны, а потому по мере развертывания дискурса и перманентной смены парадигм передвигаются от горизонта к горизонту, обозначаемому гносеологическим субъектом. При всей неполноте знаний о сущем объектный подход всегда претендует на абсолютную истину, а потому вполне верит в истинность того замкнутого мира, который он «открывает». Напротив, при субъектном подходе, мир приоткрывается мгновенно всей своей исторической горизонталью, так как трансцендентальный субъект «наблюдает» за его метафорическим становлением с высоты метаисторической вертикали. И чем ближе он находится к первоистокам сущего, тем более остро он ощущает конец еще незавершившейся истории Бытия. С какой ясностью очевидца написан «Апокалипсис», по сравнению с ним любые рациональные прогнозы будущего, сколь высоконаучными они ни были всегда несут на себе печать «отвлеченных начал» и не было еще случая, чтобы они подтверждались дальнейшим ходом и исходом истории. Насколько «Коммунизм» насыщенный оптимизмом выступает прямым антиподом «Апокалипсиса», однако следуя его догматике огромная часть человечества оказалась в очередном тупике нереализуемой Утопии. Интересно, что по своим воздействиям на человеческую экзистенцию коммунизм оказался апокалиптическим, а апокалипсис – коммюнитарным. Однако речь здесь идет не столько о положительном или негативном исходе всемирной истории, сколько о выборе того символа, который способен выполнить роль трансцендентального значения Конца Истории. В рамках объектного подхода таковым «псевдосимволом» вполне возможен «Коммунизм» (псевдосимволом потому, что он является понятием, порожденным рациональным дискурсом, который своей проекцией на всю тотальность бытия может порождать лишь Утопию), в пределах же субъектного подхода таким символом может быть лишь «Апокалипсис», ведь именно этим символом в абсолютном мифе завершается тот хаос бытия, в который перманентно втягивается человеческая история с момента ее отпадения от сакральных и трансцентентных первоначал. Этим мы хотим подчеркнуть лишь одно, становясь на субъектоцентристскую версию всемирной истории нет иного выбора для обозначения сути ее конца, он предопределен содержанием самого абсолютного мифа, таковым символом выступает Хаос и способ его преодоления – Апокалипсис. Мы вполне осознаем, что метафизический анализ целостности последней метаисторической ступеньки, к которому мы приступаем, будет и неполным и метафорическим и не только в виду незавершенности истории технологии в особенности и человеческого бытия в целом, но прежде всего в связи с тем, что философия здесь должна приглушить свой дискурс и суметь настроиться на свидетельства о конце истории, содержащиеся в абсолютном мифе. И все же мы попытаемся представить технологию как универсум объективаций в качестве онтологической целостности какой она выглядит с позиции субъектоцентристского мировоззрения.
Итак, цивилизацию в качестве автономного универсума сменяет онтологическая универсальная целостность, которую мы обозначили понятием «технология». Современное человечество, как мы полагаем, вступило в новейшее осевое время, сутью которого является переход от цивилизации к технологии. Технология все более дескриптивно фиксирует объективированные формы человеческого присутствия в мире объективаций, приоритетность которых над социальной целесообразностью вряд ли вызывает каких либо сомнений. В этой грядущей онтологической целостности социальные структуры унифицируются и рационализируются под «потребности» развития научно-технического, но отнюдь не общественного прогресса. Социальный опыт, накопленный человечеством за свою долгую историю все более оказывается невостребованным, перестает транслироваться из поколения в поколение, основу жизнедеятельности людей начинают составляют лишь те мирожизненные инновации, которые технологическому процессу способны придавать дополнительное ускорение, даже если при этом ставится под вопрос реализация социальных проектов и программ. Среди очевидных особенностей уходящего ХХ века в качестве наиболее впечатляющей называют научно-техническую революцию, а не какую либо иную революцию, правда наряду с ней все чаще называется еще и сексуальная революция, но как мы выяснили выше они являются онтологически иррелевантными всплесками экзистенциальной активности современного человечества. Именно в ХХ столетии наука, техника и технология обретают в человеческой экзистенции поистине вселенский онтологический статус и размах. По крайней мере в рамках Западного Мира завершается собственно социально-цивилизационный этап истории и начинается этап восхождения информационно-технологического способа человеческого существования.
Человек в мире объективаций становится существом крайне зависимым от уровня развития технологии, адаптируясь к рациональным требованиям которой, вынужден систематически модернизировать структуру своей ментальности, все более наращивая в ней совокупность рациональных диспозиций за счет вытеснения трансрациональных свойств. В качестве весьма насущной возникает проблема интеграции индивидов, катастрофически утрачивающих индивидуальность и субъектность в организованную общность, в которой не смотря на все ухищрения менеджеров социальный модус стремительно вырождается в модус рациональный. Бывшая ранее цивилизованная социомасса распадаясь превращается в технологизированную рациомассу. Складывается новый тип исторического единения - квазиобщность телесно-технологических форм и феноменов, которую уже трудно конституировать в качестве разновидности социальной общности и в которой человек почти «без остатка» растворяется своей самой низшей и чаще всего единственной телесной субличностью. Соедить телесно-рациональных индивидов в некую псевдообщность оказывается возможным уже не посредством норм долженствования, подкрепляемых социальным насилием, а рациональным дискурсом и еще более извращенной информационной формой насилия.
На общем технологическом континууме человеческой экзистенции субъект все более овеществляется, а вещь все более субъективируется, постоянно происходит взаимопревращение вещи и человека, вещь предстает в качестве экстериоризации человеческих свойств, а человек – в качестве интериоризации вещественных функций. Механизмы интериоризации и экстериоризации в техносоразмерной общности становятся ведущими механизмами не только развития внешнего мира, но и способа встраивания в него мира внутреннего. Возникает весьма порочный замкнутый экзистенциальный круг, когда телесное Я экстериоризуется в телесном не-Я, в технологии, а затем в процессе адаптации к нему, его же и интериоризует. Длительное время механизм «интериоризации-экстериоризации» в науках об обществе и человеке был чуть ли не единственным, проясняющим характер взаимодействия человека и среды. В ходе дискуссии все чаще звучал призыв отказаться от редукции к этому довольно примитивному механизму взаимодействия внешнего и внутреннего миров всю многослойную интенциальную активность человека. Однако именно этот механизм выступает доминирующим в телесно-технологическом взаимодействии. Человеческая телесное экстериоризируется в технологии, а технология интериоризируется в телесном Я, ведь они в этом онтологическом взаимодействии противостоят друг другу как два модуса единого вещественного мира. «“Экстерналист – пишет Г.С.Батищев, - это тот, кто склонен изменять окружение в соответствии со своими нуждами. Интерналист сам адаптируется к своему окружению”. Здесь люди явно и откровенно приравнены к типам вещей. В них решительно и намертво отсечено что бы то ни было, кроме того, что укладывается в “структурные понятия, порожденные механистическим (так называемым бихевиористским) взглядом на человеческое поведение”. И это отнюдь не удивительно, ибо это отвечает специфике вещно-технического подхода, свойственного кибернетике»[683]. Мир технологически опосредованных общностей - это мир людей как вещей (персонифицированная овеществленность) и вещей как людей (овеществленная персонифицированность), причем именно овеществленные сущности в этом типе взаимодействия тотально определяют человеческое существование, а не наоборот. Чем более развивается гипертрофия объектного и вещественного и вытесняются реликты субъектного и социального в экзистенции, тем более тоталитарным становится рационально-иррациональное насилие над человеком со стороны технологической среды обитания. Человек же настолько плотно погружается в ставшую привычной для него объективированную среду, что совершенно утрачивает свои былые социосоразмерные формы бытования. «Между «автономным человеком», самостоятельно ориентирующимся в мире, - пишет Ф.И.Гиренок, - и человеком «элементом массы» лежит пропасть. Цивилизованный человек, иронизирует Юнг, научился делать свою работу без песнопений и барабанной дроби, которые гипнотически вводили бы его в состояние «делания», Он даже может обойтись без ежедневной молитвы. Но вот что странно. Одновременно появилось множество людей, которые живут так, как если бы они не имели органов чувств: они не видят вещей, которые у них перед глазами, не слышат слов, звучащих у них в ушах. «Массовый» человек сверяет предпосылки своего мышления с мышлением и действием массы, с ходом истории. А поскольку «масса» не мыслит, а история не действует, постольку возникает массовая потребность в представителях истории и масс»[684]. Новые онтологические общности людей возникают уже не в качестве проекции прескриптивных структур на социальное силовое поле цивилизации, а за счет дескриптивной проекции законов технологической необходимости, вызванных к жизни гипертрофией властных отношений волющей телесности.
Каковы онтологические отличия технологии от цивилизации? Прежде всего от цивилизации она отличается своей ярко выраженной объектностью и рациональной концептуализированностью, стремлением всему и вся в сущем придать вещественную форму, «все сущее овеществить». Если в цивилизации господствует социальное, то в технологии мы обнаруживает онтологическое сгущение человеческой телесности, овнешненность его морфологических функций. Онтологическим принципом построения универсума объективаций выступает принцип телесной Организации или организованной Телесности. Технология есть та ступень в метаисторическом процессе, на которой объективация всех предшествующих экзистенциальных форм достигает своих абсолютных пределов: экзистенция субстанциализируется, а субстанция экзистенциализируется. «Субстанциальная природа, - писал Н.Бердяев, - является источником детерминизма, а не свободы»[685]. В пределах технологического универсума несубстанциальная свобода духа все более сходит на нет, ее все более вытесняет законы детерминации субстанциальной необходимости, здесь уже не срабатывает даже принцип «свободы выбора», который существовал в цивилизации.
Суть технологического переворота в экзистенции состоит прежде всего в том, что целью развития становится расширенное воспроизводство телесной организации мира во все более универсальной форме, способной в своем пределе довести до автоматизма удовлетворение квазивитальных потребностей телесного субъекта, даже тех из них, которые связаны с реализацией некрофильской ориентации. Именно самая низшая, а порой и низменная группа потребностей человека, становится неким ментальным ускорителем научно-технического прогресса, основу которого составляет особо репрессивные технологические процедуры, направленные на насильственное преобразование естественного в искусственное. С повсеменной утратой человеческой общностью социального модуса и обретения ею модуса телесного, цивилизация без особых бурь и потрясений плавно переходит в технологию, в которой правит уже не социальная целесообразность, а волющая телесность, или иначе, законы технологической необходимости. Не случайно Адорно и Хоркхаймер, критикуя современную историю с позиции «тотальности праксиса», отождествляют последовательную технологическую рационализацию мира с проявлением абсолютной «воли к власти». «Техническая рациональность, - пишут они, - есть сегодня рациональность самой власти. Она принудительная сила отчуждения от себя общества»[686]. Однако технологическую рациональность вряд-ли можно редуцировать к некоей абстрактной воли к власти, так как сама она является всего лишь атрибутом Иного в Сущем, т.е. проявлением злой воли «князя мира сего».
Между цивилизацией и технологией есть и нечто общее, по крайней мере то, что их единит на начальной стадии «развитывания» универсума объективаций субъективного. Общим является то, что индивиды интегрированные в эти онтологии, в основном, заняты благо-устроением своих сугубо внешних условий существования и большую часть своего непомерно огромного, нежели у астрального и антропного субъектов, свободного времени отдают процессу насыщения прогрессирующих потребностей. Это такие две онтологические общности в которых формирование потребностей и их удовлетворение становится своеобразным культом, культом потребления.
Различие здесь заключается лишь в степени и в форме удовлетворения этих потребностей. Если цивилизованное насыщение потребностей хотя и носит тотальный характер, но все же ограничивается определенными социально-нормативными рамками, то в условиях техногенной онтологии насыщение потребностей все более становится тоталитарным, предполагающим следовать «стандартам потребления» как некоторой неизбежности. Тоталитарное потребительство ведет к столь же тоталитарному устранение каких-либо способностей индивидов к внутренней самоактуализации. Если в цивилизационной ситуации удовлетворение потребностей осуществляется «там и тогда», то в ситуации технологической «здесь и теперь». Технологическая онтология от цивилизационной отличается тем, что согласно З.Фрейду, в ней господствует не принцип реальности, а принцип удовольствия. Маркузе полагает, существенное преобладание в организации принципа удовольствия выражает собой пик прогресса внешнего мира как организованного господства. Технология предполагает необходимость создания тоталитарной общности, такого типа «организации», в которой его «органы» в состоянии существовать лишь в качестве персонифицированных технологических функций. «Сам способ организации своей технологической основы современного индустриального общества, - пишет Маркузе, - заставляет его быть тоталитарным; ибо “тоталитарное” здесь означает не только террористическое политическое координирование общества, но также нетеррористическое экономико-техническое координирование, осуществляемое за счет манипуляции потребностями с помощью имущественных прав»[687]. Можно было бы определить технологию в качестве высшей формы социального тоталитаризма, если бы в ней господствующим оставался социальный принцип организации мира. Этот тоталитаризм экстенционален и исходит из объективации самой человеческой телесности, а потому и носит столь ригористический характер. Телесно-субстанциональный характер вот что отличает технологию, от цивилизации, которая по принципу своего построения все же является социальным феноменом.Социальную тоталитарность еще можно на время преодолеть псевдодемократизмом прекрасно мимикрирующим под гуманизм, технологический же тоталитаризм оказывается возможным преодолеть лишь столь же тоталитарным образом – насильственным исходом из Бытия.
И цивилизации и технологии присущ диктат свободного времени, т.е. времени «освободившегося» от Вечности и Мгновений на которое Вечность распадается в условиях креативной и культуротворческой активности человека. Впервые за всю свою тысячелетнюю историю человек становится подлинным невольником «свободного времени», внутри которого «остановить Мгновение», которое Прекрасно тем, что чревато Вечностью оказывается почти безнадежным делом. В условиях онтологического восхождения технологии, диктат «свободного времени» становится все более жестким и жестоким, в человеческом мирочувствовании возникает то, что принято называть «экзистенциальным вакуумом». Будучи функционально привязанным к объективной действительности и разукорененным в высших онтологиях, в которых человек только и в состоянии реализовывать свою «жизненную миссию», он начинает испытывает «витальный синдром», «усталость от жизни», в связи с чем в его ментальности катастрофически нарастает некрофильная ориентация, стремление навечно «забыться и заснуть, и видеть сны».
Понятие «технология», как и «культ», «культура» и «цивилизация» вполне может использоваться в качестве единицы членения истории на отдельные этапы, фазы, локальные «экзистенциальные ансамбли». Прежде всего она позволяет выявить каким образом возрастал инструментальный способ воздействия человека на внешний мир. Идея чоенения всемирной истории на технологические фазы, хотя и неявно, все же реализована в рамках исторического материализма, разработанного К.Марксом и Ф.Энгельсом и их наиболее “продвинутыми” учениками. Известно, что технология в этой всеобъемлющей историософеме рассматривается в качестве онтологической квинтэссенции способа производства, выступающим средством членения Всемирной Истории на общественно-экономические формации. Главным догматом этой социетальной историософемы является утверждение, согласно которому общества различаются между собой не тем что производят, а тем каким образом производят, т.е. господствующим в них способом производства. При таком сугубо объектном подходе к анализу человеческой экзистенции вся ее история предстает не иначе как перманентная смена способов производства, ретроспекцию самого новейшего и прогрессивного из них при желании всегда можно обнаружить в самых «ранних» и «примитивных» формах орудийного воздействия человека на внешний мир. Категория «способ производства» становится той ключевой метафизической фикцией, той «отмычкой», посредством которой вскрываются самые таинственные и непостижимые экзистенциальные феномены, окончательно снимается проблема человекой субъектности и вместо нее для историософского анализа подставляются так называемые объективные законы исторической необходимости. «Способы», «средства», «инструменты» производства становятся теми субъектами, которые помимо воли человека, осуществляют все без исключения базисные изменения в объективной реальности. При этом надстраивающиеся над подобного рода онтологическим базисом экзистенциальные формы оказываются несущественным моментом исторического самодвижения технологии. Так как ведущей стороной способа производства выступает отнюдь не человек, а применяемые им средства производства, и, еще уже – орудия труда, то именно исторически складывающаяся форма технологии и определяет сущность актуализированного способа производства, а посредством него и соответствующую форму общественно-экономической формации. Как мы видим, в этой историософеме обнаруживается целый редукционный каскад, причем последней редукцией является сведение всей онтологической многомерности сущего к орудийной активности, генезис который обнаруживается отнюдь не в субъекте, а в объекте. Именно это обстоятельство характеризует данную форму историцизма и в качестве объектного и в качестве бессубъектного, да это фиксируется и в самом его названии «материалистическое понимание истории» или более кратко «исторический материализм». И совсем не случайно, согласно этой историософеме, исторический процесс разворачивается не иначе как по своим собственным имманентным и объективным закономерностям, выступая всего лишь социальной разновидностью естественного процесса. Не случайно классиками марксизма процесс становления и мира и человека в мире рассматривался чаще всего обозначался понятием «естественно-исторический процесс». Однако, если сущность этого процесса составляет орудийная, инструментальная форма активности, то не лучше ли его обозначить в качестве «технолого-исторического процесса», ведь этот процесс прежде всего связан с перманентным снятием «естественного» и его замены «искусственным» в человеческой экзистенции? И, действительно, если строго следовать основным принципам материалистической историософемы, то не модифицируется ли со временем современное человечество (совокупность локальных культур) и так называемое открытое общество (совокупность локальных цивилизаций) в некую единую космополитическую общность, в которой мирожизненные процессы будут редуцированы к средствам, инструментам, орудиям рационального преобразования мира, совокупность которых и есть не что иное технология в ее самом широком онтологическом значении? Не случайно столь высокое значение в этой историософеме отводится преобразующей и интегрирующей функциям технологии. Отсюда становится вполне прозрачным важнейшее положение исторического материализма, о том, что «социальным революциям всегда предшествуют промышленные революции». Забегая вперед можно сказать, что данное утверждение характерно лишь для цивилизации, в которой технология составляет ее собственную подстилающую онтологическую структуру, для современной же «технологической цивилизации» характерен прямо противоположный вывод: «за технологической революцией всегда следует социальная контр-революция (очередная стадия общественной деградации)».
Мы уже выше высказывали свое несогласие с процедурой членения всемирной истории по какому-то одному «экзистенциальному комплексу», тем более по самому низшему из них каким является «технологический комплекс». При анализе онтологической доминанты современной эпохи историк не должен отодвигать на задний план образ целостной истории, в то же время он не должен упускать из виду и саму эту доминанту, а ею на стыке тысячелетий выступает техноген. В своей явной онтологической форме технология является самым поздним и низшим феноменом истории, а потому может быть использован в качестве единицы членения лишь новейшего этапа истории, так как он вполне иррелевантен процессу интенсивного присвоения человеком своих природных сущностных сил и их активного преобразования в искусственную среду обитания. Использование «технологии» в качестве способа членения всемирной истории должно быть, на наш взгляд, методологически соотнесенным с более универсальными концепцептами, позволяющие выделять более целостные и универсальные этапы истории, какими выступают «культ», «культура» и «цивилизация». Технология не может служить единицей членения всей метаисторической горизонтали, а лишь той части исторического процесса, что следует за самой технологией. Но так как за технологией следует хаос, то она может выступать, в основном, лишь мерой онтологической деструктивности обмирщвленной экзистенции. И все же технология имеет свою особую историю становления и этапы развертывания, в основном привязанные к метаисторическим этапам восхождения культа, культуры и цивилизации. На различных стадиях становления технологии, большая часть которых по сути своей надтехнологичны, складываются такие ее праформы, которые последовательно универсализируясь по всей метаисторической горизонтали в конце концов модифицируются единую телесную организацию Вселенной.
Технологию мы будем понимать предельно широко как некую онтологическую процессуальность, в которой объективируются как дискурсивные знания и рациональная техника, обусловленные перманентным преобразованием человеком своего овремененного и овнешненного существования в природно-техногенную среду обитания. Так как знания технологии до своего онтологического обособления неявно содержались в своих символических, ценностных и нормативных праформах, то представляется возможность выделения следующих исторические этапов (форм) развертывания технологического универсума: а) трансцендентная или культовая технология (символическая прототехнология); б) эвалюативная или культурная технология (ценностная прототехнология); в) прескриптивная или социальная технология (нормативная прототехнология; г) дескриптивная технология или собственно технология и д) квазидескриптивная технология или псевдотехнология. Таковыми, согласно субъектоцентристской методологии, оказываются метаисторические формы технологии, обладающие своей внутренней типологией, составляющая предметность уже не для историософской, а для собственно исторической рефлексии. Каждая из метаисторических форм технологии имеет свои особые экзистенциальные функции и онтологические статусы в перманентно расширяющемся многомерном и многоуровневом человеческом Бытии. Рассмотрим каждую из этих форм в отдельности.
Трансцендентная или культовая технология (символическая прототехнология). Длительное время, тем более на начальном этапе истории, телесно-технологическое в экзистенции не являлось самодовлеющей субстанцией, изначально оно было полностью соотнесено с жизнью человека в Духе. Да и в нашу сугубо технологизированную эпоху, высшие формы рационального дискурса все еще находятся по ту сторону технологии - в культе, культуре и цивилизации. Однако уже первичное развертывание трансцендентного Ничто в феноменальное Нечто сопровождалось процессом отелеснения мира, его относительной субстанциализацией.
В рамках единого креативного акта, акта творения первичных форм Сущего, один за другим возниками телесные праформы. Не случайно уже в рамках мифологического сознания наряду с мистикой, выступавшей системой трансцендентных знаний о Духе, складывается и магия, в качестве некоей совокупности способов воздействия на Тело, в целях достижения определенных целей по его целенаправленному преобразованию. Но так как на этом метаисторическом этапе телесная организация мира выступала овнешненной и обмирщвленной частью Духа, то магия тем самым воздействуя на телесную субстанцию пыталась изменить и ее духовный модус. Таким образом магия может рассматриваться в качестве первичной формы рационального дискурса, прародительницы науки и техники. « Наука родилась из магии. - пишет Н.А.Бердяев. - Знанию присущ характер овладения, мужественной активности. Современная техника есть современная магия, как первобытная магия была первобытной техникой. Но магия есть активность через объективацию, она предполагает отчуждение и овладение, она носит натуралистический характер. Этим она отличается от мистики, которая носит характер духовный»[688]. Если посредством мистики человек с Духом вступал в сокровенные отношения внутренней благо-дати, то магией пользовался, в основном, в целях одностороннего присвоения внешних благ, в натуральном виде содержавшихся во внешнем мире. Благо-дарение и благо-приобретение изначально различались между собой своей соотнесенностью к мистико-магической основе существования, в которой Дух и Тело составляли трансцендентное единство человеческого существа. Однако магическая технология как трансцедентная проекция человеческого тела на мир телесных сущностей еще не обладала своим имманентным объектным самоизмерением – рациональным дискурсом - в ней неявно присутствовали духовно-космологические мерки и масштабы.
Сакральная предопределенность первичной формы технологии вряд-ли вызывает сомнения, если подходить к ее истории субъектно. Основная цель технологии как магии, в основном, заключалась в монументальной фиксации сверхприродного в природном и лишь в качестве попутного процесса духовной самотрансценденции она выполняла функцию средства воспроизводства благ, необходимых и достаточных для поддержания человеческой витальности. Гармония души и тела основывалась на виртуальных способностях, а не иррациональных потребностях. Первичная технология выступала объективацией трансценденции, а потому способствовала воспроизведению сакральносоразмерного внешнего мира. В начальный период метаистории технология являлась магической инфраструктурой мистики, эпифеноменом неявного категорического императива - «телесность ради духовности» - которому непреклонно, хотя и неосознанно, следовал Микрокосм=Демиург. К неявной трансцендентной технологии можно отнести все то, что составляло сверхприродного в природе - трансрационально превращенные формы субъективного, составлявшие собой ментальную основу субстанциальных структур Неиного в Сущем. Не случайно метафизический персонализм наделяет ментальными свойствами все без исключения прафеномены сущего. Технологию как магию можно понимать в качестве перманентного процесса самосубстанциализации Культа, процесса первичного овнешнения внутреннего, отелеснения духовного. Она, если можно так выразиться, выступала средством расширенного воспроизводства элементов первичного мира, перманентно порождаемого креативностью Предсущего. Первичная технология являлась неким способом трансляции естественного во всеобщих духовных координатах, способом развертывания исходной живой монады в универсум форм жизни, в совокупный сакральносоразмерный организм, в котором, говоря сциентистским новоязом, био-технология призвана была служить подстилающей структурой процессу становления Человека в качестве Микрокосма. Сакральная форма технологии возникает на стыке теогонии и космогонии в качестве инструментальной функции креационистской активности Абсолюта. Между прателесностью, свернутой в Ничто и универсумом развернутых ее форм – телесной организацией Нечто сохранялся трансрациональный гомоморфизм. Технология как состояние первичной проявленности природных сущностных сил вполне гармонировала с неявной цивилизацией, неявно предсуществовавшей в культовой культуре. Ей изначально отводилась «инструментальная функция», обусловленная перманентным переводом неявной несубстанциальной телесности в телесность проявленную и субстанциальную, служившей «твердью» для Духа. Телесная Полнота Бытия Неиного - есть не что иное как Технология, достигшая своих предельных рациональных форм.
Итак, история технологии как универсума объективаций выступает составной частью метаистории Человека и первая ее праформа связана со всеобщей космодинамикой Абсолюта. Технология есть онтологическая форма познания, а познание - гносеологическая форма технологии и в этом их «чистом» соотношении они выступают феноменами новейшей истории. В прежние же времена это их соотношение вписывалось в более высокие и универсальные онтолого-гносеологические измерения. В рамках космического универсума, о котором идет речь, оно опосредовалось трансцендентным соотношением магии и мистики. Если мистика была первичной формой человеческого познания мира, то магия – первичной совокупностью средств технологического воздействия на мир. Лишь в новое время из мистики выделяется наука, а из магии – техника, которые соединяясь уже на дескриптивной основе, составляют основу объектной формы движения человеческой экзистенции, существо научно-технического прогресса. Однако в ветхозаветные времена пратехнология и пранаука в своем трансцендентальном синтезе выступали имманентным средством нисхождения Духа в Мир. Реликтом такого именно понимания сакральной функции науки и техники явилось учение Н.Ф.Федорова о воскресении предков, которое он называл общим делом. В отличие от других представителей русского космизма, отрицавших продуктивную функцию современных им науки и техники, именно в них он видел чуть ли не единственное средство реализации своего вселенского духовного проекта. Философема Н.Ф.Федорова интересна не столько утопическим проектом физического воскрешения прежних поколений и их расселения в космическом пространстве, а тем, что содержит в себе современную реконструкцию древнейшего понимания технологии в качестве совокупности магических действий, выявляет в ней конструктивную онтологическую функцию по отношению к духовной организации человеческой экзистенции.
Современная технология в своей магической прародительнице может обнаружить лишь свою изначальную принадлежность к сакральной креации, которую в ходе своего исторического развития, увы, утратила. «Даже если допустить, - пишет Тойнби, - что древняя техника предвосхитила появление машин, будучи изобретена в каком-то одном пространственно-временном отрезке, нам все равно не удастся построить диаграмму единого движения по прямой линии”[689]. Да, действительно, редуцировать современную технологию к древнейшей магии, это значит сводить низшее к высшему, рациональность к самотрансценденции. Магия не только содержала в себе зародыш современной технологии, но и была органически связана с культом, культовыми праформами культуры и цивилизации, т.е. входила в систему тех трансцендентальных связей с мирозданием, которые современная технология давно утратила. И все же именно на этом первоначальном этапе метаистории складывается первичная форма технологии.
Итак, трансцендентальная технология изначально выступала неким эпифеноменальным “средством”, “способом” всеобщего креативного процесса, позволявшим “магме Духа” затвердевать в форме первичных объективаций - субстанций, из которых на протяжении всей последующей истории человечества складывался и расширялся “внешний мир” как некая онтологическая производная от “внутреннего мира” Абсолютного и Бесконечного Субъекта. Лишь ближе к Концу Истории технология становится универсальным инструментом расширенного воспроизводства телесной организации мира, превращаясь из функций креативной активности Неиного в средство покорения мира Иным.
Эвалюативная или культурно опосредованная технология (ценностная прототехнология). Выделившаяся из культа культура содержала в себе уже совершенно иную праформу технологии, нежели та, которая была в культе. Ее основу составляли уже не трансцендентные, а эвалюативные знания, т.е. дескрипции, имманентно и неявно содержавшиеся в ценностных значениях. В пределах человеческого, родового универсума технология все еще продолжает оставаться эпифеноменом, побочным явлением вне- и над-технологической процессуальности, не имеющей своей особой онтологической самобытности и имманентности. Но здесь она уже выступает не производной от всеобщего креативного процесса самотрансцендирующегося астрального субъекта, а неявной составной частью культуро-творческого процесса, осуществляемого самоактуализирующимся антропным субъектом. Эвалюативная (ценностная) технология есть не что иное, как внешняя сторона культуро-творческого процесса, связанная с преобразованием внешней среды обитания антропного субъекта. «Специфически “технические ценности”, - писал Шелер, - также суть подлинные производные ценности. Среди них “полезное” представляет собой (подлинную) ценность, производную от самостоятельной ценности “приятного”. Но и более высокие ценности распадаются на самостоятельные и технические; для каждого вида высших ценностей также существует своя особая область технических ценностей»[690]. Хотя эвалюативная технология структурно принадлежит культуре, однако генетически она продолжает быть связанной с трансцендентальной технологией, выступает атропологически проявленной стороной вселенского креативного процесса.
Видимо, локальные культуры отличаются друг от друга не только ценностной модальностью, способом фиксации человеческого в человеке, но и способом инструментального воздействия на феноменальный мир человека, т.е. особым типом культуротворческой технологией. Не случайно культуру еще определяют как способ обработки естественных форм с целью придания им человекосоразмерных функций. Не это ли обстоятельство ввело в заблуждение Э.С.Маркаряна, когда он пытался редуцировать культуру к технологии, утверждая, что культура обладает технологической природой. Несомненно, что при таком подходе мы обнаруживаем не только редукцию культурного к технологическому, но и напоминание о том, что культура в известном смысле является более что ли технологичной нежели естественные природные комплексы, которые воспроизводятся трансцендентально, трансэвалюативно. Эвалюативная технология имманентна ценностям культуры, а не законам естественной необходимости, в ней содержатся проекции антропной формы телесности, а не телесности как чистой природной данности.
Эвалюативная технология позволяет формировать так называемую «вторую природу», «родовое именитство», в котором человек в состоянии актуализировать свой самопроект, воплощать потенции антропного Я в универсум ценностных объективаций. Эвалюативная технология вне общекультурного контекста не имела собственно дескриптивного предна-значения, она выступала “средством” фиксации в человеке сверхдескриптивного, сверхрационального начала в ценностной форме человеческой экзистенции. Эвалюативные знания способствовали человеку укореняться в мире ценностных феноменов, продуцируемых его же собственной культурой. В пределах культуры технология выступала всего лишь ее инструментальной инфраструктурой, позволявшей человеку активно осваивать, а затем и целенаправленно присваивать свои родовые сущностные силы. Эвалюативная технология есть не что иное как инструментальная сторона родовых сущностных сил, а потому оказывается своеобразным местом встречи окультуренного мира и мира, который еще предстоит культурации. Эвалюативная технология есть как бы "тело культуры" или совокупность ее субъективированных субъективаций нашедшая свое человекосоразмерное объектное воплощение. Эвалюативная технология формировала и развертывала в субъекте не собственно телесное, а сверхтелесное начало, подчиненное антропному принципу организации родовой экзистенции. Своими сверхдескриптивными значениями она фиксировала отношения между прателесными формами родовых половинок, позволяя им соединиться в единое общеродовое тело - человечество. Органически вписываясь своими инструментальными возможностями в совокупность способностей, технология служила важнейшим средством реализации человеком своего гуманистического самопроекта. Скорее всего здесь мы имеем дело с неким технологическим инвариантом гуманистического проекта, позволявшим телесносности обретать ценностную форму, а ценностному бытию - телесную выраженность. Если и следует употреблять не вполне корректное словосочетание «материальная культура», то лишь имея в виду то, что культуры в качестве сугубо духовного феномена, порождаемого самотрансценденцией обладает способностью содержать в себе неявную технологичность, позволяющую человеку ценностно самоактуализироваться в неценностных структурах сущего. Неявная эвалюативная технология выступает как бы внутренним «средством» самоактуализирующейся культуры, субъектом и объектом которой является родовой человек. Человеческая телесность на этапе онтологического восхождения культуры, являлась экзистенциальным средоточием эвалюативной технологии, в ней его родовые функции обретали свою систематическую повторяемость и транслируемость.
Эвалюативная форма технологии свою позитивную онтологическую функцию осуществляла лишь в качестве удвоенной экзистенциальной вложенности, она была телесной вложенностью неявной эвалюативной цивилизации, которая в свою очередь выступала вложенностью культуры. Это придавало дополнительную устойчивость существованию антропно-социального субъекта. Процессы рационализации человека и его телесности были подчинены приоритетности человеческого над социальным. Технология в качестве воплощенной формы ценностно означенной телесности способствовала развертыванию витальных потребностей человека в той мере, в какой они обеспечивали развитие родовых свойств человека, т.е. работали на развитие его виртуальных способностей. Одним словом технологические процессы, коррелируя с культуротворческими процессами, подчинялись общей идее человечности. В те гуманистически-гуманитарные времена, в век высокой культуры, технология не могла существовать и развиваться лишь как объективация чистой рациональной идеи, оторванной от идеи всестороннего и гармонического развития человека. Своей человекосоразмерностью эвалюативная технология позволяла человеку корректировать уровень своего инструментального присутствия в мире таким образом, чтобы не вызывать негативных онтологических последствий, ведь дом, который он обустраивал в том числе и техническими средствами предназначался для него самого.
Прескриптивная или социальная технология (нормативная прототехнология). Технология на прежних этапах своего развертывания соотносилась с культом и культурой опосредованно, в качестве «своего иного» неявных форм цивилизации, в них содержавшихся. С обособлением цивилизации технология становится весьма явным ее «онтологическим фундаментом», обретает свою ярко выраженную системность. Каждая локальная цивилизация обладает своей особой прексриптивной технологией, посредством которой реализуются основные социальные проекты и утопии. Если, согласно Шпенглеру, цивилизация есть неизбежная судьба культуры, то технология есть судьба самой цивилизации. Если культ и культура особо не зависили от степени развитости технологии, то цивлизация вынуждена была всемерно развивать технологию как главное средство своего прогрессивного развития.
Цивилизационно опосредованная праформа технологии является ее третьей неявной исторической формой. Выделившаяся из культуры цивилизация содержала в себе уже социосоразмерную технологию, основу которой составляли прескриптивные знания, т.е. знания неявно содержавшиеся в нормах долженствования, а потому ее целесообразно обозначать термином прескриптивная технология. На этапе онтологического восхождения цивилизации технология оказывается уже не производной от культуро-творческого процесса, а составной частью социальной процессуальности. На этом метаисторическом этапе прескриптивная технология не имела какого-либо самостоятельного значения вне социальной предопределенности. В основном она выступала “средством” поддержания социальных процессов и институций, их подстилающей инфраструктурой. Скорее всего прескриптивную технологию можно рассматривать в качестве разновидности социальной процессуальности, ее проекции на складывавшийся универсум объективаций внутри социальной формы экзистенции. Основной ее задачей являлось не столько производство чистых телесных сущностей, сколько воспрозводство так называемых «социальных вещей», «социальных тел», придававшим общественным отношениям необходимые субстанциальность и устойчивость. Любые технологические проекты в этой онтологической ситуации разрабатываются не иначе как под социальную идею, примером чему могут служить так называемые «великие стройки». Их социальная значимость порой существенно превышала собственно технологическую эффективность. Прескриптивные знания социально ориентированной технологии способствовали поддержанию органической встроенности инструментальных способов воздействия на внешнюю среду обитания в универсум социальных статусов. Нормативное измерение технологии позволяло удерживать ее в общем русле социальной процессуальности. На этапе метаисторического восхождения цивилизации технология была всего лишь ее онтологической инфраструктурой, если продолжить образную аналогию Сервера А. Эспиноза, общество было «душой», а технология «телом» цивилизации. Процессы социализации технологии и технологизации социума подчинялись единой цели – прогрессу цивилизации.
Прескриптивная технология выступает в качестве объективации той части социального процесса, который поддается рационализации. По сути своей технологические функции своим генезисом обязаны функциям социальным. Так к примеру, в снятом виде социальные функции всегда присутствуют в автоматизированных системах. Прескриптивные технология и техника есть не что иное, как кладбище изжитых, вытесненных цивилизацией социальных ролей, или их функционально-технологическое инобытие. Систематически низшие элементарнейшие формы социального поведения размываются и оседают в функциональных структурах чистой технологии. Социальная технология, рождающаяся в недрах социального взаимодействия в своей превращенной форме, становится собственно технологией, позиции в которой уже замещают не люди, а объективации природных процессов. В современном социальном мире человек постепенно вытесняется из деятельностного процесса и замещается информационно-технологическими системами. Грядущая информационно-технологическая цивилизация непременно втянет в онтологию автоматизированных систем огромное количество окончательно объективировавшихся социальных функций человека. Таким образом на этапе онтологического восхождения цивилизации, технология представляет собой некую систему онтологических снятий с общей структуры ее социальных функций.
В предельно широком смысле технологический процесс, оставаясь экзистенциальной производной от процесса объективации социального, есть процесс перманентного развертывания телесного в социальном и социального в телесном. Однако и здесь технология все еще остается эпифеноменом внетехнологической процессуальности. Но именно в рамках социального универсума технология впервые обретает необходимые системные признаки и свойства, дающие ей возможность при благоприятных метаисторических условиях полностью обособиться в качестве относительно целостной и универсальной системы, то есть превратиться в особый онтологический универсум.
Дескриптивная технология или собственно технология. Порождающим началом дескриптивной технологии, основу которой составляют законы необходимости, объектная детерминация, выступает прескриптивная цивилизация. В метаисторическом плане цивилизация по отношению к технологии столь же первична, сколь сама является вторичной по отношению к культуре. Имплицитно содержавшаяся в Цивилизации «прескриптивная» или «нормативная» технология является предтечей собственно «технологии» со своим отличным от нее онтологическим статусом – статусом универсума искусственных объективаций. Дескриптивная технология генетически восходит к прескриптивной, еще выше – к эвалюативной, а через нее и к трансцендентной технологии, которые в своей совокупности составляют последовательный ряд овнешненных форм человеческой телесности. Дескриптивную технологию необходимо рассматривать в качестве рациональной объективации прескриптивной технологии. Однако ее автономия могла быть обеспечена лишь ее органической связью с прескриптивной технологией, так как вне социального долженствования технологизм не имеет субъектной мотивированности, а потому весьма нежизнеспособен. «Этот центр человеческих актов опредмечивания мира, своего тела и своей Psyche, - писал Шелер, - не может быть сам “частью” именно этого мира, то есть не может иметь никакого определенного “где” и “когда” - он может находиться только в самом высшем основании бытия. Таким образом, человек - это существо, превосходящее само себя и мир»[691]. Производный характер дескриптивной технологии состоит в том, что она синтезирует собой не всю совокупность телесных функций, а лишь те из них, которые поддаются рационализации, а потому не может быть самодостаточной, каким является любой биологический организм в его органической встроенности в природную экологию.
Технология в рамках цивилизации развивается еще не на своей имманентной дескриптивной основе, она несет на себе печать «нормативной категоричности», к тому же вынуждена считаться и с физическими возможностями социальных субъектов, ею управляюющие. Более того, связь между цивилизацией и технологией в этой метаисторической ситуации является скорее функциональной, нежели экзистенциальной. Скорее всего технология в своем развитии зависела от уровня развитости цивилизации, которая в критические моменты своего существования могла функционировать и даже развиваться при минимуме технологической оснащенности. “Обзор ряда фактов и ситуаций, - пишет Тойнби, - выявит с неизбежностью случаи, когда техника совершенствовалась, а цивилизации при этом оставались статичными или даже приходили в упадок; будут и примеры противоположного свойства, когда техника не развивалась, а цивилизация между тем была весьма динамичной”[692]. Технология превращается в особый универсум объективированных связей, становится экзистенциально самодостаточной и функционально независящей от цивилизации как только начинает развиваться на своей собственной основе, на основе дескриптивного дискурса.
Если трансцендентная технология синтезировала неявные трансцендентные дескрипции и, в основном, в виде мистико-магических знаний и действий, эвалюативная технология – ценностно опосредованные дескриптивные структуры овнешненной телесности, а прескриптивная технология представляла собой нормативно заданное тело социума, то дескриптивная технология развертывает свои потенции на своем собственном дискурсивном основании, а потому может рассматриваться в качестве объективации дескриптивных знаний являющихся гносеологическим инвариантом законов необходимости. Причем не просто законов необходимости, а тех из них, которые сложились под воздействием человеческой экзистенции на естественную телесность, результатом чего и явились законы существования искусственных комплексов – законы, которыми человеческим Рацио естественная телесность была атрибутирована. Технология есть не что иное как Природа, подчинившаяся рациональному дискурсу, а технологические процессы – суть рационализированные естественные процессы. В онтологическом плане обособившаяся от цивилизации технология есть в некотором роде «удвоенная телесность».
Если социальный субъект в своей деятельностной активности вполне обходился неявными прескриптивными знаниями, то социально-телесный субъект уже не мог существовать без разветвленной системы дескриптивных, научных знаний, позволяющие распространять деятельность за пределы собственно социальных функций. Сложнопостроенная экзистенция социально-телесного субъекта требовала существенного расширения объема дескриптивных значений, за счет включения в них собственно научных знаний, вытекающих не из социальной предзаданности, а из ее имманентной логики деятельности. Если за «автономной культурой» была предтечей «автономной цивилизации», то за последней должна была последовать «автономная технология».
Устойчивость технологических процессов обеспечивается их перманентной энергетической подпиткой со стороны процессов естественных, в конечном счете они зависят от того положительного баланса, который человек в состоянии поддерживать между естественной и искусственной природой и не иначе как энергетически насыщенными интенциями своего духа, которыми эманируют первоначала сущего. «Внутренний мир» человека должен быть настроен таким образом на отелесненный внешний его мир, чтобы тот продолжал оставаться некоей онтологической целостностью даже в условиях массированной его рационализации. Лишь при условии, если рациональное в технологии находится под благотворным воздействием трансрационального в человеческой субъективности, возникающие искусственные системы будут проявлять минимум онтологической репрессивности.
Далее развертывая метафору о любви мужчины к женщине, применительно к генезису технологии, можно утверждать, что последнюю мужчины выдумали для того, чтобы ставшая уж совсем земной Ева могла испытать иллюзию «райской жизни», чтобы любые ее желания могли автоматически восполняться благами вещественного мира, которые технология призвана репродуцировать. Конечно же это отнюдь не та благо-дать, которая разлита по всему духовному раю, а всего лишь «рог изобилия», однако современного человека он вполне устраивает. В смысловом контексте этой метафоры рациональная технологичность вполне может рассматриваться как унифицированная цивильность, в которой мужское и женское начала сливаются в некую единую ментальную Субстанцию или субстанциальную Ментальность, способную ощущать «райскую жизнь» в мире овеществленных сущностей, которые есть всего лишь их собственные овеществленные чувства друг к другу. Телесные субъекты настолько эмансипируются друг от друга, что оказываются ментально неразличимыми сущностями единого техносоразмерной жизнедеятельностности.
Технология как овнешненная человеческая телесность становится основой для формирования универсума объективаций. Именно в этом своем качестве она в дальнейшем модифицируется в развернутую систему объектно-объектных отношений, объективированной формой человеческой телесности, отчужденной от иерархического человека в пользу искусственного мира, в котором человек в состоянии присутствовать лишь в качестве элемента рационализированной биомассы. В автономной технологии все телесные формы возникают и функционируют в качестве самодостаточных феноменов, вне их отношений к Социуму, Человеку и Богу. Если культура по Шпенглеру рождается из прадушевного состояния младенческого человечества, а цивилизация есть проявления наступления вполне взрослого состояния, то технология – свидетельство его довольно преклонного возраста.
На первых порах отношения между прескриптивной и дескриптивной технологиями складывались вполне толерантные. Возникая в качестве производной от прескриптивной технологии, технология дескриптивная производила мир вещественных сущностей лишь на континууме объектно-объектных отношений, отношений между телесными субъектами, особо не вмешиваясь в воспроизводство социальных субъектно-объектных отношений. Между четырьмя метаисторическими формами технологии могло и не быть антагонистических противоречий, если бы неявные ее формы продолжали содержаться в Культе, Культуре и Цивилизации несмотря на относительное обособление дескриптивной технологии. Их органический синтез давал бы возможность иерархическому человеку осуществлять одновременное присутствие во всех без исключения онтологических формах телесности. Своими четырьмя онтологическими формами технология представляла представляла бы систему «сообщающихся сосудов» единого, хотя и иерархизированного Тела. Несмотря на рациональное разделение технологических фукций человека, он продолжал бы иметь возможность сохранять за собой социальные функции, быть как и прежде субъектом культуротворческого и креативного процесса, что несомненно придавало бы его многомерной телесности как овнутренной, так и овнешненной необходимую онтологическую стабильность. Ведь задача технологии изначально состояла в создании условий, при которых дух в состоянии был бы развертывать и актуализировать всю совокупность своих трансцендентных потенциальностей. Однако внутренний антагонизм между различными формами технологии оказался существенным образом обусловлен перманентным отпадением экзистенциальных комплексов друг от друга, в которых они были представлены своими праструктурами. Практика «снятий» и «преодолений» прошлых технологических комплексов, в конечном счете вела к радикальному «преодолению» неявных форм телесной субъективности, к нигилистическому отношению к технологическому опыту прошлых поколений, а вместе с ним и к их социо-культурному и культовому опыту. Основная причина раскола между четырьмя формами технологии лежит в смене одних дискурсов другими все более рациональными, последовательно отвергающих трансцендентальные, ценностные и нормативные интенции человека. Унификация и стандартизация совокупного технологического опыта становятся главными критериями рациональности при создании новейших технологических комплексов. Двойственная форма существования социально-телесного субъекта оказавшись интегрированной в мир дескриптивных объективаций не могла не привести к абсолютизации телесного и релятивизации социального в иерархическом человеке, к тому же утратившему свою антропность и астральность.
Квазидескриптивная технология или псевдотехнология. Чистую технологию можно рассматривать в качестве онтологического феномена, возникающего в перманентном процессе объективации объективного. Дескриптивная технология в состоянии функционировать лишь там и тогда, где и когда, субъективности объективируют друг друга и соотносятся как взаимообусловленные самообъективации, т.е. своими рационально превращенными телесными функциями. На достаточно продвинутом этапе онтологического восхождения технологии результатом такой объектной интеракции индивидов становится их взаимоовеществление. Субъекты все более модифицируются в Оно, а производимые ими Оно-подобные вещи в элементы псевдосубъективной реальности. «Вещи, - писал В.Б.Шкловский, - переродили человека, машины особенно, человек умеет сейчас только их заводить, а там они идут дальше сами. Идут, идут и давят человека»[693]. Реальность становится все более иллюзорной, а Иллюзия все более реифицируется под реальность. В этой предельно объективированной ситуации телесные субъекты в состоянии перманентно интегрироваться в единую для них телесную Технологию или технологическое Тело, которое все еще по традиции продолжают называть объективной Реальностью (точнее – реальность Объекта) лишь посредством взаимной объективации.
Процесс объективации объективного, перерастая свои рациональные рамки, превращаясь в квазиобъективацию объективного, порождает сверхтехнологию или квазитехнологию. Такой резкий переход технологии к своей гипертрофированной форме объясняется прежде всего тем, что она была порождена столь же гипертрофированной цивилизацией, в которой социальные процессы развертывались не иначе как в оппозиции всему подлинно человеческому в экзистенции. Развитие в форме от-падения не может не влечь за собой гипертрофию того, что отпадает от порождающего, что перестает быть органическим членом единого гармонического ряда. Основным «субъектом» социальной революции, в основном было «социальное-Иное», а потому ее правоприемница - научно-техническая революция – не могло не быть исполнительницей воли «технологического-Иного», т.е. всего того в объективной реальности, что составляло ее вульгарную переполненность от последствий квазиобъективации субъективного, всего того в сущем, что превышало меру онтологической полноты цивилизации, что репрессивно противостояло «социальному-Неиному». Онтологически ложная и репрессивная цивилизация могла разродиться столь же ущербной технологией, чей уровень экзистенциальной ложности и репрессивности несомненно должен был многократно ее превышать. Такое понимание причин генетической ущербности техногена вполне коррелирует с законом прибавочной репрессивности, действующим в этом падшем мире.
Технология явилась следствием дифференциации и разложения цивилизации, как та в свое время закрепилась в сущем не иначе как на развалинах культуры. Автономная технология есть внутренняя трагедия цивилизации, лишившаяся своего собственного онтологического основания. Основание конституировав себя в качестве псевдоцелостности, превратилось в автономию уничтожающую все иные надтехнологические экзистенциальные автономии. Такое повторяется каждый раз, как только низшая онтология автономизируется от высшей, если та на момент автономизации от нее сама автономно существовала от породившей ее еще более высшей онтологии. Процесс перманентной автономизации и есть последовательный ряд самоотчуждений=самоотречений субъекта, последовательный ряд все более тоталитарного присутствия Иного в Сущем. «Первородный грех, - писал Паскаль, - есть безумие в глазах людей… Но это безумие мудрее всей мудрости человеческой, потому что безумное слово Божие мудрее человеков (1 Кор 1, 25). Ибо без этого учения как определить, что такое человек? Все его состояние зависит от этой незаметной точки»[694]. Автономность и тоталитаризм две стороны одной медали имя которой онтологическое грехо-падение. И, напротив, гармоничный ряд составляют такие органические универсумы в которых находятся в нерасторжимом единстве иерархическая взаимообусловленность и тотальность. Пока цивилизация оставалась тотальной ей не могло быть никакой технологической альтернативы, но как только она превратилась в тоталитарный социальный комплекс она не могла не распасться изнутри, уступая свое место в онтологической иерархии своему иному – тоталитарной технологии.
Как только технология обретает свою автономию и независимость от высших онтологий, она начинает осуществлять массированную экспансию в их пределы с тем, чтобы принцип объектности, лежащий в основе ее экзистенциальной морфологии стал всеобщим. Первым объектом такой объектной модернизации становится породившая технологию цивилизация. Технология существенно сужает прескриптивное пространство значений цивилизации, придавая рациональные формы социальному опыту человека, тиражирует наиболе апробированные стереотипы поведения не нуждающиеся в индивидуальной проверке на истинность и ложность. Если цивилизация существенно сужает поле человеческих смыслов, то технология - сокращает поле социальных смыслов в человеческом самосознании. «В мире овещненных форм и структур - сил, отношений, институтов – писал Г.С.Батищев, - мы имеем дело с нечеловеческой и внечеловеческой действительностью, хотя социальной. Здесь производительная сила - сама по себе, в качестве социальной вещи, есть сила»[695]. В ходе последовательной технологизации социальных процессов она насильственно модифицируется в противоестественную дескриптивную цивилизацию, т.е. в цивилизацию, в которой социальный принцип организации замещен технократическим принципом.
В новейшей истории цивилизации, которая по мнению Н.Бердяева всегда всегда была секуляризированной, наивно-реалистической, корыстной и одержимой волей к жизненному могуществу и благополучию, она превращается в технологию которая эти ее идеалы реализует более последовательно и радикально. «Технология, - считает Маркузе, - служит установлению новых, более действенных и более приятных форм социального контроля и социального сплачивания»[696]. Но именно эта радикализация общественной жизни в конце концов и приводит к ее самоуничтожению, ведь распадается сам социальный субъект – основной субъект цивилизационных процессов. Цивилизация бессильна бороться с возрастающей мощью технологии, и предпочитает приспосабливаясь к новым условиям своего функционирования объявлять себя то «машинной цивилизацией», то «информационной цивилизацией». Однако не надо слишком уж обольщаться этими неологизмами, в этих словосочетаниях цивилизация отнюдь не может занимать место подлежащего, реально она является прилагательным другого подлежащего и, видимо, уже в недалеком времени эти нео-логизмы все же обретут свои истинные логические формулы, цивилизация будет поставлена «на свое место» и отнюдь не грамматикой, а суровой реальностью. Будет поставлена на то место, с которого ей легче будет обслуживать технологию. “Несоответствие между прогрессом в технике и ростом цивилизации – писал Тойнби, - очевидно в тех случаях, когда техника развивалась, а рост цивилизации прекращался и начиналась стагнация”[697]. Постиндустриальное общество – это социально оформленная общность технологий, а не технологически обеспеченная общность социумов. Рационально-дескриптивное присутствие человека в универсуме технологических объективаций становится более приоритетной нежели его нормативное присутствие в общественной жизни. Если прежде Технология развертывала свои рациональные структуры не иначе как из духовных глубин Культа, Культуры и Цивилизации, то в ситуации перманентной научно-технической революции она самопроизвольно разворачивает их за пределами человеческой соразмерности, придавая экзистенции рацио-технологическую соразмерность. По мере того как цивилизация клонится к закату, технология все более наращивает свою мощь, сделав свой рывок, именуемый научно-технической революцией, она настолько локализовала цивилизационные процессы, что почти полностью вытеснила из самосознания людей идею социальной революция. «Социо-технологические процессы», становятся все менее социальными и все более технологическими.
Человек технологической «цивилизации» склонен добровольно подчиняться своему собственному злому духу - Рацио, так как не может устоять от его телесных прельщений и утех. Лев Шестов, подчеркивал, что грехопадение длительное время понимали как неповиновение Богу, как увлечение плотским соблазном, но никто не мог и не хотел допустить, что корень греха в рациональном познании, которое есть самое страшное и пагубное падение, какое только может себе вообразить человек. Грех не в бытии, не в том, что вышло из рук Творца, грех, порок, недостаток в нашем "знании", которое расплющило, раздавило сознание, вбив его в плоскость ограниченных возможностей, которыми теперь определяется и земная, и вечная судьба человека[698]. На этапе перехода от Цивилизации к Технологии человек начинает безоговорочно верить любой лжи, лишь бы она коррелировала с его изощренными наслаждениями, ведь рациональное Ничтожество находится не где-то за пределами Самости, а составляет собой его собственное псевдорациональное Я. Проанализировав труды современных западных историков, Тойнби пришел к заключению, что их мировоззрение находится в плену “индустриализма” и “демократии” – двух главных институтов, которые западный мир выработал в предыдущей главе своей истории, ответив этим на вызовы своего времени. Наблюдается тенденция рассматривать историю всех обществ и всех эпох под углом зрения демократии и индустриализма. Подобный подход к познанию истории, подчеркивает Тойнби, представляется ложным, причем касается это не только исследования других эпох и цивилизаций, но и истории современного общества на ранних его этапах. Многообразию опыта различных цивилизаций, считает Тойнби, должно соответствовать многообразие мировоззрений[699]. Однако мировоззрение сформированное в рамках технологической цивилизации пытается представить иные, дотехнологические мировоззрения лишь ступеньками восхождения к абсолютной истине, которой оно овладело.
На наших глазах технология окончательно расправляется с так называемыми неэффективными «локальными цивилизациями», заставляя их «раскрыться» для обмена людьми, идеями, товарами и услугами с тем, чтобы создать единый рынок, на котором должна господствовать лишь одна космополитическая идея, являющаяся квинтэссенцией объективного прогресса. «Перед наукой, являющейся гордостью Запада и его непреодолимой силой, - пишет Арон, - оплоты древних цивилизаций Дальнего Востока рухнули, и едва не закончившаяся во время войны машинная цивилизация совершила победоносное шествие по планете. Но Запад, с тех пор, как он больше не уверен в том, что наука рождает мудрость, и игнорирует то, что сам может стать в свою очередь жертвой своих творений, задается вопросом: предпочитает ли он то, что привносит, тому, что разрушает? Он скорбит о прелестях индивидуальных жизней, которые душит шум машин, покрывает дым доменных печей»[700]. Самым излюбленным понятием рационального социологизма является так называемое «рыночное общество» или «открытое общество», открытое, естественно для проникновения в него прежде всего технологических комплексов, замещающих собой самобытных богов, культуры и социальный опыт этнических сообществ, находящихся на дотехнологической стадии своего «развития».
Идеология «открытого общества» есть не что иное как скрытый проект тотального упорядочения уникальных культур и цивилизаций под приоритеты развития всемирного технологического комплекса, информационная сердцевина которого уже создана – интернет. Идеология «открытого общества» – это идеология ненасильственного уничтожения всего того во всемирном человеческом сообществе, что мешает технологии достичь своих предельных тоталитарных форм. И никто не противится этой идеологии, так как она скрывается под маской демократических преобразований. «В развитой индустриальной цивилизации царит, - писал Г.Маркузе, - комфортабельная, покойная, умеренная, демократическая несвобода, свидетельство технического прогресса»[701]. Идеи демократии удивительнейшим образом коррелируют с идеей технологического прогресса, так как обе они имеют в виду не развитие креативных способностей иерархического человека, а всего лишь насыщение потребностей онтологически сломленного индивида масс. Потребность в технологии, способной восполнять любые желания человека свидетельствует об утрате им своих креативных, виртуальных способностей, которые в состоянии развертываться при минимуме потребностей в ресурсном освоении внешнего мира. Социальная технология навязывает современному человеку, а тот его с особым вожделением принимает удивительно синхронизированные с потребностью интенсивного развития техногена стереотипные формы потребления и поведения. Технология обременена ростом витальных потребностей и падением способностей человека к самотрансценденции, к самопостроению. В этом то и заключается основная причина столь интенсивного развития технологических процессов и столь стремительная деградация процессов цивилизационных. Маркузе считает, что индустриальное общество как технологический универсум есть последняя стадия реализации специфического исторического проекта - а именно, переживания, преобразования и организации природы как материала для господства. По мере своего развертывания этот проект формирует весь универсум дискурса и действия. Культура, политика и экономика при посредстве технологии сливаются в вездесущую систему, поглощающую или отталкивающую все альтернативы, а присущий этой системе потенциал производительности и роста стабилизирует общество и удерживает технический прогресс в рамках господства. Технологическая рациональность становится политической рациональностью[702]. Основу социальной политики начинает составлять технологическая политика, приоритетность технологического над социальным становится доминирующим принципом построения и функционирования открытого общества.
Начинает складывается новый тип субглобального техноморфного социального организма - “общество-автомат”, в котором воля социального субъекта оказывается полностью замещенной своеволием техногена и его репрезентанта - телесного субъекта. Видимо, не случайно богиня своеволия в древне-римской мифологии называлась “Automatia”. Создатель кибернетики Н.Винер предостерегал от подмены исторически складывающейся системы социального управления системой автоматизированной. “Управляющая машина, - писал он, - страшна не потому, что она может достичь автоматического управления человечеством. Она слишком груба и несовершенна, чтобы представить одну тысячную часть целенаправленного движения независимого поведения человеческого существа. Но реальная опасность, которую она может вызвать, состоит в том, что подобные машины, хотя и безвредны сами по себе, могут быть использованы человеком или группой людей для усиления своего господства над остальной человеческой расой, или в том, что политические лидеры могут попытаться управлять своим народом посредством не самих машин, а посредством политической техники, столь узкой и индифферентной к человеческим возможностям, как если бы эта техника действительно вырабатывалась механически”.[703] Общественные, цивилизационные процессы превращаются в поточную линию единой техно-социальной автоматизированной системы.
Следующим объектом онтологической экспансии технологии является культура. «Когда техника становится универсальной формой материального производства, - писал Г.Маркузе, - она определяет границы культуры в целом; она задает проект исторического целого - “мира”»[704]. Культуротворческие процессы начинают уподобляться технологическим, начинает складываться дескриптивная культура, т.е. культура, ценности которой становятся разновидностью дескриптивных значений, а гармония при этом оказывается вполне поверяемой алгеброй. «Ценностные аксиомы, - писал Шелер, - совершенно независимы от логических аксиом и ни в малейшей степени не представляют собой простые “применения” последних к ценностям. Наряду с чистой логикой существует и чистое учение о ценностях»[705]. Ценностная культура умирает еще в цивилизации, а то что от нее остается превращается в нормативную псевдокультуру или массовую культуру. С момента онтологического восхождения технологии эта социально превращенная форма культуры модернизируется в рационально превратную форму. Массовая культура цивилизации модифицируется в культуру информационно-технологическую. «Рациональные ценности» этой недокультуры становятся особым товаром, способным придавать процессу наслаждения иллюзию приобщения к сфере высокого и возвышенного. Дескриптивная недокультура формируется рациональным дискурсом под приоритеты функционирования всеобщей информационной системы, ее назначение заключается в том, чтобы интегрировать в некое подобие человеческого сообщества вожделеющих индивидов, соединять разнообразные телесные формы в человекоподобную телесность. «Культура, - пишет Теодор Лессинг, - постепенно превращающая все вулканические душевные страсти в песок сухого, трезвого знания, дробя на мельницах учености образы фантазии и грез, может, пожалуй, прибавить человеку знания за счет того, что он утратил в жизни, ибо знание жизни - лишь прошлая, убитая жизнь, и ученость охраняет трупы наших опытов, для которых затем искусство сооружает саркофаги. Всякая форма убивает, всякое знание связывает!»[706]. В конце концов телесный субъект, взращенный средствами массовой коммуникации, окончательно утрачивает способность не только созидать, но и «потреблять» ценности культуры. Культура по нашему определению есть процесс ценностного означивания человеческого в человеке, что же может человеческого фиксировать телесный субъект, радикально преодолевший в своей экзистенции человечность?
Наконец, технология пытается заменить субъектную трансценденцию объектной рационализацией и тем самым превратиться во всеобъемлющий культ. Как считает Хюбнер, сегодня для большинства людей выступать против рациональности и прогресса означает почти то же самое, что раньше – выступать против божественного миропорядка. Современное человечество, будучи индустриализированным, в значительной мере выводит свое самосознание из форм и идей, порожденных наукой и техникой. «Либеральный протестантизм, - пишет Пауль Тиллих, - приспособил Бога Библии к “миру Оно” современной технической цивилизации»[707]. В рамках квазирационального дискурса о технологии начинает складываться и функционировать дескриптивный культ, в семантическом плане представляющий собой совокупность ложных "дескриптивных символов". Дескриптивные символы лежат в основе процесса рациональной мифологизации властных отношений исходящих из «волющей телесности». Сакрализуется и фетишизируется лишь то, что чревато новыми источниками наслаждений. Из сферы самосознания почти полностью вытесняется сфера трансцендентного и непознаваемого. Полагается, что непознаваемых вещей в мире нет и быть не может, а есть только вещи непознанные, которые со временем будут открыты и присвоены. ««Заранее знающие», - пишет Ф.И.Гиренок, - мы не нуждаемся в тех состояниях, в которых люди когда-то говорили с богом. У нас нет видений, но у нас есть привидения, т.е. самодостаточные мысли проективного сознания»[708]. Действительно о каком «научном незнании» (Николай Кузанский) может идти речь, если из сущего почти окончательно вытеснена гармония и в нем господствует порядок установленный самим гносеологическим субъектом. Ведь то, что составляет основу существования телесного субъекта им же самим предварительно гносеологически спроектировано и онтологически перевоссоздано.
Культ технологии и науки в снятом виде содержит все прежние ложные культы и превращается таким образом в веру в Абсолютное Иное. Богом рациомассы вместо трансцендентного Ничто становится феноменальное Ничтожество. Существование и Сущность меняются местами, второе начинает предварять первое, из ничтожнейшей сути весьма релятивной онтологии начинает развертываться предельно репрессивная форма экзистенции, атрибутируемая Рацио в качестве и сакральной и абсолютной. Происходит кардинальная смена вех в конституировании первоначал Всемирной Истории, они осознаются не как следствие акта креации Бесконечного Субъекта, а как некая точка бифуркации, положившая начало автоэволюции Бесконечного Объекта.
Итак, с образованием автономного универсума объектно-объектных отношений начинается телесный этап в развертывании всеобщего метаисторического процесса, на котором уже не Культу, Культуре и Цивилизации а именно Технологии принадлежит особая экзистенциальная миссия. Именно с эпохи обособления и восхождения Технологии Всемирная История человеческим самосознанием все более начинает отождествляться с историей научно-технического прогресса. Технология становится онтологическим центром, из которого развертываются рационально преобразованные природные сущностные силы, а затем свертываются в универсум объективаций – искусственный мир. Именно это немаловажное обстоятельство лежит в основании наблюдаемой редукции человеческой истории к истории технологии. Технология остро “нуждается” в своей историцистской глобализации и находит в среде ученых своих правоверных историографов, изображающих динамику мира не иначе как процесс автоэволюции объекта. В центре исторического процесса оказывается не целостный и универсальный человек, а всего лишь субъективированная телесность или отелесненная субъективность. Причем под субъектом истории все чаще понимается отнюдь не собственно человеческая телесность, а телесность вне- и сверх-человеческая – всеобщая телесная (материальная) структура мира, которая лишь на завершающем этапе своей автоэволюции порождает человека в качестве персонифицированной формы объективной телесности. Всемирной Историей оказывается перманентный процесс объективации объективного и формирование на его основе телесной организации мира, в которую человек эволюцией забрасывается, а потому он не может не ощущать и остро переживать своей экзистенциальной заброшенности. «Не «история ментальностей», - пишет Фуко, - которая брала бы в расчет тела только с точки зрения того способа, которым они были восприняты или были наделены смыслом и значимостью, но «история тел» и того способа, каким были сделаны вклады в то, что есть в них наиболее материального и живого»[709]. Технология становится основным объектом современных исторических исследований, “технологический комплекс”, а не комплекс цивилизационный или культурный занимает в настоящее время лучшие научные умы. Однако столь чрезвычайное внимание к технологии свидетельствует лишь об окончательной утрате человеком своей экзистенциальной аутентичности. Если культурный дуализм возник в недрах Духа, а цивилизованный дуализм – в недрах культуры, то телесно-технологический дуализм – в самой сердцевине цивилизации на этапе ее «промышленного развития». Телесный субъект перед лицом телесно-технологического дуализма оказался избыточным для новой квазионтологии, в которой действуют не люди, а отчужденные от них тела.
Мы рассмотрели основные онтологические формы технологии. В своих неявных трансцендентальной, эвалюативной и прескриптивной и явной дескриптивной формах технология выступает важнейшей составной частью космических, родовых, социальных и природных сущностных сил, является конструктивным средством развертывания человеческих потенциальностей и их актуализации в телесных, вещественных структурах внешнего мира. Здесь она занимает свое адекватное и имманентное место в многоуровневой человеческой экзистенции, выполняя в ней сугубо положительные онтологические функции, связанные с последовательным укоренением человека в его перманентно расширяющемся и изменяющемся внешнем мире. Однако за пределами этой «нотологической нормали» по отношению к многомерной человеческой экзистенции предстает, в основном, как деструктивная процессуальность, последовательно и неуклонно разрушающая веками складывавшуюся гармонию во взаимоотношениях между внутренним и внешним мирами, гипертрофированно развивающая универсум объективаций за счет окончательной деградации субъектных начал в экзистенции.
Конечно же, в реальной человеческой истории в чистом виде не воплощается ни одна из онтологических форм, выявленных нами в теоретическом анализе. Реальный, эмпирически наблюдаемый технологический процесс есть, видимо, реализация некоего их синтеза, причем модельные соотношения в нем изменяются от эпохи к эпохе в зависимости от уровня осознания человечеством своей истинной метаисторической Миссии и применяемых исторически обусловленных средств самонасилия. Современная историческая эпоха характеризуется сложным синтезом форм человеческого бытия, в структуре которого при тщательном методологическом анализе в тех или иных экзистенциальных пропорциях можно обнаружить проанализированные нами выше как истинные, так и ложные онтологические формы культа, культуры, цивилизации и технологии. Пока что технология еще не окончательно вышла из-под контроля человека. Но может ли случиться,- задается вопросом Карл Ясперс, что техника, оторвавшись от смысла человеческой жизни, превратится в средство неистового безумия нелюдей и тогда весь земной шар вместе со всеми людьми станет единой гигантской фабрикой, муравейником, который уже в нашу эпоху все поглотил и теперь, производя и уничтожая, остается в этом вечном круговороте пустым циклом сменяющих друг друга, лишенных всякого содержания событий? Карл Ясперс сомневается в такой экзистенциальной безысходности - рассудок может конструировать такую возможность, однако сознание нашей человеческой сущности будет вечно твердить: в целом это невозможно.[710] Это оптимистическое утверждение разделяет и Г.С.Батищев, полагая, что “человек не способен, пока он все еще человек, превратиться весь целиком в объект-вещь, он может лишь притвориться вещью, лишь облачиться в роль и маску объектно-вещного бытия.” [711] Можно согласиться с таким обнадеживающим прогнозом, но с одной лишь поправкой: научно-техническая революция должна перестать обслуживать универсум объективаций, а стать подстилающей структурой для грядущей революции Духа, иначе Апокалипсис неизбежен.
5.3. Социальная катастрофа
|
|
Когда мы достигнем неизбежного всеобщего экономического правления на Земле, человечество, подобно машине, сможет найти свое предназначение в служение этому чудовищному механизму в качестве все более мелких деталей, приспособленных к Целому. Ф.Ницше. Воля к власти.
|
Процесс нисхождения Абсолюта завершается возникновением технологического универсума, который по «высшему замыслу» призван гармонизировать систему самообъективаций Духа. Однако своим отпадением от более высших универсумов, повсеместно устанавливаемым рациональным порядком технология начинает активно противостоять предустановленной гармонии. Лишь тотальный порядок во Вселенной в состоянии обеспечивать сверхинтенсивное развертывание универсума объективаций, а потому гармонии, которая поддерживает целостность иерархического бытия и препятствует его упорядочению под приоритеты развития низших онтологий более нет места в человеческой экзистенции. «В движении жизни, - писал Тойнби, - перемена в любой части целого должна сопровождаться соответствующими сдвигами в других частях, если все идет хорошо. Однако когда жизнь механизируется, одна часть может измениться, не повлияв при этом на другие. В результате – утрата гармонии. В любом целом нарушении гармонии между составными частями оплачивается потерей самодетерминации целого”[712]. Противостояние Гармонии и Порядка, Неиного и Иного в Сущем на этапе онтологического восхождения технологии достигает предельного уровня.
Антагонизм между технологическим универсумом и универсумами надтехнологическими особо обостряется с достижением пика интенсивности новейшего временного потока – физической формы хроноса. Он захватывает своим «бешенным ритмом» все без исключения экзистенциальные процессы в сущем и весьма негативно воздействует на те из них, которые «не терпят суеты» и своей раз-меренностью соотносятся с менее интенсивными временными потоками, трансцендентно восходящими к покоящемуся Абсолюту или абсолютному Покою. Квазитехнологии имманентно в буквальном смысле слова «взбесившееся время» и предельно патологичная форма историцизма. Хронос начинает безжалостно пожирать все те формы бытия, которые обязаны своим существованием Кайросу.
История технологического универсума есть в то же время и история может быть самого радикального отпадения низшей онтологии от иерархической целостности бытия, так как в ее основе лежит окончательное отпадение Тела от Духа. История технологии прежде всего с весьма большим ускорением дивергирует от породившей ее социальной истории. Столь стремительное отталкивание технологии от цивилизации в целях придания своему движению необходимой реактивности, для цивилизации оборачивается перманентной деградацией, интенсивным ее вытеснением за пределы сущего. Технология не только не желает оставаться составной частью технологической цивилизации, но даже не желает быть цивилизованной технологией, ее в принципе не устраивает перспектива иметь дело с каким либо видом цивилизации, она стремится стать не только независимой, но и единственной формой бытия. Цивилизация как социальный универсумом отвергается даже в качестве эпифеномена универсума объективпций. Лишь решительно покончив с надтехнологическими формами бытия, как полагает его «тайный советник» Рацио, она в состоянии обеспечить себе «молниеносный прогресс», более не сдерживаемый весьма медлительными временными потоками тех онтологий, в которые субъект укоренен своими архаичными Я. Технология может быть эффективной на строительном пяточке, полностью очищенном от какого-либо экзистенциального хлама и, естественно, при его перманентном расширении до беспредельного мироздания. На гамлетовский риторический вопрос «Быть или не быть?» рациональный дискурс о технологии отвечает однозначно: «Бытию - не быть, Небытию – быть!», т.е. право на существование в новом технологически упорядоченном мире предоставляется лишь тем феноменам, которые лишены какой-либо субъектности, и которые полностью подчинены законам объективной необходимости.
Уже на начальном периоде своего онтологического восхождения технология предпринимает решительные шаги по рациональному упорядочению цивилизационных отношений в универсуме таким образом, чтобы более эффективно добиваться своих исторических целей и задач. Это ей довольно легко удается так как к тому времени цивилизация, став недочеловеческой и квазисоциальной онтологией, в основном исчерпала свои и чужие экзистенциальные ресурсы, а потому уже не могла активно противостоять экспансии технологии как «своему иному». Беспрекословным подчинением своему собственному детищу, она пыталась приостановить самораспад своего «социального тела» на дурную бесконечность объективаций, полагая, что опираясь на мощные технологическические силы она способна будет способна окончательно подавить «социальный бунт», «восстание масс». Как только цивилизация идеологически оформила приоритетность телесности над социальностью, она тем самым подписала себе смертный приговор. Согласившись выполнять роль социальной подстилающей структуры для технологического универсума, цивилизация оказалась онтологической производной от своего собственного в прошлом эпифеномена и перестала играть какую-либо существенную роль в определении хода и исхода человеческой истории. Она начинает системно зависеть от уровня развития науки и техники. Несомненно современная цивилизацией будет ввергнута в социальный хаос, если вместо перманетного повышения темпов развития технологии они начнут падать, что вполне вероятно в условиях нарастающего сырьевого кризиса. Вернуть цивилизацию в дотехнологическую, в прескриптивную фазу вряд-ли удастся, так как «человеческий материал» существенно утратил свою былую социабельность, а структура его потребностей в значительной мере определяется уже не иерархией социальных статусов, а содержимым «потребительской корзины», к которой подведена технологическая конвейерная линия. Современная цивилизация уже не только не «страдает» от технологической экспансии, а напротив в решительной степени зависит от темпов технологической колонизации социальных доминионов. «Экспансия, - пишет Тойнби, - распространяется с быстротой и размахом, присущим внутреннему порыву, который и является критерием… экспансия не только прекращается с остановкой роста, но и уступает обратному процессу, когда цивилизация распадается”[713]. Со свертыванием социальной экспансии в высшие онтологические слои человеческой экзистенции, возникает еще более массированная технологическая экспансия, которая избирает в качестве плацдарма для покорения мира повергнутую в прах цивилизацию.
Антагонизм между технологией и цивилизацией, давно ставшим перманентным лишь на непродолжительное время сглаживается посредством хирургических технологических операций, в результате которых отсекаются те социальные ячейки в цивилизации, которые своими традиционными укладами сдерживают процесс ее технологической модернизации, противятся внедрению наиболее радикальных научных инноваций. Так шаг за шагом социальная модернизация оказывается все более технологизированной, из общественного сознания постепенно вытесняется наиболее радикальные или иначе сильные версии социального развития и цивилизация пройдя этап «бури и натиска» начинает размеренно доживать свой век по так называемому «остаточному принципу».
Основной причиной повышенного онтологического напряжения в сущем на этапе технологической рационализации цивилизации становится онтологическое обособление «физического тела» от «социального тела», завершающееся радикальной десоциализацией первого и объективацией второго. В сферу псевдосуществования Иного вслед за Культом и Культурой втягивается и Цивилизация. Однако по мере технологической модернизацией Цивилизации и сама Технология ускоренными темпами модернизируется в квазионтологию, в отрицательную онтологию, все более утрачивая свою связь с Неиным в Сущем. По своим стратегическим целям и задачам технологический процесс, по мере наращивания темпов развития, все более идет вразрез с исторической миссией цивилизации. Роль технологии, какую она играет в судьбе цивилизации сравнима разве что с ролью “деревянного коня”, подаренного Трое безуспешно осождавшими ее врагами, с той лишь существенной поправкой, что “железный конь” был создан внутри самой цивилизации и не являлся опасным даром ее врагов. Технологический “железный конь” безжалостно вытаптывает “цветы цивилизации”, которыми он не питается, загаживая своими экскриментами среду обитания человека.
Технология стремится превратиться не только в единый, но в перспективе и в единственный мирожизненный процесс. В идеале формирование универсума искусственных объективаций должно привести к экзистенциализации технологии и технологизации экзистенции. Технология формирует объективированное пространство, в котором в перспективе не может быть места каким либо формам присутствия в мире субъекта, это относится и к самому ее адепту – телесному субъекту. Естественно, что человек лишившийся даже самой низшей формы субъектности уже не может быть «челом от века». В это новейшее осевое время начинает складывается экзистенциально-технологический параллелизм, онтологический гомоморфизм экзистенции и технологии, призванный максимально технологизировать экзистенцию и экзистенциализировать технологию. Грань между живым и неживым, жизнью и смертью, существованием и несуществованием фактически исчезает, возникает некая иллюзорная Действительность или действительная Иллюзия, в рамках которой и доживает свои дни реликтовый человек, утративший способность отличить явь от видений, явленность бытия от при-видения, симулирующие его явленность. Этот псевдоонтологический параллелизм придает псевдообщности индивидов-атомов некоторую стабильность в той мере в какой иллюзорность в состоянии собой замещать реальность, которую те не столько актуально проживают, сколько чувственно переживать. Именно совокупность рационально планируемых переживаний, делает человека совершенно нечувствительным к тем социальным катастрофам, которые все более становятся необратимыми. В этой иллюзорной действительности, они все реже попадают в поле зрения индивидов-атомов, а если и попадают, то снабжаются столь рациональными интерпретациями, что лишь усиливают остроту переживания непроживаемого, позволяют им приобщиться к «разумной истине» - этой гносеологической вытяжке из бессмыслицы объектного существования. В промежутках между социальными катастрофами объективированный мир способен не только быстро восстанавливаться, но и предпринимать очередные рывки в сферу «чистых сущностей». В конце концов состояние конфронтации технологии с цивилизацией заканчивается тем, что цивилизация становится ее безропотной служанкой. Обществу вслед за человеком предстоит умереть отнюдь не физически, а символически, так как прескриптивный дискурс неуместен там где все смысловое поле занято знаками и значениями дескриптивного дискурса телесности. Язык норм долженствования оказывается языком «мертвым», а потому и недоступным для «живых» индивидов перешедших на язык научных понятий.
Современную технологическую цивилизацию лишь условно можно называть “цивилизацией”, так как в этой псевдоисторической общности цивилизационные процессы подчинены процессам технологическим, а не наоборот. Всемерно способствуя развитию технологии, современное западное общество формирует такие искусственные комплексы бытия, которые способны быть наиболее рациональными и эффективными, если под них целенаправленно формируются предельно десоциализированные общности индивидов. Гармония социальной жизни, воспроизводство которой возможно лишь на основе развертывания цивилизационного комплекса, в условиях упорядочивающей деятельности технологического комплекса все более сходит на нет.
С окончательным отпадением технологии от высших форм бытия, метаистория начинает клониться к своему завершению, а историцизм, напротив, все более высокими темпами восходить к «идеальному бытию». На этапе онтологического восхождения технологии завершается история Духа и начинается история онтологически обособившегося от него Тела. Эту новейшую форму истории Фуко предпочитает обозначать термином био-история. «Если можно назвать «био-историей» те давления, благодаря которым движения жизни и процессы истории интерферируют друг с другом, - писал Фуко, - тогда следовало бы говорить о «био-политике», чтобы обозначить то, что вводит жизнь и ее механизмы в сферу явных расчетов и превращает власть-знание в фактор преобразования человеческой жизни; и вовсе нельзя сказать, чтобы жизнь была целиком интегрирована в техники, которые над ней властвуют и ею управляют, - она беспрерывно от них ускользает»[714]. История технология, выпадая из метаистории Духа, стремится овладеть всем целостным и универсальным миром, а не только одной лишь естественной природой. Основная ее цель состоит в создании абсолютно искусственного мира, универсума чистых объективаций, которыми можно тотально управлять из единого гносеологического центра, на который безраздельно претендует Рацио.
Мир, в котором можно просчитать все связи и отношения, а затем алгоритмизировать и изменять их в полном соответствии с перманентными изменениями в рациональном дискурсе – последний утопический проект, который пытается реализовать человек, полагающийся лишь на свой собственный суверенный разум. Этот утопический проект порожден желанием достичь абсолютной власти нецелостного человека, индивида-атома над целостным бытием, подчинить духовное телесному, субъективное объективному. Это проект вызван к жизни волей к власти, достигшей своих абсолютных значений. Жизнь человека в нем выступает ценностью лишь в той мере, в какой оказывается объектом интересов волющей телесности. Человек, интенсивно эволюционирующий к своей телесной субстанциональности, сам того не осознавая начинает господствовать на своей собственной экзистенцией, причем сугубо объектным и внешним образом, ведь объективированный Мир есть не что иное как его собственная Самообъективация. Индивид-атом стремится присвоить себе весь трансцендентный мир, не подозревая того, что его действительный мир в лучшем случае лишь молекулярен, однако он настойчиво перестраивает в некую искусственную монаду, реифицируя ее в качестве всеобщей объективной действительности. Если десубъективированный Индивид-атом и в состоянии что-то присваивать в этом объективированном Мире-монаде, то лишь свои отчужденные сущности. Г.С.Батищев считает, что в противовес индивиду-акциденции, индивид-атом отличается установкой на то, чтобы все вокруг себя, как говорится, “прибрать к рукам”, все взять на себя. Что бы то ни было для него есть поприще для его собственного участия, для присвоения-освоения... Всякая предстоящая ему действительность либо “вкладывается” в его индивидуально-субъектный мир и организуется вокруг него, либо этот мир хотя бы проецируется вовне, “накладывается” на остальную действительность как абсолютно исходное и по сути дела окончательное “Мерило Всем Вещам”, - короче говоря, индивид берется быть Судией над всем миром[715]. «Деятельность, - считает Г.С.Батищев, - выхолощенная до объектно-вещной активности, делается орудием экспансии и покорения мира»[716]. Однако индивид-атом всего лишь «замещенный субъект», он всего лишь исполнитель инструкций, который вырабатываются дискурсом о технологии. Квазитехнология и есть именно тот исторический псевдосубъект, который желает превратить Мир в Абсолютный Объект, искусственные структуры которого должны быть полностью подчинены рациональному дискурсу, который не столь уж отдаленной перспективе вряд-ли будет нуждаться в экзистенциальном, а тем более в гносеологическом присутствии человека в мире. По Хайдеггеру научно-техническое отчуждение, вытекающее из обращения мира в картину, предстает глобально-человеческим феноменом, чреватым притязаниями, отмеченными гигантоманией, стремлением рационально калькулировать действительность во всех ее проявлениях, манипулировать ею, подчиняя всевластию Рацио.
Воля к власти индивида-атома над целостным и универсальным миром – основной мотив дискурса о целях и задачах научно-технического прогресса. Массированное технологическое насилие над миром естественных феноменов становится чуть ли не единственным средством восхождения телесного субъекта на олимп власти. Иерархический Человек становится основным объектом информационно-технологического насилия со стороны мономорфного и вожделеющего индивида. Отнюдь не случайно идеология выживания возникла именно в эпоху, когда усилиями сверхтехнологического насилия мир оказался на грани гибели. Эта идеология исходит из приоритетности искусственной жизни над жизнью естественной, которой человек должен поступиться во имя общемирового прогресса. «Техническая рациональность – есть сегодня рациональность самой власти. Она есть принудительная сила отчуждения от себя общества”[717]. Не возрождение Жизни в Духе, а процесс выживание в падшем мире становится непосредственной экзистенциальной целью современного человечества, пытающегося хоть на время замедлить надвигающуюся катастрофу жизни, ничего не предпринимающего для последовательного возвращения к сакральным первоосновам Бытия, т.е. для реализации единственного проекта, который в состоянии вернуть человеку утраченные смыслы существования. Ведь вся трагедия человеческой жизни заключается не в отсутствии достойных условий его внешнего существования, а в отсутствии достоинства в самом человеке. Достоинство – это имманентный атрибут человека, о какой достойной его жизни может идти речь, если человек своим перманентным грехопадением почти исчерпал это свое главное атрибутивной свойство?
С технологического осевого времени насилие над последними очагами сопротивления процессу девитализации жизни становится столь привычным, что мало у кого вызывает особых возражений, лишь бы это насилие компенсировалось новыми более острыми наслаждениями, а «потребительская корзина» наполнялась все более изысканными яствами. Вряд ли, например, хоть какую-то значительную долю современного человечества составляют люди предпочитающие чистую экологию сложившимся стандартам потребления, тем более если речь идет об экологии духа, культуры или уникального социального опыта жизни, которые составляют содержание подлинно достойной жизни и которые не ведомы им с момента их рождения. Многое из того что было ценностью для предшествующих поколений давно уже вытеснено из самосознания современной генерации людей теми благами, которые бесперебойно сходят с технологического конвейера. Да и насилие оказывается столь мягким, что особо и не фиксируется самосознанием, ведь если оно не достигает пределов совести, то особых мук и угрызений человек не в состоянии испытывать. Страданий нет и быть не может там где отсутствует со-страдание. Совесть из совместной вести превратившаяся во внешний интериоризованный контроль становится хорошим внутренним проводником внешнего насилия. Эта нечувствительность к боли, характерная для насилуемой технологией человеческой природе объясняется прежде всего тем, что современный человек давно утратил в себе многое из того вне- и надприродного, которое содержалось в ценностной душе и сакральном духе, а потому он и не в состоянии переживать подлинную трагедию Мира. «Мы можем, в крайнем случае, отказаться от охоты на бабочек, - пишет Ф.И.Гиренок, - но мы не можем отказаться от самих себя, ибо сами мы возникаем лишь после «замещения». Для того, чтобы явилось что-то человеческое, нам нужен уже не только покоренный Енисей, но и покоренный космос. Цивилизованный человек существует замещенными содержаниями. Но у этого существования нет мудрости, оно не знает где нужно остановиться»[718]. Технология есть тот лифт по которому хаос все более поднимается вверх по иерархии человеческого бытия. В этом то и состоит вся трагедия несчастного сознания, упорядочивая структуры хаоса, посредством которыйх вытесняется гармония жизни, она тем самым все более превращается в замещенное сознание - в иррациональное Иное. Несчастное сознание обеспечивает своими ничтожными суждениями человеческое ничтожество, вознамерившееся предать суду все то, что препятствует реализовать свою волю к власти. Отнюдь не «сон разума порождает чудовищ», а чудовища опираются на «суд разума», чтобы своим иррациональным ничтожеством замещать сакральное тождество жизни.
Технологический Молох становится Кумиром телесного субъекта, субъективированная телесность начинает поклоняться лишь объективированной телесности. «Современная рационализация и технизация, - писал Н.Бердяев, - находятся во власти подсознательных и иррациональных инстинктов, инстинктов насилия и господства»[719]. Технологический прогресс становится принципом веры, в жертву которому человечество особо не задумываясь вполне готово принести всю свою тысячелетнюю историю, не случайно все то, что предшествовало современной технологической цивилизации принято обозначать термином «предыстория». Предысторией К.Маркс называл то, что предшествует подлинной истории – становлению коммунизма. Современные адепты рыночной экономики также склонны дорыночную жизнь человека конституировать в качестве преисторической. Вера в технологический прогресс, сопровождаемая безжалостным уничтожением всего того, что этому новоявленному «мессии» предшествовало в долгой истории человечества – есть высшая форма религиозного фанатизма, отдающая дьявольским наваждением. Демонизм квазителесного в человеческой экзистенции есть та самая темная сила, сублимация которой обеспечивает потрясающие темпы технологического прогресса, естественно за счет столь же внушительных темпов экзистенциальной деградации, которую человек своим несчастным сознанием к счастью не осознает, иначе бы он давно пришел бы к мысли о бессмысленности своего объектного существования. По мере ускорения процесса технологического самоотчуждения, человек становится все менее чувствительным к той внутренней драме, которая разворачивается между бессознательным и сознанием в его ментальности. Это особая тема философского дискурса о человеческом самопредательстве, осуществляемого во имя наращивания структуры потребностей в ментальности за счет вытеснения из нее высших способностей. Нищете Духа современный человек предпочитает богатства Разума. Богат лишь тот, утверждал Демокрит, кто беден желанием. В технологическую эру человек оказался столь богат желаниями, что оказался не только бедственном, но и в плачевном экзистенциальном состоянии. Человек у которого потребности стремительно приближаются к бесконечности, а способности столь же катастрофически опускаются к нулевой отметке не в состоянии ощущать приближение окончательной развязки экзистенциальной драмы. Полагаясь лишь на разумность объективных законов, открываемых в рамках рационального дискурса он весьма уверен в возможности нового удачного прорыва к более устойчивой форме жизни, в которой технологический гомеостаз окончательно заменит трансрациональную экзистенциальную неустойчивость. «Упадок свободы и оппозиции, - писал Г.Маркузе, - следует рассматривать не в связи с ухудшением нравственного и интеллектуального климата или коррупцией, но скорее как объективный общественный процесс, поскольку производство и распределение все растущего числа товаров и услуг укрепляют позицию технологической рациональности»[720]. Современный человек готов адаптироваться к любой форме технологической необходимости, его не нужно особо принуждать к этому средствами внешнего организованного насилия, ибо это вполне укладывается в общую стратегию выживания, основу которой составляет вполне осознанный отказ от тех форм присутствия в мире, которые не подлежат рациональной редукции к технологической процессуальности.
По мере того, как технология обретает свое собственное дискурсивное основание, она становится все более репрессивной по отношению к тем феноменам, которые не поддаются тотальной рационализации. Возникает радикальная инверсия «релятивной репрессивности» в «абсолютную репрессивность», причем «прибавочная репрессивность» становится почти идеальным инвариантом «прибавочному самоотчуждению». В связи с тем, что «репрессивность» и «отчужденность» выступают двумя сторонами единого процесса объективации субъективного, не осознающееся индивидом-атомом, в связи с их «органичной» корреляцией с его «прибавочным потреблением», то и процесс установления «нового порядка» в экзистенции не воспринимается им в качестве перманентной трагедии, чреватой экзистенциальной катастрофой. Эскалация насилия и технологическая эволюция становятся онтологически изоморфными, однако этот вселенский по своим масштабам и чудовищный по своей античеловеческой сути изоморфизм, оказывается вполне оправданным с позиции рационального дискурса. В акте квазипотребления в единую онтологическую тоталитарность сливается и палач как объективированная жертва и жертва как субъективированный палач. Садизм и мазохизм есть не что иное как чувственно окрашенные и рационально подкрепленные внутренние отношения Оно, особую остроту переживания которого от его ассимилирующей активности, от процесса присвоения-обладания, в состоянии придать лишь изощренная форма саморепрессии, когда субъектом и объектом насилия выступает одна и та же человеческая Плоть. Иррационально глумиться над плотью может только плотоятная рациональность. «Мы действительно живем в эпоху всеобщего шантажа, - писал Ортега-и-Гассет, - который принимает две взаимно дополнительные формы: шантаж угрозы или насилия и шантаж насмешки и глумления. Оба преследуют одну и ту же цель – чтобы посредственность, человек толпы мог чувствовать себя свободным от всякого подчинения высшему»[721].Утвердить приоритет телесного над социальным в человеке в условиях развития квазитехнологии позволяет последовательное глумление над свободой и достоинством человека, которые для индивида-атома являются слишком тяжелым бременем.
Как только технология выходит за верхние границы универсума объективаций, пытаясь тотально рационализировать экзистенцию Иерархического Человека, так с непреложностью она превращается в самую репрессивную силу, которая когда-либо возникала на земле. Ее разрушительные возможности Вернадский уподоблял геологическим процессам, однако это довольно отдаленная и не вполе адекватная аналогия, ведь геологические катаклизмы разрушая созидают новые естественные связи, тогда как применение техногенных сил разрушения ведет лишь к вырождению естественных связей в искусственные, а в случае массированного использования способно многократно уничтожить все живое на Земле. Технологизированная и рационализированная «жизнь» современного человека есть последний вызов сакральной жизни с ее глубинной потаенностью и самотрансценденцией. Происходит может быть один из самых массированных прорывов сил хаоса в пределы Сущего и Человек не успевает уже реагировать на техногенные катастрофы, ставшие в последнее время поистине и перманентными и глобальными. Он не успевает упорядочивать хаос не только в универсуме объективаций, но и в своем собственном внутреннем мире, который все более нуждается в столь же репрессивной психотерапии. Технология в своей деструктивной функции представляет собой «летальный ген» экзистенции, искуссно вычлененный из человеческого генотипа, а потому он определяет собой не только онтогенетическую, но и филогенетическую смерть Человека. Смерть приходит как бы извне, хотя укоренена внутри экзистенциального универсума, своими метастазами она восходит к первородному греху – к Смерти в Духе. Однако именно наличие технологии в качестве объективации «летального гена» позволяет самому зауряднейшему из существ, каким является квазителесный субъект, обладать почти неограниченной властью над Вселенной, она становится все более подвластной этому ничтожеству, стремясь беспрекословным подчинением отстрочить от него исходящую гибель. Именно этот индивид-атом способен нажатием на кнопку в «черном ящике» одномоментно перечеркнуть не только настоящее, но и прошлое и будущее человечества. Однако при всем своем могуществе он остается рабом внешних обстоятельств, ведь он всего лишь марионетка князя мира сего. «Хотя рабы развитой индустриальной цивилизации, - писал Г.Маркузе, - превратились в сублимированных рабов, они по-прежнему остаются рабами, ибо рабство определяется... статусом бытия как простого инструмента и сведения к состоянию вещи. Это и есть чистая форма рабства: существование в качестве инструмента, вещи. И то, что вещь одушевлена и сама выбирает свою материальную и интеллектуальную пищу, то, что она не чувствует себя вещью, то, что она привлекательна и подвижна, не отменяет сути такого способа существования»[722]. Раболепствующий перед Иным индивид-атом претендует по праву обладания почти неограниченной властью на роль Тотального Диктатора при всем псевдодемократическом антураже, которым столь помпезно обставляется его вполне публичное существование. По природе же своей он и есть дьявол во плоти, вернее дьявол, заключенный в неволю собственной плоти, а потому и более опасен в своих стремлениях «вырваться на волю».
Новый «рациональный порядок» который он устанавливает в Поднебесной – это не что иное как перенесенное на все структуры Сущего модель тюремного режима. Еще Б.П.Вышеславцев предупреждал, что в современную технологическую эпоху речь идет ни мало ни много, как “о судьбе всей индустриальной культуры, о судьбе человека, ее построившего и оказавшегося или в огромной фабрике, или в огромной тюрьме”[723]. Онтологическая Тюрьма становится последним прибежищем телесного субъекта, с маниакальным усердием уничтожающего все живое, все то, что ранее вполне уживалось с астральным субъектом в его космическом ойкосе, с антропным субъектом в его родовом именитстве и на подворье социального субъекта. В Тюрьме, выстроенной по последним разработкам Дизайнера, в состоянии присутствовать разве что рациональная проекция Человеческого Естества – Искусственное Тело. Технология в своей квазирациональной форме становится тем онтологическим пьедесталом на котором восседает «его ничтожество» Робот, от завихрений в электронном мозгу которого зависит решение сакраментального «Быть или не Быть» человечеству. Робот и есть абсолютно объективированное Оно, стремящееся заместить собой не только телесного субъекта, но и всего Иерархического Человека. Каждое Оно стремится стать Роботом, чтобы вобрать в себя всю тотальность Единого, под которым конечно подразумевается уже не Абсолютный Субъект, а Абсолютный Объект. Вознамерившись рационализировать все надтелесное в сущем, технология, легитимизировала присутствие в нем Ничтожества в форме Тоталитарного Тела.
Упорядоченные структуры технологии своим перманентным самораспадом повышает уровень присутствия Иного в Сущем, однако сама отелесненная экзистенция достигает относительной устойчивости лишь в периодах между очередными социальными потрясениями, выход из которых достигается еще большим падением степени присутствия «человеческого материала» в «материализованной человечности», за счет усиления технологического мономорфизма, основу которого составляют все более «чистые технологии». Своим возникновением технология обязана переходу Единого во Множественное на этапе формирования объективированной формы онтологической множественности. Однако эта объективированная плюральность и становится основным объектом унификации, нацеленной на создание чистой объектности без какой-либо примеси субъектности даже в ее предельно отчужденных формах. Мономофный Объект – является главной стратегической целью развития субглобального технологического процесса, превращающего все без исключения экзистенциалы в элементы подстилающей структуры экзистенции Объекта или объективной Экзистенции. Технократическая утопия – есть сказка об автоматизированном рае, однако предназначенная не для людей, а для автоматов. Мономорфному объекту необходим столь же мономорфный псевдосубъект с такой же как у него экзистенциальной структурой. Неустойчивая система “человек-машина” в конце концов должна быть замещена системой “машина-машина”, в которой место субъекта займет машина именуемая “искусственным интелектом”, а место “объекта” – “телесносоразмерная машина” и тогда миру будет явлена идеальная, а главное, действующая модель “гомо сапиенса”, в которой рациональное и телесное в своем сопряжении уже не будет нуждаться в громоздких, а главное, архаичных онтологических опосредованиях, таких как Цивилизация, Культура и Культ. Наступит момент, когда овеществленные ячейки универсума объективаций более не будут нуждаться в заполнении техносоразмерными индивидами-атомами и техноген перестанет “страдать” от непредсказуемости их поведения. Как только “вещь” окончательно утратит свою субъектность и превратится в компонент мономорфного телесного мира, осуществится окончательная инверсия естественного в искусственное, которое станет онтологической основой для интенсивного развертывания объектно-объектных отношений в сущем. Но вот парадокс, чем более мономорфизируется технология, тем менее устойчивым оказывается выстраевыемый ею объективированный мир, так как именно инобытийствующие в нем субъективации и являются единственным негэнтропийным источником, но об этом знать ничего не желает “логика устойчивого развития”, так как ее разработчики уже давно отказалась от понятия “субъект”, даже в качестве некоторого гносеологического априори. Устранение вместе с высшими формами Неиного и его субъективированной телесности приводит к почти полному, хотя и довольно кратковременному, господству в Сущем объективированной телесности, выступающей высшей формой присутствия Иного, интенсивность самораспада которой, по всей вероятности, будет обусловлена скоростью, с которой из Сущего вытесняться последние реликтовые структуры субъективной реальности.
Итак, технология онтологически конструктивна лишь в той мере в какой способствует укоренению человека в универсуме объективаций и деструктивна в той степени, в какой разукореняет его в надобъектных онтологиях, и прежде всего, подрывает его трансцендентное присутствие в Духе. Однако не иначе как разукоренением человека во всех без исключения нишах бытия, технология в состоянии их преобразовать в инфраструктуру универсума объективаций. Чтобы превратиться в квазионтологию, Технологии прежде всего необходимо лишить человека его социальной определенности, низвести его бытование до уровня объектного существования. При этом технология стремится сохранить в человеке его внешнюю капсулу - телесную оболочку, под которой содержится любезный ей орган дескриптивного дискурса - Рацио. Однако эта цель скорее тактическая нежели стратегическая, ибо в перспективе технология намеревается сама искусственно воссоздавать и телесное и рациональное в их чистых девитализированных формах, лишь на начальном этапе своего прогрессирующего восхождения она мирится с имманентной ее историцистским целям био-рациональной аналоговой системой, каким является человек как отелесненная рациональность, как рационально упрощенный его инвариант – Homo sapiens. С позиции «интересов» технологического универсума телесный субъект должен быть десоциализированным в той мере, в какой утрата им социальных свойств, позволянт ему эффективно интегрироваться в любую систему объективированных рационализаций или рационализированных объективаций в качестве нестационарного объекта, обладающего необходимым и достаточным набором надтелесных функций, который еще не в состоянии моделироваться и воспроизводиться в качестве собственно технологических функций, однако необходимый в целях повышения уровня негэнтропии в универсуме объективаций. «По мере того, как возрастает энтропия, - утверждал Норберт Винер, - Вселенная и все замкнутые системы во Вселенной естественно имеют тенденцию к изнашиванию и потере своей определенности и стремятся от наименее вероятного состояния к более вероятному, от состояния организации и дифференциации, где существуют различия и формы, к состоянию хаоса и единообразия»[724]. Чем более «развитым» оказывается универсум объективаций, тем меньшим экзистенциальным ресурсом он обладает, онтологический износ и энтропия его структур требует проведения соответствующих «регламентных работ» и подключение всей системы объективаций к некоему негэнтропическому источнику, т.е. требуется некий нестационарный объект, который таковыми качествами и ресурсами обладает – им может быть только субъект.
В идеале это должно быть существо с довольно маргинальным статусом, некий полусубъект-полуобъект, который по своей организации обладал бы основными функциональными свойствами объекта, однако его витальность была бы вполне способной адаптироваться к «объективным законам» функционирования искусственных комплексов. Естественно, что ментальность такого «нестационарного объекта» структурно должна быть изоморфной объективному Дискурсу или дискурсу Объекта. Такой идеальный тип рационального человека, естественно, может сложиться лишь за пределами социального дискурса и долженствования. В этой связи весьма интересными являлись рассуждения Штирнера об экзистенциальной сути Единственного, в них неявно присутствует пророчество о возможном появлении предельно объективированного субъекта. Штирнер полагал, что человек вполне может реализовать свой антропологический самопроект, если преодолеет в себе социабельность и из члена общества и в качестве единственного станет органическим элементом некоей объективированной системы, которую он условно обозначил термином - союз. «В союзе, - писал Штирнер, - ты живешь эгоистично; в обществе - “по-человечески”, т.е. религиозно, как “член тела господина своего… Обществу ты обязан служить всем, что имеешь, ты его должник, ты одержим “социальным долгом”; союзом же ты пользуешься, и, если, не зная ни долга, ни верности перед ним, увидишь, что не сможешь извлечь из него дальнейшей пользы, то ты выйдешь из него... Общество - нечто большее, чем ты... оно стоит над тобой; союз же - только твое орудие или твой меч, которым ты обостряешь твою естественную силу и увеличиваешь ее. Союз существует для тебя и благодаря тебе... Короче, общество священно; союз же - твоя собственность. Общество пользуется тобою, союзом же пользуешься ты»[725]. Утопия Штирнера о десоциализированном Единственном вполне сбывается именно в технологическую эру, в которой складывается этот довольно странный союз телесных субъектов, правда союз не столько единственных и уникальных личностей, сколько единичных представителей довольно ординарной телесной множественности. Короче говоря, технологии нужен человек, субъектность которого была бы редуцирована к рациональной форме ментальности и на вполне обозримое историческое время могла бы выполнять роль рациональной подстилающей структуры для действия объективных Законов или законов Объекта. В этом именно качестве человек и необходим технологии, однако нуждаться в подобного рода его услугах она намерена лишь до тех пор, пока не создаст свой собственный более надежный онтологический базис не нуждающийся более в столь хрупкой экзистенциальной подстилающей структуре и имманентный источник негэнтропии. Технология есть тот предел, за которым «я» превращается в «оно», а затем и в просто элементарнейшую объективацию, в которой вместе с субъектностью затухает и экзистенция, а следовательно и ее пассионарность и негэнтропийность.
Cодержанием грядущей социальной катастрофы, если ее так и не удастся остановить, явится полное разрушение цивилизационных основ человеческой экзистенции. Социальное саморазрушение является следствием вырождения человека как цивилизованного существа, следствием его беспринципной адаптации к миру собственных отчужденных объективаций. Социальная катастрофа есть прежде всего катастрофа прескриптивно организованной совокупной деятельности, вытесняемой дескриптивной технологической процессуальностью все менее нуждающейся уже не только в человеческом, но и в социальном факторе.
Ко времени онтологического восхождения технологии социальная структура оказывается настолько обезличенной и формализованной (бюрократическая ситуация), что ее поглощение волющей телесностью воспринимается индивидами чуть ли не с благоговением и не иначе как в качестве Великой рациональной революции. Несомненно, со временем социальный универсум прекратит свое существования в качестве онтологической общности индивидов, хотя его реликтовые формы еще довольно длительное время будут составлять собой отдельные экзистенциальные вкрапления в универсуме объективаций. Человек и на этот раз охотно поступится своим онтологическим статусом в пользу внешнего мира, однако теперь уже в пользу интенсивного развития технологического универсума. По своему реальному онтологическому статусу внешний объективированный мир не только будет многократно превосходить свой жалкий «прообраз» и «аналог» – телесного субъекта, но и на время, отпущенное до «скончания времен» будет замыкать собой перевернутую иерархию мироздания.
Явными признаками надвигающейся социальной катастрофы, перманентно происходящей в мире отчужденных сущностей с началом третьего осевого времени, является последовательное исчезновение трансцендентных, эвалюативных и прескриптивных технологий, которые, не выдержав «конкуренции» с дескриптивной технологией, все более пополняют собой архетипические структуры Бессознательного. Дескриптивная технология постепенно превращается в тотальный онтологический комплекс не требующий присутствия в нем Человека даже в качестве Технолога, она становится «сама себе технологом» (как ранее позитивистская наука объявляла «сама себе философией»), преобразующая естественное в искусственное за пределами собственно человеческих установлений, по своей внутренней мерке и единому рациональному алгоритму. Все формы дорациональной технологии оказываются втянутыми в поток уничтожения, а вместе с ними и их социальные «надстройки». Редуцируя сакральное, антропное и социальное к телесному, человек информационно-технологической общности окончательно разрушает прежние исторические формы сочленения искуственного и естественного в единую экзистенциальную систему, отныне начинает формироваться единый искусственный технологический комплекс, адаптироваться к которому в состоянии лишь телесные субъекты, окончательно сложившие с себя высшие экзистенциальные статусы. Уже в переживаемую нами эпоху технологическим пресс Запада безжалостно давит не только реликтовые технологии народов третьего мира, но технологии равитых современных цивилизаций, результатом мы являемся свидетелями исчезновения социального многообразия человеческого присутствия в мире. Все чаще поговаривают не только в окологаучных кругах, но и на политическом Олимпе о том «золотом миллиарде», которому суждено составлять рационально уменьшенное население Земли с тем, чтобы индивиды в него включенные, могли бы жить в условиях перманентного возрастания стандартов потребления. Легко представить каким этносам и народам не окажется места на «земле обетованной» – несомненно это будут те, которые не сумеют раствориться своими сокровенными верованиями, культурными ценностями и традиционными социальными укладами в обустраиваемом всемирном рационально-технологическом пространстве. Новая техногенная форма геноцида на сугубо сциентистских основаниях вполне реальная перспектива для мира, в котором технологическая рациональность тотально определяет условия человеческого присутствия в мире отчужденных сущностей.
Остановимся на семантических, онтологических, и ментальных последствиях возможной всемирной социальной катастрофы для человеческой экзистенции, какими они представляются с позиции последовательного суббъектоцентристского мировоззрения.
Семантическая составляющая социальной катастрофы. Семантическими рамками универсума объективаций, как мы уже знаем, являются дескриптивные значения или знания технологии. Для телесного субъекта интегрированного в универсум объективаций становятся избыточными уже не только символы Культа и ценности Культуры, но и нормы Цивилизации, вся совокупность его мирожизненных связей и отношений вполне описываются на языке рационального дискурса, основу которого составляют дескриптивные или иначе сциентистские значения. Дескриптивный модус технологической цивилизации становится столь всеобъемлющим, что делает невозможным развертывание иных внерациональных модальностей сущего, тем более если они своими трансрациональными установками противоречат логике развития и функционирования целостного комплекса объективаций. Пирамиду семантических предпочтений начинают замыкать законы объективной необходимости, которые при тщательном метафизическом анализе оказываются не чем иным как рациональными знаниями о частностях бытия, однако претендующих на абсолютный эпистемологический статус.
Если мировоспроизводящей практикой в пределах социального универсума была деятельность, то в рамках технологического универсума ею становится познание. Это еще более усиливает значение семантических последствий социальной катастрофы, так как основу новой онтологии начинают составлять не интерактивные, а эпистемологические акты. В условиях онтологического восхождения технологии, между социальным и телесным субъектами возникает довольно сильное семантическое отчуждение, что влечет за собой непонимание ими друг друга, открытые формы их поведения оказываются экзистенциально несовместимыми в связи с тем, что их значения и мотивы сторонами атрибутируются с совершенно противоположных мирожизненных позиций. Эта ситуация семантической неоднозначности в межиндивидной интеракции полностью преодолевается как только технология в человеческой экзистенции полностью уничтожает реликтовые проявления цивилизации. По мере деградации и распада цивилизованных отношений стереотипы, бывшие ранее основными социальными регуляторами, преобразовываются в строго прагматичные алгоритмы рациональные поведения. Дескриптивные значения, вытесняющие из регулятивной системы социальные предписания, делают внешнее поведение человека абсолютно однозначным, а потому и весьма прогнозируемым и тотально управляемым.
Известно, что нормативную форму дескриптивной необходимости в качестве своей непосредственной метаисторической праформы технология обретает в цивилизации. Однако как только технология преодолевает свою онтологическую зависимость от цивилизации, начинается радикальное преобразование дескриптивной системы в результате которой уже не рациональные знания оказываются онтологической производной от социальной нормативистики, а нормы долженствования становятся гносеологическими эпифеноменами системы рациональных знаний. Нормы долженствования, составлявшие ранее ядро совокупного социального опыта, становятся «научными», «сциентистскими» прескрипциями, получаемыми «опытным путем» в качестве попутного «продукта» познавательного процесса. Более того, сами дескриптивные значения начинают конституироваться рациональным сознанием в качестве непреложных императивов – высших норм исходящих из объективной необходимости. Разрушая цивилизацию, технология при помощи рацио продуцирует разветвленную систему дескриптивных норм или псевдонорм. Таким образом семантическую форму социальной катастрофы вполне возможно обозначить термином - нормативная катастрофа.
Естественно, далеко не вся совокупность содержащихся в рациональном сознании «норм» имеет какое-либо отношение к системе прескриптивных значений. Наиболее значимые для технологии дескрипции до поры до времени скрываются под псевдонормативными оболочками, мимикрирующие под социальную целесообразность с тем, чтобы они были принятыми маргинальным социально-телесным субъектом в качестве собственно социальных предписаний. «Дескриптивные нормы» – это фикции рационального сознания, подобно тому как «прескриптивные ценности» являются продуктом искаженного социального сознания. Истинным предназначением дескриптивных норм является стремление технологии потуже привязать человека к миру отчужденных от него его же собственных объективаций и при этом по возможности сохранить у человека иллюзию того, что он все еще остается вполне значимым социальным актором. И все это в условиях когда уже даже не «внешний человек», а имманентная технологической необходимости «внутренняя логика» искусственного комплекса моделирует целостный акт деятельности, в котором человек представляет собой всего лишь не вполне удачную персонификацию одной из «логических формул», подлежащей радикальной деперсонификации и рациональной переформулировке. «Мир как объект, пишет Ф.И.Гиренок, - полностью определен законами. Мир как индивид спонтанно доопределяется, т.е. оставляет место для законопорождающей случайности»[726]. Так вот в этой не только крайней, но и предельно искаженной онтологической ситуации, с тем чтобы не могла спонтанно возникнуть рационально незапланированная законопорождающая случайность, человек начинает все более однозначно определяться в соответствии с требованиями объективной необходимости.
В отличие от дескриптивных знаний, которые, в основном, являются продуктом дискурса, нормы вырабатываются в рамках совокупного социального опыта и воспроизводятся лишь в реальном интерактивном поведении индивидов. Нормы семантически иррелевантны взаимообусловленным процессам объективации субъекта и субъективации объекта. Верным признаком перманентного умерщвления социальных норм служит искусственная их трансференция из системы субъектно-объектных отношений деятельности в систему объектно-объектных отношений познания. Нормы могут существовать лишь там и тогда, где и когда наблюдаются систематические переходы субъекта в объект и наоборот, им нет места в системе объектно-объектных связей технологии. В ситуации когда в интерактивном акте встречаются уже не субъект и объект, а объект и объект, даже в случае если один из них представлен субъективированной формой, как, например, телесный субъект, нормативная система может формироваться лишь за счет рационально превращенных норм, которые ничего общего не имеют с процессом перманентного накопления человеком социального опыта, в основном состоящим из законопорождающих случайностей. «Объектно-вещная активность, - пишет Г.С.Батищев, - сама по себе безнормная, аксиологически глухая и слепая, облачает себя в нормативизм, сообразно своей корысти, причем в нормативизм тем более ревностный и нетерпимый к “нарушениям”, чем сильнее она в нем заинтересована как в средстве, т.е. отнюдь не как в социально-человеческой норме, рожденной из некоторой определенной аксиологически значимой задачи. Нормативизм становится ее оружием в ее экспансии, в ее борьбе за преобладание и за принудительное влияние вокруг себя, за господство. Естественно, она никогда не останавливается перед тем, чтобы по возможности отредактировать сами нормы, делая их максимально удобными, подогнанными под свою направленность»[727]. Ложные по своей семантической сути дескриптивные нормы есть, видимо, превращенно-превратные значения, вычлененные из рационального дискурса и приспособленные к тем компонентам единого технологического комплекса, которые еще не до конца избавились от былой социальной предзаданности.
На стыке тысячелетий дескриптивные нормы становятся ядром всеобъемлющей регулятивной системы технологической цивилизации. Автономизируясь от цивилизации, технология уже не испытывает необходимости выстраивать систему дескрипций, опираясь на ее прескриптивное ядро. Своими дескриптивными значениями технология вытесняет из цивилизации наиболее кардинальные прескрипции, особенно нормы социального долженствования. И хотя дескриптивные нормы моделируют особо примитивные и превращенно-превратные формы социального поведения, они оказываются весьма эффективными побудительными стимулами-средствами для индивидов разуверившихся в какой-либо «социальную идею».
Рациональная технология идущая на смену социальной технологии пытается предельно рационализировать сугубо нормативные субъектно-объектные отношения деятельности. Дескриптивные нормы - это рационально превращенные прескрипции социального долженствования, используемые в целях манипуляции поведением индивидов массы, значительно утратившей свою былую социабельность. Чтобы эмпирически обнаружить на себе их регулятивную иррациональную императивность не надо даже выходить из дома, стоит лишь включить телевизор или подключить персональный компьютер к имперсональному интернету. В основном, рациональная нормативистика предназначена для преодоления инерционности социального опыта, транслирующего прескриптивные значения, существенно сдерживающие процесс форсированного развертывания технологического комплекса. Традиционные социальные нормы, несущие на себе «родимые пятна» перво-бытного табу, в процессе радикальной десоциализации оказываются окончательно расколдованными и растабуируированными предписаниями, что снимает последние внутренние препятствия на пути создания абсолютно автономного от естественной экзистенции искусственного технологического комплекса, регуляция в котором как раз и основана на следовании предписаниям, исходящим из рационального ядра объективной необходимости.
Будучи приученым к перманентной смене полунорм-полузнаний, человек начинает воспринимать любую технологическую инновацию, вытесняющую очередную социальную традицию, не иначе как проявление экзистенциального прогресса. Лишь в ситуации технологического преодоления своей былой «социальной ограниченности», телесный субъект в состоянии воспринимакть отчужденный от него технологизированный мир в качестве вполне позитивного «своего иного». При этом вся панорама исторических событий, предшествующих его появлению в мире предстает не иначе как в мрачной палитре. Человек превращается манипулирующего субъекта в той мере в какой чуждый ему мир манипулирует его представлениями и возможностями. Именно ложные дескриптивные нормы оказываются тем необходимым семантическим средством, которое позволяет стягивать в псевдоонтологическую целостность предельно отчужденных друг от друга телесных субъектов. В рамках квазирациональной нормативистики табуируются лишь те формы человеческой активности, которые могут нанести ущерб развертыванию универсума объективаций, а следовательно прежде всего те проявления человеческой пассионарности, которые препятствуют процессу последовательного самоотчуждению. Основная онтологическая функция рациональной нормативистики связана с процессом универсализации телесного в человеке, с процессом придания миру отелесненных сущностей свойств целостностного универсума, за счет стой же радикальной десоциализации человеческих качеств.
Овладев системой социальных нормативов, рациональный дискурс все более решительно вторгается в ценностный слой человеческой культуры. Формируется целая система особо ложных дескриптивных ценностей, составляющих основу массовой культуры, ядром которой становится технологически ориентированная культура секса. Фуко считает, что настало время изучать дискурсы уже не только в том, что касается их экспрессивной ценности или их формальных трансформаций, но и с точки зрения модальностей их существования: способы обращения дискурсов или придания им ценности, способы их атрибуции и их присвоения, которые варьируют от культуры к культуре и видоизменяются внутри каждой из них[728]. Пытаясь распространить свое влияние на трансцендентную целостность мироздания технология создает самые ложные из когда-либо ранее появлявшихся символов. Ими становятся так называемые дескриптивные символы или символы науки. Символы, как известно, появляются на заре человеческого филогенеза, их природа трансрациональная, а потому они существуют лишь за пределами дискурса, в рационально непознаваемом сакрально потаенном. “Рациональные функции, - считает Юнг, - по природе своей неспособны создавать символы, ибо продукты их деятельности только рациональны и определены в одном только смысле; они не включают в себя одновременно и другого, противоположного им”[729]. Но так как революция рациональных ожиданий устремлена отнюдь не в «темное прошлое», а в «светлое будущее», то посредством рационального дискурса и создается целый набор псевдосимволических ориентиров, указывающих наиболее краткий путь к обретению «земного рая». Рациональная утопия окончательно берет верх над сакральным мифом, а «конец истории» над «началом метаистории». Однако эти замещенные символы в состоянии заводить лишь исторические тупики. И чем более рациональные символы себя дескридитируют, тем больше предпринимается усилий со стороны рацио для разрушения трансцендентальных символов веры. «Нельзя убить символ, - писал известный теолог Пауль Тиллих, - подвергнув его критике с точки зрения естественных наук или исторического исследования... символы умирают лишь тогда, когда изменяется ситуация, в которой они были созданы. Они находятся не на том уровне, на котором эмпирическая критика могла бы их упразднить»[730]. Рациональные знания не содержат в себе никаких символов, она пользуется лишь символикой, которая лишь мимикрирует под символы веры, а потому все ее попытки заменить собой эти трансцендентальные ориентиры Духа в состоянии нанести ущерб отнюдь не сакрально-потаянному, а самому рационально-явному.
В связи с тем, что рациональному дискурсу уже нет необходимости преодолевать символические, ценностные и нормативные барьеры непонимания, коммуникация между индивидами становится предельно однозначной и эффективной. «Эти многообразные поведения, - пишет Фуко, - на самом деле были извлечены из человеческих тел и из их удовольствий; или, скорее, они в них отвердели; с помощью многообразных диспозитивов власти они были призваны, извлечены на свет, обособлены, усилены и воплощены»[731]. Телесные субъекты в состоянии идеально «понимать» друг друга лишь в ситуации, когда их обоюдные влечения регулируются предельно рациональной «сексуальной технологией». Полностью отбросив сакральные, ценностные и нормативные ограничения, две физиологические половинки в состоянии соединиться в такую «телесную монаду», в которой в момент «экстаза» дескриптивные значения и объективные биогенные законы оказываются иррелевантными. Такого рода «взаимопонимание» по сути не нуждается в наличии индивидуализированных сознаний, оно оказывается вполне имманентным состоянию некоего биогенного процесса, расширенно воспроизводящего некую биопопуляцию. Телесные субъекты своими межтелесными связями и отношениями в состоянии образовывать лишь некое подобие общности, которая вряд-ли подпадает под определение социальной общности. Скорее всего она является социоморфной биотой, полностью утратившей собственно человеческие способности, вся «ментальность» которой окончательно структурирована гипертрофированными биогенными потребностями, крайними из которых, являются потребности в инкорпорировании галлюциогенных средств, способных замещать иллюзорными фантазмами процесс реального проживания и переживания человеком своей сокровенной экзистенции. «Наркологическая революция», которая уже почти полностью вытеснила собой столь недолго продолжавшуюся «сексуальную революцию», содержит в себе весьма важную информацию о той форме рационального дискурса, который станет господствующим уже не в столь отдаленном будущем.
Для того, чтобы человек технологический вновь сумел обрести способность к ресоциализации, ему прежде всего необходимо возродить прескриптивную форму дискурса. Однако при тотальном развитии технологии и дескриптивной формы дискурса этот «нормативный ренесанс» все более становится похожим на «утопию наоборот». Как известно, утопия может возникать не только в качестве проекции идеальных верований «сегодня» на туманную перспективу «завтра», но и на покрытое завесой забвения «вчера», которое человек стремится реконструировать в иных исторических условиях и на иной семантической основе. Возрождение и есть «утопия наоборот», которая если и реализуется то не иначе как в обезображенном и окарикатуренном виде.
Онтологическая составляющая социальной катастрофы. Онтологическая сущность социальной катастрофы заключается в том, что нормативное долженствование замещается законами необходимости, а субъектно-объектные отношения социальной деятельности объектно-объектными отношениями рационального познания.
Онтологический континуум человеческой экзистенции, согласно субъектоцентристской концепции, «ограничен» свободой и необходимостью. Необходимость Тела изначально противостоит Свободе Духа, на дотехнологических этапах истории это противостояние осуществлялось, если так можно выразиться, в довольно мягких формах. Детерминация в человеческой экзистенции от универсума к универсуму все более усиливалась с понижением онтологического статуса субъекта пока не стала воистину тотальной. На этапе онтологического восхождения технологии, человеческая экзистенция окончательно вытесняется из гармонии свободы и погружается в порядок необходимости. Пяти историческим формам технологии соответствует пять онтологических форм необходимости. Трансцендентной технологии соответствует свободная необходимость («необходимость ради свободы»), эвалюативной технологии – добродетельная необходимость («необходимость ради добра»), прескриптивной технологии – долженствующая необходимость («необходимость ради долга»), дескриптивной технологии - необходимая необходимость («необходимость ради необходимости») а квазидескриптивной технологии – гипернеобходимость («свобода ради необходимости», «добро ради необходимости» и «долг ради необходимости») или абсолютная форма зла.
С образованием технологического универсума внешне проявленный мир утрачивает свою изначальную спонтанность в связи с существенной утратой человеком архетипической интенциональности и обретает предельно жесткую организмическую форму. Универсум объективаций от исторически предшествовавших универсумов отличается предельной субстанциальностью, а следовательно и предельной упорядоченностью своих онтологических структур. Для того, чтобы превратиться в Абсолютное Тело отелесненному миру необходимо перестать быть «субстанцией для» Субъекта и стать «субстанцией для» Объекта, т.е. стать самим Объектом или Квазисубстанцией. Окончательно отелеснить внешний мир телесный субъект в состоянии лишь при условии полного преодоления в себе даже реликтовых проявлений субъектности. Субстанция в ее «чистой форме» и есть абсолютно отелесненный субъект, утративший субъектность и превратившийся в свое иное – Объект. Между элементами объективированного мира существуют жестко обусловленные связи и отношения, в которых господствуют законы объективной необходимости, фиксируемые столь же объективными знаниями. Чем ниже опускается человек по ступенькам бытия, тем более детерминированными оказываются онтологические ниши в которые он укореняется все более внешним и объектным образом. В мире физических сущностей наблюдается строгая однозначность и явная прогнозируемость поведения элементов. Являясь составной частью биоты в качестве телесного существа, человек тотально подчиняется законам естественной необходимости. В качестве сугубо телесных существ индивиды погружены в систему природной детерминации.
Необходимость - это такая форма бытия, чье содержание стремится к бесконечности, а валентность к нулю, тогда как свобода, напротив своим онтологическим содержанием стремится к нулю, а трансцендентной валентностью – к бесконечности. Но даже в своих предельно детерминированных формах, необходимость генетически восходит через ряд промежуточных ступеней бытия к несотворимой свободе духа, является ее последовательной объективацией. «Человек, - писал Н.Бердяев, - принужден жить в двух разных порядках, в порядке существования, всегда личного, хотя и наполненного сверхличными ценностями, и в порядке мира объективированного, всегда безличного и к личности равнодушного»[732]. Необходимости нет и не может быть за пределами действия спонтанной Свободы, она не столько ее онтологический антипод сколько «конечный продукт» ее эманирования (или по иному «энтропии»). Промежуточные ступени целостного континуума бытия представляют собой некие онтологические сгущения, образованные в результате экзистенциального синтеза гармонии свободы и порядка необходимости, в которых метаисторически первая идет на убыль, а второй ассиметрично первой возрастает. Человек абсолютно свободен в Духе, но уже менее свободен в Культуре, более детерминирован внешними обстоятельствами в Цивилизации, в Технологии же его свобода Духа почти полностью иссякает и замещается необходимостью Тела.
Что же происходит со свободой на этапе онтологического восхождения технологии? Когда речь идет о квазитехнологии, т.е. о технологии, стремящейся распространить детерминацию порядка необходимости на все мироздание, то имеется в виду отнюдь не необходимость, остающаяся и генетически и функционально связанной со свободой, а необходимость, по меткому замечанию Н.Бердяева, являющаяся «падшей свободой». Если в естественной природе порядок необходимости все еще удерживается спонтанной свободой, которая не дает ему возможности ввергнуться в беспорядочность хаоса, то в природе искусственной свобода представляет собой лишь некий реликт креативной спонтанности. Здесь она является «падшей» потому, что человек ею трансцендентально наделенный своим перманентным грехопадением на самой последней ступени своего отпадения от Абсолюта окончательно ею поступается во имя установления абсолютного порядка необходимости. Именно на этапе формирования технологического универсума порядок свободы окончательно вытесняется порядком необходимости. Необходимость в своей крайней онтологической форме есть не что иное как рационализированная свобода. Бергсон говорил, что все рациональные определения свободы ведут к ее исчезновению. Ему вторит Н.Бердяев: «Всякая рационализация свободы - есть ее умерщвление»[733]. Если свобода еще и присутствует в технологическом универсуме, то лишь в качестве «мерной свободы», причем ее мерой становится необходимость. В социальной организации человеку еще предоставлялась возможность выбирать между различными уровнями долженствующей свободы, будучи же интегрированным=интернированным в универсум объективаций ему уже остается разве что выбирать между различными уровнями необходимой свободы или между различными порядками несвободы.
Посредством системы дескриптивных суждений наука моделирует такую форму существования человека, в которой свобода становится рациональной, а рациональность - свободной, в силу чего и начинают безраздельно господствовать законы необходимости. Здесь свобода, действительно, оказывается познанной необходимостью, т.е. превращается в свою противоположность – в несвободу. Свобода всегда трансцендентна, а потому и трансрациональна, в отличие от нее необходимость – рациональна, а потому будучи спроецированной за пределы универсума объективаций непременно оборачивается несвободой. Свобода лежит за рамками гносеологического пространство Объекта, как и Необходимость находится за пределами онтологического пространства Субъекта. Субъект, если он не утратил еще иерархию своих онтологических статусов вполне в состоянии познать необходимость, но лишь для того, чтобы быть «свободным для» преодоления объективированных форм своего существования, быть способным осуществлять самотрансцендирование. Отнюдь не по ступенькам рационального познания необходимости восходит человек к сакральной свободе, к ней он может лишь возвращаться по ступенькам трансценденцендирования необходимости, активного преодоления любых упорядоченных структур сущего. В этом суть духовного возрождения падшего человека.
Субъект, чей онтологический статус низведен до статуса гносеологического субъекта становится органом самосознания Порядка Необходимости и не столько познает Действительность в контексте гармонической Свободы, сколько своим рабством у Иного способствует преодолению им субъективированных форм его собственного существования. Скорее всего в условиях квазионтологического универсума срабатывает несколько иная, нежели известная гегелевская формула, а именно: необходимость есть познанная свобода. Гносеологический подход к свободе есть не что иное как способ каким необходимость выводится за рамки универсума объективаций и ее порядок принудительно навязывается тем нишам бытия в которых отнюдь не свобода, а необходимость всегда была «мерной».
Объектный подход к субъекту сопряжен с созданием системы тотальной несвободы, тогда как субъектный подход к «объективной реальности» способствует существенному расширению онтологических пределов свободы. Совокупность дескрипций, которыми описывается вся тотальность бытия, составляют собой семантическую основу репрессивного сознания телесного субъекта, планомерно умерщвляющего в мире все то, что ранее на протяжении метаистории порождалось божественным Провидением. Апостол Павел в своем Послании к Коринфянам писал: «Посмотрите, братия, кто вы, призванные; не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных (1 Кор 1, 26)». Мудрость, воплощенная в трансцендентные знания, исходит лишь из Духа, из Плоти отпавшей от Духа может исходить лишь «похоть знания».
Технолог в состоянии рационализировать лишь то, что до него трансцендировал Демиург. Однако этого Технологу мало, он сам стремится стать Демиургом и трансцендировать мир средствами дескриптивного дискурса, которая может быть лишь негативной трансценденцией, не созидающая структуры сущего, а разрушающая их. Рационализация Сущего и есть его трансценденция со знаком минус. Трансцендировать мир, его перманентно творить, можно лишь опираясь на спонтанность Духа, а не на детерминированность Тела. Присвоив себе функции Демиурга - творящего Субъекта, Технолог предстает уже не перед Предстоятелем, а перед его извечным антагонистом – духом зла. Дьявол и есть Квазитехнолог, пытающийся насильственно покорить мир, спонтанно и свободно творимый Демиургом. Не случайно в центре внимания князя мира сего находится древо познания добра и зла, однако «плоды познания» Иное интересуют лишь в связи с содержащимися в них орудийными возможностями, овладев которыми он лелеет мечту подобраться к ненавистному «древу жизни», чтобы вырвать его с корнем из апофатических глубин Неиного. Насколько же точно интуиция первочеловека в мифе об изгнании человека из Рая выявила губительный характер чистого рационального дискурса для судеб трансрациональной человеческой жизни. Современная наука и технология построили столь разветвленное «древо знания», что под его разросшейся кроной «отвлеченных представлений», не пропускающей живительные лучи божественного света, уже почти зачахло «древо жизни».
В онтологическом плане социальная катастрофа начинается с отпадения технологической необходимости от породившего ее социального долженствования и преобразования последнего в необходимое долженствование («долг ради необходимости»). Человек долженствующий на этапе онтологического восхождения технологии превращается в человека выполняющего свой долг уже не перед обществом, а перед законами объективной необходимости, по крайней мере одним из принципов его жизнедеятельности становится установка на предельную активацию в русле действия законов эволюции внешнего объективированного мира. Опосредованные технологией объектно-объектные отношения начинают возвышаться над субъектно-объектными отношениями Цивилизации, субъектно-субъектными отношениями Культуры и внутрисубъектными отношениями Культа, креация, общение и деятельность своими рационально-превращенными формами становятся эпифеноменами репрессивной «воли к знанию», инфраструктурой процесса рационального познания. Утрачивая нормативный язык совместной деятельности человек постепенно теряет способность и к ролевому взаимодействию с другими акторами. Деятельностный акт таким образом освобождается от акт-оров и замещается роботами, интеракция между которыми моделируется уже не прескриптивными знаниями, принадлежащими совокупному социальному опыту, а дескриптивными нормами являющимися составной частью рационального дискурса.
В системе «человек-машина» нормообразующим началом оказывается уже не человек, а машина и поведение человека становится все более рациональным с точки зрения Рацио и крайне иррациональным с позиции Логоса. Если Цивилизация призвана соединять личностно множественное в единую социальную массу, то Технология стягивает разрозненные тела в некую единую массовидную телесность, в которой снимаются последние морфологические различия между индивидами, обретающими «уникальную» возможность «стереотипно» ощущать всю совокупность чувственных интенций исходящих из квазителесной общности в виде перманентной оргии, постоянно подпитываемой единым и универсальным комплексом услуг и утех. Технология выступает средством соединения в единую квазителесность огромное многообразие человеческих тел, вне зависимости от степени их укорененности в высшие экзистенциальные структуры бытия. Межтелесные отношения – это гипостазированные отношения Ты-Ты выродившиеся в систему связей Оно-Оно. В пределах технологических отношений «Оно–Оно», каждое телесное Я вбирает в себя другое Оно, в той степени, в какой оба объединены общей любовью к единому для них Универсуму Тел для обозначения которого вполне подходит местоимение - Они. Квазитехнология делает несоместимыми онтошения «Ты-Ты» и «Оно-Оно» и прежде всего потому, что социальные чувства являются неуместными там где господствует вожделение к вещам и в их числе к человеческой вещи. Отношения между Оно-индивидами, как рационально овеществленными субъектами могут быть лишь сексуальные, но отнюдь не эротическими. «В чем же…, - задается вопросом П.А.Флоренский, - противоположность вещи и лица, лежащая в основе противоположности вожделения и любви? – В том, что вещь характеризуется через свое внешнее единство, т.е. чрез единство суммы признаков, тогда как лицо имеет свой существенный характер в единстве внутреннем… тождество вещей устанавливается чрез тождество понятий, а тождество личности – через единство самопострояющей или само-полагающей ее деятельности»[734]. Согласно Сартру, групповое поведение прежде всего означает поглощение субъективности объективирующими человека стереотипами бытия, редуцирующими его уникальность к анонимному мы. “Мы здесь отсылает к опыту существ-объектов, находящихся вместе”. Шелер полагал, что если жизнь влечений, первоначально направленная исключительно на способы поведения и на блага, а отнюдь не на наслаждение как чувство, принципиально используется в качестве источника наслаждений, как во всяком гедонизме, то мы имеем дело с поздним явлением декаданса жизни. Образ жизни, ориентированный только на наслаждение, представляет собой явно старческое явление, как в индивидуальной жизни, так и в жизни народов. Вполне справедливо утверждение, что человек всегда может быть лишь чем-то большим или меньшим, чем животное, но животным - никогда[735]. На этапе онтологического восхождения технологии вера в социальную упорядоченность замещается верой в упорядоченность телесную, в которой каждый из индивидов в состоянии максимально удовлетворить свои биогенные потребности, причем за пределами социально-статусных условностей и привилегий. Отныне в привилегированном положении оказываются не те кто занимает высшие ступени в социальной иерархии, а сутенеры и проститутки, естественно в их предельно широком экзистенциальном значении. Кумиром человека био-рацио-массы становится тот, кто соответствует своим поведением скорее жестокому маньяку маркизу де Саду, нежели любвиобильному и ветренному Дон-Жуану. Любовь становится насильственной, а насилие любвиобильным. Социальные чувства замещаются чувствами ко всему искусственному и неживому, прежде всего к миру техники. Некрофилия, считает Э.Фром, на этапе перехода к технотронной цивилизации начинает теснить биофилию - любовь к естественному и живому.
Онтологической опорной точкой для Оно является отнюдь не другое Оно, а внешняя отелесненная реальность, в которых Они всего лишь совокупность взаимозаменяемых деталей единой био-машинерии. Телесное Я лишь формально участвует в выборе другого Оно в качестве своего, как принято сейчас называть, «сексуального партнера», так как лишь Они, опираясь на строго научные тесты, в состоянии точно определить какие конкретные Оно своими сопряженными потребностями и ресурсами в состоянии образовать «счастливую партию». Телесная соразмерность чуждых Оно довольно легко просчитывается, их чувства друг к другу как к овеществленным индивидам вполне поддаются алгоритмизации, а потому всегда есть довольно большая вероятность того, что если подобранная таким рациональным способом пара будет строго придерживаться специально разработанной для них рациональной программе, их счастью не будет конца.
Динамика отношений Оно с Оно есть не что иное как процесс их взаимной рационализации и перманентной генерализации в Единую Телесность экзистенциально аутентичную Единой Технологии. Дескриптивная технология служит «средством» саморационализации Оно в Оно, способствует совместному их присвоению ими «природных» сущностных сил и не иначе как в процессе активной модернизации естественной природы в природу искусственную. «Но выслушай истину во всей ее серьезности, - писал Мартин Бубер, - человек не может жить без Оно. Но тот, кто живет только с Оно, - не человек»[736]. В автономную дескриптивную технологию способны укореняться отнюдь не целостные субъекты, а лишь их телесные проекции, когда же их воплощенные объективации вновь оказываются интериоризированными и в превращенной форме становятся их рациональными диспозициями, то эти существа уже с большой натяжкой можно причислить к роду человеческому. Инородность социального в телесном постепенно преодолевается переводом субъектно-объектных отношений под юрисдикцию объектно-объектных отношений, в рамках которых людей связывают уже не социальные, а сугубо телесно-технологические функции.
Противостояние телесного принципа принципу социальному в этой маргинальной экзистенции существенно нарушает баланс в соотношении социального бытия и собственно бытия или бытия в его объективированной форме. Социально опосредованное бытие человека в результате радикальной технологической трансформации оказывается отчужденным в пользу бытия телесных субъектов и создаваемых ими технологических комплексов, субъектно-объектные отношения в конце концов оказываются производными от объектно-объектных отношений, причем межличностные связи трансформируются в связи межтелесные. В результате модификации субъектно-объектных онтошений деятельности в объектно-объектные отношения познания, субъекты, в основном, начинают взамодействовать лишь своими перцептивными и телесными свойствами. В пределах технологического универсума «субъекты» вступают в отношения друг с другом в качестве псевдосубъективаций единого объективированного пространства, как персонификаторы «воли к знанию», исходящей из всемирной телесной целокупности. Понимание Оно-подобными субъектами друг друга достигает почти предельной однозначности, так как их устами и вопрошает и ответствует сама Логика, если и встречаются порой антиномии непонимания, то лишь в связи с некоторыми издержками Словаря, состав знаков и значений которого перманентно уточняется, в связи с перманентным распадом самовитого Слова на дурную терминологическую бесконечность. В процессе многократного перехода субъекта в объект, а объекта в субъект индивиды оказываются во все более мономорфной и логизированной коммуникативной системе и настолько отчуждаются от межсубъектного смыслового пространства, что перестают замечать, что выступаю всего лишь ментальными проводниками экстенций объективной реальности, некими сводниками между «похотью тела» и «похотью знаний». Причем «страдающим существом» оказывается не человек наделенный «несчастным сознанием», а отчужденный от него мир, которому он призван искренне сочувствовать и сопереживать.
Телесно-технологический универсум, глобальная система объективаций нуждается в постоянном обновлении своего морфологического базиса, вне перманентной модернизации объектно-объектных отношений невозможно поддерживать высокие темпы прогрессивного развития. Обособившееся от высших субличностей Оно начинает все более радикально упорядочивать естественные процессы и формы, а затем и вовсе заменять их на искусственные. Процесс перманентного инновирования телесно-технологического универсума приводит к необходимости к его столь же перманентному упорядочиванию. По отношению к универсуму объективаций лишь Оно в состоянии наиболее эффективно выполнять упорядочивающующую функцию, так как само Оно есть не что иное как упорядоченный ментальный хаос. “Только Оно, - пишет Мартин Бубер, - может быть упорядочено. Лишь когда вещи из нашего Ты превращаются в наше Оно, возникает возможность их координирования. Ты не знает системы координат... упорядоченный мир не есть мировой порядок”.[737] Лишь с рациональной модификацией социального Ты в телесное Оно, Гармония окончательно вытесняется Порядком, а онтологическая структура Сущего становится вполне мономорфной. В пределах межтелесных, объектно-объектных отношений человек предстает перед безличным Мировым Телом всего лишь в качестве одного из многочисленных его интериоризированных инвариантов. Последовательный рацио- и техногенезис человека есть процесс перманентного дробления его витальных функций на все более дробные аналоги элементов единого технологического процесса. С низложением с себя социального статуса человек способен осознавать лишь свою телесную аутентичность и не иначе как в зеркале дескриптивного дискурса, кумулирующего его рефлексию на сферу технологически опосредованных витальных потребностей. Граница технологического бытия проходит по онтологической конфигурации, составленной из элементов отелесненной экзистенции, субъектную основу которой составляют Они. Отношения «Оно-Оно» или объектно-объектные отношения вне социального контекста отношений «Ты-Ты» ведут к полной утрате индивидами своей социальной идентичности и возникновению Оно-аутентичности. Межтелесные отношения вырванные из целостного контекста экзистенциальных связей начинают все более походить на функциональные связи между деталями машины, подчиняющиеся принципам ее функционирования.
В отношениях между телесными Оно «третьим лишним» уже оказывается социальное Ты. Если в ситуации антропного общения между Я и Ты Другим оказывается Бог, а в ситуации социального взаимодействия Я и Ты Человек оказывается Посторонним, то в ситуации телесно-технологической интеракции Оно с Оно Социальный Индивид превращается в Изгоя. Моделью отношений между отелесненными субъектами вполне может быть фабула повести Ф. Кафки «Превращение». Правда у Ф. Кафки этим изгоем оказывается все же не социальный, а телесный субъект - Замза, на глазах у родственников превращающийся в огромное насекомое, место которому находится лишь под кроватью. Но ведь в творчестве Ф. Кафки мы имеем дело с созданием телесно-рациональной антиутопии, а потому нам предлагаются для эстетического восприятия значения с обратными смыслами. Превращение людей в животных становится вполне реальной экзистенциальной перспективой, в которой конечно же не телесные субъекты, а именно те, кто не сумел окончательно превратиться в таковых пополнят собой ряды изгоев и изгнанников. Рациональное сознание является более регидным, нежели предшествовавшие ему онтологические формы сознания, а потому в технологическом универсуме не могут вместе с Оно сосуществовать Другие и Посторонние, все они становятся Изгоями. «Достигая ступени самосознания, - пишет Маркузе, - сознание обнаруживает себя как Я, а «Я» прежде всего означает вожделение: оно приходит к сознанию себя, только достигнув удовлетворения и только посредством «другого». Но такое удовлетворение предполагает «отрицание» другого, ибо «Я» должно утвердить себя как истинное «бытие-для-себя» в противоположность всякой «другости»»[738]. Предельно отчужденный телесный субъект в ментальном плане есть интериоризированное чуждое Оно, некая рациональная калька с вожделеющей Субстанции, он не терпит присутствия Того, кто в состоянии подойти к его похотливой экзистенции с трансрациональных мерок, такой необъективный Свидетель должен быть физически устранен. Если исходить из трехчленной структуре личности З. Фрейда, состоящей из Супер-Эго, Эго (Я) и Оно, то в структуре телесного субъекта мы не досчитаемся Супер-Эго или Сверх-Я. Именно с этой ментальной диспозиции осуществлялась корекция отношений между Оно и Я, с полным устранением этого внутреннего Цензора Я становится всего лишь рационально сублимированным Оно, которое окончательно сливается в своем экстазе с телесной организацией Мира.
Оказавшись в явной зависимости от технологического прогресса, телесный субъект мотивирует свое добродеяние по отношению к другим людям необходимостью следовать требованиям единых законов бытия, «быть человечным» это прежде всего означает составлять вместе другими индивидами некое целокупное вселенское тело. Естественно, что дескриптивные мерки прикладываемые к добродеянию лишает в его не только собственно человеческого, но даже и социального содержания. Добродеяние становится функцией рационального дискурса и той сферы технологизированного бытия в которой сохраняются реликты человечности, скорее всего это касается людей творческих, чья эвристическая деятельность еще не вполне поддается алгоритмизации. В соответствии со степенью зависимости человека от законов технологической необходимости нарастает и объем злодеяния в универсуме объективаций по отношению к людям, которые не в состоянии адаптироваться к добродеянию выродившемуся во внешнее благополучие. Добро ради необходимости есть идеология абсолютного злодеяния, так как предполагает пособничество тем силам, которые совершают тотальное насилие над человеческой экзистенцией. Необходимость противостоящая добродеянию, ограничивающее культуротворческие интенции души рамками производства средств производства вполне может конституироваться в качестве рациональной формы злодеяния. Антиценностная и квазирациональная необходимость есть высшая форма античеловечности, даже если при этом человек как физическое существо автоматически реализует свои витальные потребности. В универсуме объективаций Зло как проявление Иного прикрывается якобы онтологически нейтральной Необходимостью. Однако это далеко не так, необходимость от свободы как раз и отличается своей репрессивной принудительностью. Человек в мире объективаций вынужден следовать чуждым свободе духа требованиям внешней детерминации. «Суть не в том, что мы не смеем делать все, что нам хочется. – писал Ортега-и-Гассет. - Суть в ином – мы можем делать только одно, а именно то, что должны делать; можем быть только тем, чем должны быть. Единственный выход – это не делать того, что мы должны делать. Но это еще не значит, что мы свободны делать все прочее. В этом случае мы обладаем лишь отрицательной свободой воли (noluntas). Мы вольны уклониться от истинного назначения, но тогда мы, как узники, провалимся в подземелье нашей судьбы»[739]. Рациональное зло в онтологическом аспекте есть внедобродетельная необходимость или добродеяние со знаком минус. С началом отпадения технологии от цивилизации эскалация зла в экзистенции нарастает по мере того как все более принудительными становятся ее законы необходимости, нарушения которых чреваты социальными потрясениями и экологическими катаклизмами. В рационалистически понимаемое зло включается отнюдь не степень отклонения универсума объективаций от гуманистического проекта или социальной идеи человечества, а, напротив, степень аномии человеческой экзистенции от непреложных законов научно-технического прогресса.
Социальная катастрофа, по всей вероятности, завершится насильственным установлением разумного Порядка или порядка Разума во всех нишах многомерного человеческого бытия. Если “Бессильный Дух” был свергнут “Сильным Человеком”, а Человек был повержен “Всесильным Социумом”, то последний падет под ударами “Всемогущей Технологии”.
Ментальная составляющая социальной катастрофы. Генетически телесный субъект своими ментальными праформами восходит к сакрально-символической форме телесности Первочеловека. «Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?» (1 Кор 9, 11). Прателесная субличность своими трансцендентными, эвалюативными и прескриптивными формами неявно присутствовала в ментальности астрального, антропного и социального субъектов. С обособлением телесной субличности с ее рациональным дискурсом ее перво- и прафеномены оказались вытесненными в актуальное бессознательное, составляя собой телесную инфраструктуру глубинных архетипов человеческой личности. Переворот в структуре человеческой ментальности завершается полным доминированием в ней телесной субличностью, с которой человек все более отождествляет свой внутренний мир. Субъектом исторического процесса на этапе онтологического восхождения технологии становится телесная форма дискурса или дискурсивная форма телесной.
Рациональное сознание телесного субъекта подвергает радикальной реификации все то в телесных отправлениях, что ранее не могло составлять содержание публичного обсуждения. Основу рационального дискурса начинает составлять отнюдь не интимная любовь, а изыски технологии сексуального поведения. «Великая проповедь секса, - пишет Фуко, - у которой были свои изощренные теологи и свои голоса из народа, в течение нескольких последних десятилетий обошла наши общества; она бичевала прежний порядок, изобличала всяческие лицемерия, воспевала право на непосредственное и реальное; она заставила мечтать об ином граде… спросим себя, каким образом могло статься, что лиризм и религиозность, которые долгое время сопутствовали революционному проекту, в индустриальных западных обществах оказались перенесенными, по крайней мере в значительной своей части, на секс»[740]. Придавая «основному инстинкту» статус всеобщей категории, рациональное самосознание пытается прояснить последние таинства человеческой экзистенции. Отныне рациональное Я знается лишь со своей телесностью, пытаясь изменениями в дескриптивном дискурсе предвосхитить тончайшие изменения в системе витальных потребностей. Ментальность современного человека катастрофически стремится к нулевой отметке, основные его функции начинают тотально подчиняться принципу удовольствия. Действительно, современный объективированный мир вполне может осознаваться в качестве внешних проекций сублимированных структур либидо и в этом плане фрейдистская теория вполне верна, однако верна лишь по отношению к самой низшей форме человеческого присутствия в мире, наиболее ярко манифестируемое западной технологической цивилизацией. Рационализация иррациональных телесных наслаждений в свою очередь подпитывает своими «прецедентами» развертывание все более радикальных представлений о сексе и насилии, которые в эстетически превращенной форме становятся содержаниями, транслируемыми по каналам массовой коммуникации. Тирания тела над духом оказывается столь неотвратимой и тотальной, что от нее уже невозможно укрыться даже в элитарный «замок из слоновой кости», так как его стены давно стали проницаемыми для зова плоти. Уже не естественная человеческая телесность, а некая вселенская телесность начинает претендовать на статус субъекта власти над объективной действительности.
На этапе онтологического восхождения технологического универсума ментальный конфликт, в основном, разворачивается в четырехмерном пространстве телесной субличности между явным (новоявленным) телесным Я и его трансцендентной, антропной и социальной праформами, т.е. неявными прателесными Я, содержащимися в трансцендентном, антропном и социальном Я. Прателесные формы в ментальности индивидов дотехнологических эпох пребывали в форме потенциального бессознательного и оформились в особую телесную субличность в результате выделения и обособления в системе знаков и значений дескриптивных знаний, составивших собой знаковую основу рационального дискурса о телесности. Неявные формы телесности в ходе перманентного эманирования переходя одна в другую в конечном счете оказались воплощенными в явную телесную форму человеческой ментальности. В связи с тем, что телесное Я своими праформами генетически восходит к телесности Первопращуру, то именно эта генетическая линия в человеческой ментальности оказывается под угрозой экзистенциального обрыва, становится той линией высокого напряжения по которой к первоначалам бытия подаются наиболее разрушительные импульсы. «Если вопрос о человеке и был поставлен – в его специфике как живущего и в его специфике по отношению к другим живущим, - пишет Фуко, - то причину этого следовало бы искать в новом способе отношения истории и жизни: в том двойственном положении жизни, которое ставит ее одновременно и вне истории – в качестве ее биологической окрестности – и внутри человеческой историчности, пронизанной ее техниками знания и власти»[741]. Проблема соотношения явной и неявной телесности в человеческой ментальности еще ждет своей корректной постановки в качестве кардинальной проблемы человеческой витальности. Пока что на ней спекулируют весьма иррациональные формы биологизма. Конечно же Человек является и существом телесным, однако он не может быть однозначно редуцированным к биосфере, напротив, биота своими высшими экзистенциальными формами составляет органическую часть экзистенции Иерархического Человека. Следующая проблема, которая должна найти свое разрешение в рамках субъектоцентристского мировоззрения, связана с обнаружением внутреннего источника движения иррелевантной человеческой телесности субстанциальной формы действительности.
С возникновением явного телесного Я, именно его неявные праформы, вытесненные из сферы сознания и ставшие компонентами бессознательного своими интенциями вступают в конфликт с гиперрациональными экстенциями. Этот конфликт, в основном, разворачивается между астрально-антропно-социальной формой актуального бессознательного и телесно-рациональной формой сознания. Если бы развертывание ментальной структуры человека осуществлялось не в форме отпадения от высших субличностей низших Я, а в форме органического присовокупления вторых к первым, то тогда постепенно оформилась внутренне гармоничная личность, которую Карсавин называл симфонической личностью. Каждая субличность, утверждал Карсавин, в «симфонической личности» поет своим особым голосом и все вместе согласованным пением создают гармонию души. Наиболее тихим голосом обладает, конечно же, самая высшая субличность – трансцендентальное Я. Дисгармония в ментальности человека возникает тогда, когда субличности поют не со своего голоса, когда они фальшивят, причем особой фальшью отличаются наиболее ложные и репрессивные Я. С внешним универсумом объективаций конфликтует отнюдь не телесное Я, выступающее его сознательным контрагентом, а неявные прателесные субличности, содержащиеся в высших структурах бессознательного. Однако их голоса еле слышны за все более нарастающим гулом и лязгом технологической машинерии.
История технологии в метальном плане есть, прежде всего, история развертывания телесной субличности онтологически аутентичной объектному присутствию человека в универсуме его самообъективаций. Телесная субличность есть интериоризация экстенций технологической необходимости, которые в свою очередь представляют собой рациональную экстериоризацию телесной субличности. Ментальное обособление телесного Я может рассматриваться и в качестве заключительного этапа истории перманентной дегуманизации человека, его окончательного расчеловечения. Дегуманизация в ХХ веке, утверждал Н.Бердяев, происходила в двух основных направлениях: натуралистическом и техницистском. Чем ближе к концу истории, тем более человек подчиняется как природным, так технологическим силам, которые онтологически изоморфны. Мало сказать, что человек этим силам подчиняется, он растворяется и исчезает или в природной жизни, или во всемогущей технике, принимая образ и подобие и природы и машины. И в том, и в другом случае он утрачивает свой собственный человеческий образ и разлагается на элементарнейшие диспозиции. Человек исчезает с исторической арены как существо целостное, как существо внутренне центрированное, духовно сосредоточенное, сохраняющее связь и единство. Дробные и частичные элементы человеческого существа предъявляют права не только на автономию, но и на верховное значение в жизни. Самоутверждение этих разорванных элементов в человеке, например не сублимированных элементов подсознательного, сексуального влечения или воли к преобладанию и могуществу, свидетельствуют о том, что целостный образ человека исчезает и уступает место нечеловеческим природным элементам. Н.Бердяев особо подчеркивал, что человека в его изначальной феноменальности уже не существует, то существо, которое продолжает носить его имя есть всего лишь набор наиболее элементарных ментальных функций. Распадение человека на те или иные функции есть прежде всего порождение технической цивилизации. Техническая цивилизация требует от человека выполнения той или иной функции, и она не хочет знать человека, она знает лишь функции. Это уже есть не просто растворение человека в природе, а уподобление человека машине. Когда цивилизованный человек тяготеет к природе, то это означает, что он испытывает страстное стремление вернуться к своей изначальной целостности и бессознательности, так как рациональное сознание его разложило и сделало несчастным. Когда человек стремится к совершенному исполнению технических функций, когда уподобляет себя новому богу - машине, то это уже тенденция обратная, ведущая не к целостности, а к еще большей дифференциации. Человек исчезает и в той и в другой тенденции, обе тенденции дегуманизируют[742]. Выделенные Н.Бердяевым две основные тенденции дегуманизации человека в технологической эпохе особо остро обнажились к концу ХХ столетия.
С обособлением телесной субстанции человека от его социальной организации в качестве особого универсума объектно-объектных отношений, объективный мир оказывается предельно десубъективированным, ему уже нет надобности воспроизводить довольно сложную иерархию социальных статусов, позиций, ролей и проч., теперь он полностью переключился на то к чему органически предназначен – на производство вещей имеющих потребительскую стоимость и систему потребностей, насыщение которых приводит к их расширенному воспроизводству. Возникает некий порочный круг производство ради потребления и потребление ради производства, суть которой довольно точно передается незамысловатой формулой: «человек живет, чтобы есть, а ест, чтобы жить». В этот весьма замкнутый экзистенциальный круг совершенно не вписываются надтелесные способности и потребности человека. В структуре личности социальные диспозиции начинают активно вытесняться диспозициями рациональными, представляющими собой не что иное как субъективации технологических функций. Невостребованные ментальные потенциальности, которым отказано оформиться в соответствующие актуализированные способности переходят, по определению Юнга, в разряд недоразвитых функций, пополняющие собой и без того перегруженную структуру бессознательного. “Недоразвитая функция, - писал Юнг, - освобождаясь от сознательной диспозиции, по собственному побуждению, т.е. как бы автономно, бессознательно сливается с другими функциями; проявляется она при этом без дифференцированного выбора, чисто динамически, словно какой-то натиск или как простое усиление, которое придает сознательной дифференцированной функции характер восхищенности, увлеченности или насильственности; вследствие этого сознательная функция в одном случае переходит за пределы, поставленные намерением и решением, в другом же случае, напротив, задерживается еще до достижения своей цели и уклоняется в сторону, в третьем случае, наконец, происходит столкновение ее с другой сознательной функцией; этот конфликт до тех пор остается неразрешенным, пока двигательная сила, бессознательно вмешивающаяся и тормозящая, не дифференцируется сама собою и не подчинится известной сознательной диспозиции… Варварство заключается в односторонности и в безмерности – в несоразмерности вообще”[743]. Таким образом, на каждом новом витке грехопадения, отпадения все более низших субличностей от целостной ментальности, все более множится совокупность “недоразвитых функций”, гипертрофия которых и составляет ментальную основу новой исторической формы варварства. Каждой исторической эпохе присущ свой особый тип варварства, в эпоху онтологического восхождения технологического универсума складывается высший тип варварства, ментальную основу которого составляют недоразвитые сакральные, антропные и социальные функции человека.
Существенной причиной расщепления человеческой телесности на морфологические функции и их дальнейшей объективации в качестве технологических функций является страстное желание человека физически удвоить себя созданием параллельной телесности, посредством которой он стремится максимизировать удовлетворение своих витальных потребностей в запредельной форме. Однако чем более его органические функции дублируются функциями технологическими, тем менее самодостаточной оказывается его «внутренняя телесность». Наконец наступает такой исторический момент, когда морфологические процессы в микротеле могут протекать уже не иначе как «запараллеленные» с подобными технологическими процессами в макротеле. В конце концов интегральная совокупность человеко-тел вынуждена будет интегрироваться во всеобщий телесный организм, жизнедеятельность которого способна поддерживаться лишь строго определенным набором технологических процессов и структур.
Дробление человеческой индивидуальности приобретает столь широкий масштаб, что соединить и упорядочить их в некую ментальную псевдоцелостность оказывается возможным уже не на цивилизационной, а на технологической основе. «Неверно, - писал Шиллер, - что развитие отдельных сил должно влечь за собой пожертвование целостности; или же, сколько бы законы природы к этому ни стремились, все же должно находиться в нашей власти восстановление этой уничтоженной искусством целостности нашей природы, при помощи искусства еще более высокого»[744]. Жизнь человека в современной “технологической цивилизации” от рождения до самой смерти напоминает полный технологический цикл, этапами которого являются проектирование, производство, использование, и, наконец, утилизация индивида как вещи. Преодолевая свою социабельность, все более превращаясь из социальной вещи, в вещь телесную, человеческая экзистенция становится все более технологичной, а технология - экзистенциальной. Но чтобы окончательно превратить человека в объект тотальных технологических изменений его необходимо из вещественной телесности превратить в отелесненную вещественность, а затем и просто в вещь. «Перед лицом вечности, - писал П.А.Флоренский, - все должны разоблачиться ото всего тленного и стать нагими. И понятна отсюда пустота души, лишившейся большей части своего содержания»[745]. Пустотность души должна быть трансцендентно соразмерной «нищете духа» лишь при этих условиях она вновь может в него «свернуться». Душа отягощенная вещами, и более того, сама превратившаяся в вещь не в состоянии предстать пред Духом в своей изначальной чистоте. Именно о таких душах говорится, что они оказались окончательно загубленными их «владельцами», польстившимися на прельщения князя мира сего. Естественный человек, измученный этими вечными проблемами становится крайне неэффективным для реализации целей технологического прогресса, а потому и подлежит замещению человеком искусственным.
Создание искусственного человека, в котором все естественные процессы будут заменены на технологические и есть цель технологической утопии, которая обретает все больше своих сторонников. Но ведь это уже будет не Субъект, а Объект, скажете вы и будете совершенно правы. В этом то и состоит стратегическая цель рационального Дискурса или дискурсивного Рацио: осуществить полную и окончательную редукцию Субъекта к Объекту, а затем реифицировать Объект в качестве Субъекта.
По набору «поведенческих актов» Человек и Машина становятся все более онтологически аутентичными, различающиеся лишь тем, что основу «человеческого поведения» составляют, в основном, биогенные, а «машинного поведения» – техногенные процессы. Однако и та и другая формы внешнего поведения вполне в состоянии интегрироваться в некий био-технологический симбиоз, обладающий единой дескриптивно-нормативной системой взаимодействия, способной в перспективе стать мономорфной за счет радикальной технологизации человеческой телесности. Создание биоробота, а затем и просто робота уже не является фантастическим проектом, он вполне может реализоваться как только человек вознамерится окончательно укорениться в универсум самообъективаций. Человек, освободившийся от своей биологической оболочки не будет более нуждаться в каких либо ограничивающих поведение нормах, оно будет полностью и окончательно регулироваться всеобщим рациональным дискурсом. Конечно же это утопия, но как известно утопические проекты, к сожалению, имеют тенденцию воплощаться в жизнь и, главное, в особо изуверских формах. Опираясь на диктат потребностей над способностями, автоманипулируемый субъект свое открытое поведение, сам того не осознавая, будет организовывать в качестве некоей ментальной разновидности рационализированного технологического процесса. Социальная технология окончательно инверсируется в свою противоположность – в технологическую социальность, шаблон поведения и чувств телесной массы окажется столь мономорфным, что вполне будет поддаваться строго научному прогнозированию и рациональной регламентации.
Не за горами создание некоей разветвленной системы «регламентных работ», в рамках которой периодически будут устраняться выявленные дефекты и поломки в человеческих телах постепенно вырабатывающих свой «витальный ресурс». Эта система «капитального ремонта» несомненно будет обеспечиваться целым комплексом био-технологических структур и дисциплин, в которых воплотятся наконец-то утопические идеи евгеники. Последовательно интроецируя природу объекта в ментальность трансцендентного надприродного субъекта, историцизм в конце концов обретет своего идеального псевдосубъекта.
Универсум объективаций может оставаться онтологически устойчивым отнюдь не за счет укорененности в нем телесного субъекта, а в связи с тем, что сам телесный субъект экзистенциально связан со всей иерархией субличностей, даже в том случае, если они, в основном, оказываются вытесненными в сферу бессознательного. Быть заключенным в бессознательное означает для них инобытийствовать в тех онтологиях в которых их явное укоренение оказывается невозможным. Инобытийствование надтелесных Я в технологическом универсуме и придает ему столь необходимую, хотя и весьма относительную устойчивость. Однако именно с этими благотворными проявлениями высших форм телесности и ведет свою беспощадную борьбу телесное Я, окончательная победа над которыми несомненно окажется «пирровой». Как только сознание телесного субъекта посредством рационального дискурса окончательно покончит с неявным присутствием в технологическом универсуме высших форм телесности с их трансрациональными интенциями, прекратит свое существование и технологический универсум, а с его исчезновением завершится и перманентная экзистенциальная катастрофа.
Реализация любых радикальных целей в сфере отчужденных сущностей, как правило, приводит к обратному результату, чем более более Человек расчеловечивался обществом, тем более десоциализировалось и само Общество, постепенно превращаясь из «вещественной социальности» в «социальную вещественность». Вещи одна за другой стали освобождаться от социальности как от своего весьма инородного предиката. В конечном счете десоциализированный мир вещей окончательно обособился в универсум технологических объективаций и подмял под себя все те общественные структуры, которым еще не так давно служил верой и правдой. Теперь сами социальные феномены становятся своеобразными потребительными стоимостями для универсума хищных вещей. Телесный субъект способен идентифицировать себя лишь с телесной организацией мира, ему недоступны более высокие формы самоидентификации. В ментальном плане социальная катастрофа, прежде всего, вызвана утратой индивидом своей социальной аутентичности, что и определяет особый характер и содержание третьего этапа кризиса гуманизма. Происходит разрыв социально опосредованного гуманизма с телесно превращенной формой человечности. Технологический универсум не в состоянии мириться с надрациональными формами человечности, рационализированный гуманизм выступает самой высшей формой антигуманизма еще и потому, что его обратной стороной является рациональное самоотчуждение человека. По глубинной сути своей технология не может быть гуманной как и гуманизм – технологичным. Создание разветвленной системы рационального псевдогуманизма необходимо лишь в целях апологетики бесчеловечной истории развития современного технологизированного мира, в чем объектоцентристская идеологема весьма преуспела.
Технология в момент своего рождения в качестве относительно самостоятельной онтологии уже несла в себе «свое иное», унаследованное от Иного от технологических праформ, содержавшихся в Цивлилизации и Культуре. С началом грехопадения человеческая экзистенция разворачивается в активном противодействии «развивающихся» структур Иного «эманационным» формам Неиного. Последовательное богостановление человека и его перманентная дегуманизация с момента сотворения мира становятся двумя основными полюсами его противоречивой экзистенции. ««Человек», - писал Шелер, - в котором, возможно, бессознательно для него самого всегда, происходит относительное Богостановление там и тогда, где и когда он есть лишь качественно нечто большее, чем животное, есть не покоящееся бытие, не факт, а только возможное направление процесса и одновременно – в рамках человека как существа природного, - вечная задача, вечно сияющая цель. Да, в этом смысле нет человека как вещи, - даже как относительно константной вещи, - но есть лишь вечная «возможная», в каждый момент времени свободно совершающаяся гуманизация, никогда, даже в историческое время не прекращающееся становление человека – часто с глубокими провалами в относительное озверение. В любой момент жизни в каждом из нас в отдельности и в целых народах эти регрессивные движения борются с процессом гуманизации»[746]. Особо обостряется борьба между Неиным и Иным, Богом и дьяволом на заключительной стадии метаистории, когда складывается универсум объективаций субъективного, призванный стать либо «твердью», «субстанцией» для Иерархического Человека, либо нижней бездной бытия, за которой разверзается абсолютное царство Неиного=Дьявола или что тоже самое Упорядоченного Хаоса, несущего смерть и разложение всему живому и гармоничному в Сущем.
Присутствие при смерти является наиболее остро переживаемым феноменом, придающим особую остроту человеческим ощущениям на «пиру во время чумы». Перенасытившийся внешними благами человек более всего начинает жаждать вечного успокоения. «Итак, мир идет к концу, - с прискорбием констатирует Н.Ф.Федоров, - а человек своей деятельностью даже способствует приближению конца, ибо цивилизация эксплуатирующая, но не восстанавливающая, не может иметь другого результата, кроме ускорения конца»[747]. Некрофильство становится основой для формирования человеконенавистнической идеологии, основу которой составляет идея тотального насилия во имя полной реализации воли к власти. Именно в этих условиях объектоцентристская мировоззренческая схематика находит свою максимальную востребованность со стороны массового человека, ведь в ней идея господства над миром возведена в абсолют.
Телесная организация мира, провоцируя развертывание все более низменных биогенных потребностей человека, постепенно превращает его в один из рядоположных объектов в универсуме человеческих самообъективаций, а точнее превращает его в некий рудимент искусственного организма, который должен отпасть сам собою, как пресловутый обезьяний хвост как только та вознамерилась стать человеком. Отторжение от «объективной реальности» всего субъективного в целях онтологической чистоты ее само-движения, авто-эволюции, есть не что иное как последняя фаза самоотчуждения, самовытеснения человека из им же самим выстроенного мироздания, «субъектом» такого окончательного отчуждения и вытеснения оказывается его собственная квазителесность, квазивитальность. Постепенно превращаясь в вещь, по своим «объективным параметрам» человек все более уступает «настоящим» вещам, которые в своем «становлении» обретают все более универсальные и абсолютные формы. Среди самообъективаций он оказывается самой неэффективной вещью, чья субстанция уже не выдерживает темпов эволюции, а потому, в связи с «онтологической ненадежностью» обречена на гибель. Абсолютная воля к власти в своей последней степени есть воля к Самоубийству во вселенских масштабах. Нерон, сжигавший Рим, видимо ощущал нечто более «высокое» нежели, то что ощущала огромная череда творцов, его возводивших. Этим более «высоким» и выступает воля к смерти, как высшая форма власти над своей собственной экзистенцией. Синдром Герострата и Нерона заложен в глубинных слоях человеческой телесности и он себя проявит в полную силу, как только этот пласт сознания превратится в последнюю «идею фикс», когда современная «концепция выживания» превратится в «концепцию тотального перевоплощения», будь то идея бесконечного клонирования, или галографической визуализации человеческой телесности, да мало ли под какую «высокую идею» можно реализовать «волю к смерти», в любом случае средством онтологического самоубийства станет желание полностью раствориться со своими квазипотребностями в универсуме полезностей, стать элементом объективной реальности.
Метаисторический этап, связанный с переходом от Цивилизации к Технологии не мог не завершиться социальной катастрофой, Молоху Прогресса нужна была новая жертва и ею стала социальная жизнь человека. Однако технология, как до нее и цивилизация и культура не повинна в том, что оказалась не столько средством социального созидания, сколько орудием разрушения человеческого общества. “Направленность техники - писал Карл Ясперс, - не может быть выведена из самой техники, ее следует искать в осознанном этосе. Человек должен сам найти путь к управлению техникой. Он должен отчетливо уяснить себе потребности, проверить их и определить их иерархию”.[748] Такой же точки зрения придерживается и Хюбнер. Весьма нелогично, считает он, было бы ожидать воплощения традиционных ценностей в той самой технике, которая содействовала переосмыслению или даже разрушению этих ценностей. С другой стороны, нельзя некритически ставить в упрек технике разрушение традиционного гуманизма и на этом основании упрямо противиться ей. Этот унаследованный нами гуманизм не является таким уж безупречным, как некоторые полагают, иначе вряд ли бы его постигла такая судьба[749].
С социальной катастрофой еще более расширяется присутствие Иного в Сущем, оно становится не только тотальным, но и предельно тоталитарным. Технологическое Иное окончательно вытесняет в Бессознательное все формы Неиного в Сущем. Сущее превращается в технологически упорядоченный хаос, чреватый уже не только социальной, но и природной катастрофой, подводящей к завершению перманентную экзистенциальную катастрофу. Заняв место Абсолюта, Тело становится Абсолютно Иным – Объектом, который и есть не что иное как Абсолютно Самоотчужденный Субъект. Но так как Квазителесность продолжает существовать в качестве Субъекта, хотя и предельно самоотчужденного, его экзистенция все еще остается по эту строну Бытия и своими онтологическими, хотя и отрицательными проекциями составляет историцистские формы Сущего. Мир внешний окончательно обособляется от мира внутреннего и тот оказывается его «онтологическим пленником», узником в камере смертников, наслаждающимся изысканными вещами – ведь таково его последнее предсмертное желание, которое палачами всегда почиталось за священное. Когда наступит эпоха абсолютного господства князя мира сего, человек будет буквально купаться в земных благах, которые явятся следствием сверхупорядоченности мирожизненных процессов. Но это будет предельно греховная жизнь, так как человек окончательно утратит чувство духовной гармонии.
Технология оказывается великой неудачей уже не только Цивилизации, но и Экзистенции в целом. Весь вопрос заключается в том, сумеет ли человек наконец-то осознать в чем эта неудача заключается и по возможности извлечь из нее уроки. Наиболее важным вопросом современной истории является вопрос о том сумеет ли человек преодолеть свое объектно-технологическое самоотчуждение, в ситуации, когда социальная катастрофа все более воспринимается им в качестве неизбежной? Опять приходится полагаться лишь на чудо, при условии, естественно, что человек окончательно еще не утратил способности воскрешать в себе сокровенное ставшее потаенным. В Коране говорится: «Поистине, Бог не меняет того, что с людьми, пока они сами не переменят того, что с ними (Сура 13:12.)». Это чудо может произойти, если человек сумеет восстановить контроль социума над технологий, культуры над социумом, а культа над культурой. «Истинный путь, - писал Н.Бердяев, - есть путь духовного освобождения от «мира», освобождения духа человеческого из плена у необходимости»[750]. Однако восстановление этих жизненно важных онтологических приоритетов возможно лишь при условии если сокровенное вновь станет путеводной звездой человеческого самовозвращения. Главной целью сохранения человечества выступает отнюдь не спасение его объектного присутствия в Теле, а восстановление его субъектной аутентичности с Духом. Может быть именно на закате технологического эры, человек за счет внутренней ментальной реинверсии вновь окажется вновь способным быть подлинным субъектом своей метаистории и зависнув над низшей бездной бытия, найдет в себе силы поступиться внешними, а главное временными благами во имя вечной жизни в Духе.
Глава 5
ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ — К ТЕХНОЛОГИИ
5.1. ОППОЗИЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО В ЭКЗИСТЕНЦИИ
Не имеется никакой свободы по отношению к технике, так как свобода здесь состоит просто в том, чтобы сказать «да» или «нет» ...кто скажет «нет» космическим зондам или генной инженерии? Именно здесь и только здесь мы обнаруживаем абсолютный детерминизм для человека (а не в его генах или в его культуре). Это и есть причина, ключ фундаментальной безнадежности современного человека. Он безнадежен, потому что ничего не может, а смутно ощущает это, неосознавая.
Ж. Эллюль. Технологический блеф
Мы вплотную подошли к осмыслению новейшего этапа истории, в котором историцизм превратился не только в господствующую идеологию, но и в практику преобразования всех без исключения форм Сущего. Первыми в него втянулись индустриально развитые страны, потянувшие за собой так называемые развивающиеся государства. Об этом этапе еще очень трудно говорить определенно, так как предельно ясно обнаруживается лишь «левая» сторона «онтологической вилки» — Цивилизация. Но уже можно утверждать, что сущность новейшего метаисторического этапа составляет переход к «постцивилизации», к нечто принципиально отличному от Цивилизации и обозначенному нами понятием Технология, каковая выступает скорее всего не общностью людей, а общностью вещей. Что же может назваться посттехнологией, что должно вытеснить в конце концов саму Технологию и составить своим «прогрессивным развитием» новый метаисторический этап? Мы предполагаем, что сама Технология будет иметь некую иерархию онтологических ступеней, которым найдутся в свое время соответствующие обозначения. Однако в самом начале онтологического становления Технологии уже довольно явственно проступает и «правая» сторона «онтологической вилки» — Хаос. Технология в своем развитии, говоря языком синергетики, может выйти на такую точку бифуркации, пройдя через которую всемирная эволюция сменится инволюцией и «развитие» пойдет либо как бы вспять, по ступенькам апокатастасиса, либо оборвется апокалипсисом. В любом случае «правая» сторона этой онтологической вилки является тем пределом в метаисторическом становлении сущего, когда Ничто должно окончательно развернуться в Нечто, а Нечто всей своей экзистенциальной полнотой инверсировать, свернуться в изначальную пустоту Ничто, упорядоченным же структурам Хаоса предстоит свернуться в Ничтожество с последующей его аннигиляцией в апокалипсисе. Если «правая» сторона, с которой граничит Технология, вполне поддается метафизическому осмыслению, то «левая» сторона выходит за пределы философского дискурса и своей метафоричностью составляет «предметность» для теологии. Такая «гносеологическая ситуация» весьма осложняет проблему «завершения» построения субъектоцентристской историософемы. Но мы ведь уже находились в подобного рода гносеологически неопределенной ситуации, когда только приступали к ее построению, а потому полагаем, что своей открытостью для трансценденции она сама нас выведет на определенный образ, содержащийся в абсолютном мифе и включающий откровение не только о конце телесной формы экзистенции как последнего метаисторического этапа, за которым простирается нижняя бездна бытия, но и о конце самой истории, точнее, объектологичного историцизма.
Итак, мы обозначили последний метаисторический этап развертывания Ничто в Нечто понятием «технология», звучащим довольно неуклюже. Но что же делать, если среди господствующих понятий современного дискурса именно оно является наиболее аутентичным той онтологической общности, в которой в основном прописаны отнюдь не люди, а ими производимые, но от них отчужденные вещи-объекты, динамическую основу существования которых составляют не социогенные, а техногенные процессы. Можно было бы придумать для обозначения развертывающейся на наших глазах «онтологической целостности» совершенно новый термин, однако это удел будущих мыслителей, которые, не дай бог, окажутся свидетелями возможной экзистенциальной Агонии, или агонизирующей Экзистенции. В качестве самоутешения мы можем сослаться на тот факт, что само понятие «цивилизация» закрепилось в философском дискурсе на довольно продвинутом этапе становления социально оформленной онтологии. В связи с тем что избранный нами термин несколько режет слух, постараемся по ходу изложения в качестве его синонимов использовать такие понятия, как «технологическая цивилизация», «информационно-технологическая цивилизация», хотя со всей определенностью необходимо заявить, что в рамках избранной нами субъектоцентристской концептуализации сущего подобного рода замена недопустима, и прежде всего потому, что то, что следует за Цивилизацией, в своих сущностных проявлениях не есть Цивилизация, а нечто, что ее метаисторически, а следовательно, и метафизически преодолевает.
Переход от Цивилизации к Технологии, происходящий на наших глазах, осуществляется столь стереотипно, что трудно что-либо добавить к тому, что мы уже говорили о механизмах и стратегиях подобного рода онтологической метаморфозы применительно к переходным этапам от Культа к Культуре и от Культуры к Цивилизации. Вместо плавного нисхождения Цивилизации к Технологии мы вновь обнаруживаем «скачок в развитии», а иными словами, снятие в форме отпадения и отчуждения. Изнанкой переживаемого нами новейшего «осевого времени», сопровождающего переход от Цивилизации к Технологии, является окончательная системная трансформация внутренней тотальности Предсущего во внешнюю рациональную тоталитарность Сущего, «скачок» из царства свободы в царство необходимости, процесс достижения полного господства Иного в объективной Реальности, или в реальности Объекта.
Основным противоречием новейшего метаисторического этапа является оппозиция технологического социальному в человеческой экзистенции, которая должна закончиться установлением полного господства первого над вторым. Социальный принцип, выйдя за рамки субъектно-объектных отношений социального универсума, заместив общечеловеческие приоритеты на социетальные, не мог со временем не выродиться в идеологему насилия социального над человеческим и тем самым лишить цивилизацию энергетической подпитки со стороны культуры. Однако при этом социальное Я, вытеснившее в сферу бессознательного антропное Я, заменив его ложной субличностью, в состоянии было эманировать еще более гипертрофированным и ложным телесным Я, которое в конце концов займет господствующую вершину в иерархии человеческой ментальности, вытеснив в бессознательное породившее его Я социальное. Уже буквально на наших глазах телесное в человеке начинает все более превалировать над собственно социальным в нем, а социальный принцип замещаться телесно-технологическим принципом. Стремительно разрастающаяся раковая опухоль вещественного мира своими метастазами уже проникла во все ниши иерархического бытия, центр которого начинает явно вращаться вокруг техногенной системы, все более становится техноцентричным. В связи с тем что на верховном месте мироздания ищут именно технологическое качество, а не ноуменальное, антропное или социальное, его и обнаруживают. Уже даже в пределах обыденного сознания под основой мироздания начинает пониматься предельная форма объективации объективного — телесная субстанция, с которой отныне и связываются экзистенциальные экспектации — ожидания счастливого будущего и требования по его скорейшему достижению. Немногие люди поставят под сомнение объективный и поступательный ход своей истории.
Социальный субъект, возникший в результате распада антропно-социального синкретизма, в поисках своей внутренней ментальной опоры обнаруживает в потенциально бессознательном «свое иное» — неявную телесную (рациональную) субличность — и помогает ей актуализироваться в явного телесного (рационального) субъекта, естественно, под своим ментальным патронажем. Именно с момента осознания телесности как относительно автономной онтологической системы тело обретает свою рациональную форму сознания, а рацио — свою телесную репрезентативность. Возникает новая симбиотическая ментальность — социально-телесный субъект. Ментальность социально-телесного субъекта представляет собой социетальное единство социального и телесного начал в той форме человеческой экзистенции, основу которой составляет цивилизационно-технологический способ существования. В экзистенциально-онтологическом плане этот ментальный симбиоз оказывается весьма неустойчивым, так как телесная субличность в нем, порожденная субличностью социальной, изначально несет в своей «генной памяти» свидетельства о весьма вероломном отпадении социального Я от антропно-социальной формы субъективности. Естественно, что такой путь к обретению своей собственной автономии оказывается весьма заманчивым. Абсолютно устойчивой социально-телесная ментальная связка могла бы быть лишь в качестве интегративной составляющей абсолютной ментальной полноты, т.е. астрально-антропо-социально-телесного субъекта. Лишь при условии последовательного теоцентризма и иерархической подчиненности социально-телесной ментальной связки связке астрально-антропной каждая субличность в этом идеальном ментальном ряду может быть абсолютно устойчивым субъективным образованием. Но ведь история «предпочла» на каждой ступени своего «восхождения» осуществлять радикальное «снятие» предшествующей, и таким же репрессивным образом осуществляется система снятий в развертывающейся ментальной системе. Социально-телесный симбиоз, онтологически неустойчивый и экзистенциально ущербный, оказался иррелевантным столь же противоречивому переходу Цивилизации в Технологию. Социотелесность, или социально оформленное человеческое Тело, и есть та особая «социальная вещь», которая на этом переходном периоде становится идеальным псевдосубъектом безличного деятельностного процесса.
Социальный субъект, постепенно замещая в своем внешнем мире собственно социальные процессы на процессы технологические, предельно рационализируя сложные и творческие формы деятельности, по мере того как добивается успехов в этой «социальной технологии», сам становится все более частичным, нецелостным существом, и, напротив, вполне асимметрично начинает разбухать телесное Я, явно обнаруживая признаки сверхцелостности, его рациональное самосознание становится все более адекватным требованиям «технологической социальности». На этом переходном этапе социум становится все более технологизированным, а технология — все более десоциализированной. Мы будем довольно произвольно обходиться с терминами «телесное» и «технологическое», так как, на наш взгляд, они находятся в отношениях онтологического изоморфизма. На первых порах технология выступает прямой проекцией человеческой телесности, на завершающей же стадии истории сама человеческая телесность становится обратной проекцией технологии. Пока же в этом социально-телесном кентавре «тело» явно стремится занять место «социальной головы», с тем чтобы иметь возможность проецировать на мир свои технологические интенции, особо не считаясь с такой химерой, как «законы общественного развития». Социально-телесный синкретизм уже на наших глазах начинает распадаться на десоциализированное Тело и технологи-зированный Социум. Телесное Я изнутри разрушает социально-телесный симбиоз, и, вытесняя в сферу актуального бессознательного социальную субличность, превращается в абсолютно мономорфного субъекта. Он оказывается последним осколком, на который распадается ментальная монада. В телесном Я уже не может содержаться «своего иного», как это было присуще предшествовавшим ему субличностям. Абсолютно обособленное телесное Я — субъект атомарный. В связи со своей атомарностью он оказывается не способным рационально интегрироваться в «субъективную реальность», всей «душой» он принадлежит «объективной реальности», а потому его можно конституировать в качестве предельно обездушенного субъекта. «Такое "одушевленное существо", — писал С.Л. Франк, — обозначается грамматически в третьем лице; оно есть "он" (или "она") по аналогии с оно, которым мы обозначаем неодушевленные предметы. В качестве такого "он" одушевленное существо входит в нашем опыте без остатка в состав "объективной действительности" и в этом смысле не представляет специального интереса»1. Однако если в качестве псевдосубъекта он не представляет особого интереса для онтологической антропологии, к нему должна проявить особый интерес антропологическая онтология, так как он является именно тем историческим персонажем, который призван силами Иного в Сущем поставить последнюю точку в Конце Истории.
Что же служит причиной обособления телесного субъекта от социального мира? Прежде всего стремление телесной организации мира, основу которой составляет рациональный дискурс, полностью освободиться от прескрипций, предписаний социальной организации, ограничивавших «прогрессивное» развертывание искусственных структур в универсум абсолютных объективаций. Однако почему в этот последний переходный период метаистории телесность обосабливается уже не только от социальности, но и от своей изначальной одухотворенной формы? Ответ на этот вопрос находится в сфере трансцендентального и вновь выводит на новый виток трансрационального осознания человеческого грехопадения. Видимо, с онтологическим обособлением Тела завершается перманентный процесс его онтологического отпадения от Духа, составляющий ментальную основу всемирной истории. Человеческая телесность, с одной стороны, является объективацией «сакральной телесности», имманентно принадлежащей Духу, а с другой стороны, выступает высшей формой телесной организации мира, структурно принадлежащей Природе. «То, что обычно называют телом, — писал П.А. Флоренский, — не более как онтологическая поверхность; а за нею, по ту сторону этой оболочки лежит мистическая глубина нашего существа. Ведь и вообще все то, что мы называем "внешней природой", вся "эмпирическая действительность" со включением сюда нашего "тела", это — только поверхность раздела двух глубин бытия: глубины "Я" и глубины "не-Я", и потому нельзя сказать, принадлежит ли наше "тело" к Я или к не-Я»2. Именно вторая, природная определенность человеческой телесности и ее овнешненная форма — технология — и пытаются онтологически обособиться от своего духовного модуса.
Грехопадение есть обратная сторона нисхождения Духа и осуществляется по тем же эманационным ступенькам онтологической лестницы, установленной сверху вниз. Тело, последовательно обособляясь от своих астральной, антропной и социальной праформ, в конце истории наконец-то обретает возможность стать полностью независимым от Духа. Последней преградой онтологическому обособлению была социально оформленная телесность — телесно-технологическая сторона «общественного организма», но именно она, сбрасывая с себя социальную предзаданность, модифицируется в телесность феноменальную. Покончив со своей социальной эпифеноменальностью, достигнув определенного уровня онтологической независимости, она начинает наращивать темпы технологического освоения мира не иначе как за счет существенного свертывания темпов социального становления человека, а затем и довольно стереотипного воспроизведения необходимой и достаточной для целей своего восхождения системы общественных отношений по все тому же «остаточному принципу».
Однако почему на эти условия столь отчужденного существования согласилась социальная субличность? Видимо, по той же самой причине, что и ее более «родовитые» предшественницы: низшие Я в онтологическом отношении являются более сильными субличностями, чем высшие Я. К тому же человек как существо целостное и универсальное (помимо противостояния в нем социального и телесного Я, в сфере его актуального бессознательного присутствуют и вытесненные астральное и антропное Я) не мог окончательно сойти с исторической арены, не предприняв последних усилий для «возвращения блудного Я». Продолжая линию рассуждений, заданную Фр. Баадером, можно предположить, что на заключительном этапе вселенской драмы Тело «захотело» быть субстанцией без Социального Индивида, но тот не захотел остаться без «своего» Тела, все более превращавшегося во внешнюю Технологию, а потому и согласился стать зависимой онтологической переменной от последней. Вслед за Новозаветным Богом, принесшим Себя в жертву родовой Культуре Человека, и вслед за Человеком, пожертвовавшим своим родовым Именитством в пользу Цивилизации, нецелостный Социальный Индивид приносит на алтарь технологического прогресса последнюю жертву — Цивилизацию.
Телесный субъект, интегрированный в свою же овнешненную телесность, становится имманентным средством плоской технологической эволюции, посредством которой универсум объективаций стремится обрести онтологическую универсальность и абсолютность. Формальная организация — эта предельно деперсонифицированная социальная общность — становится исторической предтечей технологической системы, состоящей из морфологических функций, в которых погребены прежние безличные социальные роли. В этой телесной организации мира морфологические функции микротела и технологические функции макротела оказываются все более изоморфными, их экзистенциальный изоморфизм становится основой их совместной эволюции, коэволюции в единое надприродное искусственное Тело — Объективную Реальность. Изоморфными оказываются и их потребности, что делает их коэволюцию предельно динамичной и целеустремленной.
Гипертрофированное развитие науки, техники и технологии в ущерб развертыванию символов культа, ценностей культуры и норм цивилизации приводит к техноцентристской ситуации в Мироздании. Онтологическая ось мира смещается к самой низшей и последней нише бытия, за которой простирается онтология хаоса, техноцентризм становится центром окончательно перевернутой пирамиды бытия. В экзистенции, расширившейся до технологических объективаций, между Человеком и Техникой складывается антагонизм, чреватый полной и окончательной экзистенциальной катастрофой. Технология в своем стремлении все сущее объективировать, превращает последние остатки человеческого в человеке в объект целенаправленных изменений. Уже не технология оказывается онтологической проекцией человеческой телесности, а, напротив, телесность человека становится гиперрациональной производной от технологической необходимости. Сферой жизненно важных интересов этой техносоразмерной телесности становится вся обозримая, а в перспективе и необозримая Вселенная.
В этот новый переходный период истории между собой должны были хоть как-то договориться об условиях «мирного сосуществования» социальный и телесный субъекты, Политик и Технолог. Новая форма онтологического паритета состоялась за счет того, что они весьма охотно «поступились» чуждыми им интересами целостного и универсального Человека. Если внимательней приглядеться к тому, что происходит в современном индустриальном обществе, то вполне можно обнаружить, что отнюдь не Политики, а Технологи занимаются формированием образа потребного будущего, определяя, какого рода социум имеет право в нем присутствовать. Именно Технологом скорее всего будут определены те из ныне проживающих на Земле этносов, которые достойны составить собой пресловутый «золотой миллиард». Нет сомнения, что в него войдут лишь те этносы, которые своими ментальными ресурсами способны обеспечить неуклонный прогресс технологии. Уже сейчас Технолог, а не Политик в значительной мере определяет степень социальной и технологической неполноценности локальных цивилизаций, своим технологическим тараном пробивая их социальную монадность в целях превращения их в «открытые общества», естественно, открытые для беспрепятственного проникновения технологических процессов и структур. Не случайно технологически развитые страны объявляют территории, занимаемые, на их взгляд, весьма «неперспективными этносами», жизненно важными для них сферами, зонами своих интересов. Идеология насилия в сфере социальной жизни формируется уже не столько социологами, сколько технократами. Примат технологии над политикой становится все более очевидным. Притязания технологии оказываются столь непомерными, что политике уже трудно согласовывать их с представлениями здравого смысла. Политика представляется весьма неэффективным инструментом реализации глобальных технологических программ, а потому Технолог все больше начинает опираться не на здравый смысл, а на научную его интерпретацию.
Добиваясь полной автономии от Космоса, Природа использует созданный человеком «технологический пресс», чтобы принудить одухотворенный Космос принять объективные Законы, или законы Объекта, в качестве всеобщих и универсальных Законов Бытия. Таков заключительный этап перманентного законотворчества, который на протяжении тысячелетий обеспечивал перманентное отпадение низших форм бытия от высших. «Внутренний человек» оказался в полной зависимости от «внешнего человека», законы небесного Произволения оказались попранными законами земного Произвола. В Писании говорится: «...ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим. 7: 23); «тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха» (Рим. 7: 25). Законы плоти, а не законы духа становятся отныне имманентными человеческой экзистенции, отформованной технологическим прессом.
Итак, сначала Божественный Завет был вытеснен Общественным Договором, модифицировавшимся затем в Основной Закон, последний же все более активно замещается так называемым Объективным Законом, который его технологические адепты чаще всего выдают за Закон Здравого Смысла. Если Бог в стародавние времена заключает Завет с Человеком, дабы тот соблюдал приоритетность сакрального над общечеловеческим в своем родовом именитстве, а человек в эпоху восхождения цивилизации инициирует «общественный договор», чтобы соблюдалась приоритетность общечеловеческого над социальным в ней, то на этапе перехода от цивилизации к технологии возникает и оформляется некий «сциентистский договор», согласно которому технология должна в меру своих возможностей воздерживаться от особо опасных для социальной жизни деструктивных воздействий, а общество — всячески содействовать научно-техническому прогрессу. По крайней мере, создание «министерства по чрезвычайным ситуациям» в основном связано с преодолением негативных последствий для общества от массированного использования техники и технологии. Однако сам факт существования такой социальной институции красноречиво свидетельствует, что «сциентистский договор» скорее всего был негласным циничным сговором за спиной широких масс между властвующей и производящей элитами. С самого начала он носил всего лишь рекомендательный характер, так как его основу составляли знания технологической, необходимости, а не нормы социального долженствования. Рациональный дискурс на дескриптивной знаковой основе все более вытесняет социальное нормотворчество, семантическую основу которого составляют прескриптивные значения, учитывающие реалии социальной практики. Власть «объективных законов» становится все более односторонней и тоталитарной.
Между гипертрофированно разросшейся технологией и постепенно вырождающейся социальностью в экзистенции постепенно сложился односторонний паритет, в котором технология выторговала для себя «право на ошибку», в явном виде отсутствовавшее даже в общественном договоре. Чем, как не ошибкой(!?), чаще всего объясняются социальная и экологическая катастрофы, вызванные взрывом на атомной станции в Чернобыле? Это ли не свидетельство того, что существующим в «социально-природной среде» технологическим монстрам «все дозволено». В рамках сциентистского сговора уже не человек и даже не само общество, а технология получает гарантированные «права и свободы» при почти нулевой с их стороны ответственности за прегрешения против человечности, ибо «не ошибается лишь тот, кто ничего не делает». Но так как пассионарность технологии оказалась «выше всяких похвал», то какой же резон «рубить сук, на котором сидит»... цивилизация? Жертвы технологического прогресса все чаще рассматриваются не как невинно убиенные, а лишь в качестве персонификации систематических ошибок, погрешностей в расчетах, как попавшие в печальную статистику.
Если в тоталитарном обществе всегда существуют «правозащитные движения», безуспешно пытающиеся восстановить приоритетность общечеловеческого над социальным, то в технологически ориентированном демократическом обществе свою правозащитную миссию в основном осуществляет деполитизированное «движение зеленых», защищающее от технологической деструкции отнюдь не традиционные человеческие ценности и формы социального бытования, а всего лишь природную среду обитания; в центре его внимания отнюдь не социальные, а экологические коллизии. Общество, отпавшее от Человека, не может долгое время удерживать под своим онтологическим контролем Технологию, от него все более отпадающую. Более того, «общество» в своем «развитии» не отказывается от ставки на технологию, не замечая, что ее карта выскальзывает из рук. Однако цивилизация, как верно подметил Ж. Эллюль, продолжает свой «технологический блеф». Любопытно, что движение зеленых обществом третируется с еще большей решительностью, нежели движение левых, так как последнее никогда особо не угрожало техническому прогрессу, напротив, оно всегда стремится придавать ему еще больший размах, используя его для реализации своих утопических проектов.
Видимо, уже в сравнительно недалеком будущем «технологический сговор» потеряет какой-либо смысл, так как мощное информационное силовое поле вполне восполнит своей рациональной информацией устаревшую систему прескриптивных требований. Уже сейчас политики пытаются договориться с так называемой четвертой властью — средствами массовой коммуникации, которые, несомненно, в обозримом будущем станут «первой властью», отражающей интересы технолого-информационного комплекса. «Свобода слова» — вот та ширма, за которой будет скрываться «волющая телесность», «технологическая необходимость». Не свобода человека как существа, трансцендирующего сущее, а всего лишь свобода его терминологического присутствия в универсуме дескриптивных значений. Человек в своих поступках будет более всего исходить из складывающейся рациональной, а не социальной ситуации, его поведение, опосредованное социальными нормативами, превратится в эпифеномен чистого рационального дискурса. Несомненно, что уже в недалекой перспективе Закон Здравого Смысла будет окончательно замещен Законом Науки, основанным не на жизненном опыте, а на доопытном дескриптивном дискурсе, рациональном априори, отражающем «интересы» технологической необходимости. «Субстанциализм, — писал Г.С. Батищев, — апеллирует к уже накопленному позитивному, достаточно серьезному опыту господства над объектами-вещами по всеобщим законам самих же объектов-вещей. Именно этот опыт и возводится им в универсальную норму, которую он экстраполирует на всю возможную действительность и на всего себя. Иначе говоря, субстациалистски ориентированный человек предполагает в себе единственно достойным субъектом один только центр во вне направленной, объектно-вещной активности. Только этот точечный субъект признается поддающимся обоснованию и укоренению в мире»3. Именно этой «высшей» форме Закона суждено будет подвести человеческую экзистенцию под юрисдикцию Абсолютно Иного в Сущем, каким является Квазитехнология.
Наука становится последним Заветом, Договором между рационально оформленным Телом и иррационально бесформенным Хаосом, договором, основу которого составляет псевдотеологема телесного субъекта о якобы вечном его присутствии при Смерти, растягивающемся на весь континуум существования Ничтожества. Власть становится все более технологичной, а технология все более властвующей. Уже в наше время, считает Фуко, особую значимость приобретают «знания о том, в каких формах и по каким каналам, скользя вдоль каких дискурсов, власть добирается до самых тонких и самых индивидуальных поведений, какие пути позволяют ей достичь редких или едва уловимых форм желания, каким образом ей удается пронизывать и контролировать повседневное удовольствие, — и все это с помощью действий, которые могут быть отказом, заграждением, дисквалификацией, но также и побуждением, интенсификацией, — короче, с помощью «полиморфных техник власти»4. Все идет к тому, что Технология на воздвигнутой учеными плахе Объективного Закона когда-нибудь прикончит ту часть социомассы, которая окажется неспособной интегрироваться в катастрофически изменяющуюся объективную Ситуацию, или ситуацию Объекта. Любая социальная, а тем более гуманистическая идея, не соотнесенная с непреложными законами технологической необходимости, конституируется рациональным сознанием в качестве «крамольной», способной подорвать устои постиндустриальной общности, ориентированной на тотальное потребление внешних благ.
Завет между субъектом, сходящим с исторических подмостков, и субъектом, который на них взбирается, всегда опирается на определенную символико-мифологическую основу. Каждая метаисторическая эпоха порождает свою особую мифологическую версию сущего, и именно такую, которая в состоянии объяснять суть настоящего настоящего, обнаруживать ее ретроспекцию в настоящем прошлого и метафорически проецировать господствующие в ней тенденции на настоящее будущего. В связи с тем, что от абсолютного мифа, который в своих символических суждениях о сущем всегда исходит из примата «прошлого настоящего», относительный миф отличается прежде всего абсолютизацией настоящего настоящего, т.е. выступает разветвленной системой алиби реально сущего. Технологическую версию сущности исторического процесса необходимо рассматривать как в основном весьма ложную и опасную мифологему. По сути своей ложная мифологема есть идеологема, искусственно запакованная в трансцендентно-символическую оболочку, и выступает концентрированным выражением диктатуры разума над жизнью, провоцирования хаоса в ней. «Диктатура миросозерцания, — писал Н. Бердяев, — есть не реальное преодоление хаоса, а есть формальная организация хаоса, создание деспотического порядка, за которым продолжает шевелиться хаос»5. Если абсолютный и истинный миф есть метафорическое свидетельство целостной экзистенции, то миф относительный повествует о судьбе лишь отдельной ее части, утверждая, что именно она выступает онтологическим ядром человеческого существования, а в перспективе своими инфраструктурами окончательно заполнит и всю периферию мироздания и таким образом превратится в универсальную онтологическую целостность. Ложной релятивная мифологема является в связи с тем, что нарисованная ею картина мира коррелирует с интересами настоящего будущего, потребного субъекту, доминирующему в данную историческую эпоху, а не метаисторическому Бесконечному Субъекту. Господствующий относительный миф должен символически закрепить абсолютное господство того субъекта, который призван построить «новый мир».
Какая же относительная мифологема лежит в основании идеологии, обслуживающей переход от Цивилизации к Технологии? Конечно же, модернизированный З. Фрейдом древнегреческий миф об Эдипе, претендующий на роль объяснительной метаисторической модели всего целостного исторического процесса. Фрейд сумел построить именно ту мифологему, в которой нуждалась новая переходная эпоха, — в ней содержится весьма динамичный пересказ всей человеческой метаистории, и именно с позиции «настоящего настоящего», с позиции интересов телесной субстанции, составляющей органическую основу естественной жизни и субстанциальной телесности, выступающей неорганической основой искусственной жизни. В деле формирования новой метафорической версии человеческого бытия заслуги Фрейда трудно переоценить. «Когда-то, — справедливо считает Фуко, — нужно будет также изучить ту роль, которую играет Фрейд в психоаналитическом знании, роль, несомненно, весьма отличную от роли Ньютона в физике (равно как и всех других основателей дисциплин), весьма отличную также и от роли, которую может играть автор в поле философского дискурса (даже если он, подобно Канту, стоит у истоков нового способа философствования)»6. Величайшей заслугой Фрейда является то, что созданная им мифологема оказалась аутентичной идеологии восхождения технологической цивилизации, в которой отношения между субъектами носят в основном объектно-телесный характер. Он выявил органичную связь телесности и рационального дискурса, обнаружил либидоизную основу объектно-объектных отношений и тем самым облегчил понимание внутренней мотивации человеческого поведения в условиях предельной отчужденности его существования.
В чем же заключается относительность и ложность фрейдистской мифологемы? Прежде всего в том, что сексуальная жизнь человека обрела в ней абсолютно гипертрофированные формы. То, что являлось частью целостной экзистенции и даже ее периферией, во фрейдистском мифе составило символическое ядро человеческой метаистории. Согласно фрейдизму, все без исключения структуры сущего являются продуктом деятельности либидо, его сублимированными и овнешненными формами. «Идеи психоанализа, — писал Л.С. Выготский, — родились из частных открытий в области неврозов; был с несомненностью установлен факт подсознательной определяемости ряда психических явлений и факт скрытой отдельной ее части, утверждая, что именно она выступает онтологическим ядром человеческого существования, а в перспективе своими инфраструктурами окончательно заполнит и всю периферию мироздания и таким образом превратится в универсальную онтологическую целостность. Ложной релятивная мифологема является в связи с тем, что нарисованная ею картина мира коррелирует с интересами настоящего будущего, потребного субъекту, доминирующему в данную историческую эпоху, а не метаисторическому Бесконечному Субъекту. Господствующий относительный миф должен символически закрепить абсолютное господство того субъекта, который призван построить «новый мир».
Какая же относительная мифологема лежит в основании идеологии, обслуживающей переход от Цивилизации к Технологии? Конечно же, модернизированный З. Фрейдом древнегреческий миф об Эдипе, претендующий на роль объяснительной метаисторической модели всего целостного исторического процесса. Фрейд сумел построить именно ту мифологему, в которой нуждалась новая переходная эпоха, — в ней содержится весьма динамичный пересказ всей человеческой метаистории, и именно с позиции «настоящего настоящего», с позиции интересов телесной субстанции, составляющей органическую основу естественной жизни и субстанциальной телесности, выступающей неорганической основой искусственной жизни. В деле формирования новой метафорической версии человеческого бытия заслуги Фрейда трудно переоценить. «Когда-то, — справедливо считает Фуко, — нужно будет также изучить ту роль, которую играет Фрейд в психоаналитическом знании, роль, несомненно, весьма отличную от роли Ньютона в физике (равно как и всех других основателей дисциплин), весьма отличную также и от роли, которую может играть автор в поле философского дискурса (даже если он, подобно Канту, стоит у истоков нового способа философствования)»6. Величайшей заслугой Фрейда является то, что созданная им мифологема оказалась аутентичной идеологии восхождения технологической цивилизации, в которой отношения между субъектами носят в основном объектно-телесный характер. Он выявил органичную связь телесности и рационального дискурса, обнаружил либидоизную основу объектно-объектных отношений и тем самым облегчил понимание внутренней мотивации человеческого поведения в условиях предельной отчужденности его существования.
В чем же заключается относительность и ложность фрейдистской мифологемы? Прежде всего в том, что сексуальная жизнь человека обрела в ней абсолютно гипертрофированные формы. То, что являлось частью целостной экзистенции и даже ее периферией, во фрейдистском мифе составило символическое ядро человеческой метаистории. Согласно фрейдизму, все без исключения структуры сущего являются продуктом деятельности либидо, его сублимированными и овнешненными формами. «Идеи психоанализа, — писал Л.С. Выготский, — родились из частных открытий в области неврозов; был с несомненностью установлен факт подсознательной определяемости ряда психических явлений и факт скрытой сексуальности в ряде деятсльностей и форм, которые до того не относились к области эротических. Постепенно это частное открытие... было перенесено на ряд соседних областей — на психопатологию обыденной жизни, на детскую психологию, овладело всей областью учения о неврозах... Психоанализ вышел за пределы психологии: сексуальность превратилась в метафизический принцип в ряду других метафизических идей, психоанализ — в мировоззрение, психология — в метапсихологию. У психоанализа есть своя теория познания и своя метафизика, своя социология и своя математика. Коммунизм и тотем, церковь и творчество Достоевского, оккультизм и реклама, миф и изобретения Леонардо да Винчи — все это переодетый и замаскированный пол, секс, и ничего больше»7.
Превратив человеческую сексуальность в метафизический принцип и придав последнему блистательную трансцендентно-символическую неопределенность, Фрейд тем самым предложил новый способ видения человеческой метаистории. Если перефразировать известную библейскую формулу в контексте фрейдовской мифологемы, то она будет выглядеть так: «Сначала было Либидо». Будучи распространенным на всю метаисторию человечества, этот миф представляет собой явное лжесвидетельство об основной символической доминанте метаистории. Но ведь этот миф является не только ложным, но и относительным, т.е. содержащим в себе относительную истину — вполне достоверное знание об исторически превратной форме Сущего. Она вполне красноречиво свидетельствует о присутствии в Сущем не только Неиного, но и Иного, не только предустановленной гармонии, но и упорядоченного хаоса. Скорее всего она репрезентирует собой эту вторую линию в становящемся сущем, хотя пытается свидетельствовать о целостном процессе становления, в чем и проявляется ее ложность. Она вполне достоверно схватывает доминанту поведения современного человека, чья экзистенция погружена в мир телесных сущностей, в которых принцип удовольствия действительно выступает одним из ведущих в его жизнеобеспечении. Однако всегда необходимо помнить, что этот миф объясняет генезис и внутреннюю мотивацию жизнедеятельности лишь современной информационно-технологической цивилизации, «внутренним движителем» которой как раз и выступает стремление телесного субъекта максимально удовлетворять прогрессивно возрастающие требования эроса, преображенного в голый секс. «Наша цивилизация, — считает Фуко, — по крайней мере на первый взгляд, не имеет никакой ars erotica. Зато это, несомненно, единственная цивилизация, которая практикует своего рода scientia sexualis. Или, скорее, единственная цивилизация, которая для того, чтобы говорить истину о сексе, развернула на протяжении столетий процедуры, упорядоченные главным образом особой формой власти-знания, прямо противоположной искусству посвящений»8.
Открытие Фрейда имеет весьма относительное значение для глубинного понимания онтологических детерминант, актуально воздействовавших на экзистенциальное поле дотехнологических цивилизаций и культур, в которых удовлетворение плоти в основном оценивалось в качестве реликта, доставшегося от животной формы существования. Главное прегрешение Фрейда в том, что он сделал попытку заменить релятивным мифом об Эдипе абсолютный миф о Христе, и эта метафорическая подстановка не случайна в его творчестве, если учесть его неприятие христианского вероучения и даже борьбу с ним.
В истории возникновения относительных мифов любопытно то, что, будучи порождением ложного сознания о ложной онтологии, они в известном отношении оказываются носителями метафизической истины о структурах реально Сущего, которые обусловлены действиями Иного. Отрицательная мифологема фиксирует идею отрицательной экзистенции, и в этом, несомненно, состоит ее позитивная гносеологическая функция. Но для того, чтобы она действительно принесла пользу в деле построения истинной картины мира, ее необходимо интерпретировать не изнутри, не герменевтически, а с позиции мировоззрения, восходящего к абсолютному мифу. Действительно, об истинной метафизической сути квазитехнологической цивилизации, на наш взгляд, можно многое узнать, если попытаться понять фрейдистскую мифологему с позиции субъектоцентристского мировоззрения. Что же нам может поведать метафизика либидо о технологии как об особом онтологическом этапе всемирной истории? Несомненно, сущую Правду, при условии, если мы сумеем эту мифологему ограничить проявлениями Иного в Сущем. Попытаемся это наше убеждение подкрепить некоторыми дополнительными рассуждениями.
Сначала зададимся вопросом о генезисе либидо, на каком витке истории оно возникло, — конечно же, не в качестве функции Естества, или естественной Функции, ибо, не ведая того, сексом люди занимались, начиная с Адама и Евы, величая его возвышенным словом эрос, а именно в качестве особого предмета публичного обсуждения, специализированной формы рационального дискурса. Оказывается, либидо в качестве некоего принципа организации человеческой жизни осмыслено совершенно недавно, эта форма дискурса возникает с началом так называемой сексуальной революции. Обратимся к работе Мишеля Фуко «Воля к истине», в которой интересующий нас вопрос рассмотрен достаточно обстоятельно. Фуко для всестороннего метафизического анализа ставит ряд существеннейших вопросов, касающихся соотношения дискурса о сексе и экзистенциального содержания современной технологической цивилизации. Почему о сексуальности заговорили и что о ней сказали? Каковы последствия того, что о ней было сказано, в плане власти? Каковы связи между этими дискурсами, этими властными последствиями и удовольствиями, которые были ими инвестированы? Какое, исходя из этого, формировалось знание?
«Речь идет о том, — пишет Фуко, — чтобы установить в его функционировании и праве на существование — тот режим власть-знание-удовольствие, который и поддерживает у нас дискурс о человеческой сексуальности»9. Фуко относит «выведение в дискурс» секса к концу XVI в., именно с той поры секс начинает активно использоваться техникой власти, следовавшей принципу рассеивания и насаждения разнообразных форм сексуальности. Три последующие века характеризуются в этой сфере дискурса беспрерывными трансформациями суждений вокруг и по поводу секса. Дискурсы о сексе — специфические, разнообразные по форме и объекту, — не прекращая, множились. Дискурсивная ферментация начинает ускоряться с XVIII в., а в XX в. в сфере сексуальных отношений произошел настоящий дискурсивный взрыв, они обрели явно выраженный открытый и публичный характер10.
Возникает вопрос, что же дают нам знания об истории дискурса о сексе для прояснения проблемы основных мотивов перехода истории с цивилизованной фазы на технологическую? В этих знаниях содержится ключ к пониманию субъектно-субъективной стороны онтологического восхождения технологии. Удивительнейшим образом этапы становления сексуального и технологического дискурсов и соответствующих им практик развертывались как два взаимообусловленных процесса, пока окончательно не пересеклись в своих апогеях, которые приходятся на одну и ту же историческую эпоху. Этими апогеями являются сексуальная и технологическая революции как свидетельства того максимума, которого в своем «развитии» достигла телесная субстанция.
Фрейд абсолютно прав, когда указывает на эротический характер грядущей информационно-технологической цивилизации, однако эту ее особенность он отождествил со всеобщим метафизическим принципом, а потому не мог не получить весьма ложную метаисторическую модель мира. Однако вернемся к исследованию истории дискурса о сексе. Эта форма дискурса интересует нас не своей феноменальностью, а своими внешними функциями, и даже скорее всего своей функциональной предзаданностью, внесексуальными сферами человеческого бытия.
Несомненно, важнейшим заказчиком на разветвленный дискурс о сексе явилось промышленное производство, которое именно в эту эпоху обрело свое системное качество. Промышленная революция явно нуждалась в таком дискурсивном взрыве, который позволил бы обеспечить неограниченный доступ к человеческим ресурсам. Фуко называет «стерильным парадоксом» ставшее расхожим мнение об отношениях подавления между экономической необходимостью и сексом. Принять этот тезис означало бы пойти наперекор всей экономике, всем дискурсивным «выгодам», которые этот тезис стягивают. «Цензура секса? — вопрошает Фуко и сам же отвечает. — Скорее, была размещена аппаратура для производства дискурсов о сексе, — все большего числа дискурсов, способных функционировать и оказывать действие в самой его экономике»11. Таким образом, промышленная революция нуждалась не только в социальной, но и в сексуальной революции.
Другим заказчиком на дискурс о сексе выступает власть. С падением доминирующей роли социума власть претерпевает существенную метаморфозу, из волющей социальности она превращается в волющую телесность, хотя основная ее природа остается прежней. Воля к власти — концентрированное выражение сил Иного в Сущем. Центр тяжести массированного воздействия на самое «уязвимое место» в экзистенции перемещается с социальной организации на один из функциональных органов человеческой телесности. «Власть, таким образом, взяв на себя заботу о сексуальности, — считает Фуко, — берет на себя обязательство входить в соприкосновение с телами; она ласкает их глазами; она интенсифицирует определенные их области; она электризует поверхности; она драматизирует беспокоящие моменты. Она берет сексуальное тело в охапку»12. Возникает особая форма власти, власти, функционирующей на теле и на сексе. Эта власть, пишет далее Фуко, выступает отнюдь не в форме закона или в качестве последствия действия какого-то определенного запрета. Напротив, она осуществляет свое действие через умножение отдельных форм сексуальности. Она не фиксирует пределы для сексуальности, но она распространяет различные формы сексуальности, следуя за ними по линии бесконечного внедрения. Власть не старается избежать сексуальности, но притягивает ее вариации посредством спиралей, где удовольствие и власть усиливают друг друга; не устанавливает барьеры, но оборудует места максимального насыщения13. Власть становится либидоизной, а либидо — властвующим; экзистенциальный круг оказывается замкнутым на субстанциальное тело в его самом широком метафизическом смысле.
Следующим заказчиком на сексуальный дискурс выступает сам «субъект» дискурса, каким является рациональное Я, выступающее ментальным репрезентантом волющей телесности. Дискурс о сексе становится самым важным гносеологическим полигоном для разработки целого веера дискурсов и соответствующих им практик. Дискурс о сексе оказывается концентрированным выражением «воли к знанию». Собственно, сам дискурс становится сексуальным, а секс дискурсивным. Секс, считает Фуко, был конституирован Рацио в качестве его главной ставки на истинность. Он не является порогом некой новой рациональности, открытие которой маркировалось бы Фрейдом или кем-нибудь еще, но следствием прогрессирующей «игры истины и секса». Фуко полагает что вполне возможно внутри дискурса выделить некую совокупность процедур, которые осуществляют контроль над самими же дискурсами. Принцип секса, полагает Фуко, есть теоретическая изнанка технического требования: заставить функционировать в практике научного типа процедуры такого признания, которое должно было быть одновременно и тотальным, и детальным, и постоянным14. Похоть тела и похоть знания составляют отныне онтологическую основу воли к власти, оказываются неявными принципами, лежащими в основании «объективного закона» человеческого естества, идущего на смену «основному закону» противоестественного общества. Естественное право, или «право естества», становится повсеместно признаваемой «мудростью жизни», освобожденной от каких-либо внешних нормативных ограничений.
И все же самым главным заказчиком на дискурс о сексе выступает волющая телесность. Тело желает знать отнюдь не всю правду о себе, тем более — о своей изначальной встроенности в Дух, а лишь то, что составляет основу его онтологического обособления от более высоких форм телесности — правду об основном принципе своей «самоорганизации» — принципе удовольствия. По большому счету, технология становится сексогенной, а секс — техногенным. Лишь с онтологическим обособлением Тела и его внешней проекции — Технологии — дискурс оказывается в полном смысле слова объектным, и если его и интересует субъект, то лишь как иррациональная изнанка объективной действительности, вполне поддающаяся рациональному пере-лицо-выванию. Объектный подход становится господствующим, он начинает применяться Технологом ко всем без исключения проявлениям человеческой экзистенции.
Оппозиция телесно-технологического социальному в экзистенции постепенно перерастает в системный кризис цивилизации, социальная катастрофа становится необходимым условием технологического прогресса. Онтологическая сторона социальной катастрофы заключается еще и в том, что человек перестает быть самосоциализирующимся субъектом, перманентно присваивающим внешние социальные функции в процессе своего собственного жизненного опыта. Он все более превращается в саморационализирующегося субъекта, способного активно адаптироваться к любой технологической ситуации, сколь асоциальной она бы ни была. Чтобы эффективно интегрироваться в онтологию объекта, человеку необходимо знать, посредством какого алгоритма он это в состоянии наиболее эффективно осуществить. С самого начала его появления в мире разветвленной системой дискурса он готовится к тому самому важному моменту в его жизни, когда в качестве строго определенной детали он будет вмонтирован в машинерию вместо той детали, у которой закончился жизненный ресурс. Процесс рационализации человека становится центральным механизмом объективации объективного, пришедшего на смену объективации субъективного, ведь рационализации подвергаются его собственные телесные функции, организуемые в некую витальную псевдоцелостность его же собственным хитрым разумом. Объект начинает противостоять субъекту в виде его же собственного экстериоризованного тела, отчужденного от него, а потому и ставшим чуждым ему. Дискурсом, исходящим из рационального Я, подлинным субъектом истории отныне признается лишь внешний технологизированный мир, а сам «человек разумный», носитель рациональной субличности — всего лишь объектом технологических преобразований. Процесс рационализации внешнего мира по сути своей становится основным механизмом господства «внешнего человека» над «внутренним человеком». «Сколько бы ни выигрывал мир как целое от раздельного развития человеческих сил, — писал Шиллер, — все же нельзя отрицать того, что индивид страдает под гнетом мировой цели»15. Чем более рационализируется человек, тем более внешний мир оказывается чуждым его витальности, однако рацио всячески скрывает от него все более углубляющийся антагонизм между искусственным и естественным в экзистенции, выдавая спорадически возникающие экологические катаклизмы всего лишь за ошибки проектирования, которые можно вполне исправить на новом витке развития технологии.
Гиперрациализация человека в конечном счете ведет к тому, что он сам начинает активно преодолевать в себе «старомодные» нормы и прескрипции социального долженствования и даже проявлять инициативу по своей десоциализации. Ярким примером тому может служить катастрофический рост отклоняющегося от традиционных норм поведения индивидов, активно приветствуемый адептами так называемого открытого общества. Однако как только внешняя рационализация обретает форму саморационализации, индивид становится не только десоциализированным, но и дерационализированным субъектом. Как известно, сообщество телесных субъектов, лишенных способности к самотрансценденции, самоактуализации и самосоциализации, вынуждено компенсировать одностороннюю квазирационализацию потреблением наркотических средств, к которым необходимо отнести не только медикаментозные препараты, но и тоталитарную эрзац-культуру, возбуждающую в человеке самые низменные чувства, в основании которых — удовольствие, получаемое от насилия и самонасилия. Человек технотронной цивилизации все более погружается уже не только в экзистенциальную, но и в витальную патологию. Негативная мутация социокультурного генотипа не может не повлечь за собой мутацию природного генотипа человека. Лишь здоровый дух может порождать здоровое тело, обездушенное же тело не в состоянии преодолеть своего перманентного распада.
Как только процесс рационализации человека, или рациогенезис, обретает гипертрофированные формы, его экзистенция все больше начинает походить на разновидность «растительной жизни». Рациональная форма отчуждения характеризуется не только активным отчуждением от человека внетелесных, внетехнологических сущностных сил, но и способом, каким телесный субъект присваивает свои природные сущностные силы. Чем более человек рационализируется, тем интенсивнее он потребляет свои отчужденные силы в виде опредмеченной товарной массы и тем меньше у него оказывается способностей рефлексировать по поводу своего изначального предназначения в мире неотчуждаемых сущностей.
По мере того как центр Мироздания смещается к самым низшим экзистенциальным этажам, «воля к власти» того онтологического субъекта, который этот этаж обживает, становится все более радикальной, опирающейся на все более прогрессирующие формы насилия. «Волющая телесность» по своим репрессивным возможностям и проявлениям есть пик «воли к власти», так как на онтологическом континууме «слабость—сила» она выступает предельной формой объективации сущностных сил человека. Воля телесного Я есть персонифицированная воля объективной действительности, проявление тотального господства Объекта над Субъектом. «Несмотря на все исторические изменения, — считает Г. Маркузе, — господство человека над человеком в социальной действительности по-прежнему есть то, что связывает дотехнологический и технологический Разум в единый исторический континуум. Однако общество, нацеленное на технологическую трансформацию природы и уже осуществляющее ее, изменяет основу господства, постепенно замещая личную зависимость... зависимостью от "объективного порядка вещей"»16. В связи с этим «волющая телесность» в значительной мере выступает атрибутом либидо; ее можно обозначить еще и как «похоть власти». Власть становится все более похотливой, а похоть — властвующей. Посредством проникновения во властные структуры либидо пытается сублимировать свою порочную энергетику во всей иерархии надтелесных форм человеческой экзистенции. Власть же, в свою очередь, получает возможность посредством либидо концентрированно воздействовать на всю экзистенциальную инфраструктуру и тем самым тотально контролировать поведение телесного субъекта. Если для тоталитаристского режима в цивилизованном обществе некой модельной ячейкой господствующих отношений власти является Тюрьма, то для псевдодемократического режима в информационно-технологизированном обществе моделью властных отношений служит Публичный Дом. В отличие от тюрьмы, заточение в публичный дом полностью исключает сохранение не только телесной целомудренности, но и какого-либо присутствия человечности. Катастрофичность всей экзистенциальной инфраструктуры жизненных пристрастий субъекта, вполне добровольно переселившегося из аскетической тюрьмы в гедонистический публичный дом, вполне передает фраза из «Цусимы» Новикова-Прибоя «пожар в публичном доме во время наводнения». Однако именно такая форма экзистенциальной дисгармонии и сверхупорядоченности хаоса является весьма благоприятной средой для тоталитарного контроля власть предержащих за поведением этой «рационализированной биоты».
Дискурс о сексе и дискурс о власти настолько переплелись между собой, что человек перестает осознавать онтологическую суть самого насилия. Впервые человек начинает принимать власть в качестве объективации своего собственного волеизъявления — ведь он испытывает мазохистское наслаждение, приобретая опыт самонасилия, которое есть не что иное, как интериоризованное насилие над ним. Насилие, несущее в себе удовольствие, реализацию садо-мазохистских потребностей, без особых усилий оборачивается личностным самонасилием. «Удовольствие и власть, — пишет Фуко, — не упраздняют друг друга; они не противостоят друг другу; они следуют друг за другом, чередуются друг с другом и усиливают друг друга. Они сцеплены друг с другом соответственно сложным и позитивным механизмам возбуждения и побуждения»17. Безвольное существо буквально упивается властью, если в основе власти лежит принцип удовольствия. «Воля к власти» и «воля к удовольствию» соединяют свои усилия в целях создания унитарной телесной системы, способной со временем стать самодостаточной онтологией. С началом онтологического восхождения технологии процесс насильственной десоциализации человеческой экзистенции приобретает радикальный характер, из нее окончательно искореняются все реликтовые образования, восходящие к антропологическому и космологическому этапам человеческой истории. Свою техносоразмерность начинают принимать все без исключения формы человеческого присутствия в мире. Так, к примеру, техническая эстетика, дизайн становится высшей нормой «объективированной духовности», «упорядоченной гармонии».
При переходе от Цивилизации к Технологии человеку приходится расплачиваться за перманентное увеличение своей власти в сфере отчужденых сущностей перманентным самонасилием — насилием над высшими своими ментальными ипостасями, перманентным вытеснением тех интенциональных субличностей, которые содержатся в застенках актуального бессознательного и пытаются «вырваться на волю», вновь превратиться в самоосознающих субъектов. Однако воля телесной субличности оказывается столь мощной, что вытесненные в бессознательное более высокие Я могут пробить своими «волевыми усилиями» воздвигнутый экран из защитных механизмов разве что в моменты внутренней дезорганизации рационального сознания. В связи с тем что телесное Я все чаще оказывается в ситуации ментального кризиса, перманентно вызываемого чередой катастроф во внешнем техногенном мире, сознание человека перенасыщается интенциями, связанными с «возвращением вытесненного», интенциями co-вести, вестями о явном несоответствии поведения «внешнего человека» экзистенциальным ожиданиям «внутреннего человека». Чтобы заглушить не вполне приятные предзнаменования бессознательного, «внешнему человеку» все время приходится наращивать те из своих защитных механизмов, которые призваны выполнять функцию подавления.
Нельзя сказать, что телесный субъект — это человек крайне бессовестный. Скорее всего это такой субъект, у которого совесть находится в крайне подавленном состоянии, и нейтрализовать это подавление можно лишь сверхкомпенсаторными средствами, способными на непродолжительное время помочь сбалансировать отношения между внутренним и внешним миром человека. При пристальном рассмотрении применяемых сверхкомпенсаторных средств они оказываются не чем иным, как довольно разветвленной системой средств репрессивного воздействия на актуальное бессознательное человека, мучающее его со-вестью, совместной вестью всех тех субличностей, которые оказались вытесненными из ментальности в ходе перманентного самоотпадения Человека. В связи с тем что технология становится неким «онтологическим монополистом», именно за ней оказывается последнее слово, когда решается вопрос о судьбах тех или иных культурных или цивилизованных форм существования. И с этой задачей она блестяще справляется организацией целой индустрии досуга, откровенно адресованной отнюдь не человеку, а лишь его либидо.
Именно в век научно-технической революции лозунг римского плебса «хлеба и зрелищ» находит свою предельную форму реализации. «Мягкое насилие» технологического над внетелесным в человеческой экзистенции становится весьма эффективным средством «вырабатывания внутреннего человека» в целях достижения все более высоких темпов развития техногена. Так как это насилие сопровождается сверхкомпенсацией в виде невиданных ранее в истории объемов потребляемых благ, предназначенных «жертвам» прогресса, то сами эти «жертвы» осуществляемое над ними «мягкое насилие» воспринимают разве что как все усиливающуюся заботу об их жизненно важных проблемах. «Никогда прежде общество, — писал Г. Маркузе, — не располагало таким богатством интеллектуальных и материальных ресурсов и, соответственно, никогда прежде не знало такого объема господства общества над индивидом. Отличие современного общества в том, что оно усмиряет центробежные силы скорее с помощью Техники, чем Террора, опираясь одновременно на сокрушительную эффективность и повышающийся жизненный стандарт»18. Изменения, происходящие в мире, телесным субъектом оцениваются, казалось бы, сугубо прагматически, но это лишь на первый взгляд, ибо эта прагматика восходит не только к рациональному дискурсу, но и к крайне иррациональному и репрессивному «основному инстинкту». С позиции дотехнологических субъектов объемы потребления их отпрысков выглядят крайне избыточными, отнюдь не пропорциональными позитивным изменениям в личности.
Крайние формы внешней репрессивности в значительной мере снимаются перманентно обновляющимися средствами внутренней репрессивности, а потому мир в глазах индивида рациомассы выглядит более безоблачным, чем он есть на самом деле. Даже если в мире и происходят войны и природные катаклизмы, а большая и может быть, лучшая часть человечества ввергнута в голодную смерть, это особо не волнует телесного субъекта, лишь бы все это проходило там и тогда и не затрагивало основ его существования здесь и теперь. Когда же катаклизмы все же настигают экзистенцию этого атомарного субъекта, он вполне готов принять удар судьбы без всяких к тому сопротивлений, так как все более доминирующей становится его некрофильская ориентация в мире отчужденных сущностей. «Воля к жизни» все более дополняется «волей к смерти», несомненно, восходящей к тому же самому либидо, которое, перебрав все мыслимые и немыслимые формы удовлетворения, стремится испытать высшую свою страсть, могущую реализоваться лишь в агонии. Как это ни трудно было признавать Фрейду, абсолютизировавшему «волю к жизни», исходящую якобы лишь из либидо, он приходит к печальному выводу, что «принцип наслаждения служит, очевидно, как раз первичным позывам смерти»19. Согласно поэтической формуле, «на свете счастья нет, но есть покой и воля». Абсурдно, но факт: телеологически волющая телесность стремится к покою — не потому ли излюбленным понятием рационального дискурса является «гомеостаз», а в концепции «устойчивого развития» легко обнаруживаются нотки экзистенциальной усталости.
По мере дивергирования технологического от социального в человеческой экзистенции телесное Я обретает все большую власть над внутренним миром человека и в конце концов превращается в неограниченного монарха, чья диктатура начинает простираться над всей поверженной Вселенной. Человек как Образ и Подобие Бога, по сути, превращается в образ и подобие дьявола. Таким образом, в чисто религиозном аспекте этап онтологического обособления телесной субстанции может рассматриваться в качестве одной, а может быть, и самой последней ступени перманентного грехопадения человека. На этом новейшем этапе грехопадения не столько внешние обстоятельства подводят к полному и окончательному отпадению Человека от Бога, сколько он сам эти обстоятельства целенаправленно формирует усилиями своей собственной воли. Ориген учил, что «души управляются свободой произволения и как свое совершенствование, так и свое падение производят силою своей воли»20. Телесное Я в результате своего полного освобождения от надтелесных субличностей становится носителем поистине дьявольских сил. Телесный субъект находится в состоянии повышенной готовности применить все имеющиеся в его распоряжении средства насилия здесь и теперь, если под угрозу будут поставлены привычные стандарты потребления. Он не остановится в применении тотального насилия над миром, даже если эта его «защитная акция» обернется против него самого и он не испытает удовольствия от вожделенного существования там и тогда. Подобного рода действия вполне оправдываются поговоркой «после нас хоть потоп», придуманной как раз для оправдания столь иррационального ухода в небытие.
Постараемся свести в некую систему те последствия для экзистенции, которые возникают в связи с вытеснением из нее социальной формы человеческого присутствия.
С вытеснением социального из экзистенции начался процесс перманентного растабуирования социальных основ человеческого существования, процесс последовательного снятия запретов на полную и окончательную объективацию человека. С вытеснением из экзистенции социального начинается процесс формирования рационально опосредованной формы гуманизма. Ее особенностью выступает активная защита «прав и свобод» человеческой телесности и активное неприятие всех иных надрациональных, надтелесных форм гуманизма. С началом технологической экспансии в пределы высших экзистенциалов богоборчество и человекоборчество дополняется социоборчеством. Так как технологические функции суть десоциализированные социальные функции, то именно социальный универсум становится тем онтологическим донором, к которому присасывается технологический вампир. Последовательная десоциализация мира ведет не только к вытеснению в сферу бессознательного социальной субличности, но и к тотальному подчинению всех истинных форм человеческой телесности интересам развития квазитехнологической псевдоцелостности. Основной удар наносится по так называемому социальному гуманизму. Складывается новая форма гуманизма — «рациональный гуманизм», или «гуманистическая рациональность», установливающая целеполагание развитию такого рода человеческих потребностей, перманентное и интенсивное насыщение которых способно со временем вообще снять проблему человека как проблему мета-физическую и найти ей чисто физическое решение. «История техники, до сих пор не открывшая нам никаких законов общественного прогресса, все же открывает нам принцип, который стоит за прогрессом техническим. Принцип этот можно определить как закон прогрессирующего упрощения»21. Рационально превращенный гуманизм является наиболее эффективным средством упрощения человеческой экзистенции, упорядочения ее витальных структур под приоритеты установления тотальной власти Иного над Сущим. Социальное из социально-телесного синкретизма все более радикально вытесняется телесным в сферу бессознательного, и уже в обозримой исторической перспективе телесное Я, видимо, окажется единственным репрезентантом человеческого самосознания.
Высшей формой человечности рациональным гуманизмом объявляется и не сакральное, и не собственно человеческое, и даже не социальное в человеке, а лишь телесное в нем. Именно телесное конституируется рациональным сознанием в качестве основного ориентира псевдогуманитарного проекта. И действительно, если человек редуцируется к его телесности, то вполне логично, что именно она и должна составлять суть новой формы гуманизма. В рамках технократической идеологемы человеку и его обществу отводится роль посредника во взаимоотношениях технологии и природы. «Человек с его потребностями, — писал Гегель, — практически относится к внешней природе и, удовлетворяя при ее посредстве свои потребности и истощая ее, он играет при этом роль посредника. А именно предметы, существующие в природе, могучи и оказывают разнообразное сопротивление. Чтобы справиться с предметами, человек вставляет между ними другие предметы, существующие в природе; следовательно, он пользуется природой против самой природы и изобретает орудия для достижения этой цели. Эти человеческие изобретения принадлежат духу, и такое орудие следует ставить выше, чем предмет, существующий в природе»22.
Конституируя телесное в человеке в качестве подлинно человеческого в нем, универсум отелесненных объективации еще более расширяет свое в нем экзистенциальное присутствие. Техноуподобление человека, а не человекоуподобление технологии оказывается чуть ли не основной целью самой антигуманной формы гуманизма, какой является «рациональный гуманизм». Спекулирующий на витальных потребностях человека рациональный гуманизм, по сути, низводит его экзистенцию до уровня существования самого безжалостного хищника, превращает его в поистине космического вампира. Рациональный гуманизм с точки зрения метафизического субъектоцентризма крайне иррационален и антигуманен. В его ми-рожизненных установках антигуманизм достигает своей предельной формы и превращается в идеологию человеческого самоуничтожения. Сохранить в себе человечность в ситуации телесно-субстанциальной онтологической тотальности человек в состоянии лишь на пути радикального преодоления своего, по сути, «растительного существования». К сожалению, суицидальная форма неприятия рациональных «стандартов человечности» в индустриальных странах приобретает все больший размах. Люди покидают этот вполне обеспеченный благами мир прежде всего потому, что они не в состоянии в нем актуализироваться своими собственно человеческими качествами.
Процессы перманентной рационализации человека и столь же перманентной его дегуманизации есть две стороны единого историцистского процесса, в котором безраздельно господствуют «объективные Законы», или «законы Объекта»; все то, что не укладывается в идею автоэволюции сущего, телесным субъектом воспринимается лишь в качестве фикций дорационального, донаучного сознания. В универсуме преодолеваемых «фикций» оказывается и его собственно человеческое прошлое, в своей рациональной ретроспекции он обнаруживает лишь действие законов эволюции, и таким образом смысл собственно человеческого существования окончательно обессмысливается.
Рациональный гуманизм есть тот идеологический рычаг, посредством которого волющая телесность переворачивает экзистенциальную пирамиду человеческих предпочтений. Он оказывается мощным средством вытеснения всего того в сознании человека, что пришло в несоответствие с требованиями технологически оформленной реальности. В этой связи необходимо внести некоторые коррективы во фрейдистскую концепцию вытеснения, которые позволили бы использовать ее в соответствии с принципами субъектоцентристского мировоззрения. Фрейд исходит из того, что все то ценное, что порождено Культом, Культурой и Цивилизацией, есть сублимация вытесненных сексуальных влечений. Таким образом, мы вновь получаем старую прогрессистскую идею, однако в новой, психоаналитической упаковке: низшие экзистенциалы порождают высшие, хотя и в такой на первый взгляд экстравагантной форме. Отсюда же напрашивается и весьма определенный метаисторический вывод: по мере того как осуществлялось растабуирование «основного инстинкта», человек обретал возможность все более универсальным и целостным образом присваивать свои разнообразные сущностные силы. Последнее снятие оков с либидо есть непременное условие окончательного «очеловечения человека». Согласно же субъектоцентристскому мировоззрению, напротив, механизм вытеснения в состоянии применяться низшим экзистенциалом по отношению к высшим в связи с тем, что его «силовое поле» является более мощным. По отношению же к низшим экзистенциалам высшие в состоянии применять лишь «механизм сдерживания». «По самой своей природе, — писал Ортега-и-Гассет, — высшее в человеке менее действенно, чем низшее, менее твердо, менее обязательно. С этой идеей следует подходить к пониманию всеобщей истории. Чтобы осуществиться в истории, высшее должно дожидаться, пока низшее освободит ему пространство и предоставит случай. Иными словами, низшее ответственно за реализацию высшего: оно наделяет его своей слепой, но несравненной силой. Поэтому разум, смирив гордыню, должен принимать во внимание, пестовать иррациональные способности. Идея не в силах противостоять инстинкту; ей следует не торопясь, осторожно приручать, завоевывать, зачаровывать его — в отличие от Геркулеса, не кулаками, которых у нее нет, а подобно Орфею, обольщавшему зверей, — волшебной музыкой»23. Ортега-и-Гассет вполне отчетливо пояснил, в силу каких обстоятельств добро не может быть с кулаками; он весьма рассчитывает на то, что неким волшебным средством можно приручить озверевшее либидо. По всей вероятности, это высказывание — скорее не реликт мифологических интенций, а весьма облагороженная утопическая экстенция.
Волющая телесность есть самый мощный вытесняющий фактор именно потому, что в онтологическом аспекте принадлежит к самому низшему ярусу бытия. А потому, как нам кажется, если что и происходит в сфере Духа, то лишь вопреки вытесняющему напору либидо, но никак не вследствие сублимации ее биогенной энергии. Напротив, окончательное растабуирование либидо есть тот предел, за которым посредством механизма вытеснения Субъект окончательно задвигается за авансцену истории и его место занимает Объект.
Важнейшей функцией механизма вытеснения является формирование благоприятной ситуации для расширенного воспроизводства все более дробных элементов изначальной синкретической целостности бытия. Отсеиваются все те онтологические формы, которые своими «размерами» не в состоянии «просеяться» сквозь все уменьшающиеся ячейки историцистского «сита». Все в человеческой экзистенции подгоняется под единые онтологические мерки, в данном случае — под мерки, иррелевантные объективным законам технологии. Какими же человеческими способностями засевается «техногенная нива»? Конечно же, только теми, которые способны взрасти новыми технологическими функциями. Таким образом, с окончательным вытеснением социального из экзистенции оказываются полностью растабуированными запреты, которые прежде защищали человеческую индивидуальность от ее сведения к совокупности телесно-технологических функций. Но ведь фрейдизм признает и способность вытесненного вновь возвращаться из бессознательного в сферу сознания. Этим объясняются ренессансные явления в человеческой экзистенции. Да и в историософии Тойнби подобного рода механизм, обозначаемый понятием Уход-и-Возврат, предусмотрен. Однако «возвращающиеся» в сущее ранее вытесненные экзистенциальные формы, оторванные от прежних, более целостных и универсальных форм бытия, мало что общего имеют со своими истинными праформами. Скорее всего они являются некими обратными экзистенциальными проекциями господствующей в сущем субличности.
Чтобы с прошлым окончательно расправиться, необходимо его на время воскресить, а затем в китчевой форме окончательно вытеснить. Об этой весьма неутешительной стороне действия в истории механизма Ухода-и-Возврата с сожалением повествует и его автор. «Момент примирения реального с идеальным, — пишет Тойнби, — являясь следствием Ухода-и-Возврата, успешно реализованного в истории общества, принадлежащего к растущей цивилизации, заведомо обречен на краткосрочность. Чувство благополучия и стабильности, доминирующее в обществе в этот момент, порождает иллюзию счастья, и человечество готово было бы им наслаждаться, если бы это составляло главную цель его устремлений. А кроме того, достичь подобной цели может лишь общество, состоящее целиком из святых. Но святые, какими их знает мир, способны преобразить только собственную природу да еще оставить след в немногих родственных душах, возвысившихся до уровня святых через общение с ними»24. И по возвращении вытесненного оно оказывается отнюдь не на службе у Неиного, а в услужении у Иного. Вот почему все имевшие место в человеческой истории реставрационные и возрожденческие проекты всегда завершались созданием неких китчевых подобий прежних форм жизни, искусственных систем, которые затем сменялись еще более модернистскими онтологическими построениями. Если заговорили о необходимости нечто возрождать, то это первый сигнал к грядущей еще более радикальной модернизации прошлого.
С вытеснением социального из экзистенции социальные верования замещаются верой в рациональный дискурс. По мере того как вера в трансцендентный Дух исторически все более падала, возрастала вера в субстанциальное Тело и в его онтологические проекции. «Бог, — писал Ницше, — нужен был как безусловная санкция, для которой нет инстанций выше нее самой, как "категорический император"; или, поскольку дело идет о вере в авторитет разума, требовалась метафизика единства, которая сумела бы сообщить всему этому логичность. Предположим теперь, что вера в Бога исчезла: возникает вопрос: "кто говорит?" — Мой ответ, взятый не из метафизики, а из физиологии животных: говорит стадный инстинкт. Он хочет быть господином: отсюда его "ты должен" — он признает отдельного индивида только в согласии с целым и в интересах целого, он ненавидит порывающего связи с целым, он обращает ненависть всех остальных единиц против него»25. Рациональные верования — это вера в Телесную Организацию Мироздания, вера во Множественное, отпавшее от Единого, вера в ее дескриптивно оформленную Логику, представленную рациональным дискурсом, совершенно не нуждающимся в Трансценденции. Трансцендентная мистика, с которой человек был явлен миру, окончательно замещается рациональной магией, мир становится идеально «проницаемым» для познающего Рацио и начинает идеально «реагировать» своими самоизменениями в соответствии с теми проектами, которые Рацио разрабатывает на «хороших логических основаниях».
Вера в дескриптивную форму Множественного в качестве абсолютно внесубъектного универсума «объективаций объективного» замещает собой веру в Социальную Организацию, доминировавшую на этапе онтологического восхождения Цивилизации. Социальная форма веры постепенно рассыпается по мере отелеснения и субстанциализации Сущего, перманентной его рациональной модернизации в Абсолютный Объект, или Иное. На смену социотеизму приходят гносеологически взаимообусловленные технотеизм и рациотеизм, т.е. вера в Тело, а не в Дух, в Рацио, а не в Логос. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном» (Рим. 8: 5). На первых порах технологической реформации структур сущего возникает некая квазипантеистическая форма деизма, вера в два божества, заключенных в одной телесной оболочке, — вера в закономерную Субстанцию и в субстанциальные Законы.
Если Социум, вытесняя Человека, пытался стать Социочеловеком, то Технология, вытесняя Социум, пытается стать Техносоциумом. Как в свое время социономия превратилась в прескриптивную форму теономии, так и технономия на наших глазах превращается в техно-социо-антропо-теономию. Техно-рациональный фетишизм начинает составлять содержание рациональных верований, активно замещающих собой веру в Бога, Человека и Общество. С возникновением технологии в качестве овнешненной телесности вера в Тело становится абсолютной, она уже не является предметом обсуждения, как это наблюдалось в тео-логии, так как тело-логия не терпит трансрациональных спекуляций, а основывается на суждениях здравого смысла. Рациональные суждения здравого смысла, если даже смысл в них почти нулевой, вполне поддаются логической и эмпирической верификации на «истинность». И так как они находятся и обнаруживаются в сфере познаваемого, то и не вызывают особых сомнений в их истинности и достоверности. Вера в трансцендентное и непознаваемое окончательно замещается верой в рациональное и познаваемое, истинность которой, как правило, подтверждается из непосредственного жизненного опыта. Что может быть более основательным, чем сциентистская вера в субстанциальную сущность телесности? «Машинный процесс (как процесс социальный), — пишет Маркузе, — требует всеобщего повиновения системе анонимной власти, т.е. требует тотальной секуляризации и еще санкционированного разрушения ценностей и институтов»26. Вера в телесную суть человеческой экзистенции есть абсолютно секуляризированная вера в ее духовность. Именно такая контрастная концепция «знаниевой веры», противополагающая себя «уверованному знанию», вызывалась необходимостью придания «воле к власти» абсолютного онтологического статуса.
При созидании новой рациональной реальности — «объективной реальности» — наука не нуждается в каких-либо посредниках, будь то Политик, Патриарх, а тем более Бог, она является предельно секуляризированной формой сознания и при каждом удобном случае подчеркивает, что служит лишь Объективной Истине. На самом деле наука, как и любые иные формы человеческого сознания, основывается на принципе веры. В ее основании всегда можно обнаружить некую иррациональную аксиоматику, иррелевантную «вещи в себе», и систему выводного знания, соответствующую «вещи для нас», и если второе принадлежит «принципу знания», то первое — «принципу веры». К этим двум принципам необходимо еще добавить «принцип повседневности», который их в снятом виде в себе содержит. Одну из своих статей современный немецкий философ Бернхард Вальденфельс обозначил весьма символически: «Повседневность как плавильный тигль рациональности». Несомненно, что наука когда-нибудь откажется не только от веры в какие-либо априори, но и от тех форм знаний, которые противоречат принципу повседневности. Это может произойти, если нигилизм в сциентистском мировоззрении окончательно вытеснит внесциентистские формы рационального дискурса.
Перед людьми прошлого проблема верить или не верить в Бога не стояла столь остро, как перед современным человеком, всем своим существом и своей повседневностью погруженным в мир самообъективаций. Обыденная жизнь нашего пращура была органически «вмонтирована» в жизнь Духа, а потому ее вряд ли можно квалифицировать в качестве сугубо повседневной и эмпирической. Сегодня («эта година») когда-то вбирала в себя весь теургический цикл бытия, а потому являлась проекцией Кайроса — посланника Вечности. Напротив, повседневность современного человека находится в ведении Хроноса — пожирателя бытия — и в основном «вмонтирована» в универсум объективированных, телесных структур. Повседневность ничего не знает о «сегодняшнем» как об экзистенциальном тождестве с Вечным; день за днем идет перманентное хроно-логическое пожирание тех бытийственных форм, век которых недолог. Прожитый день вполне может быть уподоблен одноразовому употреблению предметов, пополняющих собой свалку отходов. День, прожитый телесным субъектом, с началом нового дня оказывается на свалке Хроноса вместе с теми отходами бытия, которые он успел за этот день «сожрать». В связи с тем, что телесный субъект практически прекратил свое само-бытное существование в Духе, он верит скорее всего не в Разум, а в тот Абсурд, в который тот превращает его некогда сокровенную жизнь, все больше напоминающую воплощение одной из пьес «театрального авангарда». О повседневной и повсеместной жизни современного человека мало что можно узнать из технологических утопий, однако она весьма точно прописана в антиутопиях Хармса, Кафки, Ионеско, Беккета и других абсурдистов.
Для рационального сознания трансцендентальная вера абсурдна, поскольку содержит в себе табу на замену предустановленной гармонии упорядоченным хаосом. Рацио имеет дело с миром объективаций и в состоянии анализировать лишь то, что предстоит ему в качестве объективации его собственного дискурса. «Сознание, — писал Н. Бердяев, — объективирует мир, оно первоначально активно в этой объективации, а потом пассивно в своей зависимости от объективированного мира»27. В сферу рационального дискурса попадает не весь универсум связей и отношений, а лишь та его часть, которая им объективирована. Вся история деятельности гносеологического субъекта может быть представлена как процесс объективации объективированного. Рацио никогда не имеет дела с метафорическим образом целостного мира, а лишь с рациональной конструкцией, с его искусственно вычлененной частью. Секуляризированная вера Рацио — это даже не вера в некую интегральную часть экзистенциальной целостности, а всего лишь вера в то априори, которое лежит в основании сконструированной им модели объективации. Таким образом, разумная вера есть вера в разум, а не в то, что этот разум должен собой репрезентировать. Здесь мы имеем дело с порочным гносеологическим кругом, так как вера в объективацию блокирует трансценденцию и мир познаваемых сущностей становится замкнутым — из него почти невозможно вырваться за пределы объективаций в сферу открытого Космоса, креативного Духа. Согласно второму началу термодинамики, замкнутые системы неорганического происхождения энтропийны, т.е. переходят от более упорядоченных состояний к менее упорядоченным. Рациональная вера энтропийна, так как порождается энтропией замкнутой системы онтологических объективаций.
Тертуллиановскую формулу веры можно было бы в этой связи представить следующим образом: «верую, потому что разумно». При этом уходит на второй план оценка всего того, что этим разумом в мире объективировано, ведь «все разумное действительно, все действительное разумно». Сущностью рациональной веры является процесс взаимной редукции Рацио и Повседневности в единый универсум объективаций объективного. «Мы принимаем за реальность, идущую от объектов, то, — писал Н. Бердяев, — что есть конструкция субъекта, объективация продуктов мысли... Объект создается субъектом путем объективации продуктов мысли, гипостазирования понятий, потому что субъект находится в падшем состоянии, в разобщении и раздоре с другими субъектами и с Божьим миром, космосом»28. Если в поле зрения Рацио и попадает какая-либо субъективация, исходящая из трансрационального Духа, то Рацио может ее признать разве что в качестве фикции больного воображения. Вера в повседневную и низшую жизнь так же абсурдна, как и вера в жизнь духовную и высшую, но это разные формы абсурда. Первая из них абсурдна в связи с принципиальной непознаваемостью Неиного, вторая же абсурдна в связи с весьма прозрачной познаваемостью Иного, и абсурдность здесь связана с редукцией Сущего к нему. Однако если первая форма абсурда ведет к гармонии жизни, то вторая — к упорядочению хаоса. Жизнь в упорядоченном хаосе и есть объективация рациональной формы абсурда.
Да, трансцендентная вера абсурдна, однако она не есть вера в абсурд, на чем основаны утопии, особенно технологическая. Рациономия телесного существа и технономия рационального существа — разновидности одной и той же веры в Абсолютный Объект, она порождается необходимостью Тела, а потому не может не противостоять свободе Духа. «Требование "научной" веры, замены веры знанием, — писал Н. Бердяев, — есть... отказ от свободы, от свободного избрания и от вольного подвига, требование это унижает человека, а не возвышает его»29. Впервые за всю историю человечества формируется вера, основу которой составляет отнюдь не свобода, а необходимость. Видимо, гегелевское «свобода есть познанная необходимость» и может служить определением этой противоестественной для духа рациональной формы верования. Тертуллиановское «верую потому, что абсурдно», замещается декартовским «верую потому, что рационально». Но если за абсурдностью веры в Абсолютного Субъекта проступает целая иерархия дискурсов, в том числе и непроявленный рациональный дискурс, то за рациональной верой в Абсолютный Объект стоит лишь квазирациональный дискурс, делающий человеческую жизнь экзистенциально иррациональной и абсурдной.
При переходе истории от социальной фазы к технологической возрождатся пантеизм в форме разветвленной системы рациональных верований. Эту сциентистскую форму пантеизма, на наш взгляд, целесообразно обозначить понятием рациотеизм. Вера в рационально недоказуемую аксиоматику парадигмально оформленных знаний представляет собой не что иное, как секуляризированный инвариант древнейшей веры в Бога. Каждая стихия в науке определяется в качестве некоего феномена=божества, обозначаемого соответствующим понятием. Посредством рационального дискурса ведется перманентная интерпретация логики, которая время от времени сбрасывает с себя отработанные парадигмальные формы. В пределах логического сциентизма достоверность выводного знания опирается на безграничную веру в господствующие в науке парадигмы. Но ведь вся история науки может быть представлена в качестве перманентной смены парадигм, следовательно, можно сделать вывод, что со сменой парадигм меняется и суть рациональных верований. Если трансцендентальная вера, вера в единого Бога, не претерпевает каких-либо изменений в ходе исторического развертывания Сущего, то, напротив, исторически господствующая рациональная вера в значительной мере строится за счет отрицания прошлых своих форм. Если трансцендентальная вера в Абсолютное является абсолютной, а потому и неизменной, то рациональная вера в Релятивное может быть только релятивной, а потому и называться верой может лишь весьма условно и скорее всего метафорически. Это, скорее, нигилистическая форма веры, отрицающая абсолютность в сущем и абсолютизирующая релятивность в нем.
Суетная вера современного человека есть совокупность пантеистических суеверий, прикрытых сциентистским флером. Основным ее принципом становится Догмат о непогрешимости Лаборатории, заменившей собой Церковь. Если Церковь всегда была обителью для одухотворенной телесности, то Лаборатория — полигон для вивисекции над обездушенной телесностью. Вера в Науку стала тоталитарной, побудить человека принять за благо очередное технологическое чудо уже не представляет для нее особых трудностей. Все люди технологической цивилизации — участники единой тоталитарной секты, в которой правят законы вполне познаваемой необходимости. «На меня, — писал Н. Бердяев, — со всех сторон действует необходимость и связанная с ней полезность, и я не могу победить ее в условиях объектного мира. Но я не хочу ни в чем сакрализировать этой необходимости и полезности»30. Слепая вера в Науку, Технику и Технологию вне веры в социальную целесообразность, в человеческую предопределенность и сакральную духовность есть вера в Иное, перманентно возникающая в процессе научных Открытий и подкрепляемая безверием в Неиное, мудрость молчания которого в особо тяжкие времена оборачивается Откровением. Вера не в Дух, а всего лишь в его рациональную объективацию на древнейшем лексиконе, которым пренебрегает новояз рационального дискурса, есть вера в дьявола. Сциентизм в его крайнем проявлении аутентичен образу и подобию сатаны — такой вывод напрашивается, когда интуитивно ощущаешь, на какие муки он обрекает всю последующую человеческую историю. Упоенный благами земной жизни, человек технологической цивилизации неосознанно суе-словит дьявола, принимая его прельщения за божью благодать. Рациальные верования, основывающиеся на дескриптивных знаниях, очень быстро превращают человека в простой винтик дьявольской машинерии.
Вера в телесную организацию мира, в которой тело моего Я — всего лишь зависимая переменная чуждого Оно, становится центральным мотивом для самых изощренных форм человеческого самонасилия, лишь бы оно приносило вожделенное удовлетворение Ему — Вселенскому Телу. В основе рациональных верований всегда можно обнаружить сакрализацию садо-мазохистских по своей сущности межтелесных отношений. Рациональным сознанием релятивизируется уже не только онтология Бога и собственно человеческое бытие, но и социальная форма Бытия. Вера в субстанциальное и вера в прогресс сливаются в единую религию, имя которой — Наука.
С вытеснением из экзистенции социального общественное самосознание модифицируется в рациональную форму сознания, основу которой составляет наука. Чтобы телесный субъект как элемент рационально оформленной биоты мог воспринимать законы телесной организации мира в качестве своих собственных интенций, необходимо было полностью освободить его «тело» от «духа», переподчинив его экзистенцию рациональному сознанию. Общественное сознание, вытеснившее в свое время индивидуальную душу, начинает активно замещаться «рациональным Сознанием», или «сознанием Рацио». Бытие человека становится объектом рационального Дискурса, или дискурсивного Рацио, претендующего на роль надындивидуальной Объективной Идеи, которая согласно гегелевской диалектике, по ступенькам относительных истин восходит к Абсолютной Идее. Дескриптивные предписания рационального дискурса становятся теми идеальными основоположениями, которые индивиды призваны объективировать любой ценой, даже ценой возможной утраты своей естественной витальности. Не человек, а «объективное сознание», т.е. обособившееся и отчужденное от него Рацио, становится субъектом его «объективного бытия», его «объективной истории». Объективное сознание — это информационно превратная форма рационального самосознания человека, самочинно конституировавшего себя в качестве самоосознающего бытия. Рациональный дискурс есть порождение эрзац-сознания, призванного заместить собой тотальность Трансцендентного Духа. На этапе онтологического обособления природного универсума от универсума социального и его превращения в универсум технологических объективаций Дух не только насильственно вытесняется Телом, но от него насильственно отчуждается в пользу Рацио его статус. «Разум есть потенциальная техника, техника есть актуальный разум, — отмечал П.А. Флоренский. — Другими словами, содержанием разума должно быть нечто, что, воплощаясь, дает орудие. А так как содержание разума, как выяснено, — термины и их отношения, то можно сказать: орудия — не что иное, как материализованные термины, и потому между законами мышления и техническими достижениями могут быть усматриваемы постоянные параллели»31. С началом онтологического восхождения Цивилизации многократно усиливается борьба дескриптивной формы рациональной телесности против прескриптивного дискурса социальной технологии. На смену прескриптивной социальной мифологии приходит мифология дескриптивная, сциентистская, коррелирующая уже не с социальными ожиданиями, а с телесными вожделениями. В ее основе лежит совокупность таких рациональных категорических императивов, воплощение которых и составляет процесс отелеснения мира и обмирщвления тела — онтологию техно. На этом историческом этапе социализация уступает место рационализации внутреннего и внешнего мира человека.
Рациональная идеологема как самая ложная форма мифотворчества возводит телесное Я в ранг Абсолюта, придавая человеческим чувствам и отношениям объективную значимость, которую весьма легко замерять различными рациональными тестами на лояльность к объективной Реальности. Рациологизм, замещающий собой социологизм, именно телесно-технологического субъекта конституирует в качестве основного персонажа всемирной истории. Телесное, а не социальное в человеке рациологизмом доопределяется в качестве идеальной ментальной формы, которую человеку предстоит обрести в результате довольно сложных морфологических изменений на пути к вечной жизни в универсуме объективаций. Это направление в реформации сущего уже на наших глазах оформляется в самую главную и магистральную линию, о чем свидетельствуют успехи в био-технологии, постепенно переходящей в человеко-технологию. Трагическое отчуждение человека становится столь тотальным, что даже не осознается им в качестве трагической и отчужденной. Здесь мы имеем дело не с «оптимистической трагедией», а с «трагическим оптимизмом». Современный человек весьма оптимистичен в своей вере в то, что со временем удастся обрести вечную жизнь на земле либо в качестве рационально оформленной биоты, либо в качестве вечно почкующегося клона, либо своего вечного голографического отображения и проч. Вера же в вечную жизнь в Духе все более воспринимается иллюзорной и даже фиктивной в связи с ее эмпирической неверифицируемостью.
Рациональный миф — идеологема научно-технического прогресса, представленная в нормативно-ценностно-символической упаковке. Рациональная идеология — крайний случай ложной мифологии, пытающейся средствами дескриптивного дискурса пересказать всю историю человечества таким образом, чтобы главным ее персонажем был объект, а не субъект, телесное, а не духовное в экзистенции. Весь филогенез и вся метаистория человека в этом дескриптивном пересказе есть процесс развертывания «воли к знанию», процесс развития отражательных свойств разума, этого истинного Духа Тела. Предметностью рациональной мифологемы является процесс перманентного становления способа производства как некой целостности, сущностью которой выступает техноген. Человек же признается этой идеологемой лишь рационально-телесной производной от объективной действительности. Социальные утопии как «сильные версии» бытия замещаются «сверхсильными версиями» — научными проектами по радикальной реформации объективной действительности. «Для того, чтобы цивилизационный сдвиг закончился антропологической катастрофой, — справедливо замечает Ф.И. Гиренок, — нужно было всего лишь предположить, что бытие исчерпывается знанием о бытии»32. Уже нет необходимости в социальном Интерпретаторе — Политике, на роль Мессии выдвигается Технолог — Проектировщик Сущего. Сегодня рынок технологических идей и проектов тотально воздействует на экзистенциальную ориентацию человека. Оказавшись несущественной частью Онтологического Проекта, человек окончательно выпадает из своей собственной метаистории, становится одним из рядоположных объектов процесса научно-технологического освоения действительности, обладающей своей особой внечеловеческой историей.
Любая форма рациональности пытается самоабсолютизироваться таким образом, чтобы полностью овладеть высшими, надрациональными формами человеческого самосознания. Что же тогда говорить о сциентистской форме рационального дискурса? Человеческая экзистенция становится сущим полигоном для постановки широкомасштабных экспериментов с ее возможностями и невозможностями, цель которых — ее преобразование в благоприятную среду для обитания техногена.
Если на этапе перехода от Культуры к Цивилизации постоянно «открывались» все новые и новые законы общественного развития, то на этапе смены Цивилизации Технологией — лишь все более впечатляющие законы науки и техники, причем социальные закономерности оказываются всего лишь частными случаями всеобщих законов объективной действительности. Наконец-то гносеологический субъект полностью и окончательно выходит из подчинения социальному субъекту и начинает «открывать» законы собственного онтологического восхождения, независимо от социального целеполагания! Ему посчастливилось найти такую форму прогрессирующего развития, которую можно почти без всяких погрешностей редуцировать к формальной логике рационального дискурса. Дискурс социальный, под покровом которого скрывались прескриптивно оформленные знания, наконец-то замещается своим иным — рационально-дескриптивным дискурсом, окончательно сбросившим с себя социально-прескриптивную оболочку. Социальная катастрофа в гносеологическом плане есть разрыв, возникший между рациональным и общественным сознаниями, так как знания, которые в человеческой душе начинают доминировать, окончательно утрачивают прескриптивную форму, иррелевантную социальному опыту, который, увы, становится избыточным и весьма некорректным при ориентации на укоренение человеческой телесности в универсум объективаций.
Социальная катастрофа, которая разворачивается на глазах наших современников, происходит в самом эпицентре человеческой души, переполненной репрессивными дескриптивными суждениями о мире. Процесс дескриптивизации человеческой самости порожден эпохой Просвещения. П.А. Флоренский отмечает, что «вся история Просвещения в значительной мере занята войною с жизнью, чтобы всецело ее придумать системою схем». Он обращает наше внимание на то, «что это искажение, эту порчу естественного человеческого способа мыслить и чувствовать, это перевоспитание в духе нигилизма новый человек усиленно выдает за возвращение к естественности и за снятие каких-то и кем-то якобы наложенных на него пут, причем, поистине, стараясь выскрести с человеческой души письмена истории, продырявливает самую душу»33.
Социальная рациональность в современную эпоху переживает не лучшие свои времена, ее все более решительно вытесняет чистая рациональность, основу которой составляют логические законы Дискурса, или дискурсивные законы Логики. Образно говоря, квазителесный субъект — это человек, в котором душа заменена компьютером, постоянно просчитывающим наиболее рациональные способы его присутствия во внешнем мире и калькулирующим необходимые энергетические затраты. Человеческая душа, вырождающаяся в программу рационального самоприсвоения, превратившаяся в Дух Тела, оказывается той последней инстанцией, которая призвана принимать окончательные решения по всем без исключения экзистенциальным проблемам. Co-Знание сбрасывает с себя последний ментальный флер и превращается в чистое Знание, которое если и выступает неким Само-со-знанием, то лишь в рамках внутреннего рационального дискурса, стремящегося о-со-знать всю иерархию гносеологических ступенек, по которым восходил Гносеологический Субъект, перманентно отчуждая и присваивая все более высшие формы субъектности. Потребность Знать о том, как Знания исторически восходили к своим чистым и абсолютным формам, оказывается крайне необходимой сциентизму для того, чтобы конституировать «тяжкий путь познания» в единственно достоверную и объективную историю. В глазах рационально-телесного субъекта объективные знания и есть та сциентистская Знать, которой необходимо безоговорочно подчиняться, ибо только она способна окончательно освободить его от тяжкого бремени самопо-знания. С вытеснением социального из экзистенции принцип веры с прескриптивных, нормативных форм само-со-знания переносится на все более дескриптивные, описательные формы знания, совокупность которых и составляет корпус объективных законов, открываемых наукой. Наука, имеющая дело лишь с объектом, активно редуцирующая к его экстенциям человеческие интенции, превращается в самую ложную и мрачную из всех предшествавших ей форм идеологизированного сознания.
Порядок во Вселенной, о котором начинает мечтать человек современной эпохи, есть порядок, устанавливаемый научными, дескриптивными предписаниями, воплощенными в глобальных технологических проектах. Жизнь становится экспериментальным полигоном для науки, научившейся искусственно имитировать и расширенно воспроизводить те ее превращенно-превратные формы, которые оказываются востребованными волющей телесностью. На верховном месте Мироздания ищут некое универсальное телесное свойство и обнаруживают его уже не в субъекте, а в объекте, что дает возможность социальную неопределенность заместить технологической однозначностью. Восхождение к Олимпу, где вместо Бесконечного Субъекта восседает Бесконечный Объект, становится основной задачей научно-технической революции. Естественно, что в мировоззрение при этом вносятся существенные коррективы, согласно которым социальная форма движения, как, впрочем, и все ей предшествующие онтологические динамики, — всего лишь промежуточные ступени на пути восхождения человечества к технологическому Олимпу, к тому вожделенному раю на Земле, что архаичный человек искал на Небесах.
Довольно крайними гипотезами становятся уже не только Бог и Человек, но и само Общество; отныне лишь Тело и его внешняя онтологическая проекция — Технология — оказываются вполне продуктивной и эмпирически проверяемой гипотезой, все более обретающей статус вселенской Теории, или теории Вселенной. Наконец-то система рационального знания высвобождается от диктата не вполне определяемого объекта, каким является общество, и обретает возможность осуществлять поиск истины достаточно однозначной онтологической ситуации. Техносоразмерная «субъективная» телесность и телесносоразмерная «объективная» технология сливаются в единую онтологию, чья внутренняя логика непротиворечиво подчиняется единому рациональному алгоритму — объективному знанию. «Поскольку развитие индустриальной системы опирается на успехи физических наук, — иронизирует Тойнби, — вполне естественно предположить, что между индустрией и наукой была некая "предустановленная гармония"»34. В этой онтологии начинает безраздельно господствовать воля к власти, стремящаяся охватить всю Вселенную. Человек своей телесностью оказывается всего лишь средством реализации некоего дьявольского замысла, основу которого составляет стремление Иного окончательно покорить созданное Неиным за всю Всемирную Историю, начиная с момента миротворения. Телесный субъект становится подставным субъектом, псевдосубъектом, которому предстоит осуществить самую последнюю и кардинальную реформацию всех структур Сущего, перестроить архаичный мир на основе строго научного знания о законах необходимости, составляющих суть «объективной Действительности», или «действительности Объекта».
С вытеснением социального из рационально оформленной экзистенции возникает предельная асимметрия в структуре человеческих потенциальностей: потребности стремятся к бесконечному развитию, а способности — к нулевой отметке. Если при переходе от Культуры к Цивилизации «энергетическим источником» служили социогенные потребности человека, то на этапе отпадения Технологии от Цивилизации источником становятся искусственно рационализированные, в основном биогенные, потребности волющей телесности. С разделением технологических функций окончательно рассыпается изначально единая креативная способность человека, связанная с перманентным порождением мира в его целостности и универсальности. Интенсивное развитие получают рациональные способности человека, направленные на дробление изначальной целостности мира, развертывания его наиболее объективированных и отчужденных структур. К высшим способностям не применимо понятие «развитие», так как они по сути своей эманационны, интенциональны. Развиваются не способности, а потребности, так как они интроецируются извне. Потребности телесного субъекта втягивают в свой «Гераклитов поток» самую низшую часть человеческих способностей, ведающих рациональным дискурсом, и именно они становятся «подстилающей ментальной структурой» технологического прогресса. Еще Шиллер подчеркивал, что у универсума «не было другого средства к развитию разнообразных способностей человека, как их разобщение». Однако посредством онтологического разобщения человека начинают «развиваться» лишь те из его способностей, которые оказываются иррелевантными онтологическим функциям технологической процессуальности.
С дроблением человеческих способностей потребности обретают все большую целостность и универсальность. Дифференцирование человеческой экзистенции, считал Юнг, создает в конечном итоге диссоциацию, которая идет дальше дифференцирования способностей и захватывает область общей психологической установки, направляющей использование способностей человека в ту или иную сторону. Все те из человеческих потенциальностей, которым не суждено актуализироваться в данной исторической ситуации, он называл запущенными способностями. Юнг подчеркивал, что именно среди запущенных способностей можно обнаружить настоящий драгоценный клад скрытых индивидуальных жизненных ценностей — неизмеримо высших, нежели те, которые актуализируются за пределами индивидуальной жизни. Лишь они могут дать единичному человеку возможность переживать по-настоящему интенсивность и красоту жизни, чего он тщетно ищет в функциях коллективных. Дифференцированная способность, подчеркивает Юнг, дает человеку возможность коллективного существования, однако ее реализация в ущерб актуализации наиболее ценных, но невостребованных способностей, удовлетворения и счастья не дает. И часто отсутствие последних ощущается в глубинах души как недочет; а недосягаемость этих богатств порождает внутренний разлад, который можно сравнить с мучительной раной35. Чем более рационально-технологизированный мир прогрессирует в своем онтологическом восхождении, тем менее востребованными оказываются человеческие способности. Довольно значительный процент безработных в индустриально развитых странах показывает, что невостребованными оказываются даже самые элементарные трудовые навыки и способности.
Уже не способности, а потребности начинают задавать направленность и содержание пресловутому прогрессу. Даже в марксистской концепции коммунистического будущего акцент делался не на всемерное развитие способностей, а на максимальное удовлетворение потребностей. Известная формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям» в явном виде исходила из признания релятивности первых и абсолютности вторых. Интересно, что именно удовлетворение потребностей, а не реализация способностей человека выступает ключевым моментом концепции устойчивого развития, ставшей ключевой в общей стратегии выживания, принятой на Всемирной конференции в Рио-де-Жанейро. «Устойчивое развитие — отмечается в докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию, известной также как "Комиссия госпожи Брундтланд", — это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности»36. В рамках поистине вселенского по своему размаху технологического проекта преобразования всех форм сущего уже отнюдь не человек, а всего лишь его потребности, как правило, интроецируемые внешним отчужденным миром, становятся предметом особой заботы со стороны власть предержащих. И это неудивительно, так как провоцируемые технологией «витальные потребности» есть не что иное, как превращенные потребности самого объективированного мира, имманентные целям достижения им абсолютного господства над человеком и всем тем в мироздании, что еще не успело подвергнуться тотальной объективации, т.е. иерархия экзистенциальных напластований продуктивной активности предшествовавших поколений людей.
С релятивизацией социального в экзистенции индивид «био-рациомассы» обретает возможность прогрессивно развертывать свои потребительские свойства, активно присваивать все то, на что ранее со стороны цивилизации накладывалось табу, что оценивалось как низкое со стороны Культуры и кощунственное со стороны Культа. Все в мире начинает вращаться вокруг одной, весьма незамысловатой, но вполне «рациональной» идеи, суть которой сводится к обеспечению предельного многообразия удовольствий, позволяющих Телу реализовать пресловутый «принцип удовольствия». Фуко в своей работе «Воля к истине» констатирует печальный факт: удалось почти целиком и полностью поставить нас — наше тело, нашу душу, нашу индивидуальность, нашу историю — под знак логики вожделения и желания. И не одно столетие минуло уже с тех пор, как бесчисленные теоретики и практики плоти сделали из человека — без сомнения, весьма мало «научным» способом — детище секса, секса властного и интеллигибельного. Какая-то скользкая дорожка за несколько веков привела нас к тому, чтобы вопрос: что мы такое? — адресовать сексу. И не столько сексу-природе как элементу системы живого и объекту биологии, сколько сексу-истории, сексу-значению, сексу-дискурсу. Мы сами, считает Фуко, разместили себя под знаком секса, но, скорее, не Физики, а Логики секса37.
Насыщение рационально оформленных биогенных потребностей становится своеобразной движущей силой, придающей столь необходимое ускорение прогрессивному развитию Технологии. Если способности восходят к божественному Логосу, то потребности — к греховному Рацио. «Разум в этом смысле, — считает Маркузе, — не тождествен рациональной способности (интеллекту)... Этот термин обозначает часть сознания, попавшую под власть принципа реальности и включающую те организованные способности, которые "отвечают" за "вегетативность", "сенситивность" и «аппетит"»38. Рациональная идеологема как самая ложная форма мифотворчества наделяет телесные утехи индивида рациомассы, как реальные, так и иллюзорные, абсолютным статусом, релятивизируя те формы проявления человеческой экзистенции, которые отныне призваны составлять всего лишь онтологическую инфраструктуру вожделения. Технология апеллирует не к способностям человека и даже не к его вожделенным социальным статусам, а просто к вожделениям, к потребностям, которые при их насыщении внешним образом имеют тенденцию к кумуляции. Нуждающийся человек — это такой человек, у которого все есть, но он подозревает, что где-то за порогом его существования уже появилось нечто, что способно придать его жизни больший смысл. Совокупность потребностей телесного человека всегда гомоморфна структуре онтологических возможностей технологии, и если его потребности и опережают ее возможности, то это не что иное, как умысел самой технологии, стремящейся таким образом осуществить следующий виток в своем прогрессирующем развитии. И сама экзистенция начинает осмысливаться по весьма незамысловатой формуле: «человек живет, чтобы наслаждаться, и наслаждается, чтобы жить». Эвдемонизм становится гедонистическим, а гедонизм — эвдемонистическим, и оба они оказываются не чем иным, как рациональностью, мимикрирующей под чувственность.
Рациональная утопия, сменяющая собой социальную утопию, опирается уже отнюдь не на великие социально-прескриптивные идеи, а на рационально-дескриптивные формулы благо-получия. Экспектации меняют свою онтологическую форму, направленность и структуру; революция социальных ожиданий замещается революцией рациональных требований; в структуре экспектации требования, связанные с необходимостью насыщения потребностей, входят в явное противоречие с ожиданиями благ, производство которых оказывается все менее обеспечивающимся развертыванием соответствующих человеческих способностей. Складывается крайне неустойчивая система экспектации, в которой требования абсолютизируются, а ожидания — релятивизируются. Требование реализовать бурно развивающиеся потребности здесь—и—теперь, не подкрепленное способностью индивидов переводить их в ожидание реализации там—и—тогда, влечет за собой создание разветвленных сверхкомпенсаторных комплексов, дающих возможность телесным субъектам как-то снять остроту переживаний, связанных с томительным ожиданием запланированных и разрекламированных свершений. Такими сверхкомпенсаторными комплексами становятся секс, насилие, наркомания и прочие иррациональные способы «уплотнения времени», которое протекает между осознанием потребности в качестве жизненно важной и моментом ее наиболее полного насыщения. А так как телесный субъект живет в ситуации перманентно сменяющих друг друга рационально осознаваемых потребностей, то и уход его в иррациональные способы ожидания благ становится столь же перманентным. Технология в целях своего прогрессивного развития формирует такие сверхкомпенсаторные комплексы, способные отвлечь индивидов от процесса реального потребления благ, что сами обещанные ею блага становятся лишь стимулами для их погружения в иллюзорный мир, мир квазификций. Реальное потребление благ, таким образом, замещается изысканными формами их фиктивного присвоения, а процесс «уплотнения времени» оказывается иррелевантным процессу «ускорения и перестройки», необходимые технологии для достижения своих имманентных целей — целям, связанным с формированием универсума искусственных объектов.
Требования, которые предъявляет телесный субъект к миру, становятся не соизмеримыми с его продуктивными вкладами, идущими на удержание мира в необходимом онтологическом гомеостазе, его потребительство оказывается все более разрушительным для остатков былой его целостности. Если у телесного субъекта и есть ярко выраженные способности, то лишь способности к перманентному и прогрессирующему потреблению, но отнюдь не способности к производству и воспроизводству целостного и универсального бытия. Если формулу цивилизованной формы экзистенции в известной степени можно представить как «иметь, чтобы быть», то применительно к ее технологически опосредованной форме таковой фомулой является «быть, чтобы иметь». За пределами обладания бытие для атомизированного индивида не представляет какой-либо ценности. Бытие, составлявшее на заре цивилизации основу и цель целостной экзистенции человека, превращается в средство присвоения внешних благ. Жизнь индивида, соответствующая этой формуле, становится похожей на конвейерную линию, по которой направляются на склад готовой продукции все новые и новые товарные массы. Весь мир, согласно потребительской психологии, представляет собой некую кладовую полезностей, которые необходимо присвоить, чтобы затем преобразовать в универсум вещей. Такой человек существует лишь во имя сверхпотребления, за пределами которого он не в состоянии обнаружить более высокие экзистенциальные смыслы. Основные потребности телесного субъекта лишь внешне выглядят социогенными, по существу же своему это биогенные потребности, мимикрирующие под социогенные, так как в их основе лежит пресловутый «принцип удовольствия», вытеснивший из самосознания «принцип реальности», базировавшийся на всевозможных запретах и отсрочках в реализации осознанных потребностей. Вместо насыщения «там и тогда» потребности получают фантастическую возможность реализовываться «здесь и теперь». Но это именно такие потребности, насытить которые вполне возможно чисто техногенными средствами. Они не требуют особой креативности, а главное, огромной самоотдачи от самого потребителя. Либидо оказывается тем посредником, который одновременно удовлетворяет и потребности внутреннего, и потребности внешнего мира. Не случайно начальный этап перехода от цивилизации к технологии, сопровождавшийся «революцией социальных ожиданий», завершается пресловутой «сексуальной революцией». Так называемые новые потребности по своей природе суть развернутая и детализированная инфраструктура «основного инстинкта», оказавшегося двигателем технологического прогресса. «Поскольку цивилизация в основном — продукт Эроса, — считает Маркузе, — энергия прежде всего отнимается у либидо»39. Либидоизная структура потребностей человека эпохи восхождения технологической онтологии вряд ли вызывает сомнения. Телесный субъект — это абсолютно конформное существо, чей разум автоматически подчиняется «волющей телесности», т.е. глубинной интериоризации «технологической необходимости».
Покорение Вселенной ведется уже не ради воплощения радикальной социальной утопии, а всего лишь для преобразования ее субстратных структур в бесконечный универсум потребительных стоимостей. Прогрессирующие потребности по своей онтологической патологии схожи с болезнью под названием прогрессивный паралич (сексогенного происхождения: прогрессирующее нарушение психики; бред величия; депрессивные и эйфорические расстройства и проч.). Психическое заболевание на венерической основе, преследующее на протяжении тысячелетий человека как существо телесное, в век научно-технического прогресса становится почти идеальным аналогом болезни предельно отелесненной цивилизации, патологическая любовь к которой со стороны телесного субъекта оказывается источником не только экзистенциального, но и физического его вырождения. «Каждая жизнь, — писал Ортега-и-Гассет, — это борьба за то, чтобы стать самим собой. Препятствия, на которые мы при этой борьбе натыкаемся, и пробуждают, развивают нашу активность и наши способности... Чрезмерное изобилие жизненных благ и возможностей автоматически ведет к созданию людей-выродков... настал момент, когда цивилизованный мир стал по сравнению с потребностями среднего человека чрезмерно изобильным и богатым. В конце концов благополучие и безопасность, созданные прогрессом, испортили заурядного человека, внушив ему чрезмерную самоуверенность, порочную и одуряющую»40.
В экзистенциальном плане технологический прогресс и прогрессивный паралич оказались феноменами вполне зеркальными, и не только по общей симптоматике, но и по тому ускорению, с которым они движутся к своему летальному исходу. Бытие телесного субъекта перестает быть универсумом социальных объективаций: статусов, позиций, ролей и проч., оно превращается в универсум «чистых» объективаций — вещей. Уже Кант осознавал Европу как «цивилизацию вещей». Товарный фетишизм становится основной онтологической фикцией, не учитывая которую, невозможно понять внутреннюю мотивацию бытия телесного субъекта.
Элементы объективированного мира фетишизируются в той мере, в какой они выступают в качестве средств потребления. Но и сам потребитель, утративший качества целостного субъекта, фетишизируется не иначе как «субъективированная субстанция», пригодная удовлетворять те из витальных потребностей, которые еще не удается восполнять внеличностным способом. «Каждое Ты в мире, — писал Мартин Бубер, — по сути своей обречено стать вещью или, во всяком случае, вновь и вновь погружаться в вещность. На языке объективном можно было бы сказать, что каждая вещь в мире может до или после своего овеществления являться какому-либо Я в качестве его Ты»41. Субъект перестает интересоваться другим субъектом в тех сферах интимных отношений, которые замещаются более «эффективными» интерактивными средствами, разрабатываемыми наукой и техникой. Так, с расширением действия средств массовой коммуникации катастрофически сужается сфера межличностной коммуникации, видимо, на очереди и сфера чувственных отношений, возможность технологизации которой не вызывает особых трудностей, главное — рациональным дискурсом подвести людей именно к искусственной форме удовлетворения естественных сексуальных потребностей. Предельно отелесненное бытие втягивает в свои либидоизные структуры все, что еще осталось после массированного вытеснения в человеческой экзистенции из наиболее ценных элементов одухотворенного бытия, перерабатывая их в совокупность рационализированных потребностей, иррелевантных требованиям технологического прогресса. При-страстия телесного субъекта оказываются страстями при биогенных потребностях, насыщение которых становится чуть ли не единственной его жизненно важной проблемой. Чем ниже витальные, а по сути своей, рационально превращенные (точнее, превратные) биогенные потребности опускаются по шкале онтологических отметок, тем более технологически самоотчуждающийся субъект склонен полагать свою жизнь счастливее, нежели та, что была у его далеких предков. Уровень жизни современного человека измеряется содержимым «потребительской корзины», а не теми творческими потенциальностями, которые успели отлиться в актуализированные способности.
Ментальная система, в которой способности минимизированы, а потребности максимизированы, может быть относительно устойчивой лишь в ситуации перманентного восхождения потребностей и столь же постепенного угасания способностей. «Когда мы ищем полноты бытия в таких определенных нашей субъективностью благах, как богатство, власть, всеобщее признание, безмятежность наслаждения, — писал С.Л. Франк, — мы одержимы никогда не утолимой жаждой; скольким бы мы ни обладали, — требование большего, одержимость вечно манящим и вечно ускользающим от нас «еще и еще» своей мучительностью отравляет наше бытие»42. Наиболее явным представителем этого типа личности является дебил, совершенно не способный к самоактуализации, однако жаждущий удовлетворять свои прогрессирующие потребности по самым «высшим стандартам». Любопытно, что, видимо, именно эта модель человеческой субъективности «маячила» в воображении «молодых реформаторов», ориентировавших общественное сознание на «американские стандарты потребления», утверждая, что «мы еще не жили по-человечески». Не эта ли потребительская идеологема сыграла свою провоцирующую роль в распаде тысячелетней России? Лозунг «реформация ради потребления», не мог не привести к деградации общественной жизни, особенно в ее «элитарных кругах».
В контексте развиваемой нами метафизической концепции под квазибиогенными потребностями телесного субъекта мы будем понимать ту часть его витальных, жизненных потребностей, которые обслуживают принцип удовольствия. Принцип удовольствия на этапе свертывания прескриптивных цивилизационных процессов становится верховным законом мышления и поведения, тотально определяющим, структуру потребностей и способы их удовлетворения. Оценка «жизненно важных» потребностей телесного субъекта осуществляется уже не с позиции иерархии господствующих в обществе рациональных норм потребления, а с позиции некой объективной структуры знаний о человеке как о сугубо «витальном организме», которому имманентна та система приоритетов в сфере потребления, что складывается эмпирически и способна воспроизводиться строго научным образом. Высокую науку, на заре становления весьма пуританскую, затем вполне бесстрастную и объективную, все больше интересует не сама жизнь, а ее изнанка, относящаяся к ведению дискурса о непристойностях. Это кажется довольно странным лишь на первый взгляд. «Воля к знанию, относящаяся к сексу, — недоумевает Фуко, — заставила ритуалы признания функционировать в схемах научной регулярности: как дошли до того, чтобы конституировать это ненасытное и традиционное вымогательство сексуального признания в научных формах?»43. Научный дискурс становится все более циничным и сексуальным, а циничный секс — все более научным.
Структура потребностей телесного субъекта удивительнейшим образом коррелирует со структурой производства так называемого постиндустриального общества, способствуя прогрессу технологии в ее особых онтологических целях. Проблема манипулирования человеческими возможностями, эта довольно сложная в прошлом задача для власти предержащих, предельно упрощается, так как здесь объектом становятся уже не столько способности, сколько потребности человека. Потребности человека оказываются тем важнейшим плацдармом, занимая который, технология добивается техносоразмерных форм поведения. Отныне в структуре человеческих потребностей господствует ориентация не на освоение субъективаций духа или ценностей культуры, и даже не на присвоение социальных статусов, а на инкорпорирование, сверхприсвоение потребительских комплексов, являющихся всего лишь побочной продукцией развертывающегося технологического процесса, комплексов, основная цель которых лежит за пределами собственно человеческой экзистенции. Навязывая человеку разветвленную структуру нужд и всемерно их удовлетворяя, техноген без каких-либо затрат на средства подавления легко при-нуждает человека делать то, что ему порой не свойственно по внутренней его природе. «Та сторона, — писал Плотин, — которая чувствует какую-либо нужду, потребность и желает ее восполнения, вовсе не властна над тем, что влечет ее к себе. А если так, разве может быть свободным то, что стоит в зависимости от того другого, в котором имеет свое начало, от которого возникает, которым во всех отношениях определяется, с которым сообразует свою жизнь, от которого имеет саму свою форму?»44.
Несомненно, в нынешней онтологической ситуации мы имеем дело с особого рода трансференцией потребностей, идущих от отчужденного мира к чуждому ему человеку. Человеческие (?) потребности в эпоху восходящей Технологии — всего лишь видимая часть айсберга, скрывающего большую часть системы потребностей как основы реализации экстенций, исходящих от объективной Необходимости, или необходимости Объекта. Техноген удовлетворяет «человеческие потребности» отнюдь не ради самого человека, а в обмен на его столь недостающую ему естественную субъектность. Но и сам телесный субъект отдается во власть техногенной цивилизации весьма расчетливо, калькулируя свою активность таким образом, чтобы обеспечить прогрессивное развертывание тех потребностей, которые выступают инфраструктурой вожделения, составляют либидоизную основу его объектного присутствия в универсуме объективаций. «Если субстанциалистски ориентированный человек и ведет себя как предатель своей субъектной культуры и своих субъектных возможностей, — пишет Г.С. Батищев, — то он в этом далеко не бескорыстен: он не просто отдает себя в рабство, не просто поддается процессу самоаннигиляции, но активно-расчетливо продает нередуцируемую свою субъектность, конкретно-многомерную, особенную, творческую, — за объектно-вещное господство среди объектов-вещей»45. Прогресс в потреблении и технологический прогресс — две взаимосвязанные стороны процесса отелеснения Мира и обмирщвления Тела.
Человеческие тела — это «сообщающиеся сосуды» Единого Мирового Тела, по которым переливаются жизненно важные ресурсы, идущие на удовлетворение многообразных витальных потребностей. Естественно, что система реализации биотехногенных потребностей может быть только принудительной, ибо потребление в ней идет лишь за счет репрессивной формы присвоения, инкорпорирующей «полезности», за счет деструктивной формы потребления, вытесняющей способности. Однако присвоение в форме потребления и потребление в форме присвоения в состоянии осуществляться не иначе, как при условии перманентного и все более углубляющегося самоотчуждения, т.е. самоприсвоения в форме самопотребления. Человеку в этой объективированной системе всего лишь кажется, что он потребляет сугубо внешние блага, — они суть отчужденные от него самого его собственные силы, преобразованные технологией в товарную массу, в которой он же и овеществлен в качестве особого товара и особой массы. Человек как телесная субстанция одновременно оказывается и вещью, и потребительной стоимостью, расширенно воспроизводимыми на конвейере рациональной Технологии и технологической Рациональности. «Человек, — писал Ницше, — в конце концов находит в вещах лишь то, что он сам вложил в них: это обретение называет себя наукой, а вкладывание — искусством, религией, любовью, гордостью. И то и другое, будь это даже детская игра, надо продолжать и иметь смелость и для того и для другого; одни будут смело находить, а другие — мы — эти другие — вкладывать!»46. В конце концов в качестве телесного субъекта человек иррационально инкорпорирует свою же собственную телесность, все более отпадающую от высших его экзистенциальных форм, а потому, будучи активно вовлеченным в технологический процесс, он занимается не чем иным, как самоедством, самоинкорпорированием.
Индивид, предпочитающий тело духу и делающий все, чтобы следовать требованиям вожделения, — это человек, избравший путь самовытеснения из Вечности, так как он в нее в основном пролагается виртуальными способностями, а преграды на нем возводятся прежде всего иррациональными потребностями. Что может быть более антигуманного, нежели использование низших потребностей для блокирования высших способностей человека, и прежде всего способностей к свободной самотрансценденции, добродетельной самоактуализации и долженствующей социализации?
С вытеснением социального из экзистенции «прогрессивное развитие» внешнего объективированного мира получает предельную степень ускорения. Как только телесность окончательно сбрасывает с себя «социальные одежды», так сразу же темпы развития исторического процесса становятся столь интенсивными, что при всем желании уже нет никакой возможности снизить их. Замедление темпов развития смерти подобно. Во имя прогресса естественной Жизни, или жизни Естества, человеческая экзистенция окончательно лишается какой-либо субъектности, что и выступает онтологическим пределом существования не только Субъекта, но и его объективированных форм, способных своим катастрофическим самораспадом свертываться лишь в экзистенциальное Ничтожество, которое в состоянии инобытийствовать только в форме «элементов» структурированного Хаоса. С онтологическим восхождением Технологии возникает новый тип онтологии, где гармония и креация окончательно замещаются Порядком и Прогрессом. Отец позитивизма Огюст Конт провозгласил необходимость такой вот трансформации человеческого существования: «Порядок и Прогресс!», поскольку «прогресс есть только развитие порядка»47. Видимо, его призыв был услышан не свыше, а снизу, из преисподней, в которой царствует князь тьмы.
На этапе перехода от Цивилизации к Технологии прогресс меняет свою форму с социальной на научно-техническую. Прежде всего это выражается в том, что в структуре феноменов человеческой экзистенции лишь наука и техника развиваются по экспоненте. Центральным моментом технологического прогресса становится уже не объективация субъективного — социализация человека — как это наблюдается в прескриптивной цивилизации, а объективация объективного — технологизация социума. Возникает явная онтологическая асимметрия двух взаимообусловленных процессов в дескриптивно-технологической «цивилизации»: объективации субъективного и объективации объективного в пользу последнего. В излюбленном понятии социологизма социальная технология происходит семантическая инверсия, и то, что происходит с социумом на этапе прогрессивного восхождения технологии, вполне может схватываться понятием технологичная социальность. Объектно-технологические мерки, прикладываемые к внутреннему миру человека, становятся столь общепринятыми (взять хотя бы практику психологического тестирования личности), что десоциализация его внутренних структур не может не стать неким «объективным процессом», сопутствующим процессу становления так называемого нового человека.
Прогресс как рок уже не только начинает нависать над человеческими судьбами, но и все больше уподобляет общественные процессы процессам технологическим. Человек привыкает к мысли, что за пользование благами, предоставляемыми технологическим прогрессом, необходимо платить по большому счету, и он готов ради вожделенных Благ, или благих Вожделений, идти на любые жертвы, готов даже заложить душу дьяволу, лишь бы быть «халифом на час», лишь бы не откладывать «в долгий ящик» удовлетворение сиюминутных желаний. «Идет ли речь об опасностях, ценах и т.д., — пишет Ж. Эллюль, — по исчерпании аргументов ученый или техник заключает дискуссию фразой: "Во всяком случае, прогресс не остановить". Следовательно, предполагается что-то абсолютное, неоспоримое, против чего ничего не поделаешь, чему человек должен просто подчиниться, это — технический рост»48. Предельно технологизированное общество уже трудно назвать подлинно социальной общностью, так как в ней господствует не «социоген», а «техноген». Отныне технологический прогресс, а не социальное развитие человека становится целью исторического движения, во имя которой требуется жертвовать цивилизационными процессами, онтологически не аутентичными прогрессивно развивающимся технологическим процессам.
Технологический прогресс может быть обеспечен лишь социальным регрессом, усложнение телесной организации мира может осуществляться лишь за счет упрощения ее социальной организации. Трагедия иерархического человека на новом историческом витке заключается уже не столько в его целенаправленном расчеловечении социумом, сколько в его последовательной десоциализации наукой и техникой. Научно-технологический прогресс, как показывает еще не столь продолжительная его история, может быть обеспечен лишь за счет трансференции онтологического статуса с социальной субличности на телесное Я и его технологическое не—Я. То, что для телесного субъекта является прогрессивным присвоением, для социального субъекта — регрессивное отчуждение. Индивид перестает явно и однозначно, как это было прежде, осознавать себя членом «социального организма», он все более ощущает свою самость в качестве ментальной функции «технологической системы». Прогресс технологический может обеспечиваться лишь прогрессирующим разложением традиционного общества. И все же прогресс не есть имманентное свойство «объективной реальности», он есть квазифеномен, укорененный в первородном грехе человеческой субъективности, и по своим темпам иррелевантен темпам катастрофического нисхождения духа в мир самообъективаций; он — средство «онтологического затвердевания» Духа, его предельной субстанциализации.
Прогресс в развертывании универсума объективаций обязан отнюдь не некоему субстанциальному имманентизму, а тем телесным интенциям, имманентным низшим (и даже «низменным») формам человеческой субъективности, которые своими отчужденными и крайне репрессивными формами составляют энергетическую основу динамических изменений в объективной реальности. «Даже "объективнейшая необходимость", — писал Шелер, — содержит в себе тот "субъективный" элемент, что она конституирует себя только благодаря попытке отрицания обоснованного в некоторой сущностной связи предположения. Она проявляется только в такой попытке»49. Как только подталкиваемый «объективным прогрессом» регресс человеческой субъективности завершится окончательной экзистенциальной катастрофой, исчезнет и сама объективная необходимость, которая есть всего лишь объективация субъективной свободы. Как утверждал Н. Бердяев, необходимость есть падшая свобода, а потому с окончательным преодолением свободы духа исчезает и сама необходимость в качестве его отчужденного от духа модуса.
Антагонизм между социальным и телесным, составляющий особенность перехода Цивилизации к Технологии, преодолевается лишь кардинальным устранением социального в человеческой экзистенции. Последовательное сведение, редукция социального к телесному в сущем означает снятие уже не только социального, но и всего феноменального в экзистенции, отличающего человека от иных феноменальных структур объективной действительности, ибо в рамках телесной организации мира он всего лишь его эпифеномен. Преодоление социального — это снятие, демонтаж последней перегородки между природой как отелесненным космосом и природой как космической телесностью, т.е. фактическое уничтожение всех форм человеческого присутствия в мире отчужденных само-объективаций самостью, которой становится «объективная логика».
Итак, на смену социальному процессу приходит процесс технологический, где человеческая экзистенция окончательно обретает форму Неиного, а предустановленая субъективированная Гармония замещается предельно объективированным Порядком. Экзистенция становится упорядоченной, а Порядок — экзистенциальным. Технология как некий внесоциальный инвариант экзистенции, как ее предельная рационализация, по отношению к иерархическому человеку оказывается его абсолютно отчужденной онтологической формой, в которой он из Неиного превращается в Иное, способное свернуться отнюдь не в изначальное Ничто, а в окончательное Ничтожество. Это и есть становление человека со знаком минус, становление не Богом, а дьяволом, и при этом человек полагает, что наконец-то обретает полноту божественного бытия. Естественно, он искренне заблуждается, так как квазирациональный дискурс, преобладающий в его ментальности, блокирует его саморефлексию на трансрациональных основаниях. Это искренность человека, «не ведающего, что творит», хотя последствия подобного «творчества» красноречиво свидетельствуют о преступном характере его деяний. Субъект, перманентно преступающий заветы и законы, не в состоянии осознавать себя Преступником, — он видит себя лишь Человеком, совершающим немотивированные Ошибки. Он уже давно перестал осознавать, что Ошибка и есть тот Закон, которому он покорился, настоящее же имя ей — Самоотчуждение. Божествами, которые периодически низлагаются телесным человеком, становятся эти самые Ошибки, приводящие к еще более тоталитарным формам самоотчуждения в мире, где все более начинает господствовать Технология — онтологическая проекция его собственной Телесности.
В многомерной экзистенциальной процессуальности, как мы выяснили выше, технологические процессы — всего лишь низшая их часть. Как только эта низшая (низменная) часть начинает гипертрофированно трансформироваться в некую квазионтологическую целостность, ее «прогресс» становится возможным лишь за счет онтологического вампиризма — жертвами-донорами ее становятся Цивилизация, Культура и Культ. И чем более технология инкорпорирует внетехнологические сущностные силы субъекта, тем более неустойчивой в онтологическом плане она оказывается. Она не в состоянии существовать в качестве абсолютно автономного универсума объективаций, так как не обладает онтологической самодостаточностью. По мере интенсификации технологического прогресса наращиваются силы хаоса, временное упорядочивание которых требует привлечения еще более мощных сил, каковые, в свою очередь, еще более интенсифицируют процессы хаотизации в Сущем. Однако на эту обратную сторону технологического прогресса, его репрезентант — гносеологический субъект — не только не обращает никакого внимания, но, напротив, делает все возможное, чтобы поддерживать в человеке постоянную готовность принести технологическому молоху свою «последнюю жертву» — жизнь в теле, прельщая его возможностью вечного существования в качестве перманентно почкующегося клона, а в отдаленной перспективе — и неуничтожимой голограммы его индивидуальной телесности.
5.2. ТЕХНОЛОГИЯ КАК РАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Техника рационализирует человеческую жизнь, но рационализация эта имеет иррациональные последствия.
Н.А. Бердяев. Судьба человека
в современном мире
На рубеже тысячелетий вполне обозначился «нижний предел» Цивилизации, за которым проглядывает «начало» новой онтологической целостности, основу которой составляет уже не социальный, а телесный принцип организации структур Сущего. Эту новейшую онтологическую целостность довольно трудно взять в гносеологическую вилку, чтобы исследовать метафизически, так как процесс ее становления все еще продолжается. Мы обозначили эту новую онтологическую нишу иерархического бытия понятием Технология и исходим из предположения, что это не только самая низшая, но и последняя ступень метаистории. Своим генезисом технология обязана цивилизации, она является ее рациональной объективацией. Технология в ее современном виде — следствие развития экспериментальной науки. Ее основные исторические вехи: возникновение экспериментальной науки в конце XVI в. в связи с деятельностью Галилея; в конце XVII в. Ньютон даст ей основные установки и в середине XVIII в. она начинает интенсивно развиваться. Однако лишь в XX в. со всей определенностью обнаруживается, что технологию надо понимать как особую онтологию, которая все более освобождается от своей социоморфности. Отнюдь не цивилизационные, а технологические процессы становятся приоритетными в эпоху научно-технической революции. Несомненно, что сам этот технологический универсум в своем перманентном развертывании будет иметь некие внутренние этапы, обусловленные внутренней логикой нисхождения в субстанциальный мир. Можно уже сейчас предположить, что техногенез перейдет в рациогенез, однако, по крайней мере с позиции современного метаисторического этапа, порождающего систему смыслов и той их части, которую философская рефлексия в состоянии концептуализировать, становится ясным, что история клонится к своему нижнему пределу, за коим «хаос шевелится».
Трудно найти какое-либо иное наименование новой нише Бытия, которая на глазах современного поколения все более радикально автономизируется от Цивилизации, нежели Технология. В названиях форм бытия, предшествовавших технологическому универсуму, хотя и в неявной форме, все же содержался намек на их определенную субъектосоразмерность, и даже если в них и обнаруживалась онтологическая отчужденность, то отчужденность именно от собственно человеческого самоопределения во внешнем мире. В рамках такого рода обозначения человек не только доопределялся внешними обстоятельствами, но и сам определял их сущность своим при-сутствием при онтологической сути дотехнологических универсумов.
Хотя, опускаясь по ступенькам онтологии, человек все более утрачивал свою субъектность, однако именно она в объективированной форме составляла «окружающую среду обитания». Так, в понятии «цивилизация» содержатся такие субъектосоразмерные значения, как «цивильность», «социальность», «нормативность» и проч. А потому совершенно не режет слух не вполне корректное словосочетание «человеческая цивилизация». (Ведь требуется некая семантическая оппозиция — «внечеловеческая цивилизация», т.е. общность, состоящая не из «человеков»; в противном случае совершенно отпадает правомерность использования прилагательного «человеческая».) То, что именно «человеческая» прилагается к понятию «цивилизация», скорее всего указывает на то, что реально функционирующая цивилизация редко бывает пронизана собственно человеческими чувствами и отношениями, и это словоупотребление обусловлено верой в преодоление социальной цивилизацией в обозримом будущем ее традиционной «бесчеловечности». В понятии же «технология» уже совсем трудно обнаружить даже метафорическое присутствие человека. Совершенно бессмысленно словосочетание «человеческая технология», хотя понятие «социальная технология» прочно вошло в социологический новояз. Современная историческая эпоха есть эпоха перехода «массового общества», «общества массового потребления» в некую общность телесных субъектов, не поддающаяся явной социальной атрибуции. Это уже далеко не Цивилизация в ее узком онтологическом значении, хотя нарождающееся онтологическое образование иногда называют либо «постиндустриальной цивилизацией», либо «информационной цивилизацией».
Телесный субъект — это нецелостный элемент рациомассы, агрегированной технологией в некую онтологическую псевдообщность. Ее не назовешь социальной общностью, ибо принцип социальности в ней замещен принципом телесности. Термин «технология», на наш взгляд, прекрасно схватывает предельно объектный характер общности телесных суъектов. Общность всегда состоит из субъектов, совокупность же объектов фиксируется понятием «система», а потому агрегированную псевдоцелостность телесных субъектов лишь условно можно обозначить термином «технологическая общность».
Когда имеется в виду универсум технологических процессов, то прежде всего предполагается, что человек в нем растворен своими овеществленными, объективированными формами «весь и без остатка», что «человеческие тела» скреплены в некую онтологическую целостность сугубо прагматическим образом. Трех понятий — «наука», «техника» и «технология», — утверждает Арон, вполне достаточно, чтобы выразить сущность того универсума объективаций, который идет на смену социальному универсуму. И за «концом» этой формы квазиобъективированного существования может быть лишь «начало» вселенского хаоса, т.е. абсолютного противобытия, в котором субъект будет представлен лишь своим экзистенциальным ничтожеством.
Будем исходить из гипотетического предположения, что целостность технологического универсума можно исследовать, если гносеологическая вилка будет составлена из онтологической оппозиции цивилизация — хаос. Таким образом, технология нами будет рассматриваться не столько в качестве среднего онтологического члена, имеющего свои «начало» и «конец», сколько в качестве крайнего члена метаисторического ряда, на котором обрывается присутствие субъекта в мире, а вместе с ним исчезает и его обмирщвленное состояние реальности — бытие. «Нижний предел» и технологического универсума, и бытия в целом мы можем полагать лишь сугубо метафорически, как, кстати, и «верхний предел» культового универсума, исходя из тех откровений, что содержатся в вероучении, в трансцендентальных знаниях абсолютного мифа.
Известно, что абсолютная мифологема отличается от относительных идеологам прежде всего тем, что нижние и верхние пределы мира, чью метаисторию она собой предваряет («Сначала было Слово»), уходят в бесконечность, а потому поддаются известной символизации. В отличие от открытой мифологемы любая относительная идеологема, мимикрирующая под абсолютный миф, есть некая логическая завершенность, закрытость; пределы мира в ней константны, неподвижны, а потому по мере развертывания дискурса и перманентной смены парадигм передвигаются от горизонта к горизонту, обозначаемому гносеологическим субъектом. При всей неполноте знаний о сущем объектный подход всегда претендует на абсолютную истину, а потому вполне верит в истинность того замкнутого мира, который он «открывает». Напротив, при субъектном подходе мир приоткрывается мгновенно всей своей исторической горизонталью, так как трансцендентальный субъект «наблюдает» за его метафорическим становлением с высоты метаисторической вертикали. И чем ближе он находится к первоистокам Сущего, тем острее он ощущает конец еще не завершившейся истории Бытия. С какой ясностью очевидца написан «Апокалипсис». По сравнению с ним любые рациональные прогнозы будущего, сколь высоконаучными они бы ни были, всегда несут на себе печать «отвлеченных начал», и не было еще случая, чтобы они подтверждались дальнейшим ходом и исходом истории. Сколь очевидно «Коммунизм», насыщенный оптимизмом, выступает прямым антиподом «Апокалипсиса»! Однако, следуя его догматике, огромная часть человечества оказалась в очередном тупике нереализуемой Утопии. Интересно, что по своим воздействиям на человеческую экзистенцию коммунизм оказался апокалиптическим, а апокалипсис — коммунитарным.
Однако речь здесь идет не столько о положительном или негативном исходе всемирной истории, сколько о выборе символа, способного выполнить роль трансцендентального значения Конца Истории. В рамках объектного подхода таким «псевдосимволом» вполне может быть Коммунизм (псевдосимволом потому, что это понятие порождено рациональным дискурсом, который своей проекцией на всю тотальность бытия может порождать лишь Утопию); в пределах же субъектного подхода таким символом может быть лишь Апокалипсис — ведь именно этим символом в абсолютном мифе завершается тот хаос бытия, в который перманентно втягивается человеческая история с момента ее отпадения от сакральных и трансцендентных первоначал. Этим мы хотим подчеркнуть лишь одно: с субъектоцентристских позиций нет иного варианта для обозначения сути конца всемирной истории, он предопределен содержанием самого абсолютного мифа; здесь символом выступает Хаос, и способ его преодоления — Апокалипсис.
Мы вполне осознаем, что метафизический анализ целостности последней метаисторической ступеньки, к которому мы приступаем, будет и неполным, и метафорическим — и не только ввиду незавершенности истории технологии в особенности и человеческого бытия в целом, но прежде всего в связи с тем, что философия здесь должна приглушить свой дискурс и суметь настроиться на свидетельства о конце истории, содержащиеся в абсолютном мифе. И все же мы попытаемся представить Технологию как универсум объективации в качестве онтологической целостности, какой она выглядит с позиции субъектоцентристского мировоззрения.
Итак, Цивилизацию в качестве автономного универсума сменяет онтологическая универсальная целостность, обозначаемая здесь понятием Технология. Современное человечество, как мы полагаем, вступило в новейшее осевое время, сутью которого является переход от Цивилизации к Технологии. Технология все более дескриптивно фиксирует объективированные формы человеческого присутствия в мире объективаций, приоритетность которых над социальной целесообразностью вряд ли вызывает сомнения. В этой грядущей онтологической целостности социальные структуры унифицируются и рационализируются под «потребности» развития научно-технического, но отнюдь не общественного прогресса. Социальный опыт, накопленный человечеством за всю его долгую историю, все более оказывается невостребованным, перестает транслироваться из поколения в поколение, основу жизнедеятельности людей составляют уже лишь те мирожизненные инновации, которые способны придавать технологическому процессу дополнительное ускорение, даже если при этом ставится под вопрос реализация социальных проектов и программ. Среди очевидных особенностей уходящего XX в. в качестве наиболее впечатляющей называют научно-техническую революцию, а не какую-либо иную революцию, правда, наряду с ней все чаще фигурирует еще и сексуальная революция, но, как мы выяснили выше, они являются онтологически иррелевантными всплесками экзистенциальной активности современного человечества. Именно в XX столетии наука, техника и технология обретают в человеческой экзистенции поистине вселенский онтологический статус и размах. По крайней мере в рамках Западного Мира, завершается собственно социально-цивилизационный этап истории и начинается этап восхождения информационно-технологического способа человеческого существования.
Человек в мире объективаций становится существом, крайне зависимым от уровня развития технологии, адаптируясь к рациональным требованиям которой он вынужден систематически модернизировать структуру своей ментальности, все более наращивая в ней совокупность рациональных диспозиций за счет вытеснения трансрациональных свойств. В качестве весьма насущной возникает проблема интеграции индивидов, катастрофически утрачивающих индивидуальность и субъектность, в организованную общность, в которой, несмотря на все ухищрения менеджеров, социальный модус стремительно вырождается в модус рациональный. Бывшая ранее цивилизованная социомасса, распадаясь, превращается в технологизированную рациомассу. Складывается новый тип исторического единения — квазиобщность телесно-технологических форм и феноменов, которую уже трудно конституировать в качестве разновидности социальной общности и в которой человек почти «без остатка» растворяется своей самой низшей и чаще всего единственной телесной субличностью. Соединить телесно-рациональных индивидов в некую псевдообщность оказывается возможным уже не посредством норм долженствования, подкрепляемых социальным насилием, а рациональным дискурсом и еще более извращенной информационной формой насилия.
На общем технологическом континууме человеческой экзистенции субъект все более овеществляется, а вещь все более субъективируется, постоянно происходит взаимопревращение вещи и человека, вещь предстает в качестве экстериоризации человеческих свойств, а человек — в качестве интериоризации вещественных функций. Механизмы интериоризации и экстериоризации в техносоразмерной общности становятся ведущими механизмами не только развития внешнего мира, но и способа встраивания в него мира внутреннего. Возникает весьма порочный замкнутый экзистенциальный круг, когда телесное Я экстериоризуется в телесном не—Я, в технологии, а затем, в процессе адаптации к нему, его же и интериоризует. Длительное время механизм «интериоризации—экстериоризации» в науках об обществе и человеке был чуть ли не единственным, проясняющим характер взаимодействия человека и среды. В ходе дискуссии все чаще звучал призыв отказаться от редукции всей многослойной интернациональной активности человека к этому довольно примитивному механизму взаимодействия внешнего и внутреннего миров. Однако именно этот механизм выступает доминирующим в телесно-технологическом взаимодействии. Человеческая телесность экстериоризируется в технологии, а технология интериоризируется в телесном Я — ведь они в этом онтологическом взаимодействии противостоят друг другу как два модуса единого вещественного мира. «"Экстерналист — пишет Г.С. Батищев, — это тот, кто склонен изменять окружение в соответствии со своими нуждами. Интерналист сам адаптируется к своему окружению". Здесь люди явно и откровенно приравнены к типам вещей. В них решительно и намертво отсечено что бы то ни было, кроме того, что укладывается в "структурные понятия, порожденные механистическим (так называемым бихевиористским) взглядом на человеческое поведение". И это отнюдь не удивительно, ибо это отвечает специфике вещно-технического подхода, свойственного кибернетике»50.
Мир технологически опосредованных общностей — это мир людей как вещей (персонифицированная овеществленность) и вещей как людей (овеществленная персонифицированностъ), причем именно овеществленные сущности в этом типе взаимодействия тотально определяют человеческое существование, а не наоборот. Чем более развивается гипертрофия объектного и вещественного и вытесняются реликты субъектного и социального в экзистенции, тем более тоталитарным становится рационально-иррациональное насилие над человеком со стороны технологической среды обитания. Человек же настолько плотно погружается в ставшую привычной для него объективированную среду, что совершенно утрачивает свои былые социосоразмерные формы бытования. «Между "автономным человеком", самостоятельно ориентирующимся в мире, — пишет Ф.И. Гиренок, — и человеком — "элементом массы" лежит пропасть. Цивилизованный человек, иронизирует Юнг, научился делать свою работу без песнопений и барабанной дроби, которые гипнотически вводили бы его в состояние "делания". Он даже может обойтись без ежедневной молитвы. Но вот что странно. Одновременно появилось множество людей, которые живут так, как если бы они не имели органов чувств: они не видят вещей, которые у них перед глазами, не слышат слов, звучащих у них в ушах. "Массовый" человек сверяет предпосылки своего мышления с мышлением и действием массы, с ходом истории. А поскольку масса не мыслит, а история не действует, постольку возникает массовая потребность в представителях истории и масс»51. Новые онтологические общности людей возникают уже не в качестве проекции прескриптивных структур на социальное силовое поле цивилизации, а за счет дескриптивной проекции законов технологической необходимости, вызванных к жизни гипертрофией властных отношений волющей телесности.
Каковы онтологические отличия Технологии от Цивилизации? Прежде всего Технология отличается от Цивилизации своей ярко выраженной объектностью и рациональной концептуализацией, стремлением всему и вся в сущем придать вещественную форму, «все сущее овеществить». Если в Цивилизации господствует социальное, то в Технологии мы обнаруживаем онтологическое сгущение человеческой телесности, овнешненность его морфологических функций. Онтологическим принципом построения Универсума объективаций выступает принцип телесной Организации, или организованной Телесности. Технология есть та ступень в метаисторическом процессе, на которой объективация всех предшествующих экзистенциальных форм достигает своих абсолютных пределов: экзистенция субстанциализируется, а субстанция экзистенциализируется. «Субстанциальная природа, — писал Н. Бердяев, — является источником детерминизма, а не свободы»52. В пределах технологического универсума несубстанциальная свобода духа все более сходит на нет, ее все более вытесняют законы детерминации субстанциальной необходимости; здесь уже не срабатывает даже принцип «свободы выбора», который существовал в Цивилизации.
Суть технологического переворота в экзистенции состоит прежде всего в том, что целью развития становится расширенное воспроизводство телесной организации мира во все более универсальной форме, способной в своем пределе довести до автоматизма удовлетворение квазивитальных потребностей телесного субъекта, даже тех из них, которые связаны с реализацией некрофильской ориентации. Именно самая низшая, а порой и низменная, группа потребностей человека становится неким ментальным ускорителем научно-технического прогресса, основу которого составляют особо репрессивные технологические процедуры, направленные на насильственное преобразование естественного в искусственное. С повсеместной утратой человеческой общностью социального модуса и обретения ею модуса телесного, Цивилизация без особых бурь и потрясений плавно переходит в Технологию, где правит уже не социальная целесообразность, а волющая телесность, или, иначе, законы технологической необходимости. Не случайно Адорно и Хоркхаймер, критикуя современную историю с позиции «тотальности праксиса», отождествляют последовательную технологическую рационализацию мира с проявлением абсолютной «воли к власти». «Техническая рациональность, — пишут они, — есть сегодня рациональность самой власти. Она — принудительная сила отчуждения от себя общества»53. Однако технологическую рациональность вряд ли можно редуцировать к некой абстрактной воле к власти, так как сама она — всего лишь атрибут Иного в Сущем, т.е. проявление злой воли «князя мира сего».
Между Цивилизацией и Технологией есть и нечто общее, по крайней мере на начальной стадии «развертывания» универсума объективаций субъективного. Общим является то, что индивиды, интегрированные в эти онтологии, в основном заняты благо-устроением своих сугубо внешних условий существования и большую часть своего непомерно огромного (по сравнению с тем, чем располагают астральный и антропный субъекты) свободного времени отдают процессу насыщения прогрессирующих потребностей. Это такие две онтологические общности, в которых формирование потребностей и их удовлетворение становится своеобразным культом, культом потребления.
Различие здесь лишь в степени и форме удовлетворения потребностей. Если цивилизованное насыщение потребностей хотя и носит тотальный характер, но все же ограничивается определенными социально-нормативными рамками, то в условиях техногенной онтологии насыщение потребностей все более становится тоталитарным, предполагающим следовать «стандартам потребления» как некой неизбежности. Тоталитарное потребительство ведет к столь же тоталитарному устранению всех способностей индивидов к внутренней самоактуализации. Если в цивилизационной ситуации удовлетворение потребностей осуществляется «там и тогда», то в ситуации технологической — «здесь и теперь». Технологическая онтология отличается от цивилизационной тем, что, согласно З. Фрейду, в ней господствует не принцип реальности, а принцип удовольствия. Маркузе полагает, что существенное преобладание в организации принципа удовольствия знаменует пик прогресса внешнего мира как организованного господства. Технология предполагает необходимость создания тоталитарной общности, такого типа «организации», в которой его «органы» в состоянии существовать лишь в качестве персонифицированных технологических функций. «Сам способ организации своей технологической основы современного индустриального общества, — пишет Маркузе, — заставляет его быть тоталитарным; ибо "тоталитарное" здесь означает не только террористическое политическое координирование общества, но также нетеррористическое экономико-техническое координирование, осуществляемое за счет манипуляции потребностями с помощью имущественных прав»5454.
Можно было бы определить технологию в качестве высшей формы социального тоталитаризма, если бы в ней господствующим оставался социальный принцип организации мира. Этот тоталитаризм экстенционален и исходит из объективации самой человеческой телесности, а потому и носит столь ригористический характер. Телесно-субстанциональный характер — вот что отличает Технологию от Цивилизации, которая по принципу своего построения все же является социальным феноменом. Социальную тоталитарность еще можно на время преодолеть псевдодемократизмом, прекрасно мимикрирующим под гуманизм, технологический же тоталитаризм возможно преодолеть лишь столь же тоталитарным образом — насильственным исходом из Бытия.
И Цивилизации, и Технологии присущ диктат свободного времени, т.е. времени, «освободившегося» от Вечности и Мгновений, на которые Вечность распадается в условиях креативной и культуротворческой активности человека. Впервые за всю свою тысячелетнюю историю человек становится подлинным невольником «свободного времени», внутри которого «остановить Мгновение», которое Прекрасно тем, что чревато Вечностью, оказывается почти безнадежным делом. В условиях онтологического восхождения Технологии диктат «свободного времени» оказывается все более жестким и жестоким, и в человеческом мирочувствовании возникает то, что принято называть экзистенциальным вакуумом. Будучи функционально привязанным к объективной действительности и разукорененным в высших онтологиях, где он только и в состоянии реализовывать свою «жизненную миссию», человек испытывает «витальный синдром», «усталость от жизни», в связи с чем в его ментальности катастрофически нарастает некрофильская ориентация, стремление навечно «забыться и заснуть, и видеть сны».
Понятие «технология» (как и «культ», «культура» и «цивилизация») вполне может использоваться в качестве единицы членения истории на отдельные этапы, фазы, локальные «экзистенциальные ансамбли». Прежде всего, такая «единица» позволяет выявить, каким образом возрастал инструментальный способ воздействия человека на внешний мир. Идея членения всемирной истории на технологические фазы, хотя и неявно, все же реализована в рамках исторического материализма, разработанного К. Марксом и Ф. Энгельсом и их наиболее «продвинутыми» учениками. Известно, что Технология в этой всеобъемлющей историософеме рассматривается как онтологическая квинтэссенция способа производства — средства членения всемирной истории на общественно-экономические формации. Главным догматом этой социетальной историософемы служит утверждение, будто общества различаются между собой не тем, что производят, а тем, каким образом они это делают. При таком сугубо объектном подходе к анализу человеческой экзистенции вся ее история предстает как перманентная смена способов производства, и ретроспекцию «новейшего» и «прогрессивнейшего» из них при желании всегда можно обнаружить в самых «ранних» и «примитивных» формах орудийного воздействия человека на внешний мир. Категория «способ производства» становится той ключевой метафизической фикцией, той «отмычкой», посредством которой вскрываются самые таинственные и непостижимые экзистенциальные феномены, окончательно снимается проблема человеческой субъектности, и вместо нее для историософского анализа подставляются так называемые объективные законы исторической необходимости. «Способы», «средства», «инструменты» производства оказываются теми субъектами, которые помимо воли человека осуществляют все без исключения базисные изменения в объективной реальности. При этом надстраивающиеся над подобного рода онтологическим базисом экзистенциальные формы представляются несущественным моментом исторического самодвижения технологии. Так как ведущая сторона способа производства — отнюдь не человек, а применяемые им средства производства, и еще уже — орудия труда, то именно исторически складывающаяся форма технологии и определяет сущность актуализированного способа производства, а посредством него — и соответствующую форму общественно-экономической формации.
Как видим, в этой историософеме обнаруживается целый редукционный каскад, причем последней редукцией является сведение всей онтологической многомерности сущего к орудийной активности, генезис которой обнаруживается отнюдь не в субъекте, а в объекте. Именно это обстоятельство характеризует данную форму историцизма и в качестве объектного, и в качестве бессубъектного, да это фиксируется и в самом его названии «материалистическое понимание истории» или, более кратко, «исторический материализм». И совсем не случайно согласно этой историософеме исторический процесс разворачивается не иначе как по своим собственным имманентным и объективным закономерностям, выступая всего лишь социальной разновидностью естественного процесса. Не случайно классиками марксизма процесс становления мира и человека в нем чаще всего обозначался понятием «естественно-исторический процесс». Однако если сущность этого процесса составляет орудийная, инструментальная форма активности, то не лучше ли его назвать «технолого-историческим процессом», ведь этот процесс прежде всего связан с перманентным снятием «естественного» и его заменой «искусственным» в человеческой экзистенции? И действительно, если строго следовать основным принципам материалистической историософемы, то не модифицируется ли со временем современное человечество (совокупность локальных культур) и так называемое открытое общество (совокупность локальных цивилизаций) в некую единую космополитическую общность, где мирожизненные процессы будут редуцированы к средствам, инструментам, орудиям рационального преобразования мира, совокупность которых и есть не что иное, как Технология в ее самом широком онтологическом значении? Не случайно столь высокое значение в этой историософеме отводится преобразующей и интегрирующей функциям технологии. Отсюда становится вполне прозрачным важнейшее положение исторического материализма о том, что «социальным революциям всегда предшествуют промышленные революции». Забегая вперед, можно сказать, что данное утверждение характерно лишь для цивилизации, в которой технология составляет ее собственную подстилающую онтологическую структуру, для современной же технологической цивилизации характерен прямо противоположный вывод: «за технологической революцией» всегда следует социальная контрреволюция (очередная стадия общественной деградации).
Выше мы уже высказывали свое несогласие с процедурой членения всемирной истории по какому-то одному «экзистенциальному комплексу», тем более по самому низшему из них, каким является «технологический комплекс». При анализе онтологической доминанты современной эпохи историк не должен отодвигать на задний план образ целостной истории, в то же время он не должен упускать из виду и саму эту доминанту, а ею на стыке тысячелетий выступает Техноген. В своей явной онтологической форме Технология — самый поздний и низший феномен истории, а потому может быть использована в качестве единицы членения лишь новейшего ее этапа, так как он вполне иррелевантен процессу интенсивного присвоения человеком своих природных сущностных сил и их активного преобразования в искусственную среду обитания. Использование «технологии» в качестве способа членения всемирной истории должно быть, на наш взгляд, методологически соотнесено с более универсальными концептами, позволяющими выделять более целостные и универсальные этапы истории, какими выступают «культ», «культура» и «цивилизация». Технология не может служить единицей членения всей метаисторической горизонтали, а лишь той части исторического процесса, что следует за самой Технологией. Но так как за Технологией следует Хаос, то она может выступать в основном лишь мерой онтологической деструктивности обмирщвленной экзистенции. И все же Технология имеет свою особую историю становления и свои этапы развертывания, привязанные к метаисторическим этапам восхождения Культа, Культуры и Цивилизации. На различных стадиях становления Технологии, большей частью по сути надтехнологичных, складываются такие ее праформы, которые, последовательно универсализируясь по всей метаисторической горизонтали, в конце концов модифицируются в единую телесную организацию Вселенной.
Технологию мы будем понимать предельно широко — как некую онтологическую процессуальность, в которой объективируются дискурсивные знания и рациональная техника, обусловленные перманентным преобразованием человеком своего овремененного и овнешненного существования в природно-техногенную среду обитания. Так как знания технологии до их онтологического обособления неявно содержались в своих символических, ценностных и нормативных праформах, то представляется возможным выделить следующие исторические этапы (формы) развертывания технологического универсума: а) трансцендентная, или культовая, технология (символическая прототехнология); б) эвалюативная, или культурная, технология (ценностная прототехнология); в) прескриптивная, или социальная, технология (нормативная прототехнология); г) дескриптивная технология, или собственно технология и д) квазидескриптивная технология, или псевдотехнология. Таковыми, согласно субъектоцентристской методологии, оказываются метаисторические формы Технологии, обладающие своей внутренней типологией, составляющие предметность уже не для историософской, а для собственно исторической рефлексии. Каждая из метаисторических форм технологии имеет свои особые экзистенциальные функции и онтологические статусы в перманентно расширяющемся многомерном и многоуровневом человеческом Бытии. Рассмотрим каждую из этих форм в отдельности.
Трансцендентная, или культовая, технология (символическая прототехнология). Длительное время, тем более на начальном этапе истории, телесно-технологическое в экзистенции не являлось самодовлеющей субстанцией; изначально оно было полностью соотнесено с жизнью человека в Духе. Да и в нашу сугубо технологизированную эпоху высшие формы рационального дискурса все еще находятся по ту сторону Технологии — в Культе, Культуре и Цивилизации. Однако уже первичное развертывание трансцендентного Ничто в феноменальное Нечто сопровождалось процессом отелеснения мира, его относительной субстанциализацией.
В рамках единого креативного акта, акта творения первичных форм Сущего, один за другим возникали телесные праформы. Не случайно уже в рамках мифологического сознания наряду с мистикой, выступавшей системой трансцендентных знаний о Духе, складывается и магия как некая совокупность способов воздействия на Тело в целях достижения определенных результатов по его целенаправленному преобразованию. Но так как на этом метаисторическом этапе телесная организация мира выступала овнешненной и обмирщвленной частью Духа, то магия, воздействуя на телесную субстанцию, пыталась изменить и ее духовный модус. Таким образом, магия может рассматриваться в качестве первичной формы рационального дискурса, прародительницы науки и техники. «Наука родилась из магии, — пишет Н.А. Бердяев. — Знанию присущ характер овладения, мужественной активности. Современная техника есть современная магия, как первобытная магия была первобытной техникой. Но магия есть активность через объективацию, она предполагает отчуждение и овладение, она носит натуралистический характер. Этим она отличается от мистики, которая носит характер духовный»55. Если посредством мистики человек вступал с Духом в сокровенные отношения внутренней благо-дати, то магией пользовался в основном в целях одностороннего присвоения внешних благ, в натуральном виде содержавшихся во внешнем мире. Благо-дарение и благо-приобретение изначально различались между собой своей соотнесенностью к мистико-магической основе существования, в которой Дух и Тело составляли трансцендентное единство человеческого существа. Однако магическая технология как трансцендентная проекция человеческого тела на мир телесных сущностей еще не обладала своим имманентным объектным самоизмерением — рациональным дискурсом; в ней неявно присутствовали духовно-космологические мерки и масштабы.
Сакральная предопределенность первичной формы технологии вряд ли вызывает сомнения, если подходить к ее истории субъектно. Основная цель технологии как магии заключалась в монументальной фиксации сверхприродного в природном, и лишь в качестве попутного процесса духовной самотрансценденции она выполняла функцию средства воспроизводства благ, необходимых и достаточных для поддержания человеческой витальности. Гармония души и тела основывалась на виртуальных способностях, а не на иррациональных потребностях. Первичная технология выступала объективацией трансценденции, а потому способствовала воспроизведению сакральносоразмерного внешнего мира. В начальный период метаистории Технология являлась магической инфраструктурой мистики, эпифеноменом неявного категорического императива «телесность ради духовности», которому непреклонно, хотя и неосознанно, следовал Микрокосм=Демиург. К неявной трансцендентной технологии можно отнести все то, что составляло сверхприродное в природе — трансрационально превращенные формы субъективного, служившие ментальной основой субстанциальных структур Неиного в Сущем. Не случайно метафизический персонализм наделяет ментальными свойствами все без исключения прафеномены сущего. Технологию как магию можно понимать в качестве перманентного процесса самосубстанциализации Культа, процесса первичного овнешнения внутреннего, отелеснения духовного. Она, если можно так выразиться, была средством расширенного воспроизводства элементов первичного мира, перманентно порождаемого креативностью Предсущего. Первичная технология являлась неким способом трансляции естественного во всеобщих духовных координатах, способом развертывания исходной живой монады в универсум форм жизни, в совокупный сакральносоразмерный организм, в котором, говоря сциентистским новоязом, био-технология призвана была служить структурой, «подстилающей» процесс становления Человека в качестве Микрокосма. Сакральная форма технологии возникает на стыке теогонии и космогонии как инструментальная функция креационистской активности Абсолюта. Между прателесностью, свернутой в Ничто, и универсумом развернутых ее форм — телесной организацией Нечто — сохранялся трансрациональный гомоморфизм. Технология как состояние первичной проявленности природных сущностных сил вполне гармонировала с неявной Цивилизацией, предсуществовавшей в культовой Культуре. Ей изначально отводилась «инструментальная функция», обусловленная перманентным переводом неявной несубстанциальной телесности в телесность проявленную и субстанциальную, служившую «твердью» для Духа. Телесная полнота бытия Неиного и есть Технология, достигшая своих предельных рациональных форм.
Итак, история Технологии как универсума объективаций выступает составной частью метаистории Человека, и первая ее праформа связана со всеобщей космодинамикой Абсолюта. Технология есть онтологическая форма познания, а познание — гносеологическая форма Технологии, и в этом их «чистом» соотношении они выступают феноменами новейшей истории. В прежние же времена это их соотношение вписывалось в более высокие и универсальные онтолого-гносеологические измерения. В рамках космического универсума, о котором идет речь, оно опосредовалось трансцендентным соотношением магии и мистики. Если мистика была первичной формой человеческого познания мира, то магия — первичной совокупностью средств технологического воздействия на мир. Лишь в Новое время из мистики выделяется наука, а из магии — техника, которые, соединяясь уже на дескриптивной основе, составляют основу объектной формы движения человеческой экзистенции, существо научно-технического прогресса. Однако в ветхозаветные времена пратехнология и пранаука в своем трансцендентальном синтезе выступали имманентным средством нисхождения Духа в Мир. Реликтом такого именно понимания сакральной функции науки и техники явилось учение Н.Ф. Федорова о воскресении предков, которое он называл общим делом. В отличие от других представителей русского космизма, отрицавших продуктивную функцию современных им науки и техники, он именно в них видел чуть ли не единственное средство реализации своего вселенского духовного проекта. Философема Н.Ф. Федорова интересна не столько утопическим проектом физического воскрешения прежних поколений и их расселения в космическом пространстве, сколько тем, что содержит в себе современную реконструкцию древнейшего понимания технологии в качестве совокупности магических действий, выявляет в ней конструктивную онтологическую функцию по отношению к духовной организации человеческой экзистенции.
Современная технология в своей магической прародительнице может обнаружить лишь свою изначальную принадлежность к сакральной креации, которую в ходе исторического развития, увы, утратила. «Даже если допустить, — пишет Тойнби, — что древняя техника предвосхитила появление машин, будучи изобретена в каком-то одном пространственно-временном отрезке, нам все равно не удастся построить диаграмму единого движения по прямой линии»56. Да, действительно, редуцировать современную технологию к древнейшей магии значит сводить низшее к высшему, рациональность — к самотрансценденции. Магия не только содержала в себе зародыш современной технологии, но и была органически связана с культом, культовыми праформами культуры и цивилизации, т.е. входила в систему тех трансцендентальных связей с мирозданием, которые современная технология давно утратила. И все же именно на этом первоначальном этапе метаистории складывается первичная форма технологии.
Итак, трансцендентальная технология изначально выступала неким эпифеноменальным «средством», «способом» всеобщего креативного процесса, позволявшим «магме Духа» затвердевать в форме первичных объективаций — субстанций, из которых на протяжении всей последующей истории человечества складывался и расширялся «внешний мир» как некая онтологическая производная от «внутреннего мира» Абсолютного и Бесконечного Субъекта. Лишь ближе к Концу Истории технология становится универсальным инструментом расширенного воспроизводства телесной организации мира, превращаясь из функций креативной активности Неиного в средство покорения мира Иным.
Эвалюативная, или культурно опосредованная, технология (ценностная прототехнология). Выделившаяся из Культа Культура содержала в себе совершенно иную праформу Технологии, нежели та, которая была в Культе. Ее основу составляли уже не трансцендентные, а эвалюативные знания, т.е. дескрипции, имманентно и неявно содержавшиеся в ценностных значениях. В пределах человеческого, родового универсума Технология все еще продолжает оставаться эпифеноменом, побочным явлением вне- и над-технологической процессуальности, не имеющей своей особой онтологической самобытности и имманентности. Но здесь она выступает уже не производной от всеобщего креативного процесса самотрансцендирующегося астрального субъекта, а неявной составной частью культуро-творческого процесса, осуществляемого самоактуализирующимся антропным субъектом. Эвалюативная (ценностная) технология есть не что иное, как внешняя сторона культуротворческого процесса, связанная с преобразованием внешней среды обитания антропного субъекта. «Специфически "технические ценности", — писал Шелер, — также суть подлинные производные ценности. Среди них "полезное" представляет собой (подлинную) ценность, производную от самостоятельной ценности "приятного". Но и более высокие ценности распадаются на самостоятельные и технические; для каждого вида высших ценностей также существует своя особая область технических ценностей»57. Хотя эвалюативная Технология структурно принадлежит Культуре, однако генетачески она продолжает быть связанной с трансцендентальной Технологией, выступает антропологически проявленной стороной вселенского креативного процесса.
Видимо, локальные культуры отличаются друг от друга не только ценностной модальностью, способом фиксации человеческого в человеке, но и способом инструментального воздействия на феноменальный мир человека, т.е. особым типом культуротворческой технологии. Не случайно культуру еще определяют как способ обработки естественных форм с целью придания им человекосоразмерных функций. Не это ли обстоятельство ввело в заблуждение Э.С. Маркаряна, когда он пытался редуцировать культуру к технологии, утверждая, что культура обладает технологической природой? Несомненно, при таком подходе мы обнаруживаем не только редукцию культурного к технологическому, но и напоминание о том, что культура в известном смысле является более «технологичной» нежели естественные природные комплексы, которые воспроизводятся трансцендентально, трансэвалюативно. Эвалюативная технология имманентна ценностям Культуры, а не законам естественной необходимости, в ней содержатся проекции антропной формы телесности, а не телесности как чистой природной данности.
Эвалюативная технология позволяет формировать «вторую природу», «родовое именитство», где человек в состоянии актуализировать свой самопроект, воплощать потенции антропного Я в универсум ценностных объективаций. Эта технология вне общекультурного контекста не имела собственно дескриптивного пред-на-значения, выступала «средством фиксации» сверхдескриптивного, сверхрационального начала в ценностной форме человеческой экзистенции. Эвалюативные знания способствовали укоренению человека в мире ценностных феноменов, продуцируемых его же собственной культурой. В пределах культуры технология выступала всего лишь ее инструментальной инфраструктурой, позволявшей человеку активно осваивать, а затем и целенаправленно присваивать свои родовые сущностные силы. Эвалюативная технология есть инструментальная сторона родовых сущностных сил, а потому оказывается своеобразным местом встречи окультуренного мира и мира, который еще предстоит окультурить. Это как бы «тело культуры» или совокупность ее субъективированных субъективаций, нашедших свое человекосоразмерное объектное воплощение. Эвалюативная технология формировала и развертывала в субъекте не собственно телесное, а сверхтелесное начало, подчиненное антропному принципу организации родовой экзистенции. Своими сверхдескриптивными значениями она фиксировала отношения между прателесными формами родовых половинок, позволяя им соединиться в единое общеродовое тело — человечество. Органически вписываясь своими инструментальными возможностями в совокупность способностей, технология служила важнейшим средством реализации человеком его гуманистического самопроекта. Скорее всего здесь мы имеем дело с неким технологическим инвариантом гуманистического проекта, позволявшим телесности обретать ценностную форму, а ценностному бытию — телесную выраженность. Если и следует употреблять не вполне корректное словосочетание «материальная культура», то лишь имея в виду то, что культура как сугубо духовный феномен, порождаемый самотрансценденцией, обладает способностью содержать в себе неявную технологичность, позволяющую человеку ценностно самоактуализироваться в неценностных структурах сущего. Неявная эвалюативная технология выступает неким внутренним средством самоактуализирующейся культуры, субъект и объект которой — родовой человек. Человеческая телесность на этапе онтологического восхождения культуры являлась экзистенциальным средоточием эвалюативной технологии, в ней его родовые функции обретали систематическую повторяемость и транслируемость.
Эвалюативная форма технологии свою позитивную онтологическую функцию осуществляла лишь в качестве удвоенной экзистенциальной вложенности, она была телесной вложенностью неявной эвалюативной цивилизации, которая, в свою очередь, выступала вложенностью культуры. Это придавало дополнительную устойчивость существованию антропно-социального субъекта. Процессы рационализации человека и его телесности были подчинены приоритетности человеческого над социальным. Технология как воплощенная форма ценностно означенной телесности способствовала развертыванию витальных потребностей человека в той мере, в какой они обеспечивали развитие родовых свойств человека, т. е. работали на развитие его виртуальных способностей. Одним словом, технологические процессы, коррелируя с культуротворческими процессами, подчинялись общей идее человечности. В те гуманистически-гуманитарные времена, в век высокой культуры, технология не могла существовать и развиваться лишь как объективация чистой рациональной идеи, оторванной от идеи всестороннего и гармонического развития человека. Своей человекосоразмерностью эвалюативная технология позволяла человеку корректировать уровень своего инструментального присутствия в мире таким образом, чтобы не вызывать негативных онтологических последствий, ведь дом, который человек обустраивал, в том числе и техническими средствами, предназначался для него самого.
Прескриптивная, или социальная, технология (нормативная прототехнология). Технология на прежних этапах своего развертывания соотносилась с Культом и Культурой опосредованно, в качестве «своего иного» неявных форм Цивилизации, в них содержавшихся. С обособлением Цивилизации Технология становится весьма явным ее «онтологическим фундаментом», обретает ярко выраженную системность. Каждая локальная цивилизация обладает своей особой прескриптивной технологией, посредством которой реализуются основные социальные проекты и утопии. Если, согласно Шпенглеру, цивилизация есть неизбежная судьба культуры, то технология есть судьба самой цивилизации. Если культ и культура особо не зависели от степени развитости технологии, то цивилизация вынуждена была всемерно развивать технологию как главное средство своего прогрессивного развития.
Цивилизационно опосредованная праформа технологии является ее третьей неявной исторической формой. Выделившаяся из культуры цивилизация содержала в себе уже социосоразмерную технологию, основу которой составляли прескриптивные знания, т.е. знания, неявно содержавшиеся в нормах долженствования, а потому ее целесообразно обозначать термином прескриптивная технология. На этапе онтологического восхождения цивилизации технология оказывается уже не производной от культуротворческого процесса, а составной частью социальной процессуальности. На этом метаисторическом этапе прескриптивная технология не имела какого-либо самостоятельного значения вне социальной предопределенности. В основном она выступала «средством» поддержания социальных процессов и институций, их подстилающей инфраструктурой. Скорее всего прескриптивную технологию можно рассматривать в качестве разновидности социальной процессуальности, ее проекции на складывавшийся универсум объективаций внутри социальной формы экзистенции. Основной ее задачей являлось не столько производство чистых телесных сущностей, сколько воспроизводство так называемых социальных вещей, социальных тел, придававших общественным отношениям необходимые субстанциальность и устойчивость. Любые технологические проекты в этой онтологической ситуации разрабатываются не иначе как под социальную идею, примером чему могут служить «великие стройки». Их социальная значимость порой существенно превышала собственно технологическую эффективность. Прескриптивные знания социально ориентированной технологии способствовали поддержанию органической встроенности инструментальных способов воздействия на внешнюю среду обитания в универсум социальных статусов. Нормативное измерение технологии позволяло удерживать ее в общем русле социальной процессуальности. На этапе метаисторического восхождения цивилизации технология была всего лишь ее онтологической инфраструктурой; если продолжить образную аналогию С.А. Эспинозы, общество было «душой», а технология — «телом» цивилизации. Процессы социализации технологии и технологизации социума подчинялись единой цели — прогрессу цивилизации.
Прескриптивная технология выступает в качестве объективации той части социального процесса, который поддается рационализации. По сути, технологические функции своим генезисом обязаны функциям социальным. Так, к примеру, в снятом виде социальные функции всегда присутствуют в автоматизированных системах. Прескриптивные технология и техника есть не что иное, как кладбище изжитых, вытесненных цивилизацией социальных ролей, их функционально-технологическое инобытие. Низшие, элементарнейшие формы социального поведения систематически размываются и оседают в функциональных структурах чистой технологии. Социальная технология, рождающаяся в недрах социального взаимодействия, в своей превращенной форме становится собственно технологией, позиции в которой уже замещают не люди, а объективации природных процессов. В современном социальном мире человек постепенно вытесняется из деятельностного процесса и замещается информационно-технологическими системами. Грядущая информационно-технологическая цивилизация непременно втянет в онтологию автоматизированных систем огромное количество окончательно объективировавшихся социальных функций человека. Таким образом, на этапе онтологического восхождения цивилизации технология представляет собой некую систему онтологических снятий с общей структуры ее социальных функций.
В предельно широком смысле технологический процесс, оставаясь экзистенциальной производной от процесса объективации социального, есть процесс перманентного развертывания телесного в социальном и социального в телесном. Однако и здесь технология все еще остается эпифеноменом внетехнологической процессуальности. Но именно в рамках социального универсума технология впервые обретает необходимые системные признаки и свойства, дающие ей возможность при благоприятных метаисторических условиях полностью обособиться в качестве относительно целостной и универсальной системы, т.е. превратиться в особый онтологический универсум.
Дескриптивная технология, или собственно технология. Порождающим началом дескриптивной технологии, основу которой составляют законы необходимости, объектная детерминация, выступает прескриптивная цивилизация. В метаисторическом плане Цивилизация по отношению к Технологии столь же первична, сколь сама вторична по отношению к Культуре. Имплицитно содержавшаяся в Цивилизации «прескриптивная», или «нормативная», технология является предтечей собственно Технологии со своим отличным от нее онтологическим статусом — статусом универсума искусственных объективаций. Дескриптивная технология генетически восходит к прескриптивной, еще выше — к эвалюативной, а через нее и к трансцендентной технологии, которые в своей совокупности составляют последовательный ряд овнешненных форм человеческой телесности. Дескриптивную технологию необходимо рассматривать в качестве рациональной объективации прескриптивной технологии. Однако эта автономия могла быть обеспечена лишь ее органической связью с прескриптивной технологией, так как вне социального долженствования технологизм не имеет субъектной мотивированности, а потому весьма нежизнеспособен. «Этот центр человеческих актов опредмечивания мира, своего тела и своей Psyche, — писал Шелер, — не может быть сам "частью" именно этого мира, т.е. не может иметь никакого определенного "где" и "когда" — он может находиться только в самом высшем основании бытия. Таким образом, человек — это существо, превосходящее само себя и мир»58. Производный характер дескриптивной технологии состоит в том, что она синтезирует собой не всю совокупность телесных функций, а лишь те из них, которые поддаются рационализации, а потому не может быть самодостаточной, в отличие от любого биологического организма, органически встроенного в природную экологию.
Технология в рамках Цивилизации развивается еще не на своей имманентной дескриптивной основе — она несет на себе печать «нормативной категоричности», к тому же «вынуждена считаться» и с физическими возможностями социальных субъектов, ею управляющих. Более того, связь между Цивилизацией и Технологией в этой метаисторической ситуации скорее функциональна, нежели экзистенциальна. Скорее всего Технология в своем развитии зависела от уровня развитости Цивилизации, которая в критические моменты своего существования могла функционировать и даже развиваться при минимуме технологической оснащенности. «Обзор ряда фактов и ситуаций, — пишет Тойнби, — выявит с неизбежностью случаи, когда техника совершенствовалась, а цивилизации при этом оставались статичными или даже приходили в упадок; будут и примеры противоположного свойства, когда техника не развивалась, а цивилизация между тем была весьма динамичной»59. Технология превращается в особый универсум объективированных связей, становится экзистенциально самодостаточной и функционально не зависящей от Цивилизации, как только начинает развиваться на своей собственной основе, на основе дескриптивного дискурса.
Если трансцендентная технология синтезировала неявные трансцендентные дескрипции, и в основном в виде мистико-магических знаний и действий, эвалюативная технология — ценностно опосредованные дескриптивные структуры овнешненной телесности, а прескриптивная технология представляла собой нормативно заданное тело социума, то дескриптивная технология развертывает свои потенции на своем собственном дискурсивном основании и потому может рассматриваться в качестве объективации дескриптивных знаний, являющихся гносеологическим инвариантом законов необходимости. Причем не просто законов необходимости, а тех из них, которые сложились под воздействием человеческой экзистенции на естественную телесность, результатом чего и явились законы существования искусственных комплексов — законы, которыми человеческим Рацио естественная телесность была атрибутирована. Технология — это Природа, подчинившаяся рациональному дискурсу, а технологические процессы суть рационализированные естественные процессы. В онтологическом плане обособившаяся от Цивилизации Технология есть в некотором роде «удвоенная телесность».
Если социальный субъект в своей деятельностной активности вполне обходился неявными прескриптивными знаниями, то социально-телесный субъект уже не мог существовать без разветвленной системы дескриптивных, научных знаний, позволяющих распространять деятельность за пределы собственно социальных функций. Сложно построенная экзистенция социально-телесного субъекта требовала существенного расширения объема дескриптивных значений за счет включения в них собственно научных знаний, вытекающих не из социальной предзаданности, а из ее имманентной логики деятельности. Если «автономная культура» была предтечей «автономной цивилизации», то за последней должна была последовать «автономная технология».
Устойчивость технологических процессов обеспечивается их перманентной энергетической подпиткой со стороны процессов естественных; в конечном счете они зависят от того положительного баланса, который человек в состоянии поддерживать между естественной и искусственной природой, и не иначе как энергетически насыщенными интенциями своего духа, эманирующими первоначала сущего. «Внутренний мир» человека должен быть настроен таким образом на отелесненный внешний его мир, чтобы тот продолжал оставаться некой онтологической целостностью даже в условиях массированной его рационализации. Только если рациональное в технологии находится под благотворным воздействием трансрационального в человеческой субъективности, возникающие искусственные системы будут проявлять минимум онтологической репрессивности.
Развертывая метафору о любви мужчины к женщине применительно к генезису технологии, можно утверждать, что мужчины выдумали технологию затем, чтобы ставшая уж совсем земной Ева могла испытать иллюзию «райской жизни», чтобы любые ее желания могли автоматически восполняться благами вещественного мира, которые технология призвана репродуцировать. Конечно же, это отнюдь не та благо-дать, которая разлита по всему духовному раю, а всего лишь «рог изобилия», однако современного человека он вполне устраивает. В смысловом контексте этой метафоры рациональная технологичность вполне может рассматриваться как унифицированная цивильность, где мужское и женское начала сливаются в некую единую ментальную Субстанцию, или субстанциальную Ментальность, способную ощущать «райскую жизнь» в мире овеществленных сущностей, которые суть всего лишь их собственные овеществленные чувства друг к другу. Телесные субъекты настолько эмансипируются друг от друга, что оказываются ментально не различимыми сущностями единого техносоразмерной жизнедеятельности.
Технология как овнешненная человеческая телесность становится основой для формирования универсума объективаций. Именно в этом своем качестве она в дальнейшем модифицируется в развернутую систему объектно-объектных отношений объективированной формой человеческой телесности, отчужденной от иерархического человека в пользу искусственного мира, в котором человек в состоянии присутствовать лишь в качестве элемента рационализированной биомассы. В автономной технологии все телесные формы возникают и функционируют в качестве самодостаточных феноменов, вне их отношений к Социуму, Человеку и Богу. Если Культура, по Шпенглеру, рождается из прадушевного состояния младенческого человечества, а Цивилизация есть проявление наступления вполне взрослого состояния, то Технология — свидетельство уже довольно преклонного возраста.
На первых порах между прескриптивной и дескриптивной технологиями складывались вполне толерантные отношения. Возникая в качестве производной от прескриптивной технологии, технология дескриптивная производила мир вещественных сущностей лишь на континууме объектно-объектных отношений, отношений между телесными субъектами, особо не вмешиваясь в воспроизводство социальных субъектно-объектных отношений. Между четырьмя метаисторическими формами технологии могло и не быть антагонистических противоречий, если бы неявные ее формы продолжали содержаться в Культе, Культуре и Цивилизации, несмотря на относительное обособление дескриптивной технологии. Их органический синтез давал бы возможность иерархическому человеку осуществлять одновременное присутствие во всех без исключения онтологических формах телесности. Своими четырьмя онтологическими формами Технология представляла бы систему «сообщающихся сосудов» единого, хотя и иерархизированного Тела. Несмотря на рациональное разделение технологических функций человека, он имел бы возможность сохранять за собой социальные функции, был бы, как и прежде, субъектом культуротворческого и креативного процесса, что, несомненно, придавало бы его многомерной телесности, как овнутренной, так и овнешненной, необходимую онтологическую стабильность. Ведь задача Технологии изначально состояла в создании условий, при которых дух в состоянии был бы развертывать и актуализировать всю совокупность своих трансцендентных потенциальностей. Однако внутренний антагонизм между различными формами технологии оказался существенным образом обусловлен перманентным отпадением друг от друга экзистенциальных комплексов, в которых они были представлены своими праструктурами. Практика «снятий» и «преодолений» прошлых технологических комплексов в конечном счете вела к радикальному «преодолению» неявных форм телесной субъективности, к нигилистическому отношению к технологическому опыту прошлых поколений, а вместе с тем — и к их социокультурному и культовому опыту. Основная причина раскола между четырьмя формами технологии лежит в смене одних дискурсов другими, все более рациональными, последовательно отвергающими трансцендентальные, ценностные и нормативные интенции человека. Унификация и стандартизация совокупного технологического опыта становятся главными критериями рациональности при создании новейших технологических комплексов. Двойственная форма существования социально-телесного субъекта, оказавшись интегрированной в мир дескриптивных объективаций, не могла не привести к абсолютизации телесного и к релятивизации социального в иерархическом человеке, к тому же утратившем свою антропность и астральность.
Квазидескриптивная технология, или псевдотехнология. Чистую технологию можно рассматривать в качестве онтологического феномена, возникающего в перманентном процессе объективации объективного. Дескриптивная технология в состоянии функционировать лишь там и тогда, где и когда субъективности объективируют друг друга и соотносятся как взаимообусловленные самообъективации, т.е. своими рационально превращенными телесными функциями. На достаточно продвинутом этапе онтологического восхождения технологии результатом такой объектной интеракции индивидов становится их взаимоовеществление. Субъекты все более модифицируются в Оно, а производимые ими Оно-подобные вещи — в элементы псевдосубъективной реальности. «Вещи, — писал В.Б. Шкловский, — переродили человека, машины особенно, человек умеет сейчас только их заводить, а там они идут дальше сами. Идут, идут и давят человека»60. Реальность становится все более иллюзорной, а Иллюзия все более реифицируется под реальность. В этой предельно объективированной ситуации телесные субъекты в состоянии перманентно интегрироваться в единую для них телесную Технологию, или технологическое Тело, которое все еще по традиции продолжают называть объективной Реальностью (точнее — реальность Объекта) лишь в силу взаимной объективации.
Процесс объективации объективного, перерастая свои рациональные рамки, превращаясь в квазиобъективацию объективного, порождает сверхтехнологию, или квазитехнологию. Такой резкий переход технологии к своей гипертрофированной форме объясняется прежде всего тем, что она была порождена столь же гипертрофированной цивилизацией, в которой социальные процессы развертывались не иначе как в оппозиции всему подлинно человеческому в экзистенции. Развитие в форме от-падения не может не повлечь за собой гипертрофию того, что отпадает от порождающего, что перестает быть органическим членом единого гармонического ряда. Основным «субъектом» социальной революции в основном было «социальное—Иное», а потому ее правопреемница — научно-техническая революция — не могла не быть исполнительницей воли «технологического—Иного», т.е. всего того в объективной реальности, что составляло ее вульгарную переполненность от последствий квазиобъективации субъективного, всего того в сущем, что превышало меру онтологической полноты цивилизации, что репрессивно противостояло «социальному—Неиному». Онтологически ложная и репрессивная цивилизация могла разродиться столь же ущербной технологией, чей уровень экзистенциальной ложности и репрессивности, несомненно, должен был многократно ее превышать. Такое понимание причин генетической ущербности техногена вполне коррелирует с законом прибавочной репрессивности, действующим в этом падшем мире.
Технология явилась следствием дифференциации и разложения цивилизации, как та в свое время закрепилась в Сущем на развалинах Культуры. Автономная технология есть внутренняя трагедия цивилизации, лишившейся своего собственного онтологического основания. Основание, конституировав себя в качестве псевдоцелостности, превратилось в автономию, уничтожающую все иные надтехнологические экзистенциальные автономии. Такое повторяется каждый раз, как только низшая онтология автономизируется от высшей, если та на момент автономизации от нее сама существовала автономно от породившей ее более высокой онтологии. Процесс перманентной автономизации и есть последовательный ряд самоотчуждений = самоотречений субъекта, последовательный ряд все более тоталитарного присутствия Иного в Сущем. «Первородный грех, — писал Паскаль, — есть безумие в глазах людей... Но это безумие мудрее всей мудрости человеческой, потому что безумное слово Божие мудрее человеков (1 Кор. I: 25). Ибо без этого учения как определить, что такое человек? Все его состояние зависит от этой незаметной точки»61. Автономность и тоталитаризм — две стороны одной медали, имя которой — онтологическое грехо-падение. И напротив, гармоничный ряд составляют такие органические универсумы, в которых находятся в нерасторжимом единстве иерархическая взаимообусловленность и тотальность. Пока Цивилизация оставалась тотальной, ей не могло быть никакой технологической альтернативы, но как только она превратилась в тоталитарный социальный комплекс, она не могла не распасться изнутри, уступив место в онтологической иерархии своему иному — тоталитарной технологии.
Как только Технология обретает свою автономию и независимость от высших онтологий, она начинает осуществлять массированную экспансию в их пределы, с тем чтобы принцип объектности, лежащий в основе ее экзистенциальной морфологии, стал всеобщим. Первым объектом такой объектной модернизации становится породившая Технологию Цивилизация. Технология существенно сужает прескриптивное пространство значений Цивилизации, придавая рациональные формы социальному опыту человека, тиражирует наиболее апробированные стереотипы поведения, не нуждающиеся в индивидуальной проверке на истинность и ложность. Если Цивилизация существенно сужает поле человеческих смыслов, то Технология сокращает поле социальных смыслов в человеческом самосознании. «В мире овещненных форм и структур — сил, отношений, институтов, — писал Г.С. Батищев, — мы имеем дело с нечеловеческой и внечеловеческой действительностью, хотя социальной. Здесь производительная сила — сама по себе, в качестве социальной вещи, есть сила»62. В ходе последовательной технологизации социальных процессов она насильственно модифицируется в противоестественную дескриптивную цивилизацию, т.е. в цивилизацию, в которой социальный принцип организации замещен технократическим принципом.
В новейшей истории цивилизация, которая, по мнению Н. Бердяева, всегда была секуляризированной, наивно-реалистической, корыстной и одержимой волей к жизненному могуществу и благополучию, превращается в технологию, которая эти ее идеалы реализует более последовательно и радикально. «Технология, — считает Маркузе, — служит установлению новых, более действенных и более приятных форм социального контроля и социального сплачивания»63. Но именно эта радикализация общественной жизни в конце концов и приводит к ее самоуничтожению, ведь распадается сам социальный субъект — основной субъект цивилизационных процессов. Цивилизация бессильна бороться с возрастающей мощью технологии и предпочитает, приспосабливаясь к новым условиям своего функционирования, объявлять себя то «машинной цивилизацией», то «информационной цивилизацией». Однако не надо слишком уж обольщаться этими неологизмами — в этих словосочетаниях цивилизация отнюдь не может занимать место подлежащего, реально она является прилагательным другого подлежащего и, видимо, уже в недалеком времени эти нео-логизмы все же обретут свои истинные логические формулы, цивилизация будет поставлена «на свое место», и отнюдь не грамматикой, а суровой реальностью. Будет поставлена на то место, с которого ей легче будет обслуживать технологию. «Несоответствие между прогрессом в технике и ростом цивилизации, — писал Тойнби, — очевидно в тех случаях, когда техника развивалась, а рост цивилизации прекращался и начиналась стагнация»64.
Постиндустриальное общество — это социально оформленная общность технологий, а не технологически обеспеченная общность социумов. Рационально-дескриптивное присутствие человека в универсуме технологических объективаций становится более приоритетным, нежели его нормативное присутствие в общественной жизни. Если прежде Технология развертывала свои рациональные структуры не иначе как из духовных глубин Культа, Культуры и Цивилизации, то в ситуации перманентной научно-технической революции она самопроизвольно разворачивает их за пределами человеческой соразмерности, придавая экзистенции рацио-технологическую соразмерность. По мере того как цивилизация клонится к закату, технология все более наращивает свою мощь; сделав рывок, именуемый научно-технической революцией, она настолько локализовала цивилизационные процессы, что почти полностью вытеснила из самосознания людей идею социальной революция. «Социо-технологические процессы» становятся все менее социальными и все более технологическими.
Человек технологической «цивилизации» склонен добровольно подчиняться своему собственному злому духу — Рацио, так как не может устоять перед его телесными прельщениями и утехами. Лев Шестов подчеркивал, что грехопадение длительное время понимали как неповиновение Богу, как увлечение плотским соблазном, но никто не мог и не хотел допустить, что корень греха — в рациональном познании, которое есть самое страшное и пагубное падение, какое только может себе вообразить человек. Грех не в бытии, не в том, что вышло из рук Творца; грех — порок, недостаток в нашем «знании», которое расплющило, раздавило сознание, вбив его в плоскость ограниченных возможностей, которыми теперь определяется и земная, и вечная судьба человека65. На этапе перехода от Цивилизации к Технологии человек начинает безоговорочно верить любой лжи, лишь бы она коррелировала с его изощренными наслаждениями, ведь рациональное Ничтожество находится не где-то за пределами Самости, а составляет собой его собственное псевдорациональное Я. Проанализировав труды современных западных историков, Тойнби пришел к заключению, что их мировоззрение находится в плену «индустриализма» и «демократии» — двух главных институтов, которые западный мир выработал в предыдущей главе своей истории, ответив этим на вызовы своего времени. Наблюдается тенденция рассматривать историю всех обществ и всех эпох под углом зрения демократии и индустриализма. Подобный подход к познанию истории, подчеркивает Тойнби, представляется ложным, причем касается это не только исследования других эпох и цивилизаций, но и истории современного общества на ранних ее этапах. Многообразию опыта различных цивилизаций, считает Тойнби, должно соответствовать многообразие мировоззрений66. Однако мировоззрение, сформированное в рамках технологической цивилизации, пытается представить иные, дотехнологические мировоззрения лишь ступеньками восхождения к абсолютной истине, которой оно овладело.
На наших глазах технология окончательно расправляется с так называемыми неэффективными «локальными цивилизациями», заставляя их «раскрыться» для обмена людьми, идеями, товарами и услугами, с тем чтобы создать единый рынок, на котором должна господствовать лишь одна космополитическая идея, являющаяся квинтэссенцией объективного прогресса. Перед наукой, являющейся гордостью Запада и его непреодолимой силой, отмечал Арон, оплоты древних цивилизаций Дальнего Востока рухнули, и едва не закончившаяся во время войны машинная цивилизация совершила победоносное шествие по планете. Но Запад... задается вопросом: предпочитает ли он то, что привносит, тому, что разрушает?67 Самым излюбленным понятием рационального социологизма является так называемое рыночное общество, или «открытое общество», открытое, естественно, для проникновения в него прежде всего технологических комплексов, замещающих собой самобытных богов, культуры и социальный опыт этнических сообществ, находящихся на дотехнологической стадии своего «развития».
Идеология «открытого общества» есть не что иное, как скрытый проект тотального упорядочения уникальных культур и цивилизаций под приоритеты развития всемирного технологического комплекса, информационная сердцевина которого уже создана — Интернет. Идеология «открытого общества» — это идеология ненасильственного уничтожения всего того во всемирном человеческом сообществе, что мешает Технологии достичь своих предельных тоталитарных форм. И никто не противится этой идеологии, так как она скрывается под маской демократических преобразований. «В развитой индустриальной цивилизации, — писал Г. Маркузе, — царит комфортабельная, покойная, умеренная, демократическая несвобода, свидетельство технического прогресса»68. Идеи демократии удивительнейшим образом коррелируют с идеей технологического прогресса, так как обе они имеют в виду не развитие креативных способностей иерархического человека, а всего лишь насыщение потребностей онтологически сломленного индивида масс. Потребность в технологии, способной выполнять любые желания человека, свидетельствует об утрате им своих креативных, виртуальных способностей, которые в состоянии развертываться при минимуме потребностей в ресурсном освоении внешнего мира. Социальная технология навязывает современному человеку, а тот с особым вожделением принимает удивительно синхронизированные с потребностью интенсивного развития техногена стереотипные формы потребления и поведения. Технология обременена ростом витальных потребностей и падением способностей человека к самотрансценденции, к самопостроению. В этом-то и заключается основная причина столь интенсивного развития технологических процессов и столь стремительная деградация процессов цивилизационных. Маркузе считает, что индустриальное общество как технологический универсум есть последняя стадия реализации специфического исторического проекта, а именно — переживания, преобразования и организации природы как материала для господства. По мере своего развертывания этот проект формирует весь универсум дискурса и действия. Культура, политика и экономика при посредстве технологии сливаются в вездесущую систему, поглощающую или отталкивающую все альтернативы, а присущий этой системе потенциал производительности и роста стабилизирует общество и удерживает технический прогресс в рамках господства. Технологическая рациональность становится политической рациональностью69. Основу социальной политики начинает составлять технологическая политика, приоритетность технологического над социальным становится доминирующим принципом построения и функционирования открытого общества.
Начинает складывается новый тип субглобального техноморфного социального организма — «общество—автомат», в котором воля социального субъекта оказывается полностью замещенной своеволием техногена и его репрезентанта — телесного субъекта. Видимо, не случайно богиня своеволия в древнеримской мифологии называлась Automatia. Создатель кибернетики Н. Винер предостерегал от подмены исторически складывающейся системы социального управления системой автоматизированной. «Управляющая машина, — писал он, — страшна не потому, что она может достичь автоматического управления человечеством. Она слишком груба и несовершенна, чтобы представить одну тысячную часть целенаправленного движения независимого поведения человеческого существа. Но реальная опасность, которую она может вызвать, состоит в том, что подобные машины, хотя и безвредные сами по себе, могут быть использованы человеком или группой людей для усиления своего господства над остальной человеческой расой, или в том, что политические лидеры могут попытаться управлять своим народом посредством не самих машин, а посредством политической техники, столь узкой и индифферентной к человеческим возможностям, как если бы эта техника действительно вырабатывалась механически»70. Общественные, цивилизационные процессы на наших глазах превращаются в поточную линию единой техно-социальной автоматизированной системы.
Следующим объектом онтологической экспансии технологии является культура. «Когда техника становится универсальной формой материального производства, — писал Г. Маркузе, — она определяет границы культуры в целом; она задает проект исторического целого — "мира"»71. Культуротворческие процессы начинают уподобляться технологическим, складывается дескриптивная культура, т.е.. культура, ценности которой становятся разновидностью дескриптивных значений, а гармония при этом оказывается вполне поверяемой алгеброй. «Ценностные аксиомы, — писал Шелер, — совершенно независимы от логических аксиом и ни в малейшей степени не представляют собой простые "применения" последних к ценностям. Наряду с чистой логикой существует и чистое учение о ценностях»72. Ценностная культура умирает еще в цивилизации, а то, что от нее остается, превращается в нормативную псевдокультуру, или массовую культуру.
С момента онтологического восхождения технологии эта социально превращенная форма культуры модернизируется в рационально-превратную форму. Массовая культура цивилизации модифицируется в культуру информационно-технологическую. «Рациональные ценности» этой недокультуры становятся особым товаром, способным придавать процессу наслаждения иллюзию приобщения к сфере высокого и возвышенного. Дескриптивная недокультура формируется рациональным дискурсом под приоритеты функционирования всеобщей информационной системы, ее назначение заключается в том, чтобы интегрировать вожделеющих индивидов в некое подобие человеческого сообщества, соединять разнообразные телесные формы в человекоподобную телесность. «Культура, — пишет Теодор Лессинг, — постепенно превращающая все вулканические душевные страсти в песок сухого, трезвого знания, дробя на мельницах учености образы фантазии и грез, может, пожалуй, прибавить человеку знания за счет того, что он утратил в жизни, ибо знание жизни — лишь прошлая, убитая жизнь, и ученость охраняет трупы наших опытов, для которых затем искусство сооружает саркофаги. Всякая форма убивает, всякое знание связывает!»73 В конце концов телесный субъект, взращенный средствами массовой коммуникации, окончательно утрачивает способность не только созидать, но и «потреблять» ценности культуры. Культура, по нашему определению, есть процесс ценностного означивания человеческого в человеке. Что же может человеческого фиксировать телесный субъект, радикально преодолевший в своей экзистенции человечность?
Наконец, технология пытается заменить субъектную трансценденцию объектной рационализацией и тем самым превратиться во всеобъемлющий культ. Как считает Хюбнер, сегодня для большинства людей выступать против рациональности и прогресса означает почти то же самое, что раньше — выступать против божественного миропорядка. Современное человечество, будучи индустриализированным, в значительной мере выводит свое самосознание из форм и идей, порожденных наукой и техникой. «Либеральный протестантизм, — пишет Пауль Тиллих, — приспособил Бога Библии к "миру Оно" — современной технической цивилизации»74. В рамках квазирационального дискурса о технологии начинает складываться и функционировать дескриптивный культ, в семантическом плане представляющий собой совокупность ложных «дескриптивных символов». Дескриптивные символы лежат в основе процесса рациональной мифологизации властных отношений, исходящих из волющей телесности. Сакрализуется и фетишизируется лишь то, что чревато новыми источниками наслаждений. Из сферы самосознания почти полностью вытесняется сфера трансцендентного и непознаваемого. Полагается, что непознаваемых вещей в мире нет и быть не может, а есть только вещи непознанные, которые со временем будут открыты и присвоены. «"Заранее знающие", — пишет Ф.И. Гиренок, — мы не нуждаемся в тех состояниях, в которых люди когда-то говорили с богом. У нас нет видений, но у нас есть привидения, т.е. самодостаточные мысли проективного сознания»75. Действительно, о каком «научном незнании» (Николай Кузанский) может идти речь, если из Сущего почти окончательно вытеснена Гармония, и в нем господствует порядок, установленный самим гносеологическим субъектом? Ведь то, что составляет основу существования телесного субъекта, им же самим предварительно гносеологически спроектировано и онтологически перевоссоздано.
Культ технологии и науки в снятом виде содержит все прежние ложные культы и превращается, таким образом, в веру в Абсолютное Иное. Богом рациомассы вместо трансцендентного Ничто становится феноменальное Ничтожество. Существование и Сущность меняются местами, второе начинает предварять первое, из ничтожнейшей сути весьма релятивной онтологии начинает развертываться предельно репрессивная форма экзистенции, атрибутируемая Рацио в качестве и сакральной, и абсолютной. Происходит кардинальная смена вех в конституировании первоначал всемирной истории, они осознаются не как следствие акта креации Бесконечного Субъекта, а как некая точка бифуркации, положившая начало автоэволюции Бесконечного Объекта.
Итак, с образованием автономного универсума объектно-объектных отношений начинается телесный этап в развертывании всеобщего метаисторического процесса, на котором уже не Культу, Культуре и Цивилизации, а именно Технологии принадлежит особая экзистенциальная миссия. Именно с эпохи обособления и восхождения Технологии всемирная история человеческим самосознанием все более начинает отождествляться с историей научно-технического прогресса. Технология становится онтологическим центром, из которого развертываются рационально преобразованные природные сущностные силы, а затем они свертываются в универсум объективаций — искусственный мир. Именно это немаловажное обстоятельство лежит в основании наблюдаемой редукции человеческой истории к истории технологии. Технология остро «нуждается» в историцистской глобализации и находит в среде ученых своих правоверных историографов, изображающих динамику мира не иначе как процесс автоэволюции объекта. В центре исторического процесса оказывается не целостный и универсальный человек, а всего лишь субъективированная телесность, или отелесненная субъективность. Причем под субъектом истории все чаще понимается отнюдь не собственно человеческая телесность, а телесность вне- и сверх-человеческая — всеобщая телесная (материальная) структура мира, которая лишь на завершающем этапе своей автоэволюции порождает человека в качестве персонифицированной формы объективной телесности. Всемирной историей оказывается перманентный процесс объективации объективного и формирования на его основе телесной организации мира, куда человек эволюцией забрасывается, а потому он не может не ощущать и остро не переживать своей экзистенциальной заброшенности. «Не "история ментальностей", — пишет Фуко, — которая брала бы в расчет тела только с точки зрения того способа, которым они были восприняты или были наделены смыслом и значимостью, но "история тел" и того способа, каким были сделаны вклады в то, что есть в них наиболее материального и живого»76.
Технология становится основным объектом современных исторических исследований; «технологический комплекс», а не комплекс цивилизационный или культурный, занимает в настоящее время лучшие научные умы. Однако столь чрезвычайное внимание к технологии свидетельствует лишь об окончательной утрате человеком своей экзистенциальной аутентичности. Если культурный дуализм возник в недрах Духа, а цивилизационный дуализм — в недрах культуры, то телесно-технологический дуализм — в самой сердцевине цивилизации на этапе ее «промышленного развития». Телесный субъект перед лицом телесно-технологического дуализма оказался избыточным для новой квазионтологии, в которой действуют не люди, а отчужденные от них тела.
Мы рассмотрели основные онтологические формы технологии. В своих неявных трансцендентальной, эвалюативной и прескриптивной и явной дескриптивной формах технология выступает важнейшей составной частью космических, родовых, социальных и природных сущностных сил, является конструктивным средством развертывания человеческих потенциальностей и их актуализации в телесных, вещественных структурах внешнего мира. Здесь она занимает свое адекватное и имманентное место в многоуровневой человеческой экзистенции, выполняя в ней сугубо положительные онтологические функции, связанные с последовательным укоренением человека в его перманентно расширяющемся и изменяющемся внешнем мире. Однако за пределами этой «онтологической нормали» процессуальности представлена по отношению к многомерной человеческой экзистенции в основном как деструктивная, последовательно и неуклонно разрушающая веками складывавшуюся гармонию во взаимоотношениях между внутренним и внешним мирами, гипертрофированно развивающая универсум объективаций за счет окончательной деградации субъектных начал в экзистенции.
Конечно же, в реальной человеческой истории в чистом виде не воплощается ни одна из онтологических форм, выявленных нами в теоретическом анализе. Реальный, эмпирически наблюдаемый технологический процесс есть, видимо, реализация некоего их синтеза, причем модельные соотношения в нем изменяются от эпохи к эпохе в зависимости от уровня осознания человечеством своей истинной метаисторической Миссии и применяемых исторически обусловленных средств самонасилия. Современная историческая эпоха характеризуется сложным синтезом форм человеческого бытия, в структуре которого при тщательном методологическом анализе в тех или иных экзистенциальных пропорциях можно обнаружить проанализированные нами выше как истинные, так и ложные онтологические формы Культа, Культуры, Цивилизации и Технологии. Технология еще не окончательно вышла из-под контроля человека. Но может ли случиться, задается вопросом Карл Ясперс, что техника, оторвавшись от смысла человеческой жизни, превратится в средство неистового безумия нелюдей, и тогда весь земной шар вместе со всеми людьми станет единой гигантской фабрикой, муравейником, который уже в нашу эпоху все поглотил и теперь, производя и уничтожая, остается в этом вечном круговороте пустым циклом сменяющих друг друга, лишенных всякого содержания событий? Карл Ясперс сомневается в такой экзистенциальной безысходности — рассудок может конструировать такую возможность, однако сознание нашей человеческой сущности будет вечно твердить: в целом это невозможно77. Это оптимистическое утверждение разделяет и Г.С. Батищев, полагая, что «человек не способен, пока он все еще человек, превратиться весь целиком в объект-вещь, он может лишь притвориться вещью, лишь облачиться в роль и маску объектно-вещного бытия»78. Можно согласиться с таким обнадеживающим прогнозом, но с одной лишь поправкой: научно-техническая революция должна перестать обслуживать универсум объективаций, а стать подстилающей структурой для грядущей революции Духа, иначе Апокалипсис неизбежен.
5.3. СОЦИАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА
Когда мы достигнем неизбежного всеобщего экономического правления на Земле, человечество, подобно машине, сможет найти свое предназначение в служении этому чудовищному механизму в качестве все более мелких деталей, приспособленных к Целому.
Ф. Ницше. Воля к власти
Процесс нисхождения Абсолюта завершается возникновением технологического универсума, который по «высшему замыслу призван гармонизировать систему самообъективаций Духа. Однако своим отпадением от более высших универсумов, повсеместно устанавливаемым рациональным порядком. Технология начинает активно противостоять предустановленной гармонии. Лишь тотальный порядок во Вселенной в состоянии обеспечивать сверхинтенсивное развертывание универсума объективаций, а потому гармонии, которая поддерживает целостность иерархического бытия и препятствует его упорядочению под приоритеты развития низших онтологий, более нет места в человеческой экзистенции. «В движении жизни, — писал Тойнби, — перемена в любой части целого должна сопровождаться соответствующими сдвигами в других частях, если все идет хорошо. Однако когда жизнь механизируется, одна часть может измениться, не повлияв при этом на другие. В результате — утрата гармонии. В любом целом нарушение гармонии между составными частями оплачивается потерей самодетерминации целого»75. Противостояние Гармонии и Порядка, Неиного и Иного в Сущем на этапе онтологического восхождения Технологии достигает предельного уровня.
Антагонизм между технологическим универсумом и универсумами надтехнологическими особенно обостряется с достижением пика интенсивности новейшего временного потока — физической формы Хроноса. Он захватывает своим «бешенным ритмом» все без исключения экзистенциальные процессы в сущем и весьма негативно воздействует на те из них, которые «не терпят суеты» и своей размеренностью соотносятся с менее интенсивными временными потоками, трансцендентно восходящими к покоящемуся Абсолюту, или абсолютному Покою. Квазитехнологии имманентно суть в буквальном смысле слова «взбесившееся время» и предельно патологичная форма историцизма. Хронос начинает безжалостно пожирать все те формы бытия, которые обязаны своим существованием Кайросу.
История технологического универсума есть в то же время и история, может быть, самого радикального отпадения низшей онтологии от иерархической целостности бытия, так как в ее основе лежит окончательное отпадение Тела от Духа. История технологии с весьма большим ускорением дивергирует от породившей ее социальной истории. Столь стремительное отталкивание Технологии от Цивилизации в целях придания своему движению необходимой реактивности для Цивилизации оборачивается перманентной деградацией, интенсивным ее вытеснением за пределы Сущего. Технология не только не желает оставаться составной частью технологической цивилизации, но даже не желает быть цивилизованной технологией; ее в принципе не устраивает перспектива иметь дело с каким-либо видом цивилизации — она стремится стать не только независимой, но и единственной формой бытия. Цивилизация как социальный универсум отвергается даже в качестве эпифеномена универсума объективаций. Лишь решительно покончив с надтехнологическими формами бытия, как полагает его «тайный советник» Рацио, она в состоянии обеспечить себе «молниеносный прогресс», более не сдерживаемый весьма медлительными временными потоками тех онтологий, в которые субъект укоренен своими архаичными Я. Технология может быть эффективной на строительном пятачке, полностью очищенном от какого-либо экзистенциального хлама, и, естественно, при его перманентном расширении до беспредельности мироздания. На гамлетовский риторический вопрос «Быть или не быть?» рациональный дискурс о технологии отвечает однозначно: «Бытию — не быть, Небытию — быть!», т.е. право на существование в новом технологически упорядоченном мире предоставляется лишь тем феноменам, которые лишены какой-либо субъектности и которые полностью подчинены законам объективной необходимости.
Уже в начале своего онтологического восхождения Технология предпринимает решительные шаги по рациональному упорядочению цивилизационных отношений в универсуме таким образом, чтобы эффективнее добиваться своих исторических целей и задач. Это ей довольно легко удается, так как к тому времени Цивилизация, став недочеловеческой и квазисоциальной онтологией, в основном исчерпала свои и чужие экзистенциальные ресурсы, а потому уже не может активно противостоять экспансии технологии как «своему иному». Беспрекословным подчинением собственному детищу она пыталась приостановить распад своего «социального тела» на дурную бесконечность объективации, полагая, что, опираясь на мощные технологические силы, она способна будет подавить «социальный бунт», «восстание масс». Но как только Цивилизация идеологически оформила приоритетность телесности над социальностью, она тем самым подписала себе смертный приговор. Согласившись выполнять роль социальной подстилающей структуры для технологического универсума, Цивилизация оказалась онтологической производной от своего собственного (в прошлом) эпифеномена и перестала играть сколько-нибудь существенную роль в определении хода и исхода человеческой истории. Она начинает системно зависеть от уровня развития науки и техники. Несомненно, современная цивилизация будет ввергнута в социальный хаос, если вместо перманентного повышения темпы развития технологии начнут падать, что вполне вероятно в условиях нарастающего сырьевого кризиса. Вернуть цивилизацию в дотехнологическую, прескриптивную фазу вряд ли удастся, так как «человеческий материал» существенно утратил свою былую социабельность, а структура его потребностей в значительной мере определяется уже не иерархией социальных статусов, а содержимым «потребительской корзины», к которой подведена технологическая конвейерная линия. Современная цивилизация уже не только не «страдает» от технологической экспансии, а, напротив, зависит от темпов технологической колонизации социальных доминионов. «Экспансия, — пишет Тойнби, — распространяется с быстротой и размахом, присущим внутреннему порыву, который и является критерием... экспансия не только прекращается с остановкой роста, но и уступает обратному процессу, когда цивилизация распадается»80. Со свертыванием социальной экспансии в высшие онтологические слои человеческой экзистенции возникает еще более массированная технологическая экспансия, которая избирает в качестве плацдарма для покорения мира повергнутую в прах цивилизацию.
Антагонизм между Технологией и Цивилизацией, давно ставший перманентным, лишь на непродолжительное время сглаживается посредством хирургических технологических операций, в результате которых отсекаются те социальные ячейки в Цивилизации, которые своими традиционными укладами сдерживают процесс ее технологической модернизации, противятся внедрению наиболее радикальных научных инноваций. Так, шаг за шагом социальная модернизация оказывается все более технологизированной, из общественного сознания постепенно вытесняются наиболее радикальные или, иначе, сильные версии социального развития, и Цивилизация, пройдя этап «бури и натиска», начинает размеренно доживать свой век по так называемому «остаточному принципу».
Основной причиной повышенного онтологического напряжения в Сущем на этапе технологической рационализации Цивилизации становится онтологическое обособление «физического тела» от «социального тела», завершающееся радикальной десоциализацией первого и объективацией второго. В сферу псевдосуществования Иного вслед за Культом и Культурой втягивается и Цивилизация. Однако по мере технологической модернизации Цивилизации и сама Технология ускоренными темпами модернизируется в квазионтологию, в отрицательную онтологию, все более утрачивая свою связь с Неиным в Сущем. По своим стратегическим целям и задачам технологический процесс по мере наращивания темпов его развития все более идет вразрез с исторической миссией Цивилизации. Роль Технологии, какую она играет в судьбе Цивилизации, сравнима разве что с ролью деревянного коня, подаренного Трое безуспешно осаждавшими ее врагами, с той лишь существенной поправкой, что «железный конь» был создан внутри самой Цивилизации и не являлся опасным даром ее врагов. Технологический «железный конь» безжалостно вытаптывает «цветы цивилизации», которыми он не питается, загаживая своими экскрементами среду обитания человека.
Технология стремится превратиться не только в единый, но в перспективе и в единственный мирожизненный процесс. В идеале формирование универсума искусственных объективаций должно привести к экзистенциализации технологии и к технологизации экзистенции. Технология формирует объективированное пространство, в котором, в перспективе, не может быть места каким-либо формам присутствия в мире субъекта, в том числе и самого ее адепта — телесного субъекта. Естественно, что человек, лишившийся даже самой низшей формы субъектности, уже не может быть «челом от века». В это новейшее осевое время складывается экзистенциально-технологический параллелизм, онтологический гомоморфизм Экзистенции и Технологии, призванный максимально технологизировать Экзистенцию и экзистенциализировать Технологию. Грань между живым и неживым, жизнью и смертью, существованием и несуществованием фактически исчезает, возникает некая иллюзорная Действительность, или действительная Иллюзия, в рамках которой и доживает свои дни реликтовый человек, утративший способность отличить явь от видений, явленность бытия от при-видений, симулирующих его явленности. Этот псевдоонтологический параллелизм придает псевдообщности индивидов-атомов некую стабильность — в той мере, в какой иллюзорность в состоянии заместить собой реальность, которую те не столько актуально проживают, сколько чувственно переживают. Именно совокупность рационально планируемых переживаний делает человека совершенно нечувствительным к социальным катастрофам, которые все более становятся необратимыми. В иллюзорной действительности эти катастрофы все реже попадают в поле зрения индивидов-атомов, а если и попадают, то снабжаются столь рациональными интерпретациями, что лишь усиливают остроту переживания непроживаемого, позволяют им приобщиться к «разумной истине» — гносеологической вытяжке из бессмыслицы объектного существования. В промежутках между социальными катастрофами объективированный мир способен не только быстро восстанавливаться, но и предпринимать очередные рывки в сферу «чистых сущностей». В конце концов состояние конфронтации Технологии с Цивилизацией заканчивается тем, что Цивилизация становится ее безропотной служанкой. Обществу вслед за человеком предстоит умереть отнюдь не физически, а символически, так как прескриптивный дискурс неуместен там, где все смысловое поле занято знаками и значениями дескриптивного дискурса телесности. Язык норм долженствования оказывается языком «мертвым», а потому и недоступным для «живых» индивидов, перешедших на язык научных понятий.
Современную технологическую цивилизацию лишь условно можно называть цивилизацией, так как в этой псевдоисторической общности цивилизационные процессы подчинены процессам технологическим, а не наоборот. Всемерно способствуя развитию технологии, современное западное общество формирует такие искусственные комплексы бытия, которые способны быть наиболее рациональными и эффективными, если под них целенаправленно формируются предельно десоциализированные общности индивидов. Гармония социальной жизни, воспроизводство которой возможно лишь на основе развертывания цивилизационного комплекса, в условиях упорядочивающей деятельности технологического комплекса все более сходит на нет.
С окончательным отпадением технологии от высших форм бытия метаистория начинает клониться к своему завершению, а историцизм, напротив, все более высокими темпами восходит к «идеальному бытию». На этапе онтологического восхождения Технологии завершается история Духа и начинается история онтологически обособившегося от него Тела. Эту новейшую форму истории Фуко предпочитает обозначать термином био-история. «Если можно назвать "био-историей" те давления, благодаря которым движения жизни и процессы истории интерферируют друг с другом, — писал Фуко, — тогда следовало бы говорить о "био-политике", чтобы обозначить то, что вводит жизнь и ее механизмы в сферу явных расчетов и превращает власть-знание в фактор преобразования человеческой жизни; и вовсе нельзя сказать, чтобы жизнь была целиком интегрирована в техники, которые над ней властвуют и ею управляют, — она беспрерывно от них ускользает»81. История технологии, выпадая из метаистории Духа, стремится овладеть всем целостным и универсальным миром, а не только одной лишь естественной природой. Основная ее цель состоит в создании абсолютно искусственного мира, универсума чистых объективаций, которыми можно тотально управлять из единого гносеологического центра, на который безраздельно претендует Рацио.
Мир, где можно просчитать все связи и отношения, а затем алгоритмизировать и изменять их в полном соответствии с перманентными изменениями в рациональном дискурсе, — последний утопический проект, который пытается реализовать человек, полагающийся лишь на свой собственный суверенный разум. Этот утопический проект порожден желанием достичь абсолютной власти нецелостного человека, индивида-атома, над целостным бытием, подчинить духовное телесному, субъективное объективному. Этот проект вызван к жизни волей к власти, достигшей своих абсолютных значений. Жизнь человека в нем выступает ценностью лишь в той мере, в какой оказывается объектом интересов волющей телесности. Человек, интенсивно эволюционирующий к своей телесной субстанциональности, сам того не осознавая, начинает господствовать над своей собственной экзистенцией, причем сугубо объектным и внешним образом, ведь объективированный Мир и есть его собственная Самообъективация. Индивид-атом стремится присвоить себе весь трансцендентный мир, не подозревая того, что его действительный мир в лучшем случае лишь молекулярен, однако он настойчиво перестраивает ее в некую искусственную монаду, реифицируя в качестве всеобщей объективной действительности.
Если десубъективированный индивид-атом и в состоянии что-то присваивать в этом объективированном мире-монаде, то лишь свои отчужденные сущности. Г.С. Батищев считает, что в противовес индивиду-акциденции индивид-атом отличается установкой на то, чтобы все вокруг себя, как говорится, прибрать к рукам, все взять на себя. Всякая предстоящая ему действительность либо «вкладывается» в его индивидуально-субъектный мир и организуется вокруг него, либо этот его мир хотя бы проецируется вовне, «накладывается» на остальную действительность как абсолютно исходное и, по сути дела, окончательное «Мерило Всем Вещам», — короче говоря, индивид берется быть Судией над всем миром82. «Деятельность, — считает Г.С. Батищев, — выхолощенная до объектно-вещной активности, делается орудием экспансии и покорения мира»83. Однако индивид-атом — всего лишь «замещенный субъект», исполнитель инструкций, которые вырабатываются дискурсом о технологии. Квазитехнология и есть именно тот исторический псевдосубъект, который желает превратить Мир в Абсолютный Объект, чьи искусственные структуры должны быть полностью подчинены рациональному дискурсу, а последний в не столь уж отдаленной перспективе вряд ли будет нуждаться в экзистенциальном, а тем более в гносеологическом присутствии человека в мире. По Хайдеггеру, научно-техническое отчуждение, вытекающее из обращения мира в картину, предстает глобально-человеческим феноменом, чреватым притязаниями, отмеченными гигантоманией, стремлением рационально калькулировать действительность во всех ее проявлениях, манипулировать ею, подчиняя всевластию Рацио.
Воля к власти индивида-атома над целостным и универсальным миром — основной мотив дискурса о целях и задачах научно-технического прогресса. Массированное технологическое насилие над миром естественных феноменов — чуть ли не единственное средство восхождения телесного субъекта на олимп власти. Иерархический Человек становится основным объектом информационно-технологического насилия со стороны мономорфного и вожделеющего индивида. Отнюдь не случайно идеология выживания возникла именно в эпоху, когда усилиями сверхтехнологического насилия мир оказался на грани гибели. Эта идеология исходит из приоритетности искусственной жизни над жизнью естественной, которой человек должен поступиться во имя общемирового прогресса. «Техническая рациональность — есть сегодня рациональность самой власти. Она есть принудительная сила отчуждения от себя обществ»84. Не возрождение Жизни в Духе, а выживание в падшем мире становится непосредственной экзистенциальной целью современного человечества, пытающегося хоть на время замедлить надвигающуюся катастрофу жизни и ничего не предпринимающего для последовательного возвращения к сакральным первоосновам Бытия, т.е. для реализации единственного проекта, который в состоянии вернуть человеку утраченные смыслы существования. Ведь вся трагедия человеческой жизни заключается не в отсутствии достойных условий его внешнего существования, а в отсутствии достоинства в самом человеке. О какой достойной его жизни может идти речь, если человек своим перманентным грехопадением почти исчерпал это свое главное атрибутивное свойство?
С технологического осевого времени насилие над последними очагами сопротивления процессу девитализации жизни становится столь привычным, что мало у кого вызывает особые возражения, лишь бы это насилие компенсировалось новыми, более острыми наслаждениями, а «потребительская корзина» наполнялась все более изысканными яствами. Вряд ли, например, значительную долю современного человечества составляют люди, предпочитающие чистую экологию сложившимся стандартам потребления, тем более если речь идет об экологии духа, культуры или уникального социального опыта жизни, которые составляют содержание подлинно достойной жизни и которые неведомы им с момента их рождения. Многое из того, что было ценностью для предшествующих поколений, давно уже вытеснено из самосознания современной генерации людей теми благами, которые бесперебойно сходят с технологического конвейера. Да и насилие оказывается столь мягким, что особо и не фиксируется самосознанием — ведь если оно не достигает пределов совести, то особых мук и угрызений человек не в состоянии испытывать. Страданий нет и быть не может там, где отсутствует со-страдание. Совесть, превратившаяся из совместной вести во внешний интериоризованный контроль, становится хорошим внутренним проводником внешнего насилия. Эта нечувствительность к боли, характерная для насилуемой технологией человеческой природы, объясняется прежде всего тем, что современный человек давно утратил в себе многое из того вне- и надприродного, которое содержалось в ценностной душе и сакральном духе, а потому он и не в состоянии переживать подлинную трагедию Мира. «Мы можем, в крайнем случае, отказаться от охоты на бабочек, — пишет Ф.И. Гиренок, — но мы не можем отказаться от самих себя, ибо сами мы возникаем лишь после "замещения". Для того, чтобы явилось что-то человеческое, нам нужен уже не только покоренный Енисей, но и покоренный космос. Цивилизованный человек существует замещенными содержаниями. Но у этого существования нет мудрости, оно не знает, где нужно остановиться»85. Технология есть тот лифт, по которому хаос все более поднимается вверх по иерархии человеческого бытия. В этом-то и состоит вся трагедия несчастного сознания: упорядочивая структуры хаоса, посредством которых вытесняется гармония жизни, оно тем самым все более превращается в замещенное сознание — в иррациональное Иное. Несчастное сознание обеспечивает своими ничтожными суждениями человеческое ничтожество, вознамерившееся предать суду все то, что препятствует реализации воли к власти. Отнюдь не «сон разума порождает чудовищ», а чудовища опираются на «суд разума», чтобы своим иррациональным ничтожеством замещать сакральное тождество жизни.
Технологический Молох становится Кумиром телесного субъекта, субъективированная телесность начинает поклоняться лишь объективированной телесности. «Современная рационализация и технизация, — писал Н. Бердяев, — находятся во власти подсознательных и иррациональных инстинктов, инстинктов насилия и господства»86. Технологический прогресс оказывается принципом веры, в жертву которому человечество, особо не задумываясь, вполне готово принести всю свою тысячелетнюю историю — не случайно все то, что предшествовало современной технологической цивилизации, принято обозначать термином «предыстория». Предысторией К. Маркс называл то, что предшествует подлинной истории — становлению коммунизма. Современные адепты рыночной экономики также склонны дорыночную жизнь человека конституировать в качестве предысторической.
Вера в технологический прогресс, сопровождаемая безжалостным уничтожением всего того, что этому новоявленному «мессии» предшествовало в долгой истории человечества, есть высшая форма религиозного фанатизма, отдающая дьявольским наваждением. Демонизм квазителесного в человеческой экзистенции есть та самая темная сила, сублимация которой обеспечивает потрясающие темпы технологического прогресса, естественно, за счет столь же внушительных темпов экзистенциальной деградации, каковую человек своим несчастным сознанием не осознает, иначе он давно пришел бы к мысли о бессмысленности своего объектного существования.
По мере ускорения процесса технологического самоотчуждения человек становится все менее чувствительным к той внутренней драме, которая разворачивается между бессознательным и сознанием в его ментальности. Это особая тема философского дискурса о человеческом самопредательстве, осуществляемом во имя наращивания структуры потребностей в ментальности за счет вытеснения из нее высших способностей. Нищете Духа современный человек предпочитает богатства Разума. Богат лишь тот, утверждал Демокрит, кто беден желанием. В технологическую эру человек оказался столь богат желаниями, что оказался не просто в бедственном, но в плачевном экзистенциальном состоянии. Человек, у которого потребности стремительно приближаются к бесконечности, а способности столь же катастрофически опускаются к нулевой отметке, не в состоянии ощущать приближение окончательной развязки экзистенциальной драмы. Полагаясь лишь на разумность объективных законов, открываемых в рамках рационального дискурса, он весьма уверен в возможности нового удачного прорыва к более устойчивой форме жизни, в которой технологический гомеостаз окончательно заменит трансрациональную экзистенциальную неустойчивость. «Упадок свободы и оппозиции, — писал Г. Маркузе, — следует рассматривать не в связи с ухудшением нравственного и интеллектуального климата или коррупцией, но скорее как объективный общественный процесс, поскольку производство и распределение все растущего числа товаров и услуг укрепляют позицию технологической рациональности»87. Современный человек готов адаптироваться к любой форме технологической необходимости, его не нужно особо принуждать к этому средствами внешнего организованного насилия, ибо это вполне укладывается в общую стратегию выживания, основу которой составляет вполне осознанный отказ от тех форм присутствия в мире, которые не подлежат рациональной редукции к технологической процессуальности.
По мере того как Технология обретает свое собственное дискурсивное основание, она становится все более репрессивной по отношению к тем феноменам, которые не поддаются тотальной рационализации. Возникает радикальная инверсия «релятивной репрессивности» в «абсолютную репрессивность», причем «прибавочная репрессивность» становится почти идеальным инвариантом «прибавочному самоотчуждению». В связи с тем, что «репрессивность» и «отчужденность» выступают двумя сторонами единого процесса объективации субъективного, не осознающегося индивидом-атомом в силу с их «органичной» корреляции с его «прибавочным потреблением», и процесс установления «нового порядка» в экзистенции не воспринимается им в качестве перманентной трагедии, чреватой экзистенциальной катастрофой. Эскалация насилия и технологическая эволюция становятся онтологически изоморфными, однако этот вселенский по своим масштабам и чудовищный по своей античеловеческой сути изоморфизм оказывается вполне оправданным с позиции рационального дискурса. В акте квазипотребления в единую онтологическую тоталитарность сливаются и палач как объективированная жертва, и жертва как субъективированный палач. Садизм и мазохизм есть не что иное, как чувственно окрашенные и рационально подкрепленные внутренние отношения Оно, особую остроту переживания которого от его ассимилирующей активности, от процесса присвоения-обладания в состоянии придать лишь изощренная форма саморепрессии, когда субъектом и объектом насилия выступает одна и та же человеческая Плоть. Иррационально глумиться над плотью может только плотоядная рациональность. «Мы действительно живем в эпоху всеобщего шантажа, — писал Ортега-и-Гассет, — который принимает две взаимно дополнительные формы: шантаж угрозы или насилия и шантаж насмешки и глумления. Оба преследуют одну и ту же цель — чтобы посредственность, человек толпы мог чувствовать себя свободным от всякого подчинения высшему»88. Утвердить приоритет телесного над социальным в человеке в условиях развития квазитехнологии позволяет последовательное глумление над свободой и достоинством человека, которые для индивида-атома являются слишком тяжелым бременем.
Как только Технология выходит за верхние границы универсума объективаций, пытаясь тотально рационализировать экзистенцию Иерархического Человека, она с непреложностью превращается в самую репрессивную силу, которая когда-либо возникала на земле. Ее разрушительные возможности Вернадский уподоблял геологическим процессам, однако это довольно отдаленная и не вполне адекватная аналогия, ведь геологические катаклизмы, разрушая, созидают новые естественные связи, тогда как применение техногенных сил разрушения ведет к вырождению естественных связей в искусственные, а в случае массированного использования способно многократно уничтожить все живое на Земле. Технологизированная и рационализированная «жизнь» современного человека есть последний вызов сакральной жизни с ее глубинной потаенностью и самотрансценденцией. Происходит, может быть, один из самых массированных прорывов сил хаоса в пределы Сущего, и Человек не успевает уже реагировать на техногенные катастрофы, ставшие в последнее время поистине и перманентными, и глобальными. Он не успевает упорядочивать хаос не только в универсуме объективаций, но и в собственном внутреннем мире, который все более нуждается в столь же репрессивной психотерапии.
Технология в своей деструктивной функции представляет собой «летальный ген» экзистенции, искусно вычлененный из человеческого генотипа, а потому он определяет собой не только онтогенетическую, но и филогенетическую смерть Человека. Смерть приходит как бы извне, хотя укоренена внутри экзистенциального универсума; своими метастазами она восходит к первородному греху — к Смерти в Духе. Однако именно наличие Технологии в качестве объективации «летального гена» позволяет зауряднейшему из существ, каким является квазителесный субъект, обладать почти неограниченной властью над Вселенной — она становится все более подвластной этому ничтожеству, стремясь беспрекословным подчинением отсрочить от него исходящую гибель. Индивид-атом способен нажатием на кнопку в «черном ящике» одномоментно перечеркнуть не только настоящее, но и прошлое и будущее человечества. Однако при всем своем могуществе он остается рабом внешних обстоятельств, ведь он всего лишь марионетка князя мира сего. «Хотя рабы развитой индустриальной цивилизации, — писал Г. Маркузе, — превратились в сублимированных рабов, они по-прежнему остаются рабами, ибо рабство определяется... статусом бытия как простого инструмента и сведения к состоянию вещи. Это и есть чистая форма рабства: существование в качестве инструмента, вещи. И то, что вещь одушевлена и сама выбирает свою материальную и интеллектуальную пищу, то, что она не чувствует себя вещью, то, что она привлекательна и подвижна, не отменяет сути такого способа существования»89. Раболепствующий перед Иным индивид-атом по праву обладания почти неограниченной властью претендует на роль Тотального Диктатора при всем псевдодемократическом антураже, которым столь помпезно обставляется его вполне публичное существование. По природе же своей он и есть дьявол во плоти, вернее, дьявол, заключенный в неволю собственной плоти, а потому и более опасный в своих стремлениях «вырваться на волю».
Новый «рациональный порядок», который он устанавливает в Поднебесной, — это не что иное, как перенесенная на все структуры Сущего модель тюремного режима. Еще Б.П. Вышеславцев предупреждал, что в современную технологическую эпоху речь идет ни много ни мало, как «о судьбе всей индустриальной культуры, о судьбе человека, ее построившего и оказавшегося или в огромной фабрике, или в огромной тюрьме»90. Онтологическая Тюрьма становится последним прибежищем телесного субъекта, с маниакальным усердием уничтожающего все живое, — то, что ранее вполне уживалось с астральным субъектом в его космическом ойкосе, с антропным субъектом в его родовом именитстве и на подворье социального субъекта. В Тюрьме, выстроенной по последним разработкам Дизайнера, в состоянии присутствовать разве что рациональная проекция Человеческого Естества — Искусственное Тело. Технология в своей квазирациональной форме становится тем онтологическим пьедесталом, где восседает «его ничтожество» Робот, от завихрений в электронном мозгу которого зависит решение сакраментального «Быть или не Быть» человечеству. Робот и есть абсолютно объективированное Оно, стремящееся заместить собой не только телесного субъекта, но и всего Иерархического Человека. Каждое Оно стремится стать Роботом, чтобы вобрать в себя всю тотальность Единого, под которым, конечно, подразумевается уже не Абсолютный Субъект, а Абсолютный Объект. Вознамерившись рационализировать все надтелесное в Сущем, Технология легитимизировала присутствие в нем Ничтожества в форме Тоталитарного Тела.
Упорядоченные структуры Технологии своим перманентным самораспадом повышают уровень присутствия Иного в Сущем, однако сама отелесненная экзистенция достигает относительной устойчивости лишь в периодах между очередными социальными потрясениями, выход из которых достигается еще большим падением степени присутствия «человеческого материала» в «материализованной человечности» за счет усиления технологического мономорфизма, основанного на все более «чистых технологиях». Своим возникновением Технология обязана переходу Единого во Множественное на этапе формирования объективированной формы онтологической множественности. Однако эта объективированная плюральность и становится основным объектом унификации, нацеленной на создание чистой объектности без какой-либо примеси субъектности даже в ее предельно отчужденных формах. Мономорфный Объект является главной стратегической целью развития субглобального технологического процесса, превращающего все без исключения экзистенциалы в элементы подстилающей структуры экзистенции Объекта, или объективной Экзистенции.
Технократическая утопия — сказка об автоматизированном рае, предназначенном не для людей, а для автоматов. Мономорфному объекту необходим столь же мономорфный псевдосубъект с такой же, как у него, экзистенциальной структурой. Неустойчивая система «человек—машина» в конце концов должна быть замещена системой «машина—машина», где место субъекта займет машина, именуемая «искусственным интеллектом», а место «объекта» — «телесносоразмерная машина», и тогда миру будет явлена идеальная действующая модель «гомо сапиенса», в которой рациональное и телесное в своем сопряжении уже не будет нуждаться в громоздких, а главное, архаичных онтологических опосредованиях, таких как Цивилизация, Культура и Культ. Наступит момент, когда овеществленные ячейки универсума объективаций более не будут нуждаться в заполнении техносоразмерными индивидами-атомами и техноген перестанет «страдать» от непредсказуемости их поведения. Как только «вещь» окончательно утратит свою субъектность и превратится в компонент мономорфного телесного мира, осуществится окончательная инверсия естественного в искусственное, которое станет онтологической основой для интенсивного развертывания объектно-объектных отношений в Сущем. Но вот парадокс! Чем более мономорфизируется технология, тем менее устойчивым оказывается выстраиваемый ею объективированный мир, так как именно инобытийствующие в нем субъективации и являются единственным негэнтропийным источником, но об этом знать ничего не желает «логика устойчивого развития», так как ее разработчики уже давно отказались от понятия «субъект», даже в качестве гносеологического априори. Устранение вместе с высшими формами Неиного и его субъективированной телесности приводит к почти полному, хотя и довольно кратковременному, господству в Сущем объективированной телесности, выступающей высшей формой присутствия Иного, интенсивность самораспада которой, по всей вероятности, будет обусловлена скоростью, с какой из Сущего будут вытесняться последние реликтовые структуры субъективной реальности.
Итак, Технология онтологически конструктивна лишь в той мере, в какой способствует укоренению человека в универсуме объективаций, и деструктивна в той степени, в какой разукореняет его в надобъектных онтологиях и подрывает его трансцендентное присутствие в Духе. Однако не иначе как разукоренением человека во всех без исключения нишах бытия Технология в состоянии их преобразовать в инфраструктуру универсума объективаций. Чтобы превратиться в квазионтологию, Технологии прежде всего необходимо лишить человека его социальной определенности, низвести его бытование до уровня объектного существования. При этом технология стремится сохранить в человеке его внешнюю капсулу — телесную оболочку, под которой содержится любезный ей орган дескриптивного дискурса — Рацио. Эта цель скорее тактическая, нежели стратегическая, ибо в перспективе технология намеревается сама искусственно воссоздавать и телесное, и рациональное в их чистых девитализированных формах; лишь на начальном этапе своего прогрессирующего восхождения она мирится с имманентной ее историцистским целям биорациональной аналоговой системой, какой является человек как отелесненная рациональность, как рационально упрощенный его инвариант — Homo sapiens. С позиции «интересов» технологического универсума телесный субъект должен быть десоциализированным в той мере, в какой утрата им социальных свойств позволяет ему эффективно интегрироваться в любую систему объективированных рационализаций, или рационализированных объективаций, в качестве нестационарного объекта, обладающего необходимым и достаточным набором надтелесных функций, который еще не в состоянии моделироваться и воспроизводиться в качестве собственно технологических функций, однако необходим в целях повышения уровня негэнтропии в универсуме объективаций. «По мере того, как возрастает энтропия, — утверждал Норберт Винер, — Вселенная и все замкнутые системы во Вселенной, естественно, имеют тенденцию к изнашиванию и потере своей определенности и стремятся от наименее вероятного состояния к более вероятному, от состояния организации и дифференциации, где существуют различия и формы, к состоянию хаоса и единообразия»91. Чем более «развитым» оказывается универсум объективаций, тем меньшим экзистенциальным ресурсом он обладает; онтологический износ и энтропия его структур требуют проведения соответствующих «регламентных работ» и подключения всей системы объективаций к некоему негэнтропийному источнику, т.е. требуется некий нестационарный объект, который таковыми качествами и ресурсами обладает, — им может быть только субъект.
В идеале это должно быть существо с довольно маргинальным статусом, некий полусубъект-полуобъект, который по своей организации обладал бы основными функциональными свойствами объекта, однако его витальность была бы вполне способной адаптироваться к «объективным законам» функционирования искусственных комплексов. Естественно, что ментальность такого «нестационарного объекта» структурно должна быть изоморфной объективному Дискурсу, или дискурсу Объекта. Такой идеальный тип рационального человека, естественно, может сложиться лишь за пределами социального дискурса и долженствования. В этой связи весьма интересны рассуждения Штирнера об экзистенциальной сути Единственного, где неявно присутствует пророчество о возможном появлении предельно объективированного субъекта. Штирнер полагал, что человек вполне может реализовать свой антропологический самопроект, если преодолеет в себе социабельность и из члена общества и в качестве единственного станет органическим элементом некой объективированной системы, которую он условно обозначил термином «союз». «В союзе, — писал Штирнер, — ты живешь эгоистично; в обществе — "по-человечески", т.е. религиозно, как "член тела господина своего..." Обществу ты обязан служить всем, что имеешь, ты его должник, ты одержим "социальным долгом"; союзом же ты пользуешься, и, если, не зная ни долга, ни верности перед ним, увидишь, что не сможешь извлечь из него дальнейшей пользы, то ты выйдешь из него... Общество — нечто большее, чем ты... оно стоит над тобой; союз же — только твое орудие или твой меч, которым ты обостряешь твою естественную силу и увеличиваешь ее. Союз существует для тебя и благодаря тебе... Короче, общество священно; союз же — твоя собственность. Общество пользуется тобою, союзом же пользуешься ты»92.
Утопия Штирнера о десоциализированном Единственном вполне сбывается именно в технологическую эру, когда складывается этот довольно странный союз телесных субъектов, правда, союз не столько единственных и уникальных личностей, сколько единичных представителей довольно ординарной телесной множественности. Короче говоря, технологии нужен человек, субъектность которого была бы редуцирована к рациональной форме ментальности и на вполне обозримое историческое время могла бы выполнять роль рациональной подстилающей структуры для действия объективных Законов, или законов Объекта. В этом именно качестве человек и необходим технологии, однако нуждаться в подобного рода его услугах она намерена лишь до тех пор, пока не создаст свой собственный, более надежный онтологический базис, не нуждающийся более в столь хрупкой экзистенциальной подстилающей структуре, и имманентный источник негэнтропии. Технология есть тот предел, за которым Я превращается в Оно, а затем и просто в элементарнейшую объективацию, где вместе с субъектностью затухает и экзистенция, а следовательно, и ее пассионарность и негэнтропийность.
Содержанием грядущей социальной катастрофы, если ее так и не удастся предотвратить, будет полное разрушение цивилизационных основ человеческой экзистенции. Социальное саморазрушение является следствием вырождения человека как цивилизованного существа, следствием его беспринципной адаптации к миру собственных отчужденных объективаций. Социальная катастрофа есть прежде всего катастрофа прескриптивно организованной совокупной деятельности, вытесняемой дескриптивной технологической процессуальностью, все менее нуждающейся уже не только в человеческом, но и в социальном факторе.
Ко времени онтологического восхождения технологии социальная структура оказывается настолько обезличенной и формализованной (бюрократическая ситуация), что ее поглощение волющей телесностью воспринимается индивидами чуть ли не с благоговением и не иначе как в качестве Великой рациональной революции. Несомненно, со временем социальный универсум прекратит свое существование как онтологическая общность индивидов, хотя его реликтовые формы еще довольно длительное время будут составлять отдельные экзистенциальные вкрапления в универсуме объективаций. Человек и на этот раз охотно поступится своим онтологическим статусом в пользу внешнего мира, однако теперь уже ради интенсивного развития технологического универсума. По своему реальному онтологическому статусу внешний объективированный мир не только будет многократно превосходить свой жалкий «прообраз» и «аналог» — телесного субъекта, но и на время, отпущенное до «скончания времен», будет замыкать собой перевернутую иерархию мироздания.
Явными признаками надвигающейся социальной катастрофы, перманентно происходящей в мире отчужденных сущностей с началом третьего осевого времени, является последовательное исчезновение трансцендентных, эвалюативных и прескриптивных технологий, которые, не выдержав «конкуренции» с дескриптивной технологией, все более пополняют собой архетипические структуры Бессознательного. Дескриптивная технология постепенно превращается в тотальный онтологический комплекс, не требующий присутствия в нем Человека даже в качестве Технолога; она становится «сама себе технологом» (как ранее позитивистская наука манифестировалась «сама себе философией»), преобразуя естественное в искусственное за пределами собственно человеческих установлений, по своей внутренней мерке и единому рациональному алгоритму. Все формы дорациональной технологии оказываются втянутыми в поток уничтожения, а вместе с ними — и их социальные «надстройки». Редуцируя сакральное, антропное и социальное к телесному, человек информационно-технологической общности окончательно разрушает прежние исторические формы сочленения искусственного и естественного в единую экзистенциальную систему; начинает формироваться единый искусственный технологический комплекс, адаптироваться к которому в состоянии лишь телесные субъекты, окончательно сложившие с себя высшие экзистенциальные статусы.
Уже в переживаемую нами эпоху технологический пресс Запада безжалостно давит не только реликтовые технологии народов третьего мира, но технологии развитых современных цивилизаций, и в результате мы являемся свидетелями исчезновения социального многообразия человеческого присутствия в мире. Все чаще поговаривают не только в околонаучных кругах, но и на политическом Олимпе о том «золотом миллиарде», которому суждено составлять рационально уменьшенное население Земли, чтобы индивиды, в него включенные, могли бы жить в условиях перманентного возрастания стандартов потребления. Легко представить, каким этносам и народам не окажется места на «земле обетованной» — несомненно, тем, которые не сумеют раствориться своими сокровенными верованиями, культурными ценностями и традиционными социальными укладами в обустраиваемом всемирном рационально-технологическом пространстве. Новая техногенная форма геноцида на сугубо сциентистских основаниях — вполне реальная перспектива для мира, где технологическая рациональность тотально определяет условия человеческого присутствия среди отчужденных сущностей.
Остановимся на семантических, онтологических и ментальных последствиях возможной всемирной социальной катастрофы для человеческой экзистенции, какими они представляются с позиции последовательного субъектоцентристского мировоззрения.
Семантическая составляющая социальной катастрофы. Семантическими рамками универсума объективаций, как мы уже знаем, являются дескриптивные значения, или знания технологии. Для телесного субъекта, интегрированного в универсум объективаций, становятся избыточными уже не только символы Культа и ценности Культуры, но и нормы Цивилизации; вся совокупность его мирожизненных связей и отношений вполне описывается на языке рационального дискурса, основу которого составляют дескриптивные или, иначе, сциентистские значения. Дескриптивный модус технологической цивилизации становится столь всеобъемлющим, что делает невозможным развертывание иных, внерациональных, модальностей Сущего, тем более если они своими трансрациональными установками противоречат логике развития и функционирования целостного комплекса объективаций. Пирамиду семантических предпочтений начинают замыкать законы объективной необходимости, которые при тщательном метафизическом анализе оказываются не чем иным, как рациональными знаниями о частностях бытия, претендующими, однако, на абсолютный эпистемологический статус.
Если мировоспроизводящей практикой в пределах социального универсума была деятельность, то в рамках технологического универсума ею становится познание. Это еще более усиливает значение семантических последствий социальной катастрофы, так как основу новой онтологии начинают составлять не интерактивные, а эпистемологические акты. В условиях онтологического восхождения технологии между социальным и телесным субъектами возникает довольно сильное семантическое отчуждение, что влечет за собой непонимание ими друг друга, открытые формы их поведения оказываются экзистенциально несовместимыми в связи с тем, что их значения и мотивы сторонами атрибутируются с совершенно противоположных мирожизненных позиций. Эта ситуация семантической неоднозначности в межиндивидной интеракции полностью преодолевается, как только Технология в человеческой экзистенции полностью уничтожает реликтовые проявления Цивилизации. По мере деградации и распада цивилизованных отношений стереотипы, бывшие ранее основными социальными регуляторами, преобразовываются в строго прагматичные алгоритмы рационального поведения. Дескриптивные значения, вытесняющие из регулятивной системы социальные предписания, делают внешнее поведение человека абсолютно однозначным, а потому и весьма прогнозируемым и тотально управляемым.
Известно, что нормативную форму дескриптивной необходимости в качестве своей непосредственной метаисторической праформы Технология обретает в Цивилизации. Однако как только Технология преодолевает свою онтологическую зависимость от Цивилизации, начинается радикальное преобразование дескриптивной системы, и в результате уже не рациональные знания оказываются онтологической производной от социальной нормативистики, а нормы долженствования становятся гносеологическими эпифеноменами системы рациональных знаний. Нормы долженствования, составлявшие ранее ядро совокупного социального опыта, становятся «научными», «сциентистскими» прескрипциями, получаемыми «опытным путем» в качестве попутного «продукта» познавательного процесса. Более того, сами дескриптивные значения начинают конституироваться рациональным сознанием в качестве непреложных императивов — высших норм, исходящих из объективной необходимости. Разрушая цивилизацию, технология при помощи рацио продуцирует разветвленную систему дескриптивных норм, или псевдонорм. Таким образом, семантическую форму социальной катастрофы вполне возможно обозначить термином нормативная катастрофа.
Естественно, далеко не вся совокупность содержащихся в рациональном сознании «норм» имеет отношение к системе прескриптивных значений. Наиболее значимые для технологии дескрипции до поры до времени скрываются под псевдонормативными оболочками, мимикрируя под социальную целесообразность с тем, чтобы быть принятыми маргинальным социально-телесным субъектом в качестве собственно социальных предписаний. «Дескриптивные нормы» — это фикции рационального сознания, подобно тому как «прескриптивные ценности» являются продуктом искаженного социального сознания. Истинным предназначением дескриптивных норм является стремление технологии потуже привязать человека к миру отчужденных от него его же собственных объективаций и при этом по возможности сохранить у человека иллюзию, будто он все еще остается вполне значимым социальным актором. И все это в условиях, когда уже даже не «внешний человек», а имманентная технологической необходимости «внутренняя логика» искусственного комплекса моделирует целостный акт деятельности, в котором человек представляет собой всего лишь не вполне удачную персонификацию одной из «логических формул», подлежащих радикальной деперсонификации и рациональной переформулировке. «Мир как объект, — пишет Ф.И. Гиренок, — полностью определен законами. Мир как индивид спонтанно доопределяется, т.е. оставляет место для законопорождающей случайности»93. Так вот, в этой, не только крайней, но и предельно искаженной онтологической ситуации, с тем чтобы не могла спонтанно возникнуть рационально незапланированная законопорождающая случайность, человек начинает все более однозначно определяться в соответствии с требованиями объективной необходимости.
В отличие от дескриптивных знаний, как правило, продуктов дискурса, нормы вырабатываются в рамках совокупного социального опыта и воспроизводятся лишь в реальном интерактивном поведении индивидов. Нормы семантически иррелевантны взаимообусловленным процессам объективации субъекта и субъективации объекта. Верным признаком перманентного умерщвления социальных норм служит искусственная их трансференция из системы субъектно-объектных отношений деятельности в систему объектно-объектных отношений познания. Нормы могут существовать лишь там и тогда, где и когда наблюдаются систематические переходы субъекта в объект, и наоборот, им нет места в системе объектно-объектных связей технологии. В ситуации, когда в интерактивном акте встречаются уже не субъект и объект, а объект и объект, даже если один из них представлен субъективированной формой, как, например, телесный субъект, нормативная система может формироваться лишь за счет рационально превращенных норм, которые ничего общего не имеют с процессом перманентного накопления человеком социального опыта, состоящего в основном из законопорождающих случайностей. «Объектно-вещная активность, — пишет Г.С. Батищев, — сама по себе безнормная, аксиологически глухая и слепая, облачает себя в нормативизм, сообразно своей корысти, причем, в нормативизм тем более ревностный и нетерпимый к "нарушениям", чем сильнее она в нем заинтересована как в средстве, т.е. отнюдь не как в социально-человеческой норме, рожденной из некоторой определенной аксиологически значимой задачи. Нормативизм становится оружием в ее экспансии, в ее борьбе за преобладание и за принудительное влияние вокруг себя, за господство. Естественно, она никогда не останавливается перед тем, чтобы по возможности отредактировать сами нормы, делая их максимально удобными, подогнанными под свою направленность»94. Ложные по своей семантической сути дескриптивные нормы есть, видимо, превращенно-превратные значения, вычлененные из рационального дискурса и приспособленные к тем компонентам единого технологического комплекса, которые еще не до конца избавились от былой социальной предзаданности.
На стыке тысячелетий дескриптивные нормы становятся ядром всеобъемлющей регулятивной системы технологической цивилизации. Автономизируясь от цивилизации, технология уже не испытывает необходимости выстраивать систему дескрипций, опираясь на ее прескриптивное ядро. Своими дескриптивными значениями технология вытесняет из цивилизации наиболее кардинальные прескрипции, особенно нормы социального долженствования. И хотя дескриптивные нормы моделируют особо примитивные и превращенно-превратные формы социального поведения, они оказываются весьма эффективными побудительными стимулами-средствами для индивидов, разуверившихся в какой-либо «социальной идее».
Рациональная технология, идущая на смену социальной технологии, пытается предельно рационализировать сугубо нормативные субъектно-объектные отношения деятельности. Дескриптивные нормы — это рационально превращенные прескрипции социального долженствования, используемые в целях манипуляции поведением индивидов массы, значительно утратившей свою былую социабельность. Чтобы эмпирически обнаружить на себе их регулятивную иррациональную императивность, не надо даже выходить из дома, стоит лишь включить телевизор или подключить персональный компьютер к имперсональному Интернету. Рациональная нормативистика предназначена в основном для преодоления инерционности социального опыта, транслирующего прескриптивные значения, существенно сдерживающие процесс форсированного развертывания технологического комплекса. Традиционные социальные нормы, несущие на себе «родимые пятна» перво-бытного табу, в процессе радикальной десоциализации оказываются окончательно расколдованными и растабуируированными предписаниями, что снимает последние внутренние препятствия на пути создания абсолютно автономного от естественной экзистенции искусственного технологического комплекса, регуляция в котором как раз и основана на следовании предписаниям, исходящим из рационального ядра объективной необходимости.
Приученный к перманентной смене полунорм-полузнаний, человек начинает воспринимать любую технологическую инновацию, вытесняющую очередную социальную традицию, не иначе как проявление экзистенциального прогресса. Лишь в ситуации технологического преодоления своей былой «социальной ограниченности» телесный субъект в состоянии воспринимать отчужденный от него технологизированный мир в качестве вполне позитивного «своего иного». При этом вся панорама исторических событий, предшествующих его появлению в мире, предстает не иначе как в мрачной палитре. Человек превращается в манипулирующего субъекта в той мере, в какой чуждый ему мир манипулирует его представлениями и возможностями. Именно ложные дескриптивные нормы оказываются тем необходимым семантическим средством, которое позволяет стягивать в псевдоонтологическую целостность предельно отчужденных друг от друга телесных субъектов. В рамках квазирациональной нормативистики табуируются лишь те формы человеческой активности, которые могут нанести ущерб развертыванию универсума объективаций, а следовательно, прежде всего те проявления человеческой пассионарности, которые препятствуют процессу последовательного самоотчуждения. Основная онтологическая функция рациональной нормативистики связана с процессом универсализации телесного в человеке, с процессом придания миру отелесненных сущностей свойств целостностного универсума за счет столь же радикальной десоциализации человеческих качеств.
Овладев системой социальных нормативов, рациональный дискурс все более решительно вторгается в ценностный слой человеческой культуры. Формируется целая система особо ложных дескриптивных ценностей, составляющих основу массовой культуры, ядром которой становится технологически ориентированная культура секса. Фуко считает, что настало время изучать дискурсы уже не только в том, что касается их экспрессивной ценности или их формальных трансформаций, но и с точки зрения модальностей их существования: способов обращения дискурсов или придания им ценности, способов их атрибуции и их присвоения, которые варьируют от культуры к культуре и видоизменяются внутри каждой из них95. Пытаясь распространить свое влияние на трансцендентную целостность мироздания, технология создает самые ложные из когда-либо ранее появлявшихся символов. Ими становятся так называемые дескриптивные символы, или символы науки.
Символы, как известно, появляются на заре человеческого филогенеза, их природа трансрациональна, а потому они существуют лишь за пределами дискурса, в рационально не познаваемом сакрально потаенном. «Рациональные функции, — считает Юнг, — по природе своей неспособны создавать символы, ибо продукты их деятельности только рациональны и определены в одном только смысле; они не включают в себя одновременно и другого, противоположного им»96. Но так как революция рациональных ожиданий устремлена отнюдь не в «темное прошлое», а в «светлое будущее», то посредством рационального дискурса и создается целый набор псевдосимволических ориентиров, указывающих наиболее краткий путь к обретению «земного рая». Рациональная утопия окончательно берет верх над сакральным мифом, а «конец истории» — над «началом метаистории». Однако эти замещенные символы в состоянии заводить лишь в исторические тупики. И чем более рациональные символы себя дискредитируют, тем больше предпринимается усилий со стороны рацио для разрушения трансцендентальных символов веры. «Нельзя убить символ, — писал известный теолог Пауль Тиллих, — подвергнув его критике с точки зрения естественных наук или исторического исследования... символы умирают лишь тогда, когда изменяется ситуация, в которой они были созданы. Они находятся не на том уровне, на котором эмпирическая критика могла бы их упразднить»97. Рациональные знания не содержат в себе никаких символов, они пользуются только символикой, которая только мимикрирует под символы веры, а потому все ее попытки заменить собой эти трансцендентальные ориентиры Духа в состоянии нанести ущерб отнюдь не сакрально-потаенному, а самому рационально-явному.
В связи с тем что рациональному дискурсу уже нет необходимости преодолевать символические, ценностные и нормативные барьеры непонимания, коммуникация между индивидами становится предельно однозначной и эффективной. «Эти многообразные поведения, — пишет Фуко, — на самом деле были извлечены из человеческих тел и из их удовольствий; или, скорее, они в них отвердели; с помощью многообразных диспозитивов власти они были призваны, извлечены на свет, обособлены, усилены и воплощены»98. Телесные субъекты могут идеально «понимать» друг друга лишь в ситуации, когда их обоюдные влечения регулируются предельно рациональной «сексуальной технологией». Полностью отбросив сакральные, ценностные и нормативные ограничения, две физиологические половинки в состоянии соединиться в такую «телесную монаду», в которой в момент «экстаза» дескриптивные значения и объективные биогенные законы оказываются иррелевантными. Такого рода «взаимопонимание», по сути, не нуждается в наличии индивидуализированных сознаний, оно оказывается вполне имманентным состоянию некоего биогенного процесса, расширенно воспроизводящего некую биопопуляцию. Телесные субъекты своими межтелесными связями и отношениями в состоянии образовывать лишь некое подобие общности, вряд ли подпадающей под определение «социальная». Это, скорее, социоморфная биота, полностью утратившая собственно человеческие способности, и вся ее «ментальность» окончательно структурирована гипертрофированными биогенными потребностями, крайние из которых — потребности в инкорпорировании галлюциогенных средств, способных замещать иллюзорными фантазмами процесс реального проживания и переживания человеком своей сокровенной экзистенции. «Наркологическая революция», почти полностью вытеснившая собой столь недолго продолжавшуюся «сексуальную революцию», содержит весьма важную информацию о той форме рационального дискурса, который станет господствующим уже в не столь отдаленном будущем.
Чтобы человек технологический вновь сумел обрести способность к ресоциализации, ему прежде всего необходимо возродить прескриптивную форму дискурса. Однако при тотальном развитии технологии и дескриптивной формы дискурса этот «нормативный ренессанс» все более становится похожим на «утопию наоборот». Ведь утопия может возникать не только в качестве проекции идеальных верований «сегодня» на туманную перспективу «завтра», но и как их проекция на покрытое завесой забвения «вчера», которое человек стремится реконструировать в иных исторических условиях и на иной семантической основе. Возрождение и есть «утопия наоборот», которая если и реализуется, то не иначе как в обезображенном и окарикатуренном виде.
Онтологическая составляющая социальной катастрофы. Онтологическая сущность социальной катастрофы заключается в том, что нормативное долженствование замещается законами необходимости, а субъектно-объектные отношения социальной деятельности — объектно-объектными отношениями рационального познания.
Онтологический континуум человеческой экзистенции, согласно субъектоцентристской концепции, «ограничен» свободой и необходимостью. Необходимость Тела изначально противостоит Свободе Духа. На дотехнологических этапах истории это противостояние осуществлялось, если так можно выразиться, в довольно мягких формах. Детерминация в человеческой экзистенции от универсума к универсуму все более усиливалась с понижением онтологического статуса субъекта, пока не стала воистину тотальной. На этапе онтологического восхождения технологии человеческая экзистенция окончательно вытесняется из гармонии свободы и погружается в порядок необходимости. Пяти историческим формам технологии соответствуют пять онтологических форм необходимости. Трансцендентной технологии соответствует свободная необходимость («необходимость ради свободы»), эвалюативной технологии — добродетельная необходимость («необходимость ради добра»), прескриптивной технологии — долженствующая необходимость («необходимость ради долга»), дескриптивной технологии — необходимая необходимость («необходимость ради необходимости»), а квазидескриптивной технологии — гипернеобходимость («свобода ради необходимости», «добро ради необходимости» и «долг ради необходимости»), или абсолютная форма зла.
С образованием технологического универсума внешне проявленный мир утрачивает свою изначальную спонтанность в связи с существенной утратой человеком архетипической интенциональности и обретает предельно жесткую организмическую форму. Универсум объективаций от исторически предшествовавших универсумов отличается предельной субстанциальностью, а следовательно, и предельной упорядоченностью своих онтологических структур. Для того чтобы превратиться в Абсолютное Тело, отелесненному миру необходимо перестать быть субстанцией для Субъекта и стать субстанцией для Объекта, т.е. стать самим Объектом, или Квазисубстанцией. Окончательно отелеснить внешний мир телесный субъект в состоянии лишь при условии полного преодоления в себе даже реликтовых проявлений субъектности. Субстанция в ее «чистой форме» и есть абсолютно отелесненный субъект, утративший субъектность и превратившийся в свое иное — Объект. Между элементами объективированного мира существуют жестко обусловленные связи и отношения, в которых господствуют законы объективной необходимости, фиксируемые столь же объективными знаниями. Чем ниже опускается человек по ступенькам бытия, тем более детерминированными оказываются онтологические ниши, в которых он укореняется все более внешним и объектным образом. В мире физических сущностей наблюдается строгая однозначность и явная прогнозируемости поведения элементов. Являясь составной частью биоты в качестве телесного существа, человек тотально подчиняется законам естественной необходимости. В качестве сугубо телесных существ индивиды погружены в систему природной детерминации.
Необходимость — это такая форма бытия, чье содержание стремится к бесконечности, а валентность — к нулю, тогда как свобода, напротив, своим онтологическим содержанием стремится к нулю, а трансцендентной валентностью — к бесконечности. Но даже в своих предельно детерминированных формах необходимость генетически восходит через ряд промежуточных ступеней бытия к несотворимой свободе духа, является ее последовательной объективацией. «Человек, — писал Н. Бердяев, — принужден жить в двух разных порядках, в порядке существования, всегда личного, хотя и наполненного сверхличными ценностями, и в порядке мира объективированного, всегда безличного и к личности равнодушного»99. Необходимости нет и не может быть за пределами действия спонтанной Свободы, она не столько ее онтологический антипод, сколько «конечный продукт» ее эманирования (или, по-иному, «энтропии»). Промежуточные ступени целостного континуума бытия представляют собой некие онтологические сгущения, образованные в результате экзистенциального синтеза гармонии свободы и порядка необходимости, в которых метаисторически первая идет на убыль, а второй асимметрично первой возрастает. Человек абсолютно свободен в Духе, но уже менее свободен в Культуре, более детерминирован внешними обстоятельствами в Цивилизации, в Технологии же его свобода Духа почти полностью иссякает и замещается необходимостью Тела.
Что же происходит со свободой на этапе онтологического восхождения технологии? Когда речь идет о квазитехнологии, т.е. о технологии, стремящейся распространить детерминацию порядка необходимости на все мироздание, то имеется в виду отнюдь не необходимость, остающаяся и генетически, и функционально связанной со свободой, а необходимость, являющаяся, по меткому замечанию Н. Бердяева, «падшей свободой». Если в естественной природе порядок необходимости все еще удерживается спонтанной свободой, которая не дает ему возможности ввергнуться в беспорядочность хаоса, то в природе искусственной свобода представляет собой лишь некий реликт креативной спонтанности. Здесь она является «падшей» потому, что человек, ею трансцендентально наделенный, своим перманентным грехопадением на самой последней ступени своего отпадения от Абсолюта окончательно ею поступается во имя установления абсолютного порядка необходимости. Именно на этапе формирования технологического универсума порядок свободы окончательно вытесняется порядком необходимости. Необходимость в своей крайней онтологической форме есть не что иное, как рационализированная свобода. Бергсон говорил, что все рациональные определения свободы ведут к ее исчезновению. Ему вторит Н. Бердяев: «Всякая рационализация свободы — есть ее умерщвление»100. Если свобода еще и присутствует в технологическом универсуме, то лишь в качестве «мерной свободы», причем ее мерой становится необходимость. В социальной организации человеку еще предоставлялась возможность выбирать между различными уровнями долженствующей свободы, будучи же интегрированным=интернированным в универсум объективаций, он может разве что выбирать между различными уровнями необходимой свободы, или между различными порядками несвободы.
Посредством системы дескриптивных суждений наука моделирует такую форму существования человека, в которой свобода становится рациональной, а рациональность — свободной, в силу чего и начинают безраздельно господствовать законы необходимости. Здесь свобода действительно оказывается познанной необходимостью, т.е. превращается в свою противоположность — в несвободу. Свобода всегда трансцендентна, а потому и трансрациональна; в отличие от нее необходимость — рациональна, а потому, будучи спроецированной за пределы универсума объективаций, непременно оборачивается несвободой. Свобода лежит за рамками гносеологического пространства Объекта, как и Необходимость находится за пределами онтологического пространства Субъекта. Субъект, если он не утратил еще иерархию своих онтологических статусов, вполне в состоянии познать необходимость, но лишь для того, чтобы быть «свободным для» преодоления объективированных форм своего существования, способным осуществлять самотрансцендирование. Отнюдь не по ступенькам рационального познания необходимости восходит человек к сакральной свободе — к ней он может лишь возвращаться по ступенькам трансцендирования необходимости, активного преодоления любых упорядоченных структур Сущего. В этом суть духовного возрождения падшего человека.
Субъект, чей онтологический статус низведен до статуса гносеологического субъекта, становится органом самосознания Порядка Необходимости и не столько познает Действительность в контексте гармонической Свободы, сколько своим рабством у Иного способствует преодолению им субъективированных форм его собственного существования. Скорее всего в условиях квазионтологического универсума срабатывает несколько иная, нежели известная гегелевская, формула, а именно: необходимость есть познанная свобода. Гносеологический подход к свободе есть не что иное, как способ, каким необходимость выводится за рамки универсума объективаций, и ее порядок принудительно навязывается тем нишам бытия, в которых отнюдь не свобода, а необходимость всегда была «мерной».
Объектный подход к субъекту сопряжен с созданием системы тотальной несвободы, тогда как субъектный подход к «объективной реальности» способствует существенному расширению онтологических пределов свободы. Совокупность дескрипций, которыми описывается вся тотальность бытия, составляет собой семантическую основу репрессивного сознания телесного субъекта, планомерно умерщвляющего в мире все то, что ранее на протяжении метаистории порождалось божественным Провидением. Апостол Павел в своем Послании к Коринфянам писал: «Посмотрите, братия, кто вы, призванные; не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных» (1 Кор. 1: 26). Мудрость, воплощенная в трансцендентные знания, исходит лишь из Духа, из Плоти, отпавшей от Духа, может исходить лишь «похоть знания».
Технолог в состоянии рационализировать лишь то, что до него трансцендировал Демиург. Однако этого Технологу мало, он сам стремится стать Демиургом и трансцендировать мир средствами дескриптивного дискурса, и эта трансценденция может быть лишь негативной, не созидающей структуры сущего, а разрушающей их. Рационализация Сущего и есть его трансценденция со знаком минус. Трансцендировать мир, его перманентно творить можно, лишь опираясь на спонтанность Духа, а не на детерминированность Тела. Присвоив себе функции Демиурга — творящего Субъекта, Технолог предстает уже не перед Предстоятелем, а перед его извечным антагонистом — духом зла. Дьявол и есть Квазитехнолог, пытающийся насильственно покорить мир, спонтанно и свободно творимый Демиургом. Не случайно в центре внимания князя мира сего находится древо познания добра и зла, однако «плоды познания» интересуют Иное лишь в связи с содержащимися в них орудийными возможностями, овладев которыми он лелеет мечту подобраться к ненавистному «древу жизни», чтобы вырвать его с корнем из апофатических глубин Неиного. Насколько же точно интуиция первочеловека в мифе об изгнании человека из Рая выявила губительный характер чистого рационального дискурса для судеб трансрациональной человеческой жизни! Современная наука и технология построили столь разветвленное «древо знания», что под его разросшейся кроной «отвлеченных представлений», не пропускающей живительные лучи божественного света, уже почти зачахло «древо жизни».
В онтологическом плане социальная катастрофа начинается с отпадения технологической необходимости от породившего ее социального долженствования и преобразования последнего в необходимое долженствование («долг ради необходимости»). Человек долженствующий на этапе онтологического восхождения Технологии превращается в человека, выполняющего свой долг уже не перед обществом, а перед законами объективной необходимости, по крайней мере одним из принципов его жизнедеятельности становится установка на предельную активацию в русле действия законов эволюции внешнего объективированного мира. Опосредованные Технологией объектно-объектные отношения начинают возвышаться над субъектно-объектными отношениями Цивилизации, субъектно-субъектными отношениями Культуры и внутрисубъектными отношениями Культа; креация, общение и деятельность своими рационально-превращенными формами становятся эпифеноменами репрессивной «воли к знанию», инфраструктурой процесса рационального познания. Утрачивая нормативный язык совместной деятельности, человек постепенно теряет способность и к ролевому взаимодействию с другими акторами. Деятельностный акт таким образом освобождается от акторов и замещается роботами, интеракция между которыми моделируется уже не прескриптивными знаниями, принадлежащими совокупному социальному опыту, а дескриптивными нормами, являющимися составной частью рационального дискурса.
В системе «человек—машина» нормообразующим началом оказывается уже не человек, а машина, и поведение человека становится все более рациональным с точки зрения Рацио и крайне иррациональным с позиции Логоса. Если Цивилизация призвана соединять личностно множественное в единую социальную массу, то Технология стягивает разрозненные тела в некую единую массовидную телесность, в которой снимаются последние морфологические различия между индивидами, обретающими «уникальную» возможность «стереотипно» ощущать всю совокупность чувственных интенций, исходящих из квазителесной общности в виде перманентной оргии, постоянно подпитываемой единым и универсальным комплексом услуг и утех. Технология выступает средством соединения в единую квазителесность огромного многообразия человеческих тел, вне зависимости от степени их укорененности в высшие экзистенциальные структуры бытия. Межтелесные отношения — это гипостазированные отношения Ты—Ты, выродившиеся в систему связей Оно—Оно. В пределах технологических отношений «Оно—Оно» каждое телесное Я вбирает в себя другое Оно в той степени, в какой оба объединены общей любовью к единому для них Универсуму Тел, для обозначения которого вполне подходит местоимение Они. Квазитехнология делает несовместимыми отношения Ты—Ты и Оно—Оно, и прежде всего потому, что социальные чувства являются неуместными там, где господствует вожделение к вещам, и в их числе к человеческой вещи. Отношения между Оно-индивидами как рационально овеществленными субъектами могут быть лишь сексуальными, но отнюдь не эротическими. «В чем же..., — задается вопросом П.А. Флоренский, — противоположность вещи и лица, лежащая в основе противоположности вожделения и любви? — В том, что вещь характеризуется через свое внешнее единство, т.е. через единство суммы признаков, тогда как лицо имеет свой существенный характер в единстве внутреннем... тождество вещей устанавливается чрез тождество понятий, а тождество личности — через единство самопострояющей или само-полагающей ее деятельности»101.
Согласно Сартру, групповое поведение прежде всего означает поглощение субъективности объективирующими человека стереотипами бытия, редуцирующими его уникальность к анонимному Мы. «Мы здесь отсылает к опыту существ-объектов, находящихся вместе».
Шелер полагал, что если жизнь влечений, первоначально направленная исключительно на способы поведения и на блага, а отнюдь не на наслаждение как чувство, принципиально используется в качестве источника наслаждений, как во всяком гедонизме, то мы имеем дело с поздним явлением декаданса жизни. Образ жизни, ориентированный только на наслаждение, представляет собой явно старческое явление, как в индивидуальной жизни, так и в жизни народов. Вполне справедливо утверждение, что человек всегда может быть лишь чем-то большим или меньшим, чем животное, но животным — никогда102. На этапе онтологического восхождения Технологии вера в социальную упорядоченность замещается верой в упорядоченность телесную, в которой каждый из индивидов в состоянии максимально удовлетворить свои биогенные потребности, причем за пределами социально-статусных условностей и привилегий. Отныне в привилегированном положении оказываются не те, кто занимает высшие ступени в социальной иерархии, а сутенеры и проститутки, естественно, в их предельно широком экзистенциальном значении. Кумиром человека био-рацио-массы становится тот, кто соответствует своим поведением скорее жестокому маньяку маркизу де Саду, нежели любвеобильному и ветреному Дон-Жуану. Любовь становится насильственной, а насилие — любвеобильным. Социальные чувства замещаются чувствами ко всему искусственному и неживому, прежде всего к миру техники. Некрофилия, считает Э. Фромм, на этапе перехода к технотронной цивилизации начинает теснить биофилию — любовь к естественному и живому.
Онтологической опорной точкой для Оно является отнюдь не другое Оно, а внешняя отелесненная реальность, в которых Они — всего лишь совокупность взаимозаменяемых деталей единой био-машинерии. Телесное Я лишь формально участвует в выборе другого Оно в качестве своего, как принято сейчас называть, «сексуального партнера», так как лишь Они, опираясь на строго научные тесты, в состоянии точно определить, какие конкретные Оно своими сопряженными потребностями и ресурсами в состоянии образовать «счастливую партию». Телесная соразмерность чуждых Оно довольно легко просчитывается, их чувства друг к другу как к овеществленным индивидам вполне поддаются алгоритмизации, а потому всегда есть довольно большая вероятность того, что если подобранная таким рациональным способом пара будет строго придерживаться специально разработанной для них рациональной программы, их счастью не будет конца.
Динамика отношений Оно с Оно есть не что иное, как процесс их взаимной рационализации и перманентной генерализации в Единую Телесность, экзистенциально аутентичную Единой Технологии. Дескриптивная технология служит «средством» саморационализации Оно в Оно, способствует совместному присвоению ими «природных» сущностных сил и не иначе как в процессе активной модернизации естественной природы в природу искусственную. «Но выслушай истину во всей ее серьезности, — писал Мартин Бубер, — человек не может жить без Оно. Но тот, кто живет только с Оно, — не человек»103. В автономную дескриптивную технологию способны укореняться отнюдь не целостные субъекты, а лишь их телесные проекции, когда же их воплощенные объективации вновь оказываются интериоризированными и в превращенной форме становятся их рациональными диспозициями, то эти существа уже с большой натяжкой можно причислить к роду человеческому. Инородность социального в телесном постепенно преодолевается переводом субъектно-объектных отношений под юрисдикцию объектно-объектных отношений, в рамках которых людей связывают уже не социальные, а сугубо телесно-технологические функции.
Противостояние телесного принципа принципу социальному в этой маргинальной экзистенции существенно нарушает баланс в соотношении социального бытия и собственно бытия, или бытия в его объективированной форме. Социально опосредованное бытие человека в результате радикальной технологической трансформации оказывается отчужденным в пользу бытия телесных субъектов и создаваемых ими технологических комплексов, субъектно-объектные отношения в конце концов оказываются производными от объектно-объектных отношений, причем межличностные связи трансформируются в связи межтелесные. В результате модификации субъектно-объектных отношений деятельности в объектно-объектные отношения познания субъекты в основном начинают взаимодействовать лишь своими перцептивными и телесными свойствами. В пределах технологического универсума «субъекты» вступают в отношения друг с другом в качестве псевдосубъективаций единого объективированного пространства как персонификаторы «воли к знанию», исходящей из всемирной телесной целокупности. Понимание Оно-подобными субъектами друг друга достигает почти предельной однозначности, так как их устами и вопрошает и ответствует сама Логика, и если и встречаются порой антиномии непонимания, то лишь в связи с некоторыми издержками Словаря, состав знаков и значений которого перманентно уточняется в связи с перманентным распадом самовитого Слова на дурную терминологическую бесконечность. В процессе многократного перехода субъекта в объект, а объекта в субъект индивиды оказываются во все более мономорфной и логизированной коммуникативной системе и настолько отчуждаются от межсубъектного смыслового пространства, что перестают замечать, что выступают всего лишь ментальными проводниками экстенций объективной реальности, некими сводниками между «похотью тела» и «похотью знаний». Причем «страдающим существом» оказывается не человек, наделенный «несчастным сознанием», а отчужденный от него мир, которому он призван искренне сочувствовать и сопереживать.
Телесно-технологический универсум, глобальная система объективаций нуждается в постоянном обновлении своего морфологического базиса, вне перманентной модернизации объектно-объектных отношений невозможно поддерживать высокие темпы прогрессивного развития. Обособившееся от высших субличностей Оно начинает все более радикально упорядочивать естественные процессы и формы, а затем и вовсе заменять их на искусственные. Процесс перманентного инновирования телесно-технологического универсума приводит к необходимости его столь же перманентного упорядочивания. По отношению к универсуму объективаций лишь Оно в состоянии наиболее эффективно выполнять упорядочивающую функцию, так как само Оно есть не что иное, как упорядоченный ментальный хаос. «Только Оно, — пишет Мартин Бубер, — может быть упорядочено. Лишь когда вещи из нашего Ты превращаются в наше Оно, возникает возможность их координирования. Ты не знает системы координат... упорядоченный мир не есть мировой порядок»104. Лишь с рациональной модификацией социального Ты в телесное Оно Гармония окончательно вытесняется Порядком, а онтологическая структура Сущего становится вполне мономорфной. В пределах межтелесных, объектно-объектных, отношений человек предстает перед безличным Мировым Телом всего лишь в качестве одного из многочисленных его интериоризированных инвариантов. Последовательный рацио- и техногенезис человека есть процесс перманентного дробления его витальных функций на все более дробные аналоги элементов единого технологического процесса. С низложением с себя социального статуса человек способен осознавать лишь свою телесную аутентичность и не иначе как в зеркале дескриптивного дискурса, кумулирующего его рефлексию на сферу технологически опосредованных витальных потребностей. Граница технологического бытия проходит по онтологической конфигурации, составленной из элементов отелесненной экзистенции, субъектную основу которой составляют Они. Отношения Оно—Оно или объектно-объектные отношения, вне социального контекста отношений «Ты—Ты» ведут к полной утрате индивидами своей социальной идентичности и, возникновению Оно—аутентичности. Межтелесные отношения, вырванные из целостного контекста экзистенциальных связей, начинают все более походить на функциональные связи между деталями машины, подчиняющиеся принципам ее функционирования.
В отношениях между телесными Оно «третьим лишним» уже оказывается социальное Ты. Если в ситуации антропного общения между Я и Ты Другим оказывается Бог, а в ситуации социального взаимодействия Я и Ты Человек оказывается Посторонним, то в ситуации телесно-технологической интеракции Оно с Оно Социальный Индивид превращается в Изгоя. Моделью отношений между отелесненными субъектами вполне может быть фабула повести Ф. Кафки «Превращение». Правда, у Ф. Кафки этим изгоем оказывается все же не социальный, а телесный субъект Замза, на глазах у родственников превращающийся в огромное насекомое, место которому находится лишь под кроватью. Но ведь в творчестве Кафки мы имеем дело с созданием телесно-рациональной антиутопии, а потому нам предлагаются для эстетического восприятия значения с обратными смыслами. Превращение людей в животных становится вполне реальной экзистенциальной перспективой, в которой, конечно же, не телесные субъекты, а именно те, кто не сумели окончательно превратиться в таковых, пополнят собой ряды изгоев и изгнанников. Рациональное сознание является более регидным, нежели предшествовавшие ему онтологические формы сознания, а потому в Технологическом универсуме не могут вместе с Оно сосуществовать Другие и Посторонние, все они становятся Изгоями. «Достигая ступени самосознания, — пишет Маркузе, — сознание обнаруживает себя как Я, а Я прежде всего означает вожделение: оно приходит к сознанию себя, только достигнув удовлетворения и только посредством "другого". Но такое удовлетворение предполагает "отрицание" другого, ибо Я должно утвердить себя как истинное "бытие-для-себя" в противоположность всякой "другости»105. Предельно отчужденный телесный субъект в ментальном плане есть интериоризированное чуждое Оно, некая рациональная калька с вожделеющей Субстанции; он не терпит присутствия Того, кто в состоянии подойти к его похотливой экзистенции с трансрациональных мерок, такой необъективный Свидетель должен быть физически устранен. Если исходить из трехчленной структуры личности З. Фрейда, состоящей из Супер—Эго, Эго (Я) и Оно, то в структуре телесного субъекта мы не досчитаемся Супер—Эго, или Сверх—Я. Именно с этой ментальной диспозиции осуществлялась коррекция отношений между Оно и Я; с полным устранением этого внутреннего Цензора Я становится всего лишь рационально сублимированным Оно, которое окончательно сливается в своем экстазе с телесной организацией Мира.
Оказавшись в явной зависимости от технологического прогресса, телесный субъект мотивирует свое добродеяние по отношению к другим людям необходимостью следовать требованиям единых законов бытия, «быть человечным», что прежде всего означает составлять вместе с другими индивидами некое целокупное вселенское тело. Естественно, что дескриптивные мерки, прикладываемые к добродеянию, лишают его не только собственно человеческого, но даже и социального содержания. Добродеяние становится функцией рационального дискурса и той сферы технологизированного бытия, в которой сохраняются реликты человечности. Скорее всего это касается людей творческих, чья эвристическая деятельность еще не вполне поддается алгоритмизации. В соответствии со степенью зависимости человека от законов технологической необходимости нарастает и объем злодеяния в универсуме объективаций по отношению к людям, которые не в состоянии адаптироваться к добродеянию, выродившемуся во внешнее благополучие. Добро ради необходимости есть идеология абсолютного злодеяния, так как предполагает пособничество тем силам, которые совершают тотальное насилие над человеческой экзистенцией. Необходимость, противостоящая добродеянию и ограничивающая культуротворческие интенции души рамками производства средств производства, вполне может конституироваться в качестве рациональной формы злодеяния. Антиценностная и квазирациональная необходимость есть высшая форма античеловечности, даже если при этом человек как физическое существо автоматически реализует свои витальные потребности. В универсуме объективаций Зло как проявление Иного прикрывается якобы онтологически нейтральной Необходимостью. Однако это далеко не так: необходимость от свободы как раз и отличается своей репрессивной принудительностью. Человек в мире объективаций вынужден следовать чуждым свободе духа требованиям внешней детерминации. «Суть не в том, что мы не смеем делать все, что нам хочется. — писал Ортега-и-Гассет. — Суть в ином — мы можем делать только одно, а именно то, что должны делать; можем быть только тем, чем должны быть. Единственный выход — это не делать того, что мы должны делать. Но это еще не значит, что мы свободны делать все прочее. В этом случае мы обладаем лишь отрицательной свободой воли (noluntas). Мы вольны уклониться от истинного назначения, но тогда мы, как узники, провалимся в подземелье нашей судьбы»106. Рациональное зло в онтологическом аспекте есть внедобродетельная необходимость, или добродеяние со знаком минус. С началом отпадения Технологии от Цивилизации эскалация зла в экзистенции нарастает по мере того, как все более принудительными становятся законы необходимости, нарушения которых чреваты социальными потрясениями и экологическими катаклизмами. В рационалистически понимаемое зло включается отнюдь не степень отклонения универсума объективаций от гуманистического проекта или социальной идеи человечества, а, напротив, степень аномии человеческой экзистенции от непреложных законов научно-технического прогресса.
Социальная катастрофа, по всей вероятности, завершится насильственным установлением разумного Порядка, или порядка Разума, во всех нишах многомерного человеческого бытия. Если Бессильный Дух был свергнут Сильным Человеком, а Человек был повержен Всесильным Социумом, то последний падет под ударами Всемогущей Технологии.
Ментальная составляющая социальной катастрофы. Генетически телесный субъект своими ментальными праформами восходит к сакрально-символической форме телесности Первочеловека. «Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?» (1 Кор. 9: 11). Прателесная субличность своими трансцендентными, эвалюативными и прескриптивными формами неявно присутствовала в ментальности астрального, антропного и социального субъектов. С обособлением телесной субличности, с ее рациональным дискурсом, ее перво- и прафеномены оказались вытесненными в актуальное бессознательное, составляя собой телесную инфраструктуру глубинных архетипов человеческой личности. Переворот в структуре человеческой ментальности завершается полным доминированием в ней телесной субличности, с которой человек все более отождествляет свой внутренний мир. Субъектом исторического процесса на этапе онтологического восхождения Технологии становится телесная форма дискурса, или дискурсивная форма телесности.
Рациональное сознание телесного субъекта подвергает радикальной реификации все то в телесных отправлениях, что ранее не могло составлять содержание публичного обсуждения. Основу рационального дискурса начинает составлять отнюдь не интимная любовь, а изыски технологии сексуального поведения. «Великая проповедь секса, — пишет Фуко, — у которой были свои изощренные теологи и свои голоса из народа, в течение нескольких последних десятилетий обошла наши общества; она бичевала прежний порядок, изобличала всяческие лицемерия, воспевала право на непосредственное и реальное; она заставила мечтать об ином граде... спросим себя, каким образом могло статься, что лиризм и религиозность, которые долгое время сопутствовали революционному проекту, в индустриальных западных обществах оказались перенесенными, по крайней мере, в значительной своей части, на секс»107. Придавая «основному инстинкту» статус всеобщей категории, рациональное самосознание пытается прояснить последние таинства человеческой экзистенции. Отныне рациональное Я знается лишь со своей телесностью, пытаясь изменениями в дескриптивном дискурсе предвосхитить тончайшие изменения в системе витальных потребностей. Ментальность современного человека катастрофически стремится к нулевой отметке, основные его функции начинают тотально подчиняться принципу удовольствия. Действительно, современный объективированный мир вполне может осознаваться в качестве внешних проекций сублимированных структур либидо, и в этом плане фрейдистская теория вполне верна, однако верна лишь по отношению к самой низшей форме человеческого присутствия в мире, наиболее ярко манифестируемой западной технологической цивилизацией. Рационализация иррациональных телесных наслаждений, в свою очередь, подпитывает своими «прецедентами» развертывание все более радикальных представлений о сексе и насилии, которые в эстетически превращенной форме становятся содержаниями, транслируемыми по каналам массовой коммуникации. Тирания тела над духом оказывается столь неотвратимой и тотальной, что от нее уже невозможно укрыться даже в элитарный «замок из слоновой кости», так как его стены давно стали проницаемыми для зова плоти. Уже не естественная человеческая, а некая вселенская телесность начинает претендовать на статус субъекта власти над объективной действительностью.
На этапе онтологического восхождения Технологического универсума ментальный конфликт в основном разворачивается в четырехмерном пространстве телесной субличности, между явным (новоявленным) телесным Я и его трансцендентной, антропной и социальной праформами, т.е. неявными прателесными Я, содержащимися в трансцендентном, антропном и социальном Я. Прателесные формы в ментальности индивидов дотехнологических эпох пребывали в форме потенциального бессознательного и оформились в особую телесную субличность в результате выделения и обособления в системе знаков и значений дескриптивных знаний, составивших собой знаковую основу рационального дискурса о телесности. Неявные формы телесности, переходя в ходе перманентного эманирования одна в другую, в конечном счете оказались воплощенными в явную телесную форму человеческой ментальности. В связи с тем что телесное Я своими праформами генетически восходит к телесности Первопращура, именно эта генетическая линия в человеческой ментальности оказывается под угрозой экзистенциального обрыва, становится той линией высокого напряжения, по которой к первоначалам бытия подаются наиболее разрушительные импульсы. «Если вопрос о человеке и был поставлен — в его специфике как живущего и в его специфике по отношению к другим живущим, — пишет Фуко, — то причину этого следовало бы искать в новом способе отношения истории и жизни: в том двойственном положении жизни, которое ставит ее одновременно и вне истории — в качестве ее биологической окрестности — и внутри человеческой историчности, пронизанной ее техниками знания и власти»108.
Проблема соотношения явной и неявной телесности в человеческой ментальности еще ждет своей корректной постановки в качестве кардинальной проблемы человеческой витальности. Пока что на ней спекулируют весьма иррациональные формы биологизма. Конечно же, Человек является и существом телесным, однако он не может быть однозначно редуцирован к биосфере, напротив, биота своими высшими экзистенциальными формами составляет органическую часть экзистенции Иерархического Человека. Следующая проблема, которая должна найти свое разрешение в рамках субъектоцентристского мировоззрения, связана с обнаружением внутреннего источника движения иррелевантной человеческой телесности субстанциальной формы действительности.
С возникновением явного телесного Я именно его неявные праформы, вытесненные из сферы сознания и ставшие компонентами бессознательного, своими интенциями вступают в конфликт с гиперрациональными экзистенциями. Этот конфликт в основном разворачивается между астрально-антропно-социальной формой актуального бессознательного и телесно-рациональной формой сознания. Если бы развертывание ментальной структуры человека осуществлялось не в форме отпадения от высших субличностей низших Я, а в форме органического присовокупления вторых к первым, то тогда постепенно оформилась бы внутренне гармоничная личность, которую Карсавин называл симфонической личностью. Каждая субличность, утверждал Карсавин, в «симфонической личности» поет своим особым голосом и все вместе согласованным пением создают гармонию души. Наиболее тихим голосом обладает, конечно же, самая высшая субличность — трансцендентальное Я. Дисгармония в ментальности человека возникает тогда, когда субличности поют не со своего голоса, когда они фальшивят, причем особой фальшью отличаются наиболее ложные и репрессивные Я. С внешним универсумом объективаций конфликтует отнюдь не телесное Я, выступающее его сознательным контрагентом, а неявные прателесные субличности, содержащиеся в высших структурах бессознательного. Однако их голоса еле слышны за все более нарастающим гулом и лязгом технологической машинерии.
История Технологии в ментальном плане есть прежде всего история развертывания телесной субличности, онтологически аутентичной объектному присутствию человека в универсуме его самообъективаций. Телесная субличность есть интериоризация экстенций технологической необходимости, которые, в свою очередь, представляют собой рациональную экстериоризацию телесной субличности. Ментальное обособление телесного Я может рассматриваться и в качестве заключительного этапа истории перманентной дегуманизации человека, его окончательного расчеловечения. Дегуманизация в XX в., утверждал Н. Бердяев, происходила в двух основных направлениях: натуралистическом и техницистском. Чем ближе к концу истории, тем более человек подчиняется как природным, так и технологическим силам, которые онтологически изоморфны. Мало сказать, что человек этим силам подчиняется, — он растворяется и исчезает или в природной жизни, или во всемогущей технике, принимая образ и подобие и природы, и машины. И в том, и в другом случае он утрачивает свой собственный человеческий образ и разлагается на элементарнейшие диспозиции. Человек исчезает с исторической арены как существо целостное, внутренне центрированное, духовно сосредоточенное, сохраняющее связь и единство. Дробные и частичные элементы человеческого существа предъявляют права не только на автономию, но и на верховное значение в жизни. Самоутверждение этих разорванных элементов в человеке, например не сублимированных элементов подсознательного, сексуального влечения или воли к преобладанию и могуществу, свидетельствуют о том, что целостный образ человека исчезает и уступает место нечеловеческим природным элементам. Н. Бердяев особо подчеркивал, что человека в его изначальной феноменальности уже не существует, а то существо, которое продолжает носить его имя, есть всего лишь набор наиболее элементарных ментальных функций. Распадение человека на те или иные функции есть прежде всего порождение технической цивилизации. Техническая цивилизация требует от человека выполнения той или иной функции, и она не хочет знать человека, она знает лишь функции. Это уже не просто растворение человека в природе, а уподобление человека машине. Когда цивилизованный человек тяготеет к природе, то это означает, что он испытывает страстное стремление вернуться к своей изначальной целостности и бессознательности, так как рациональное сознание его разложило и сделало несчастным. Когда человек стремится к совершенному исполнению технических функций, когда уподобляет себя новому богу — машине, то это уже тенденция обратная, ведущая не к целостности, а к еще большей дифференциации. Человек исчезает и в той, и в другой тенденции, обе тенденции дегуманизируют109. Выделенные Н. Бердяевым две основные тенденции дегуманизации человека в технологическую эпоху особенно остро обнажились к концу XX столетия.
С обособлением телесной субстанции человека от его социальной организации в качестве особого универсума объектно-объектных отношений, объективный мир оказывается предельно десубъективированным, ему уже нет надобности воспроизводить довольно сложную иерархию социальных статусов, позиций, ролей и проч., теперь он полностью переключился на то, к чему органически предназначен, — на производство вещей, имеющих потребительную стоимость, и систему потребностей, насыщение которых приводит к их расширенному воспроизводству. Возникает некий порочный круг: производство ради потребления и потребление ради производства, суть которого довольно точно передается незамысловатой формулой: «человек живет, чтобы есть, а ест, чтобы жить». В этот весьма замкнутый экзистенциальный круг совершенно не вписываются надтелесные способности и потребности человека. В структуре личности социальные диспозиции начинают активно вытесняться диспозициями рациональными, представляющими собой не что иное, как субъективации технологических функций. Невостребованные ментальные потенциальности, которым не дано оформиться в соответствующие актуализированные способности, переходят, по определению Юнга, в разряд недоразвитых функций, пополняющих собой и без того перегруженную структуру бессознательного. «Недоразвитая функция, — писал Юнг, — освобождаясь от сознательной диспозиции, по собственному побуждению, т.е. как бы автономно, бессознательно сливается с другими функциями; проявляется она при этом без дифференцированного выбора, чисто динамически, словно какой-то натиск или как простое усиление, которое придает сознательной дифференцированной функции характер восхищенности, увлеченности или насильственности; вследствие этого сознательная функция в одном случае переходит за пределы, поставленные намерением и решением, в другом же случае, напротив, задерживается еще до достижения своей цели и уклоняется в сторону, в третьем случае, наконец, происходит столкновение ее с другой сознательной функцией; этот конфликт до тех пор остается неразрешенным, пока двигательная сила, бессознательно вмешивающаяся и тормозящая, не дифференцируется сама собою и не подчинится известной сознательной диспозиции... Варварство заключается в односторонности и в безмерности — в несоразмерности вообще»110. Таким образом, на каждом новом витке грехопадения, отпадения все более низших субличностей от целостной ментальности, все более множится совокупность «недоразвитых функций», гипертрофия которых и составляет ментальную основу новой исторической формы варварства. Каждой исторической эпохе присущ свой особый тип варварства, а в эпоху онтологического восхождения технологического универсума складывается высший тип варварства, ментальную основу которого составляют недоразвитые сакральные, антропные и социальные функции человека.
Существенной причиной расщепления человеческой телесности на морфологические функции и их дальнейшей объективации в качестве технологических функций является страстное желание человека физически удвоить себя созданием параллельной телесности, посредством которой он стремится максимизировать удовлетворение своих витальных потребностей в запредельной форме. Однако чем более его органические функции дублируются функциями технологическими, тем менее самодостаточной оказывается его «внутренняя телесность». Наконец наступает такой исторический момент, когда морфологические процессы в микротеле могут протекать уже не иначе как «запараллеленными» с подобными технологическими процессами в макротеле. В конце концов интегральная совокупность человеко-тел вынуждена будет интегрироваться во всеобщий телесный организм, жизнедеятельность которого способна поддерживаться лишь строго определенным набором технологических процессов и структур.
Дробление человеческой индивидуальности приобретает столь широкий масштаб, что соединить и упорядочить их в некую ментальную псевдоцелостность оказывается возможным уже не на цивилизационной, а на технологической основе. «Неверно, — писал Шиллер, — что развитие отдельных сил должно влечь за собой пожертвование целостности; или же, сколько бы законы природы к этому ни стремились, все же должно находиться в нашей власти восстановление этой уничтоженной искусством целостности нашей природы, при помощи искусства еще более высокого»111.
Жизнь человека в современной «технологической цивилизации» от рождения до самой смерти напоминает полный технологический цикл, этапами которого являются проектирование, производство, использование и наконец утилизация индивида как вещи. Преодолевая свою социабельность, все более превращаясь из социальной вещи в вещь телесную, человеческая экзистенция становится все более технологичной, а технология — экзистенциальной. Но чтобы окончательно превратить человека в объект тотальных технологических изменений, его необходимо из вещественной телесности превратить в отелесненную вещественность, а затем и просто в вещь. «Перед лицом вечности, — писал П.А. Флоренский, — все должны разоблачиться ото всего тленного и стать нагими. И понятна отсюда пустота души, лишившейся большей части своего содержания»112. Пустотность души должна быть трансцендентно соразмерной «нищете духа», лишь при этом условии она вновь может в него «свернуться». Душа, отягощенная вещами, и более того, сама превратившаяся в вещь, не в состоянии предстать пред Духом в своей изначальной чистоте. Именно о таких душах говорится, что они оказались окончательно загубленными их «владельцами», польстившимися на прельщения князя мира сего. Естественный человек, измученный этими вечными проблемами, становится крайне неэффективным для реализации целей технологического прогресса, а потому и подлежит замещению человеком искусственным.
Создание искусственного человека, в котором все естественные процессы будут заменены на технологические, и есть цель технологической утопии, которая обретает все больше своих сторонников. Но ведь это уже будет не Субъект, а Объект, скажете вы, и будете совершенно правы. В этом-то и состоит стратегическая цель рационального Дискурса, или дискурсивного Рацио: осуществить полную и окончательную редукцию Субъекта к Объекту, а затем реифицировать Объект в качестве Субъекта.
По набору «поведенческих актов» Человек и Машина становятся все более онтологически аутентичными, различающимися лишь тем, что основу «человеческого поведения» составляют в основном биогенные, а «машинного поведения» — техногенные процессы. Однако и та и другая формы внешнего поведения вполне в состоянии интегрироваться в некий биотехнологический симбиоз, обладающий единой дескриптивно-нормативной системой взаимодействия, способной в перспективе стать мономорфной за счет радикальной технологизации человеческой телесности. Создание биоробота, а затем и просто робота уже не является фантастическим проектом, он вполне может реализоваться, как только человек вознамерится окончательно укорениться в универсум самообъективаций. Человек, освободившийся от своей биологической оболочки, не будет более нуждаться в каких-либо ограничивающих поведение нормах, оно будет полностью и окончательно регулироваться всеобщим рациональным дискурсом. Конечно же, это утопия, но, как известно, утопические проекты, к сожалению, имеют тенденцию воплощаться в жизнь и, главное, в особо изуверских формах. Опираясь на диктат потребностей над способностями, автоманипулируемый субъект, сам того не осознавая, будет организовывать свое открытое поведение в качестве некой ментальной разновидности рационализированного технологического процесса. Социальная технология окончательно инверсируется в свою противоположность — в технологическую социальность, шаблон поведения и чувств телесной массы окажется столь мономорфный, что вполне будет поддаваться строго научному прогнозированию и рациональной регламентации.
Не за горами создание некой разветвленной системы «регламентных работ», в рамках которой периодически будут устраняться выявленные дефекты и поломки в человеческих телах, постепенно вырабатывающих свой «витальный ресурс». Эта система «капитального ремонта», несомненно, будет обеспечиваться целым комплексом биотехнологических структур и дисциплин, в которых воплотятся наконец-то утопические идеи евгеники. Последовательно интроецируя природу объекта в ментальность трансцендентного надприродного субъекта, историцизм в конце концов обретет своего идеального псевдосубъекта.
Универсум объективаций может оставаться онтологически устойчивым отнюдь не за счет укорененности в нем телесного субъекта, а в связи с тем, что сам телесный субъект экзистенциально связан со всей иерархией субличностей, даже в том случае, если они в основном оказываются вытесненными в сферу бессознательного. Быть заключенным в бессознательное означает для них инобытийствовать в тех онтологиях, в которых их явное укоренение оказывается невозможным. Инобытийствование надтелесных Я в технологическом универсуме и придает ему столь необходимую, хотя и весьма относительную, устойчивость. Однако именно с этими благотворными проявлениями высших форм телесности и ведет свою беспощадную борьбу телесное Я, и его окончательная победа, несомненно, окажется «пирровой». Как только сознание телесного субъекта посредством рационального дискурса окончательно покончит с неявным присутствием в технологическом универсуме высших форм телесности с их трансрациональными интенциями, прекратит свое существование и технологический универсум, а с его исчезновением завершится и перманентная экзистенциальная катастрофа.
Реализация любых радикальных целей в сфере отчужденных сущностей, как правило, приводит к обратному результату: чем более Человек расчеловечивается обществом, тем более десоциализируется и само Общество, постепенно превращаясь из «вещественной социальности» в «социальную вещественность». Вещи одна за другой стали освобождаться от социальности как от своего весьма инородного предиката. В конечном счете десоциализированный мир вещей окончательно обособился в Универсум Технологических Объективаций и подмял под себя все те общественные структуры, которым еще не так давно служил верой и правдой. Теперь сами социальные феномены становятся своеобразными потребительными стоимостями для Универсума Хищных Вещей. Телесный субъект способен идентифицировать себя лишь с телесной организацией мира, ему недоступны более высокие формы самоидентификации. В ментальном плане социальная катастрофа вызвана прежде всего утратой индивидом своей социальной аутентичности, что и определяет особый характер и содержание третьего этапа кризиса гуманизма. Происходит разрыв социально опосредованного гуманизма с телесно превращенной формой человечности. Технологический универсум не в состоянии мириться с надрациональными формами человечности, рационализированный гуманизм выступает самой высшей формой антигуманизма еще и потому, что его обратной стороной является рациональное самоотчуждение человека. По глубинной сути своей технология не может быть гуманной как и гуманизм — технологичным. Создание разветвленной системы рационального псевдогуманизма необходимо лишь в целях апологетики бесчеловечной истории развития современного технологизированного мира, в чем объектоцентристская идеологема весьма преуспела.
Технология в момент своего рождения в качестве относительно самостоятельной онтологии уже несла в себе «свое иное», унаследованное от Иного, от технологических праформ, содержавшихся в Цивилизации и Культуре. С началом грехопадения человеческая экзистенция разворачивается в активном противодействии «развивающихся» структур Иного «эманационным» формам Неиного. Последовательное богостановление человека и его перманентная дегуманизация с момента сотворения мира становятся двумя основными полюсами его противоречивой экзистенции. «Человек, — писал Шелер, — в котором, возможно, бессознательно для него самого, всегда происходит относительное Богостановление там и тогда, где и когда он есть лишь качественно нечто большее, чем животное, есть не покоящееся бытие, не факт, а только возможное направление процесса и одновременно — в рамках человека как существа природного, — вечная задача, вечно сияющая цель. Да, в этом смысле нет человека как вещи, — даже как относительно константной вещи, — но есть лишь вечная "возможная", в каждый момент времени свободно совершающаяся гуманизация, никогда, даже в историческое время не прекращающееся становление человека — часто с глубокими провалами в относительное озверение. В любой момент жизни в каждом из нас в отдельности и в целых народах эти регрессивные движения борются с процессом гуманизации»113. Особо обостряется борьба между Неиным и Иным, Богом и дьяволом на заключительной стадии метаистории, когда складывается универсум объективаций субъективного, призванный стать либо «твердью», «субстанцией» для Иерархического Человека, либо нижней бездной бытия, за которой разверзается абсолютное царство Неиного = Дьявола, или, что то же самое, Упорядоченного Хаоса, несущего смерть и разложение всему живому и гармоничному в Сущем.
Присутствие при смерти является наиболее остро переживаемым феноменом, придающим особую остроту человеческим ощущениям на «пиру во время чумы». Перенасытившийся внешними благами человек более всего начинает жаждать вечного успокоения. «Итак, мир идет к концу, — с прискорбием констатирует Н.Ф. Федоров, — а человек своей деятельностью даже способствует приближению конца, ибо цивилизация эксплуатирующая, но не восстанавливающая, не может иметь другого результата, кроме ускорения конца»114. Некрофильство становится основой для формирования человеконенавистнической идеологии, основу которой составляет идея тотального насилия во имя полной реализации воли к власти. Именно в этих условиях объектоцентристская мировоззренческая схематика находит свою максимальную востребованность со стороны массового человека, ведь в ней идея господства над миром возведена в абсолют.
Телесная организация мира, провоцируя развертывание все более низменных биогенных потребностей человека, постепенно превращает его в один из рядоположных объектов в универсуме человеческих самообъективаций, точнее, превращает его в некий рудимент искусственного организма, который должен отпасть сам собою, как пресловутый обезьяний хвост, лишь только обезьяна вознамерилась стать человеком. Отторжение от «объективной реальности» всего субъективного в целях онтологической чистоты ее само-движения, авто-эволюции, есть не что иное, как последняя фаза самоотчуждения, самовытеснения человека из им же самим выстроенного мироздания, и «субъектом» такого окончательного отчуждения и вытеснения оказывается его собственная квазителесность, квазивитальность. Постепенно превращаясь в вещь, по своим «объективным параметрам» человек все более уступает «настоящим» вещам, которые в своем «становлении» обретают все более универсальные и абсолютные формы. Среди самообъективаций он оказывается самой неэффективной вещью, чья субстанция уже не выдерживает темпов эволюции, а потому, в связи с «онтологической ненадежностью», обречена на гибель. Абсолютная воля к власти в своей последней степени есть воля к Самоубийству во вселенском масштабе. Нерон, сжигая Рим, видимо, ощущал нечто более «высокое», нежели то, что ощущала огромная череда творцов, его возводивших. Этим более «высоким» и выступает воля к смерти как высшая форма власти над своей собственной экзистенцией. Синдром Герострата и Нерона заложен в глубинных слоях человеческой телесности, и он себя проявит в полную силу, как только этот пласт сознания превратится в последнюю «идею фикс», когда современная «концепция выживания» превратится в «концепцию тотального перевоплощения», будь то идея бесконечного клонирования или голографической визуализации человеческой телесности. Да мало ли под какую «высокую идею» можно реализовать «волю к смерти»! В любом случае средством онтологического самоубийства станет желание полностью раствориться со своими квазипотребностями в универсуме полезностей, стать элементом объективной реальности.
Метаисторический этап, связанный с переходом от Цивилизации к Технологии, не мог не завершиться социальной катастрофой. Молоху Прогресса нужна была новая жертва, и ею стала социальная жизнь человека. Однако Технология, как до нее и Цивилизация, и Культура, не повинна в том, что оказалась не столько средством социального созидания, сколько орудием разрушения человеческого общества. «Направленность техники, — писал Карл Ясперс, — не может быть выведена из самой техники, ее следует искать в осознанном этосе. Человек должен сам найти путь к управлению техникой. Он должен отчетливо уяснить себе потребности, проверить их и определить их иерархию»115. Такой же точки зрения придерживается и Хюбнер. Весьма нелогично было бы, считает он, ожидать воплощения традиционных ценностей в той самой технике, которая содействовала переосмыслению или даже разрушению этих ценностей. С другой стороны, нельзя некритически ставить в упрек технике разрушение традиционного гуманизма и на этом основании упрямо противиться ей. Этот унаследованный нами гуманизм не является таким уж безупречным, как некоторые полагают, иначе вряд ли бы его постигла такая судьба116.
С социальной катастрофой еще более расширяется присутствие Иного в Сущем, оно становится не только тотальным, но и предельно тоталитарным. Технологическое Иное окончательно вытесняет в Бессознательное все формы Неиного в Сущем. Сущее превращается в технологически упорядоченный хаос, чреватый уже не только социальной, но и природной катастрофой, подводящей к завершению перманентную экзистенциальную катастрофу. Заняв место Абсолюта, Тело становится Абсолютно Иным — Объектом, который и есть не что иное, как Абсолютно Самоотчужденный Субъект. Но так как Квазителесность продолжает существовать в качестве Субъекта, хотя и предельно самоотчужденного, его экзистенция все еще остается по эту строну Бытия и своими онтологическими, хотя и отрицательными, проекциями составляет историцистские формы Сущего. Мир внешний окончательно обособляется от мира внутреннего, и тот оказывается его «онтологическим пленником», узником в камере смертников, наслаждающимся изысканными вещами — ведь таково его последнее предсмертное желание, которое палачами всегда почиталось за священное. Когда наступит эпоха абсолютного господства князя мира сего, человек будет буквально купаться в земных благах, которые явятся следствием сверхупорядоченности мирожизненных процессов. Но это будет предельно греховная жизнь, так как человек окончательно утратит чувство духовной гармонии.
Технология оказывается великой неудачей уже не только Цивилизации, но и Экзистенции в целом. Весь вопрос в том, сумеет ли человек наконец-то осознать, в чем эта неудача заключается, и по возможности извлечь из нее уроки. Наиболее важным вопросом современной истории является вопрос о том, сумеет ли человек преодолеть свое объектно-технологическое самоотчуждение в ситуации, когда социальная катастрофа все более воспринимается им в качестве неизбежной. Опять приходится полагаться лишь на чудо, при условии, естественно, что человек окончательно еще не утратил способности воскрешать в себе сокровенное, ставшее потаенным. В Коране говорится: «Поистине, Бог не меняет того, что с людьми, пока они сами не переменят того, что с ними» (Сура 13:12.). Это чудо может произойти, если человек сумеет восстановить контроль социума над технологией, культуры — над социумом, а культа — над культурой. «Истинный путь, — писал Н. Бердяев, — есть путь духовного освобождения от «мира», освобождения духа человеческого из плена у необходимости»117. Однако восстановление этих жизненно важных онтологических приоритетов возможно лишь при условии, если сокровенное вновь станет путеводной звездой человеческого самовозвращения. Главной целью сохранения человечества выступает отнюдь не спасение его объектного присутствия в Теле, а восстановление его субъектной аутентичности с Духом. Может быть, именно на закате технологического эры человек за счет внутренней ментальной реинверсии вновь окажется способным быть подлинным субъектом своей метаистории и, зависнув над низшей бездной бытия, найдет в себе силы поступиться внешними, а главное, временными благами во имя вечной жизни в Духе.
Глава 6
ОТ ТЕХНОЛОГИИ К ХАОСУ
6.1. ОППОЗИЦИЯ ТЕЛЕСНОГО И РАЦИОНАЛЬНОГО В ЭКЗИСТЕНЦИИ
В пустыне мертвых вещей просто-напросто нечего распредмечивать, кроме все новых материалов и средств — веществ, физикалистских энергий и нейтральных информаций. Последние годятся только для расширения низшего бытия, только для пополнения совокупности инструментальных вооружений и оснащений, но уже не годятся для нетехнического, надутилитарного развития и совершенствования самого человека-субъекта.
Г.С. Батищев. Введение
в диалектику творчества
Итак, мы подошли к прочтению последней главы человеческой метаистории, какой она неявно «прописана» в абсолютном мифе, субъектоцентристскую метафизическую интерпретацию которого мы и пытаемся осуществлять. Миф отличается от утопии тем, что в нем универсум символически представлен весь, целиком, с его началом, содержащем в себе знание о его конце, и с его концом, в котором начало присутствует в качестве воплощенного символа трансцендентальной целостности универсума. Шеллинг считал, что история любой трансцендентной целостности, имея в виду прежде всего историю народа, есть не что иное, как его экзистенциально воплощенный символ, который даруется в его генезисе и окончательно исчерпывается, когда завершается полный жизненный цикл. Полным и завершенным циклом человеческой экзистенции в ее космологическом измерении является зон, обладающий своим началом — Абсолютным Ничто («все в едином») и концом — Нечто («все во всем»); все то, что лежит между ними и именуется всемирной историей, есть «развертывание всех свернутостей», изначально содержащихся в Ничто, в метаисторическую горизонталь Сущего — в «развернутость всех развернутостей», какой выступает Нечто, или Полнота Бытия, с последовательным «свертыванием всех развернутостей» в изначальное Ничто вплоть до возникновения нового метаисторического зона. В связи с тем, что в процессе развертывания свернутостей возникает целая череда историцистских отпадений низших и порождаемых онтологии от высших и порождающих, появляется целый континуум ложных ментальных, семантических и онтологических квазиобъективаций, способных свертываться лишь в Ничтожество — упорядоченный Хаос. Он и становится той «бездной бытия», которая в состоянии поглотить отчужденные формы экзистенции вместе с человеком, если он не найдет в себе силы активно противостоять силам внутреннего Апокалипсиса. Таким образом, в Конце Истории Человек своей стремительно отчуждающейся от него экзистенцией оказывается «зажатым» между верхней и нижней «безднами бытия», между Неиным и Иным, между Ничто и Ничтожеством.
Наиболее остро эту «экзистенциальную зажатость» человека ощущают мистики, способные внутренне переживать целостный и универсальный характер человеческого существования. В 1654 г. с Б. Паскалем произошло одно из рядовых событий, в котором он, как мистик, усмотрел некий вселенский символ. При переезде через Сену по изрядно разрушенному мосту лошади неожиданно бросились в пролом моста, но коляска чудом остановилась на самом краю пропасти. Именно после этого события «бездна» становится одним из главных образов его философии, символизирующих трагичность и хрупкость человека как «мыслящего тростника», зажатого между двумя «безднами» — Бесконечностью и Ничтожеством. «О человек! — урезонивал Я. Беме. — Почему мир становится слишком тесен для тебя? Ты хочешь обладать им один; и если бы обладал, то и тогда тебе не было бы еще достаточно просторно: ах, это гордость диавола, ниспавшего с неба в ад! Ах, человек! О человек! Зачем же пляшешь ты с диаволом, который враг твой? Разве не боишься ты, что он столкнет тебя в ад? Как можешь ты ходить так беспечно? Ведь под ногами у тебя только узкий мосточек, на котором ты пляшешь; под мостком же ад. Не видишь ли ты, как высок и опасен твой путь? Ты пляшешь между небом и адом»1. Как видим, и у Беме, и у Паскаля между двумя безднами лежит довольно узкий мостик, по которому человек может пройти, не подвергнув свою судьбу опасности.
В своем «анализе» перманентно нисходящей человеческой экзистенции мы оказались у ее «нижней бездны», далее простирается «постонтология Абсолюта», или Хаос. Эта «нижняя бездна» предзадана философскому дискурсу тысячелетней практикой мистического постижения метаистории; мы не можем ничего изменить в тех откровениях о ней, которые для нас выступают трансцендентальными априори, нам дано лишь метафизически их интерпретировать, т.е. пересказать концовку абсолютного мифа в категориях философии, причем по возможности ничего не меняя в свидетельствах «очевидцев», быть весьма вдумчивыми их «слушателями» и не вступать с ними в какую-либо полемику, так как то, что может быть вполне очевидным с позиции частных проявлений, оказывается величайшим заблуждением с позиции целостности.
Можно ли достоверно свидетельствовать о заключительном этапе истории в рамках рационального дискурса, который всегда исходит из апологетики «настоящего настоящего», а потому, если и берется прогнозировать возможное состояние сущего в будущем, то не иначе как в качестве его линеарной онтологической проекции, т.е. в качестве некоей экспоненты, по которой развивается «настоящее будущего»? Конечно же нет, так как в пределах рационального дискурса, основывающегося лишь на тенденциях «настоящего», может просматриваться только некий «хепи энд» этих тенденций, а не конец целостной экзистенции, признаки которого отнюдь не открываются в эмпирическом наблюдении. «Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится» (1 Кор. 13: 9—10).
При трансрациональной интерпретации возможного состояния сущего в будущем «объектом» трансцендирования выступает его совершенно иная эпистемологическая модальность реальности, а именно, «прошлое будущего», в котором само настоящее присутствует не иначе как «прошлое настоящего». Абсолютная мифологема позволяет интерпретировать содержащееся в ней «символическое знание» по всей горизонтали исторического процесса, однако не в качестве плоской эволюционной линеарности, а в соотнесенности исторической горизонтали с метаисторическими вертикальными инверсиями, посредством которых кайрос присутствует в хроносе и центрирует событийный ряд локальных эпох в апофатическом эпицентре зона. Основные символы целостной истории всегда находятся в ее генезисе, который не только трансцендентен, но и перманентен, символы имманентны первоначалам сущего и его кайросу — «прошлому прошлого», в котором в свернутом виде содержатся еще не распакованные смыслы «прошлого будущего».
Трансцендентальные знания апофатических Начал Истории изначально содержат в себе трансрациональное пророчество о Конце Истории, ведь начало и конец процесса развертывания свернутостей трансцендентально изоморфны, ибо Конец Истории чреват восхождением к ее Началу посредством свертывания развернутостей. Если рационалистическая линия в философии, при всей ее псевдодиалектичности, все же имеет дело с замкнутыми онтологическими системами, то трансцендентальная линия, при ее ярко выраженной метафизичности, рефлексирует по поводу живого и открытого универсума, начала и концы которого устремлены в бесконечность Ничто, где и замыкаются в некую сингулярность, готовую вновь развернуться в универсум в «рамках» нового метаисторического зона.
Трансцендентальная метафизика отличается от рациональной метафизики прежде всего тем, что и Начало, и Конец Истории рассматривает весьма метафорически и условно, так как они представляют собой крайние пределы вечной и бесконечной экзистенции в ее перманентном нисхождении в Сущее и столь же перманентном восхождении в Предсущее, соединяющие между собой бесконечный ряд метаисторических эонов. «Конец, — учил Ориген, — всегда подобен началу. И поэтому, как один конец всего, так должно предполагать и одно начало для всего; и как один конец предстоит многим, так от одного начала произошли различия и разности»2. Если мыслителю апофатически открываются трансрациональные знания о Начале Первосущего, содержащиеся в Откровении, то они уже дают ему возможность столь же апофатически их интерпретировать и в качестве знаний о Конце Сущего, так как согласно Екклесиасту, «это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после него» (Еккл. 1: 11—12). Да, в оперативной исторической памяти не содержатся знания о том, что происходило с экзистенцией в прошлых зонах, в прошлых метаисторических циклах развертывания Ничто в Нечто и свертывания Нечто в Ничто, поскольку совокупность имманентных исторических содержаний этими процессами вытеснена в Бессознательное, которое есть Мнемозина Метаистории Абсолюта, но поскольку Абсолютное Бессознательное охватывает собой все его индивидуализированные формы, эти сокровенные знания прорываются в сферу Сознания, по утверждению Платона, в качестве припоминаний. Пророчество есть не что иное, как припоминание того, что было в предшествовавшем зоне и что в проживаемом зоне должно повториться в иной символической модальности. Так как абсолютный миф символически воспроизводит не только трансцендентную целостность и универсальность переживаемого зона, но и в некотором роде весь ряд абсолютных становлений, его можно воспринимать в качестве некоей совокупности трансцендентальных припоминаний об историческом содержании идеального зона, одной из модальностей которого выступает зон, с метаисторическим присутствием современного человечества.
Таким образом, мы можем с той же долей трансцендентальной достоверности припоминать метаисторическое содержание Конца Истории, с какой в свое время припомнили апофатическую суть ее Начала. В отличие от относительного мифа, или идеологемы, всегда оказывающейся парадигмально оформленной, а потому и «закрытой» системой представлений о «настоящем настоящего», абсолютный миф — это «открытый» универсум пророчеств о «прошлом прошлого», вмещающего в себя неявные знания не только о вертикали, но и о всей горизонтали метаисторического процесса. Он открыт как для теологических, так и для философских интерпретаций, что и составляет содержание религиозно-философского дискурса. Согласно Николаю Кузанскому, абсолютный миф есть квинтэссенция знающего незнания, которое вполне можно интерпретировать и метафизически, переводя содержащиеся в нем трансценденталии в философские универсалии, а затем и в метафизические категории и понятия, что мы на свой страх и риск и предпринимаем.
Между технологическим универсумом и хаосом уже нет каких-либо иных посттехнологических универсальных онтологических целостностей. По крайней мере, как это представляется нам, находящимся на гносеологической площадке, выстроенной переживаемой нами современной эпохой. Правда, сейчас довольно часто стали говорить о том, что на смену технологической цивилизации идет цивилизация информационная, однако нам предстоит еще выяснить, (естественно, в рамках разрабатываемой нами субъектоцентристской концепции) возможно ли в принципе возникновение внесубстанциальной субстанции, внеонтологической онтологии, на статус которой претендует рациональный Универсум или универсальный Рацио.
На наш взгляд, в качестве некоей универсальной онтологической целостности совокупный рациональный дискурс, обособленный от своего телесного носителя, невозможен. Возникни такой «универсум» на принципах чистой рациональности, так это была бы уже даже не относительная Реальность, а ее противоположность — абсолютная Иллюзия или, как ее еще принято называть, Майя. Однако иллюзорная реальность, если и может существовать, то лишь в качестве фиктивной и ложной онтологической изнанки самой реальности. «Гениальностью и ничтожеством отмечена природа человека. Подполье есть изнанка бытия, хотя может и не знать об этом, в него не опускаться... Хотеть себя в собственной самости, замыкать себя в своей тварности как в абсолютном — значит хотеть подполья и утверждаться в нем. И поэтому настоящий герой подполья есть сатана, возлюбивший себя в качестве бога, утвердившийся в самости своей и оказавшийся в плену собственного подполья»3. Изнанка бытия не может существовать без лицевой стороны человеческой экзистенции, как тень без света. Несколько задержимся на обосновании этого предположения.
Технологический универсум, как мы его понимаем, является рациональной проекцией человеческой телесности. Его субъектом (или псевдосубъектом) выступает телесный субъект, представляющий собой предельную степень экзистенциального отпадения Человека от Духа. От Человека в нем остается лишь телесная субличность, которая и является субъектом (псевдосубъектом) внешнего технологизированного мира, а от Духа — отпавший от Него Рацио. В этой связи такой «нестационарный объект» целесообразно обозначать понятием телесно-рациональный субъект, вполне коррелирующим с тем «животным» в классификации К. Линнея, которому тот присвоил название Homo sapiens — человек разумный. Именно Разум, а не Дух, Культура или Цивилизация отличает телесного субъекта от телесного объекта. Таким образом, человек технологической эпохи не что иное, как рационализированная телесность, в которой всеми необходимыми признаками субъектности обладает именно телесность, а не рациональность. «Интеллект, который есть начало интеллектуального действования, есть форма человеческого тела... Следовательно, то начало, прежде всего благодаря которому мы мыслим, называть ли его интеллектом или мыслящей душой, есть форма тела»4. Вне субстанции не может существовать его акциденция, вне Тела не может существовать Рацио в качестве некоей внесубстанциальной акциденции. Сущностью человеческой телесности выступает его субъектность, хотя и самого низшего разряда; субъектностью Рацио не обладает, он всего лишь орган, посредством которого телесная субъектность рационализирует свое присутствие в универсуме самообъективаций. «Наше тело для нас, — писал С.Н. Булгаков, — есть субъективированный объект или объективированная субъективность»5. Рацио в его узком понимании, в том именно его значении, которое ему придал Р. Декарт («я мыслю, следовательно — существую»), есть не что иное, как предикат телесной субъективности, способный лишь подтверждать факт ее экзистирования, но отнюдь не подменять собой его объектное существование. Кстати, о фиктивности Рацио за пределами целостной человеческой экзистенции говорил и сам основоположник картезианской философии. «Когда я сказал, — писал Р. Декарт, — что положение Я мыслю, следовательно — я существую является первичным и самым достоверным, какое только может представиться кому-либо в ходе философствования, я тем самым не отрицал необходимости знать до него, что такое мышление, достоверность, а также что немыслимо, чтобы то, что мыслит, не существовало и т.п.»6 Рациональный предикат не может обособиться от предицируемой телесной субстанции и представлять собой особый универсум — универсум чистого дискурса. Однако это совершенно не означает, что он не ставит перед собой именно такого рода задачи, о чем и пойдет речь ниже.
Чтобы не было недомолвок, необходимо как-то определить существо рацио в качестве предиката отелесненной субстанции, для чего обратимся за помощью к апофатическим высказываниям выдающихся мистиков. Прежде всего, выясним, какое место в мистических построениях Рацио занимает в универсуме Духа. Так, неоплатоники в троичности Единого в качестве одного из его трансцендентальных модусов выделяли Ум, ему соответствует «малый ум», которым наделен эмпирический человек. Николай Кузанский, в отличие от знающего незнания, символически воспроизводящего Неиное, которое он обозначал универсалией «интеллект», знающее знание, имеющее дело с эмпирической действительностью, обозначал терминами «рацио» или «малый интеллект». «Мы, — писал Николай Кузанский, — обязательно должны прибегнуть к помощи высокого интеллекта, который показал бы нам, что рациональная мера действует лишь по сю сторону вечности и настолько далека от всякой соизмеримости с ней, что из непостижимости той или иной длительности для рассудка еще вовсе не следует вечность обладающей этой длительностью вещи. Рациональные мерки, охватывая временное, не улавливают вещей, свободных от времени, как слух не улавливает ничего неслышимого, хотя в свою очередь рациональность рассудка также неуловима для чувственного постижения»7. Согласно философии русского космизма, Духу трансцендентно присущ Логос, тогда как эмпирический человек в основном обходится «малым логосом», или разумом. «Основное свойство Логоса, отличающее его от разума малого, — пишет Н. Бердяев, — то, что он присутствует в такой же мере в объекте, как и в субъекте. Это — разум вселенский, он так же открывается в природе и истории, как и в человеке. Логос есть тождество субъекта и объекта; в нем дана общность человека и космоса, микрокосма и макрокосма. Через отречение от малого разума, от рассудка и приобщение к большому разуму, к Логосу, человек прозревает сквозь хаос, сквозь фатум природы Разум мира, Смысл мира»8. Итак, как мы видим, двум планам человеческого бытия — бытию трансцендентальному и эмпирическому — соответствуют большой и малый «логос», «интеллект», «ум» и пр.
Как нельзя редуцировать Иерархического Человека к его самой низшей ипостаси — телесному субъекту, так и нельзя сводить духовный Логос к телесному Рацио. «Когда у кого господствует духовность, — поучал Феофан Затворник, — тогда хоть это будет его исключительным характером и настроением, он не погрешает, во-первых, потому, что духовность есть норма человеческой жизни и что, следовательно, бывая духовным, он есть настоящий человек, между тем как душевный и плотяный человек не есть настоящий человек; а во-вторых, потому, что, как ни будь кто духовен, он не может не давать должного душевности и плотяности, только держит их не жирно и в подчинении духу. Пусть не широка у него душевность (в научных познаниях, искусствах и делах прочих) и крепко стеснена плотяность — все он настоящий полный человек. А душевный (многознающий, искусник, делец), а тем паче плотяный — не есть настоящий человек, каким бы красным не являлся он вовне. Он безголов»9. Итак, малый разум по большому счету «безголов», ибо не соотносится с Бесконечным Субъектом, а представляет собой рациональную акциденцию конечного телесного субъекта, он — всего лишь интеллектуальная функция субъективной объективности.
В то же время Рацио — это та часть Логоса, которая ограничена «объективной Реальностью», или «реальностью Объекта», подчиняющейся законам необходимости, он предицирует необходимость во всех ее возможных онтологических модификациях, тогда как Логос никогда не утрачивает своей трансцендентной соотнесенности со Свободой и вместе с ней и Бесконечным Субъектом составляет одну из трех ипостасей Модуса Абсолюта. Рацио есть объективированный Логос, в основном ограниченный рефлексией по поводу присутствия субъекта в универсуме объективаций, вполне совпадающего с его «гносеологическими границами». Ограниченность Рацио связана с его укорененностью в телесной инфраструктуре Духа, с его неспособностью истинно свидетельствовать о надобъектных нишах Иерархического Бытия, тем более о Свободе Духа. «Правильно делают, — утверждал М. Монтень, — что ставят человеческому уму самые тесные пределы»10.
Однако уже в эпоху Монтеня начинается искусственное расширение изначально узких границ Рацио и продолжается до тех пор, пока наконец-то он окончательно не входит бурным потоком дескриптивного дискурса в безбрежные берега апофатического Логоса. Реагируя на сентенцию Монтеня, Декарт писал: «Поскольку все науки являются не чем иным, как человеческой мудростью, которая всегда пребывает одной и той же, на какие бы различные предметы она ни была направлена, и поскольку она перенимает от них различие не больше, чем свет от солнца — от разнообразия вещей, которые он освещает, не нужно полагать умам какие-либо границы»11. Радикальное картезианство придало Рацио и его дескриптивному дискурсу всеобщий характер, именно с него эта самая низшая форма дискурса становится чуть ли не основным познавательным инструментарием человека. Вытеснив собой божественный Логос, перестав быть его частью, вознамерившись самому сделаться «гностической целостностью», дескриптивный Рацио стал претендовать на владение истиной в последней инстанции, утверждая, что в «мире нет непознаваемых вещей, есть лишь вещи еще непознанные, которые со временем несомненно будут познаны». В известной поэтической строчке «Да здравствует разум, да скроется тьма», светлому Рацио, конечно же, противостоит темный Логос с его «непостижимым». Вот так, устранив последние преграды на пути рационального постижения жизни, гносеологический субъект устремился к «древу жизни», чтобы придать его плодам качества, необходимые для массового потребителя.
Рацио телесного субъекта и есть тот самый «малый логос», о котором весьма снисходительно говорили мистики и который стал основным органом научного познания мира. Однако необходимо внести существенную поправку в понимание рацио, ставшего «субъектом» сциентистского дискурса. Это уже отнюдь не малый разум, составляющий часть Логоса, поскольку, утратив свою изначальную встроенность в него, он утратил и трансрациональную связь с основой Духа. Скорее всего, здесь мы имеем дело с объектно превращенной формой рацио, т.е. с рацио, выступающим акциденцией объективности, не опосредованной субъективацией; он уже относится не столько к человеческой телесности, сколько к его предельной самообъективации, — к миру внешних и отчужденных от субъекта сущностей. Однако именно этот «падший логос» предпринимает отчаянные попытки онтологически обособиться от телесной ипостаси человека, конституируясь через свой дискурс как временный субстрат-носитель. «Поскольку очевидно, что человек имеет разум, — писал И. Фихте, — постольку он является своей собственной целью, то есть он существует не потому, что должно существовать нечто другое, а просто потому, что он должен существовать: его голое бытие есть последняя цель его бытия»12. Но это «голое бытие» является целью отнюдь не многомерной человеческой экзистенции, которая не может быть «вульгарно голой», а прикрытого телесным одеянием и испытывающего дискомфорт Рацио. В своем самообособлении Рацио стремится быть одновременно и субъектом, и объектом своего имманентного логизированного Дискурса или дискурсивной Логики.
Сверхупорядочивая все то, что ранее принадлежало предустановленной гармонии в сущем, Рацио тем самым оказывается непосредственным предтечей Хаоса, ведь все то, что искусственно упорядочивается, подвержено энтропии, выступающей посредником между Порядком и Хаосом. Хаос может возникать отнюдь не из Гармонии, а лишь из Порядка, устраняющего Гармонию, чем по сути и занимается на протяжении последнего столетия сциентизированный Рацио. Главной причиной распада последнего из универсумов — телесно-технологического универсума является квазирациональная или иррациональная деятельность Рацио, связанная со сверхупорядочением человеческой телесности и ее внешнего технологизированного мира, что и составляет основное содержание перехода технологического универсума к вселенскому Хаосу. Ведь, как верно подметил Г.С. Батищев, в пустыне мертвых вещей просто-напросто нечего распредмечивать, кроме все новых материалов и средств — веществ, физикалистских энергий и нейтральных информаций. То, что не поддается распредмечиванию, и составляет сферу Хаоса.
Психоаналитическая модель личности З. Фрейда прекрасно проясняет внутренние причины, побуждающие рациональное Я освободиться от тех господ, которым оно вынуждено прислуживать, к тому же постоянно пребывая в плену вожделений Оно. «По отношению к поступкам, — пишет З. Фрейд, — Я как бы занимает положение конституционного монарха, без санкции которого не может быть введен ни один закон, но который должен весьма основательно взвесить обстоятельства, прежде чем наложить свое veto на тот или иной законопроект парламента... Но с другой стороны... то же самое Я является несчастным существом, которое служит трем господам и вследствие этого подвержено троякой угрозе: со стороны внешнего мира, со стороны вожделений Оно и со стороны строгости сверх Я. Этим трем опасностям соответствует троякого рода страх, ибо страх есть выражение отступления. Как пограничное существо, Я хочет быть посредником между миром и Оно, сделать Оно приемлемым для мира и посредством своих мышечных действий привести мир в соответствие с желаниями Оно. Я ведет себя в сущности подобно врачу во время аналитического лечения, поскольку рекомендует Оно в качестве объекта вожделения (libido) самого себя со своим вниманием к реальному миру и хочет направить его libido на себя. Я не только помощник Оно, но также его верный слуга, старающийся заслужить расположение своего господина. Оно стремится, где только возможно, пребывать в согласии с Оно, окутывает бессознательные веления последнего своими предсказательными рационализациями, создает иллюзию послушания Оно требованиям реальности даже там, где Оно осталось непреклонным и неподатливым, затушевывает конфликты Оно с реальностью и, где возможно, также и со сверх-Я. Будучи расположено посредине между Оно и реальностью, Я слишком часто подвергается соблазну стать льстецом, оппортунистом и лжецом, подобно государственному деятелю, который, обладая здравым пониманием действительности, желает в то же время снискать себе благосклонность общественного мнения»13.
Положение Я в ментальной структуре существенно изменяется на этапе онтологического восхождения технологии, так как его псевдосубъект — Оно полностью преодолевает вето Сверх-Я или Цензуры на дискурс о сексе. С окончательным вытеснением трансцендентального Я («смерть Бога») и родового Я («смерть Человека»), для рационального Я в десакрализированной, деантропологизированной ментальности телесно-рационального субъекта отпадает какая-либо необходимость соотносить свои волевые решения с высшими, надтелесными инстанциями в человеческой экзистенции — символической и ценностной ипостасями; Я становится единственным посредником между Оно и Оно-соразмерной реальностью — техногенным миром, но именно это его посредничество и тяготит Рацио, он стремится выстроить рацио-соразмерный мир, в котором не будет места пошлому Оно с его вожделениями, своим дискурсом о сексе компрометирующему «невинность» и «чистоту» логической мысли. Если ему когда-нибудь удастся вытеснить в бессознательное Оно, Рацио предстанет перед Реальностью в качестве ее неограниченного монарха.
Стремясь обособиться от телесности, рациональность постепенно свертывает свой дискурс о сексе и направляет его в обратную сторону — кумулирует на самое себя, пытаясь посредством десексуализации своего дискурса превратиться в универсум чистой логики и именно ее положить объектом чистой рефлексии, чтобы восходить, согласно Вл. Соловьеву, к Отвлеченным Началам. По сути, рациональная рефлексия по поводу Объекта превращается в саморефлексию Рацио, в объекте не нуждающегося; солиптические, гносеологические самопроекции Рацио затрагивают внешний мир лишь постольку, поскольку он испытывает «потребность» в радикальной рациональной модернизации. Да его и не спрашивают, испытывает ли он нужду в подобного рода модернизации, ведь только Разум знает, каким должно быть «царство разума». Посредством такого рода модернизации внешний мир делается все менее отелесненным и все более объективированным. Если, по З. Фрейду, мир есть не что иное, как сублимированное либидо, то Рацио, перестав быть его слугой и стремясь сделаться его господином, предпринимает решительные попытки в целях делибидоизации мира предельно десексуализировать либидо. «Мир цивилизации, — пишет Г. Маркузе, — в основном представляется как мир сублимации. Но сублимация предполагает десексуализацию»14. Можно с полной уверенностью предположить, что мы находимся на таком этапе истории, когда дискурс о сексе, центрирующий технологический мир на либидоизный и находящийся на пике своего развития, уже на протяжении жизни следующего поколения будет клониться к своему завершению.
Итак, субъектом истории на ее заключительном этапе становится уже не вожделенная телесность человека, а его падший Разум. Редукция целостного человека к его ограниченному разуму делает проблему человека для этого разума весьма отвлеченной и абстрактной. М. Шелер утверждал, что приблизительно за последние десять тысяч лет истории человек впервые стал совершенно «проблематичен»; он больше не знает, что он такое, но в то же время знает, что он этого не знает15.
Для того чтобы полностью «освободиться» от своей «несущей части» — телесности, Рацио необходимо было на первых порах заручиться поддержкой «высших сил», заключить с ними договор и соблюдать его до тех пор, пока посредством своих извечных ухищрений он сам не овладеет ими. Эти силы Рацио известны с момента его возникновения, ведь именно они обольстили людей подспудно содержавшимися в нем знаниями, и те «стали как боги». Союз Дьявола и Рацио, направленный против Жизни, обусловил грехопадение человека. Вековечный грех его как раз и состоит в рационализации жизни, в процессе которой Жизнь все более разрушается, превращается в Хаос и потому становится добычей Дьявола. «Грехопадение, — писал Л. Шестов, — понимали как неповиновение Богу, как увлечение плотским соблазном, но никто не мог и не хотел допустить, что корень греха, т.е. первородный грех, в познании и что уменье различать добро от зла есть падение и притом самое страшное и пагубное, какое только может себе вообразить человек... Разум как враг людей и богов: величайший парадокс, какой можно только придумать. И, вместе с тем, самое страшное и мучительное, что могло бы выпасть на долю одинокого, беззащитного человека»16. Если Логос как «большой разум» человеку достался от Бога, то Рацио как «малый разум» — от Дьявола. Как только «хитрый разум» окончательно освободился от божественного Логоса, он обернулся «дьявольским знанием», знанием о том, как полностью искоренить Древо Жизни.
В системе договоров, заключавшихся человеком с различными силами при переходе от одной метаисторической эпохи к другой, в конце концов последний — поистине «дьявольский» сговор. Его сторонами стали Гносеологический Субъект и Силы Смерти. С этим «договором» при желании всегда можно детально познакомиться, стоит только вникнуть в истинные смыслы догматизированного рационализма, имя которому сциентизм. Основу «договора» составляет соблюдение сторонами приоритетности Порядка над Хаосом, причем Хаосу предается все то в Сущем, что не поддается рационализации, т.е. надрациональные структуры Неиного в нем. По сути, этот сговор с дьяволом направлен не столько против Человека, поддавшегося на прельщение быть вечной голограммой, сколько против Бога, который никогда не согласится, чтобы его Образ и Подобие превратились в фиктивную Иллюзию.
Зададимся вопросом, какая же относительная мифологема может лежать в основании этой последней и самой радикальной идеологемы, обслуживающей попытку Рацио автономизироваться от Тела и превратиться во всеобъемлющий Фантом Жизни? Конечно же, моделью такого метафизического сговора является относительная мифологема, гениально предугаданная Гёте и метафорически изложенная в «Фаусте». Сговор Мефистофеля с Фаустом, скрепленный кровью, символичен во всех отношениях. Прежде всего, он заключен между Ученым и Дьяволом, что находит свое подтверждение в последствиях смертельно опасных экспериментов современной науки над человеческой жизнью во всех ее проявлениях. Залоговая цена этого сговора — «жизнь» и «судьба» Человека, которыми он вполне готов поступиться во имя обретения абсолютной власти над миром, чтобы наконец-то «стать Богом».
Однако, как показывают многочисленные поломки в упорядоченном Рацио мире, жизнь идет к своему насильственному концу, сговор с дьяволом оборачивается, что и следовало ожидать, не «новым порядком», а вселенским хаосом. Если «божественный Завет» преследовал цели сохранения приоритетности сакрального над общечеловеческим на этапе восхождения Культуры, «общественный договор» в эпоху восхождения Цивилизации пытался обеспечить приоритетность общечеловеческого над социальным в экзистенции, а на этапе перехода от Цивилизации к Технологии возник и оформился некий «рациональный договор», закреплявший приоритетность социального над телесным, то «дьявольский сговор» необходим был для соблюдения приоритета рационального над телесным на этапе стремительного онтологического восхождения Рацио. В конечном счете, такого рода «договор» мог сложиться лишь на принятии примата Науки, радикально рационализирующей естественную Жизнь, над Иным, столь же последовательно ее иррационализирующим, придающим абсолютный характер Смерти. Наука в целях чистоты эксперимента над Жизнью идет в подручные к онтологическому Ничтожеству, своими «чистыми технологиями» разлагая витальные структуры, подготавливая их к пожиранию Хроносом и Хаосом. Присутствие человека при смерти становится почти абсолютным, а жизнь в Духе весьма относительной. Гётевская мифологема содержит в себе весьма ценные сведения о сути грядущей информационной эпохи, основная задача которой — спрессовать в рациональную информацию субстрат Жизни с тем, чтобы пользоваться им для построения «чистого бытия». В этой гётевской мифологеме мы находим пересказ человеческой метаистории с позиции интересов внечеловеческого рациогенеза, которым и должно завершиться перманентное человеческое грехопадение. В ней содержится весьма важное «знание» о судьбе рационально ориентированной цивилизации.
Мирожизненные последствия грядущего вытеснения телесного из все более рационально упорядочивающейся человеческой экзистенции можно представить весьма гипотетически. Попытаемся, опираясь на интуицию и эвристический потенциал субъектоцентристской историософемы, поразмышлять о тех негативных экзистенциальных последствиях, которые могут иметь место, если этот «дьявольский сговор» каким-то чудесным образом не будет «ратифицирован» человеческим самосознанием.
С вытеснением телесного из экзистенции начался процесс окончательного «расколдовывания» и растабуирования витальных основ человеческого существования. «Ум, отступивший от Бога, — поучал Григорий Палама, — становится или скотоподобным, или демоноподобным и, выступив за пределы естества, вожделевает вещей чуждых естеству и не знает сытости в своей алчности: всецело отдает себя плотским вожделениям и не знает меры удовольствия»17. В пророчество Паламы необходимо внести коррективы: Рацио становится все менее скотоподобным, но все более демоноподобным. Он перестал быть слугой плоти, а потому и сворачивает дискурс о похотливости, его более интересует метафизическая проблема смерти, так как в гамлетовской альтернативе «быть или не быть» Рацио окончательно избрал «не быть», прежде всего «не быть» тому «скоту», в которого он превратил человека. Он уже не «вожделевает вещей», напротив, стремится их разрушить и насладиться зрелищем вселенского пожарища, испытать то безумное наслаждение от гибели Сущего, которое испытали Герострат, сжигая Храм, Нерон, наблюдая, как горит вечный Рим, подожженный по его приказу. Старый мир нужно разрушить до основания, чтобы затем построить новый мир — «царство разума», где установится Идеальный Порядок, исключающий какие-либо проявления крайне спонтанной и неупорядоченной Жизни. Таким образом, дискурс о сексе начинает вытесняться дискурсом о смерти, биофильская ориентация естественного человека решительно вытесняется некрофильской ориентацией человека разумного. «Все менее и менее сдерживает кого-либо религия, семья, любовь к отечеству, — писал К.Н. Леонтьев, — и именно потому, что они все-таки еще сдерживают, на них более всего обращаются ненависть и проклятия современного человечества. Они падут — и человек станет абсолютно и впервые "свободен". Свободен, как атом трупа, который стал прахом»18. Рацио вплотную приблизился к зеленому «древу жизни», чтобы выкорчевать его и на его месте укоренить серое «древо знаний». Он стремится окончательно сбросить с себя опостылевшую плоть, сжечь нелепую «лягушечью шкуру», в которую его упрятали до скончания века, чтобы предстать пред миром во всей своей голой красе, во всей своей логической прелести. Перед последним прельщением князя мира сего, прельщением «волей к знанию» человек устоять не смог. М. Фуко полагает, что, когда идет речь о генезисе и направленности исторически предопределенного дискурса, не имеет особого значения, кто говорит; главное — выяснить экзистенциальные смыслы того, о чем говорится. Однако мы вполне можем выявить не только характер дискурса о «чистом знании», но и того, кто выступает субъектом этого вида дискурса. В эпоху надвигающейся «информационной цивилизации» им становится ученый, прельщение величайшими открытиями, способными коренным образом изменить человеческое существование, явно по душе миллионам страждущих благополучной и вечной жизни на Земле. Обратимся к высказываниям «авторитетов в законе», т.е. к тем, кто авторитетно высказывается о действии непреложных законов объективной действительности, открытие которых чревато для человечества достижением абсолютного счастья.
Наиболее часто встречающимся прельщением сциентистского сознания является прельщение возможностью создания постчеловеческой цивилизации, в которой человек преодолеет свою биологичность и обретет чисто интеллектуальный способ существования. «Ближайшие поколения, — авторитетно заявляет А.П. Назаретян, — вынуждены будут примириться с неизбежным сбрасыванием интеллектом своей принудительной биотической оболочки, начинающей сковывать его дальнейший рост и угрожать физическому существованию его носителя, а одна из эпохальных задач их деятельности — обеспечить надежную преемственность, по возможности безболезненное перерастание в "постчеловеческую" цивилизацию»19. Итак, человек должен поступиться своей временной жизнью в субъективированном теле, чтобы обеспечить себе вечную жизнь в объективированном интеллекте, царствие коего будет именоваться «постчеловеческой цивилизацией». Прогнозируются и довольно жесткие сроки построения этого «царства разума», в котором биота лишь на время, до полной адаптации человека к условиям информационного существования, будет использоваться для поддержания постепенно сходящих на нет витальных потребностей человека.
По мнению другого «авторитета в законе», «царство разума» возникнет в результате пятой метаморфозы технологии в 2180—2230 гг. вследствие передачи интеллектуальных способностей человека технике, основанной на биосинтезах, на биотронном производстве. Этот период можно назвать биоинтеллектуальной революцией, которая охватит основные области деятельности человека, освободив его от забот о материальном производстве20. Все более укореняясь в универсум искусственных объективаций, человек из субъекта естественного, будет превращаться в некую рациональную самообъективацию, морфологические структуры которой будут постепенно замещаться искусственными органами. Наука уже сейчас подошла к такому уровню развития, что вполне способна клонировать людей, обеспечивая им перманентное «бессмертие в теле» в виде стереотипного воспроизведения их исходных генотипов. Можно только представить, во что превратится это сообщество рационализированных тел, ведь клонированию будет подлежать так называемая элита тела, т. е. самая ублюдочная часть человеческой популяции.
Как только человек полностью растворится своим интеллектом в «информационной цивилизации», отпадет какая-либо необходимость в биотронной технологии, да и технологии как таковой не будет, поскольку человек, по мнению других «авторитетов в законе», со временем превратится в «нечто лучистое» (К. Циолковский) или в «некий плазмоид» (В. Казначеев). Что же общего может быть у человека с лучами и плазмоидами? Видимо, только одно — его «светозарный разум», способный адаптироваться к «энергетическому полю», которое он может в перспективе создать. Однако это всего лишь проекты «хитрого разума», и пока человек в состоянии его контролировать, «хитрый разум» не сможет растворить без остатка его экзистенцию в структурах «энергетического поля». «Человек, — писал Г.С. Батищев, — не способен, пока он все еще человек, превратиться весь целиком в объект-вещь, он может лишь притвориться вещью, лишь облачиться в роль и маску объектно-вещного бытия»21. Да, человек в состоянии своей телесностью мимикрировать под вещь, под самообъективацию, однако он не может в угоду Рацио сбросить телесность и интегрироваться освободившимся от нее чистым интеллектом в гегелевский объективный Разум. И прежде всего потому, что с Рацио сопряжена только его физической телесность (плоть), которая является всего лишь эмпирической формой существования сакральной телесности, ее невозможно рационально преодолеть, поскольку она так же бессмертна, как и вечная душа человека, ибо они ипостасно связаны с Духом.
Однако духовное понимание бессмертия духовно-телесной сути человека присуще лишь трансцендентальному, но отнюдь не рационально-сциентистскому сознанию. Согласно христианскому вероучению, бессмертна только духовная сторона человека, воскресению подлежит и его тело, но воскресению духовному, а не физическому. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное» (1 Кор. 15: 44). Полемизируя с идеей физического восстановления всех умерших поколений людей, выдвинутой Н.Ф. Федоровым, Н. Бердяев особо подчеркивал, что воскрешение связано с «подвигом веры», а не с «подвигом знания» и что оно не может быть сведено к физикалистскому процессу патрификации. Человек бессмертен прежде всего потому, что в нем всегда присутствует вечное и неуничтожимое божественное начало. Бессмертным и вечным является не только божественное начало в человеке, но и весь состав человеческой экзистенции, которым овладевает дух. Именно в этом плане может быть понято символическое значение булгаковского «рукописи не горят». Духовное начало и есть то начало в человеке, которое сопротивляется окончательной объективации человеческого существования, ведущей к смерти, окончательному погружению экзистенции в смертоносный поток времени. Объективация сознания порождает иллюзию объективного духа, знающего только безличное бессмертие22. Однако новейшая сциентистская мысль, этот современный алхимик, бьется над получением «волшебного камня», способного качественно изменить суть человеческой экзистенции. Основным ее приемом является предельное упрощение экзистенции, ее редукция.
Если попытку заменить социальную форму телесности искусственной машинерией Ж. Эллюль называл «технологическим блефом», посредством которого Тело стремилось освободиться от надтелесных экзистенциальных форм, то на этапе восхождения науки, отпадающей от технологии и определяющей приоритетность интеллекта над субстанциальностью, мы имеем дело уже с «рационалистическим блефом». Рацио блефует, ставя на кон против Жизни свои Знания о ней. Программа по рациональному упорядочению мира имеет весьма развитую традицию в истории, особенно в истории философского дискурса. «Все, что теперь еще бесформенно и беспорядочно, — считал И. Фихте, — разрешится через человека в прекраснейший порядок... Человек будет вносить порядок в хаос и план в общее разрушение, и смерть будет призывать к новой прекрасной жизни»23. Однако по мере того как человек становится все менее значимым «функционером» телесной организации мира, он все менее осознает свою принадлежность к субъективной реальности, а потому стремится все более радикально преодолевать в себе атавизмы телесности и реликты субъектности, тем самым окончательно подрубая свои духовные корни. В конце концов наступит такой момент в бесконечной череде снятий субъективного в ментальности, когда рационально модернизируемая телесность превратится в набор искусственных органов и эта искусственная телесность по мере развития науки и под воздействием «дискурса о дискурсе» инверсирует в некий вселенский Фантом Сознания — в рациональный Универсум или универсальный Рацио.
Если мысленно синтезировать в некоторую идеализированную онтологию субглобальную вытяжку генотипов из всей совокупности телесных форм жизни и на их основе создать генотипический Универсум или универсальный Генотип, то он и будет по своим внутренним кодовым зависимостям соответствовать структуре некоего единого рационального Дискурса или дискурсивного Рацио. Однако все дело в том, что Рацио не желает воспроизводить телесную структуру мира по уже отштампованному эволюцией генотипу, напротив, он стремится его окончательно разрушить, предварительно вычленив из универсального Генотипа его внутреннюю логику, логику законов, квазирационализация которой и должна привести к созданию Абсолютной Логики, а к ней вполне возможно имманентными ей рациональными процедурами редуцировать всю Тотальную Экзистенцию во всех ее модусах и исторических опосредованиях. Уже сейчас человек своим воображением переносится в такое «потребное будущее», в котором он перестанет зависеть не только от своей естественной, но даже и искусственной телесности; превратившись в особую разновидность лучистой энергии, он обретет возможность проникать в любые уголки Вселенной, реализуя волю к абсолютной и тотальной власти над ней. «Внутреннее тело» становится онтологически избыточным для человеческой экзистенции, ведь телесностью человека станет тело Вселенной или вселенское Тело, нуждающееся в Рацио в качестве своего собственного идеального Образа и Подобия. Итак, в этой квазирациональной идеологеме Человек представлен уже даже не в качестве нестационарного объекта, наделенного способностью рационализировать другие объекты, и даже вовсе не объектом, а некоей иллюзорной Рациональностью или рационализированной Иллюзорностью, способной тотально управлять Мирозданием в качестве Абсолютной Майи.
Рациональный блеф, разрабатываемый сциентизмом, призван, по мнению его адептов, осуществить решительный прорыв в деле обретения человеком такой формы экзистенции, которая прежде всего обладала бы свойствами вечности и неуничтожимости. Телесная форма человеческого существования весьма хрупка и ненадежна; будучи в нее заключенным, человек испытывает ощущение постоянного присутствия при своей смерти и осознает тупиковый характер своей экзистенции. Рациональное преодоление телесной формы человеческого существования позволяет, как полагают разработчики «рационального блефа», найти выход из этого онтологического тупика. Как правильно подчеркивает М. Шелер, человек не только тупик Природы, но и выход Духа, проблема витальной тупиковости человеческой экзистенции — не сциентистская, а духовная. «Человек, как существо витальное, — писал Шелер, — без сомнения, является тупиком природы, ее концом и ее наивысшей концентрацией одновременно; однако как возможное "духовное существо (как возможная салюманифестация Божественного духа, как существо, могущее в деятельном со-вершении духовных актов мироосновы "деифицировать" самого себя) он есть нечто иное, чем просто тупик: он есть в то же время светлый и великолепный выход из этого тупика, существо, в котором первосущее начинает познавать само себя и себя постигать, понимать и спасать. Итак, человек есть одновременно и то, и другое: тупик и — выход!»24 Не девитализация человеческого существования, а ее ревитализация дает возможность восстановить природную основу жизни, опираясь на которую, человек в состоянии осуществлять свое духовное восхождение, восхождение в жизнь вечную и бесконечную. Способ выхода из этого рационалистического тупика прекрасно сформулировал А. Швейцер: «самоотречение ради жизни из благоговения перед жизнью»25. Вытеснению телесного из экзистенции как сугубо рационалистической тенденции необходимо противопоставить прямо противоположную тенденцию — вытеснение рационального из тех сфер жизни, которые способны лишь внутренне гармонизироваться и одухотворяться.
С вытеснением телесного из экзистенции вера в «разумные основы бытия» и нигилистическое отношение к жизни сливаются в единую сциентистскую религиозность, религия становится нигилистичной, а нигилизм — религиозным. Если на заре своего становления человек и мир взаимно трансцендировали друг друга в Абсолютный Дух, то перед тем как опуститься занавесу на сценической площадке истории, они взаимно иррационализируют друг друга в Абсолютный Разум. Разум, подорвавший сакральные основы Жизни, утративший какие-либо признаки сокровенности и одухотворенности, становится кумиром, вокруг которого складывается высшая форма ложной религиозности — рациотеизм, рациональная вера в Иллюзорную Действительность. «"Разумная вера", — писал П.А. Флоренский, — есть начало дьявольской гордыни, желание не принять в себе Бога, а выдать себя за Бога, — самозванство и самовольство. Отказ для Бога от монизма в мышлении и есть начало веры. Монистическая непрерывность — таково знамя крамольного рассудка твари, отторгающегося от своего Начала и Корня и рассыпающегося в прах самоутверждения и самоуничтожения. Дуалистическая прерывность — это знамя рассудка, погубляющего себя ради своего Начала и в единении с Ним получающего свое обновление и свою крепость»26. Рациотеизм, вера в универсум рациональных сущностей содержит в себе страшное внутреннее противоречие, обусловленное отрицанием витальности во имя повсеместного утверждения искусственных форм существования. «Верую, потому что разумно» — таков основной девиз новой сциентистской религии. Казалось бы, этот девиз снимает парадоксальность тертуллиановской сентенции — «верую, потому что абсурдно», однако в ней «абсурдность» символизировала отнюдь не преднамеренное заблуждение самих верующих, а то, как символы их веры оценивались с позиции их современников-нигилистов. Вера в разумное воистину абсурдна, но ее абсурдность определяется той степенью экзистенциальной деструктивности, какой сопровождается любая акция, осуществляемая во имя торжества разума. По сути, основной принцип рациотеизма впервые столь откровенно был сформулирован Гегелем, глубоко верившим в то, что лишь разумное действительно, все остальные формы действительности неразумны, а потому и противоестественны. «Разум, — писал Гегель, — должен не бездействовать, а размышлять, когда дело идет о всем том, что должно быть научным; кто разумно смотрит на мир, на того и мир смотрит разумно; то и другое взаимно обусловливают друг друга»27. Если действительность обусловлена разумом и более ни чем иным, то только он должен быть конституирован в качестве абсолютного начала. В гегелевской философии истории именно разум выступает началом всех начал, а потому и получил в ней самый высший сакральный сан, имя которому Абсолютная Идея. После такой рациональной подстановки в инстанции Сверхсущего Бог стал восприниматься как высшая форма рациональности, а Разум — как высшая форма божественности. Редукция теономии к рациономии и привела к сакрализации сциентизма и сциентизации сакрального. Наука, являющаяся высшей формой рационального, становится тем кумиром, в жертву которому приносится все то, что не поддается алгоритмизации и объективации.
Искусственное — не только антитеза естественному, но и последствие предельной объективации искуса, изначально присущего естественной телесности, вожделениям ее плоти. Искус, объективировавшийся в искусственном, если и искушает человека, то уже не благами жизни, а соблазном вечного успокоения в смерти. В конечном счете неявной сутью рациотеизма становится предельное развитие некрофильской ориентации человека, расширенно воспроизводящейся нарождающейся информационной цивилизацией. Стоит лишь заглянуть во все более расширяющееся виртуальное пространство Интернета, и мы убедимся, что дискурс о насилии и смерти стал определяющим, он заполнил собой комиксы, желтую прессу, компьютерные игры; сознание современного человека уже готово воспринять как должное абсолютный тоталитаризм Иного. Не жизнь, а смерть становится опознавательным знаком рационализированного Кумира.
Сциентистская вера, захватывающая почти без остатка довольно скудное воображение современного человека, пытается обнаружить свои праформы в древнейших пантеистических верованиях. Ее уже не устраивают трансцендентальные корни монотеистических религий, она решительно преодолевает духовный трансцендентализм рационализированным неопантеизмом. Так, А. Тойнби в диалоге с Д. Икедой высказал мысль о том, что религия будущего должна преодолеть свою теистичность и вновь стать пантеистической, чтобы служить делу слияния человека с природой. «Я полагаю, — писал он, — что необходимая для нас религия — пантеизм, как он представлен, например, в синтоизме, и что нам надлежит расстаться с религией иудео-христианского монотеизма и постхристианской нетеистической верой в научный прогресс, который унаследовал от христианства веру в призвание человечества к эксплуатации остального универсума для удовлетворения собственной алчности»28. Если когда-нибудь ожидания Тойнби реализуются и восторжествует рациональный Пан или пантеистический Рацио, то это, скорее всего, будет нигилистическая форма Религии, или религиозная форма Нигилизма. Об этом свидетельствует тот факт, что с распадом некогда единого монотеизма возникает огромное количество тоталитарных сект и значительную их часть составляют секты сатанистов, возродивших ритуальные кровавые оргии с принесением в жертву людей князю мира сего. Сциентистская религия есть вера в темные силы стихий, сил преисподней, образом и подобием которых и является отрицающий все и вся в созданном Богом мире Дьявол.
Наука нигилистична, так как развивается посредством перманентных отрицаний и снятий своих же собственных рациональных мифов и верований, преодолевая менее радикальные парадигмы мышления более радикальными и эффективными. Она упорядочивает корпус своих понятий примерно таким же способом, каким в стародавние времена пантеизм упорядочивал иерархию божеств, олицетворявших стихийные силы природы. «Стихиями, — писал Гегель, — пользуются сообразно с их природой, и благодаря их совместному действию образуется продукт, которым они ограничиваются»29. В зависимости от складывавшейся в мире экзистенциальной ситуации боги-кумиры перемещались на те или иные места на Олимпе, при этом самое высокое место занимал тот из них, который обладал большей мощью. В конце концов именно Пану — обожествленной Природе — дозволено было безраздельно господствовать на Олимпе и управлять действиями других, менее мощных божеств-стихий. И архаичный пантеизм, и новоявленный сциентизм, по сути, решали и решают одну и ту же онтологическую задачу: максимально упорядочить первозданный хаос. В отличие от теизма пантеизм ничего не знает и знать не хочет о предустановленной Гармонии Жизни, креативно исходящей из Неиного, он знаком лишь с Законами Порядка, восходящими к Иному и являющимися изнанкой животворящей Гармонии.
Различие между пантеизмом и сциентизмом заключается лишь в том, что первый пытался природу обожествлять, а второй — секуляризировать в целях самообожествления. Если пантеизм трансцендентировал природу, пытаясь ею заменить Бесконечный Субъект, то сциентизм природу рационализирует, стремясь преобразовать ее в Бесконечный Объект своего Рационального Дискурса. «Реальность, — писал П. Тиллих, — утратила свою внутреннюю трансцендентность или, если применить другую метафору, свою прозрачность для вечного. Система конечных взаимосвязей, которую мы называем миром, стала самодостаточной. Она доступна расчетам и управлению и может быть улучшена ради нужд и желаний человека. С начала XVIII в. Бог был устранен из силового поля человеческой деятельности. Он был помещен рядом с миром без права вмешиваться в его жизнь, потому что всякое вмешательство могло бы нарушить технические и деловые расчеты человека. В результате Бог стал излишним, а мир предоставлен человеку как его господину»30. Вся логика научного познания есть не что иное, как процедура рационального оперирования иррациональными стихиями, укорененными своими началами и концами в хаосе, порождаемом перманентным человеческим грехопадением. Современный ученый есть рационализирующий сущее маг, подобный магу «донаучной эпохи», но пытающийся объектно воздействовать на стихийные силы хаоса уже при помощи строго научных процедур. Наука — всего лишь более высокий уровень древнейшей магии, так как опирается на более изощренную технологию расчленения мира, из частей которого стремится соорудить универсум предельно упорядоченных стихий — мир рационализированных самообъективаций. Однако как только разрозненные части живой монады оказываются искусственно сочлененными в безжизненную систему, с этого самого момента идет отсчет ее окончательного распада, любая упорядоченность в отличие от гармонической целостности — всего лишь необходимая ступень на пути к хаосу.
На этапе гипертрофированного развития «рационально оформленного природного организма» искусственная абсолютизация релятивного и соответствующее сакральное чувство к его воплощению в экзистенции перемещаются с ее телесной непосредственности на рациональную опосредованность. И человеку в этой ситуации остается выбирать лишь между рациональной иррациональностью и иррациональной рациональностью, т. е. между двумя формами иллюзорной действительности. Однако эти формы рациональности=иррациональности различаются разве что по способам квазиупорядочения хаоса, который на протяжении всей человеческой истории неоднократно переупорядочивался посредством ценностных, нормативных и собственно рациональных процедур. Рациоцентризм есть глубинная интериоризация сил Хаоса, в свое время пытавшегося по-своему упорядочить антропоцентризм, а за ним и социо- и техноцентризм. В центре подобного рода центризмов всегда находилась определенная форма Иного, определенная форма упорядоченного Хаоса, последним видом веры в который и выступает рациотеизм, вера в падший дух. «Если Павел, — писал Эразм Роттердамский, — в свое время, когда этот дар Духа был крепок, приказывал проверять духов, от Бога ли они (1 Ин. 4: 1), то что надлежит делать в наш плотский век? Как мы будем исследовать дух? По учености? И на той и на другой стороне есть раввины. По жизни? И там и там — грешники»31. В отличие от теизма, требующего проверять духовные интенции, рациотеизм требует беспрекословно верить в истинность законов науки, которые со сменой парадигм отбрасываются в связи с их парадигмальной релятивностью. И несмотря на то, что история науки есть кладбище похороненных парадигм и во всю бьют колокола по ежечасно уничтожаемым теоретизмам, все же вера в Науку все более крепчает, таков уж парадокс рациотеизма, он не нуждается в развернутых рациодицеях, ведь за ошибки не судят.
Дух не может быть объективным, он всегда субъектен, а потому эту форму ложной веры называют не объектотеизмом, а рациотеизмом. Объективизировав трансрациональную составляющую Духа в качестве картезианского «мыслящего духа», редуцировав к нему реальную действительность, рациотеизм получил некий замещенный абсолют — Абсолютную Истину, к которой, согласно его «сциентистским прихожанам», человек восходит по ступенькам относительных истин, в то же время являющихся объективными Истинами, или истинами Объекта. Именно к этому, самому низшему, типу рациональности Гегель свел первичную форму трансцендентального Духа, конституировав Рацио в качестве перманентно и прогрессивно развивающейся Идеи Сущего, путем диалектических снятий восходящей к своей завершенной и абсолютной форме. У Гегеля Абсолют находится не впереди, а в конце истории, а сама история оказывается не чем иным, как хитростью Разума, вознамерившегося превратиться в тотальную рациональность — Абсолютный Разум. Современный рациотеизм, по сути, воспроизводит ту же самую гегелевскую модель «метафизической веры», лишь заместив в ней дискурсивную логику Субъекта объективной логикой Дискурса. Но еще Гёте заметил, что «сущее не делится на разум без остатка»32. Как классический рационализм, так и современный неорационализм сводят бытие к знанию о сущности бытия.
За признанием онтологической самодостаточности Рацио неявно лежит понимание Хаоса как особой формы бытия, которое Рацио призван упорядочивать, что не может не вести к обожествлению природных стихий и совокупности рациональных знаний о них, разрабатываемых наукой. Согласно рациотеизму как сциентизированному пантеизму, Природа есть не что иное, как упорядоченный Хаос, а Хаос — неупорядоченная Природа, и оба они выступают двумя взаимообусловленными формами единой Субстанции, не нуждающейся в трансрациональном Боге; если она и порождает целый сонм божеств, то лишь в качестве фантомов сознания, посредством которых человек пытается выявить законосообразность перехода одной субстанциальной формы в другую. Так, согласно синергетике, Порядок рождается из Хаоса, а затем по ступенькам бифуркаций «ветвится» в некую «кривую развития». Реликтами веры в подобного рода фантомов-божеств в современном сциентистском сознании являются известный принцип само-организации и вытекающая из него само-произвольность перманентного само-усложнения и саморазвития объекта. Как видим, в этой приставке само- в снятом виде и содержится сциентистски оформленный реликт фантома-божества, имманентного самому объекту и представляющего собой его самость, не нуждающуюся в некой сверх-само-сти, т.е. в Абсолюте как Бесконечном Субъекте = Самости. Таким образом, в сциентистском сознании сохраняется и жестко закрепляется пантеистический политеизм при всем внешнем его атеизме, а вера в единого Бога вновь замещается верой в одного из божеств, самость которого посредством логических ухищрений разума обретает статус аксиомы, не требующей доказательств. Аксиоматика любой системы знаний и есть некая логизированная самость божества, имманентного той стихии, упорядочением которой и занимается уверовавшее в него научное сообщество, представляющее собой совокупность ученых, беззаветно верящих в разрабатываемую ими Парадигму Знаний. Принципиальная разница между двумя формами веры состоит прежде всего в том, что вера в абсолютное начало всегда удерживает в самосознании целостный и универсальный образ мира, вера же в само-стоятельную сущность одной из объективаций ведет к абсолютизации релятивного и в конечном счете к ее фетишизации, чреватой хаотизацией жизни, вследствие ее чрезмерного упорядочения и схематизации. Высшей формой фетишизации релятивного в сущем является исторически преходящая Парадигма, вне веры в которую невозможен строго научный дискурс. Современная сциентистская картина мира, как известно, характеризуется множественностью взглядов на мир с позиции «интересов» отдельных божеств-фантомов, которые фетишизируются в качестве обособленных друг от друга парадигм мышления. Вряд ли современную науку можно представить как систему единого знания о мире, она давно уже распалась на совокупность противоборствующих парадигм и тем не менее требует к себе сакрального отношения, соразмерного отношению к Единому, каким оно является в монотеистической религии. Сциентистский плюрализм требует, чтобы к нему относились, как к некоему монистическому началу мира, способному рационально воспроизвести единство мира.
Основу мировоззрения современного человечества составляет окончательно десакрализированная мифология, или, что то же самое, — сциентизированное неоязычество. Если монотеизм явился духовным ренессансом изначального сакрального самосознания человека, позволившим преодолеть многобожие позднего мифотворчества, то современный этап сциентизации человеческого самосознания есть не что иное, как этап реставрации основных принципов построения мира, наработанных пантеистическим сознанием. Наука в своих крайних сциентистских построениях — всего лишь высшая форма относительного мифологизаторства, ее идеалом вновь становится достижение абсолютной упорядоченности Хаоса, а не возвращение к изначальной сакральной Гармонии.
То, что в основании парадигмально оформленного сциентизма всегда находится какая-нибудь относительная мифологема, вполне подтверждает попытка представить в качестве прообраза будущего Ноосферу — сферу разума. Далеко не случайно идея созидания «сферы разума» возникла на волне научно-технического прогресса. Ноосфера была необходима в качестве строго логичного теоретизма, способного заменить собой совершенно неоперационализируемый и эмпирически неверифицируемый Дух старой веры. Однако сфера Разума, вытесняющая собой из человеческого самосознания сферу Духа, в экзистенциальном плане не может не быть сферой духовного самоотчуждения человека, его отчуждения от трансцендентной целостности Бытия. Соглашаясь с тем, что малый логос определенным образом противостоит хаосу, П.А. Флоренский, хотя и был весьма талантливым ученым, все же как человек религиозный осознавал всю узость и неприемлемость сведения духа к разуму, а потому вместо ноосферы предлагал пользоваться понятием пневматосфера («духосфера»). Н. Бердяев предпочитал говорить не о сфере духа, а о его всеобъемлющем трансцендентном центре, поэтому довольно часто употреблял понятие пневмоцентризм. «Уже в Евангелии, — писал Н. Бердяев, — мы видим пневмоцентризм. Все происходит в Духе и через Духа. Этот пневмоцентризм с известного времени будет нарастать»33. Однако экспансия рационального дискурса в сферу духовной жизни человека с начала XX в. оказалась столь сильной, что научное мышление стало почти отождествляться с духовностью, и понятия «пневматосфера», «пневмоцентризм» так и не прижились, в научном обиходе закрепился термин «ноосфера», и совершенно в иных, сугубо рациональных значениях, нежели те, которые придавали ему его создатели — В.И. Вернадский, Э. Ле Руа, П. Тейяр де Шарден.
В последние годы усилилось критическое отношение к понятию «ноосфера» именно в связи с его корневой связью с рационалистической редукцией естественного к искусственному. Некоторые критики придают ему крайне негативное значение и рассматривают в качестве проявления глобальной мирожизненной установки на девитализацию жизни. «Структурно ноосфера и техносфера — синонимы, — справедливо замечает В.А. Кутырев. — Не разрушая категориальной сущности, этот ряд можно продолжить понятиями наукосферы, рациосферы, инфосферы, интеллектосферы. И все они, порождаясь природой, "снимают" ее, противостоят ей»34. В «ноосфере» неявно содержится глобальный проект по модернизации телесной организации мира во всемирную организацию рассудочной деятельности. В который уж раз за свою долгую историю человек за Бога присочиняет очередной вселенский проект по упорядочению не им сотворенной действительности, и, как всегда, его реализация чревата тяжкими катаклизмами. Ф.И. Гиренок полагает, что нет никаких гарантий для того, чтобы следующим шагом бытия оказалось событие, ожидаемое современными гуманистами в образе ноосферы. А гарантий нет потому, что еще не закончилась история опустошения и не исчерпали себя скрытые посылки проективного миропредставления. Ближайшей задачей философии является прояснение этих посылок и отчетливое понимание тех пределов, которые нужно будет еще преодолеть35. Ноосферный проект переустройства мира на рациональных основах ничего не содержит в себе от самотрансценденции, а потому может быть отнесен к постнеклассическому типу утопии, в которой посредством предельной организованности снимается запредельная спонтанность. «В классической утопии, — пишет Л. Сарджент, — нравственный идеал трансцендентен, первичен, а социальная организация вторична, она служит только реализации этого трансцендентного идеала. В современной утопии главное — разумная организация. Она и есть нетрансцендентный утопический идеал»36. И далеко не случайно В.И. Вернадский отождествлял понятия «коммунизм» и «ноосфера», полагая, что рациональная, научная революция возможна лишь с установлением справедливого общества, а справедливое общество может быть построено только на разумных, ноосферных началах. В интеллектуальных построениях основоположников ноосферного мировоззрения удивительным образом соединились между собой классическая социальная и постнеклассическая научная утопии. Современные адепты ноосферной концептуализации сущего преодолели ее социальную контекстуальность, а многие из них ограничили ее экологической сферой, полностью изъяв гуманистическое содержание.
Вслед за Н. Бердяевым в своих метаисторических построениях мы исходим не из «сферы», которая всегда является неким интеллектуальным срезом с некой онтологической целостности, а из «центра», из которого эта целостность развертывается, однако предпочитаем употреблять не трансценденталию «пневмо-центризм» (полагая, что духовный центр мира — «сфера интересов» мистики и теологии и запределен для философской рефлексии), а универсалию «субъектоцентризм» — ключевую для понимания метафизической целостности мира, развернутого в Сущее. Религиозное сознание всегда восходит к первомиру до его распадения на субъект и объект, а философское сознание имеет дело с миром, в котором это распадение уже произошло и нарастает дивергенция, сама философия раздваивается на ту, которая исходит из субъектного воззрения на мир, и ту, которая абсолютизирует в нем объективированную субъективность, утрачивая какой-либо интерес к ипостасной укорененности человека в Бесконечном Субъекте. Субъектоцентристская философема по своей ориентации на пневмоцентризм первомифа является трансцендентальной, тогда как объектоцентристская философема, ориентирующаяся на рацио-сферу (ноосферу) или исходящая из рациоцентризма (абсолютный разум), может быть только рационально-дискурсивной.
Рациотеизм есть высшая форма нигилизма, он вызван к жизни человеком, чья экзистенция оказалась крайне отчужденной от него, а потому он и пытается преодолеть свою онтологическую ущербность и ничтожность на пути перманентного отрицания предшествующих, более целостных форм существования своих предков. Вот каким образом Ф. Ницше проясняет экзистенциальную подоплеку предельной формы нигилизма. «Причины нигилизма: 1) нет высшего вида человека, т.е. того, неисчерпаемая плодотворность и мощь которого поддерживала в человечестве веру в человека... 2) Низший вид ("стадо", "масса", "общество") разучился скромности и раздувает свои потребности до размеров космических и метафизических ценностей. Этим вся жизнь вульгаризируется: поскольку властвует именно масса, она тиранизирует исключения, так что эти последние теряют веру в себя и становятся нигилистами»37. Чем более онтологически «мельчает» человек, тем более нигилистичной становится его религия и все более религиозной оказывается форма его самоотрицания и самоотчуждения во имя иллюзорной власти над миром.
В состоянии ли человечество вновь вернуться к библейским заповедям, направленным на всемерное поддержание его сакрального отношения к целостной жизни и прежде всего жизни в Духе? Именно жизни в сфере Духа, а не в сфере Разума. Этот вопрос поставлен отнюдь не современной эпохой. «Гордые, самонадеянные мудрецы, в собственных глазах, — писал Николай Кузанский, — полагавшиеся на свой разум, в надменной заносчивости считавшие себя равными всевышнему, замахнувшиеся на божественное познание, — все они заблудились, потому что преградили себе путь к премудрости, решив, что в ней нет ничего неизмеримого их умом, обессилили в своем суемудрии, привязались к древу познания, не поняв древа жизни»38. Мы полагаем, что возрождение истинной веры возможно лишь на пути последовательной ресакрализации духовного и десакрализации рационального в человеческой экзистенции.
С вытеснением телесного из экзистенции сознание человека, ставшее «рациональным», превращается во все более ложную и иррациональную форму ментальности. Конечно же, в чистом виде рациональный субъект существовать не в состоянии, так как он есть некий предел, до которого может дойти в своем упрощении человеческая личность; будучи девитализированной, она перестает существовать не только физически, но и метафизически. Если все же вообразить себе такую идеальную модель рационального субъекта, то это должна быть ментальность, в которой тоненькая пленочка рационального сознания покрывает собой огромную «черную дыру» Бессознательного, куда оказались втянутыми все без исключения исторические субличности: астральная, антропная, социальная и даже телесная (видимо, бессознательное правильнее было бы ассоциировать с «белой дырой», так как в ней содержатся истинные формы ментальности, но тогда бы мы не смогли воспользоваться этой метафорой). Именно эта иерархия субличностей, вытесненная в Бессознательное, и составляет неявную структуру той ипостаси триединого Бога, которая обозначается трансценденталией — Бесконечный Субъект. Рациональный субъект, лишенный своей ипостасности, всего лишь фантом рационального мифа. Если он и может «существовать», то только в качестве некой экзистенциальной альтернативы Бесконечному Субъекту, т.е. в качестве Бесконечного Объекта. Однако и это сомнительно, так как чистая рациональность — это уже выход за пределы телесной организации мира, а следовательно, и за пределы «объективной действительности». Таким образом, бытие чисто рационального субъекта — та же «улыбка кота», блуждающая «сама по себе» в Зазеркалье поднебесной, по ту сторону свободного Духа, т.е. принадлежит «сфере падшего Духа», Дьяволу, ведь не случайно его еще называют старым рационалистом. Шекспировский Гамлет делает из переживаемой им истории парадоксальный вывод: «Сознание делает нас всех подлецами». Рациональный субъект в качестве персонификации «сферы разума» может репрезентировать разве что Зазеркалье Бытия, из которого он «исхитрился» прорваться в пределы человеческой экзистенции.
Итак, рациональный субъект в его предельно чистой форме представляет собой чистое рациональное сознание, полностью очищенное от символических, ценностных, нормативных праформ, которые, будучи вытесненными в сферу бессознательного, уже не в состоянии своими алогичными сентенциями нарушать строгую логику рационального дискурса. Казалось бы, наконец-то мечта позитивистов об идеальном гносеологическом субъекте, способном открывать абсолютную истину, сбылась, и теперь можно ожидать появление такой системы рационального знания, в которой исключением из правил будут ошибочные суждения, а тем более явная ложь. Однако редукция более сложных форм познания к познанию рациональному как раз и приводит к формированию крайне ложной системы знаний. «Мы уже поняли с помощью экзегетических дисциплин и, в частности, психоанализа, — пишет П. Рикер, — что так называемое непосредственное сознание является "ложным сознанием"... дело не только в том, что "я" может схватить себя лишь в объективирующих его выражениях жизни, но и в том, что истолкование текста сознания наталкивается на первоначальные "ложные интерпретации" ложного сознания... сознание является ложным сознанием, и всегда надо через корректирующую его критику восходить от непонимания к пониманию»39. Мудрость Логоса, всегда являющаяся способом мистического постижения целостности Бытия, будучи редуцированной к Рефлексии (а точнее, к саморефлексии) Рацио, представляющей собой логический дискурс об одной из гносеологически выделенных и отнюдь не самостоятельной его части, есть не что иное, как безумие мира. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей сего и не властей века сего преходящих» (1 Кор. 2: 7). Сон разума порождает чудо-вищ, когда же разум бодрствует, он побуждает эти чудо-вища совершать чудеса, от которых становится еще более отчужденным от Духа. Рационализированный мир утрачивает способность к трансцендированию, т.е. к наращиванию своей целостности и универсальности, он обретает явную склонность к самоупрощению, в конечном счете завершающемуся самораспадом. «В отношении существующего универсума дискурса и поведения, — пишет Г. Маркузе, — непротиворечивость и неспособность к трансцендированию являются общим знаменателем»40. Человеческая душа, если ее еще таковой можно называть применительно к ее носителю — рациональному субъекту, становится не субъективацией Бесконечного Субъекта, Свободного Духа, а всего лишь интериоризацией экстенций Бесконечного Объекта, Злого Духа. «Душа» квазитеслесного субъекта есть проекция «духа» князя мира сего, а потому по отношению к внеобъектному, внеискусственному миру и прежде всего к трансцендентному миру становится дьявольским наваждением, продолжающим осознавать себя высшим сакральным существом.
В рациональном сознании истина и ложь меняются местами столь удивительным образом, что ложь принимается за истину, тем более если она корреспондирует с так называемым здравым смыслом, а истина, всегда восходящая к трансцендентальной целостности бытия, в результате самоотчуждения от него нецелостного человека воспринимается в качестве отвлеченного знания, которое лишь отвлекает от решения реальных проблем, а потому и объявляется ложным. Так как рациональное сознание имеет дело с объективной реальностью, то истинными объявляются только те представления, которые эту реальность апологетизируют и реифицируют. И напротив, особо ложными суждениями квалифицируются те, которые вскрывают экзистенциальную ограниченность универсума самообъективаций субъекта, они вытесняются в бессознательное в связи с их неаутентичностью реальности и потому, что «ограничивают разум». По мере перманентного рационального упрощения трансрационального содержания экзистенции происходит периодический пересмотр системы рациональных суждений и вытеснение тех из них, которые в связи с изменениями реалий утрачивают былую гносеологическую аутентичность, т.е. истинность. Истина оказывается релятивной, только непонятно, почему же она продолжает называться «истиной», ведь она должна сохранять свою аутентичность сущности вещи независимо от того, насколько изменяются ее внешние про-явления. Истинными объявляются лишь актуализированные формы сущего, а не сама его феноменально-трансцендентнальная суть, не его соотнесенность с абсолютными первофеноменами. «Истина и ложь, — писал Г. Зиммель, — соотносятся в науке как настоящее и прошлое. Научные учения являются "прошлыми", поскольку признаны ложными; истиной считается не прошлое, но вошедшее в инвентарь настоящего — даже если эти части окажутся "прошлыми" для грядущего настоящего. Для каждой науки ее настоящая стадия неизбежно кажется содержащей истину о ее предмете, а все отклоняющееся от нее прежнее имеет лишь исторический интерес»41. Выдвигая собственную оригинальную концепцию кризиса человеческого существования, Дж. Ладрьер ищет его основания в безудержной экспансии науки. На новом витке распада человеческой экзистенции уже не технология, а наука выступает главной деструктивной силой. «Современная наука, — пишет Ладрьер, — тесно связана с властью над вещами и самим человеком, а потому наука и технология могут показаться неотличимыми друг от друга»42. Подчеркивая нераздельность науки, техники и технологии, называя их вслед за К. Поппером «экзосоматической средой», продолжением человеческого тела как субъекта, Ладрьер акцентирует внимание на феноменах квазирационального отчуждения человека, ведущего к крайним формам его дегуманизации. Человек начинает рассматриваться в качестве средства, а процесс построения идеального мира, основу которого составляют объективные законы, в качестве магистральной цели Мироздания.
Человек в состоянии вновь обрести многоуровневое сознание и вновь интегрироваться в многоуровневую и многоаспектную экзистенцию лишь за счет последовательного преодоления редукции телесной формы сознания к рациональной, социальной к телесной, антропной к социальной и трансцендентной к антропной. Прежде всего, это означает, что необходимо приступить к постепенному распаковыванию бессознательного, высвобождению истинного содержания целой иерархии со-знаний, вытесненного в него греховной практикой перманентного самоотпадения человека.
С вытеснением телесного из рационально оформленной экзистенции квазипотребности окончательно вытесняют из ментальности не только высшие, но и низшие биогенные способности. Присваивать и потреблять свои собственные отчужденные сущности в запредельных формах и объемах рациональный субъект в состоянии лишь за счет активного самовытеснения уже не только из своей многомерной экзистенции, но и из природной онтологии. Освобожденное пространство в экзистенции занимают искусственные системы, которые прекрасно справляются с созданием универсума средств потребления и без привлечения продуктивных способностей субъекта. Однако за жизнь в земном раю человек навсегда должен расстаться с надеждой на вечное существование в Духе и стать неким набором искусственных органов потребления, серийно изготавливаемых на всеобщем технологическом конвейере. Рог изобилия уже почти создан технологией, остается только продлить то удовольствие, которое человек в состоянии испытывать, прильнув к нему в своем экзистенциальном похмелье, и если за это высочайшее наслаждение необходимо будет заплатить окончательной утратой своей витальности, то это, по меркам Рацио, всего лишь освобождение от вековечных иллюзий о вечной жизни в Духе, с которыми жил ставший таким далеким и примитивным первопращур.
В отличие от религии, всегда акцентирующей внимание человека на развитии духовных способностей, особенно на самотрансценденции, наука прямо-таки провоцирует развертывание особо деструктивных привычек и потребностей. Трансцендентальная религия всегда удерживала человека от искуса быть только телесным или рациональным субъектом, следовать лишь требованиям принципа удовольствия, удовлетворять связанные с ними потребности. Рациотеизм прельщает все более изысканными способами наслаждения бытием, которое буквально «ломится от изобилия». Если трансцендентализм исходит из необходимости развертывания человеческих способностей, то рационализм полагает, что, только всемерно развивая потребности, можно обеспечивать поступательный ход истории. Однако даже Гегель, являвшийся последовательным сторонником всемерного развития человеческих потребностей, способствующих хитрому историческому разуму достигать своих имманентных целей, считал, что потребности существенно сужают сферу свободы, актуализация которой и составляет содержание человеческой истории. «Та свобода, — писал он, — которая ограничивается, есть произвол, относящийся к частностям потребностей»43. Если способности коррелируют с трансцендентальной Свободой, то потребности — с рациональной Необходимостью. Составляя основу творчества, человеческие способности в своем апофатическом синтезе ведут к перманентному преобразованию мира в полном согласии с миротворением, осуществляемым Абсолютом. Способности человека соотносятся с креативной активностью сакральных первоначал бытия, а потому содействуют воспроизведению его целостности и универсальности на всех метаисторических этапах нисхождения Духа. Напротив, потребности человека коррелируют с плоской эволюцией отдельных частей универсума, а потому в наибольшей мере расцветают лишь на развалинах бытия. Относясь к частностям бытия, они всегда являются частными проявлениями человеческой экзистенции, однако, будучи гипертрофированно развитыми, становятся внутренним источником своеволия и произвола. Потребность, ставшая доминирующей в системе человеческой активности, стремится превратить Свободу в Волю. С онтологическим восхождением Рацио Воля становится рационализированной Свободой, свободой от Духа и волей, направленной против Духа. На этапе нисхождения Технологии в Хаос «волющая телесность» замещается волей к знанию, основу которой составляет потребность в абсолютной и неограниченной власти Рацио над Миром. «Несомненно, — считает М. Фуко, — более глубинным образом эта воля воспроизводится благодаря тому способу, каким знание используется в обществе, каким оно наделяется, распределяется, размещается и в некотором роде атрибутируется»44. Абсолютизировав «волю к знанию», Рацио тем самым свою гносеологическую волю противопоставил трансцендентальной свободе Духа.
На этапе онтологического восхождения Рацио осуществляет подлинную десексуализацию «сексуальной революции», оставляя в ней лишь «революцию», которую усиленно рационализирует. Для того чтобы онтологически нейтрализовать технологию, он предпринимает решительные попытки сублимировать телесные потребности в потребности информационные, и это совершенно очевидно проявляется в том, что дискурс об истине начинает преобладать над дискурсом о сексе. Уже в переживаемой нами эпохе явно обнаруживаются признаки, свидетельствующие о закате «сексуальной революции», которая клонится к своему рациональному завершению. Современное поколение взаимоотношения между полами в достаточно высокой мере разбавляет наркотиками, порнографией, экстатическими ритуалами, внутриполовыми вожделениями и проч., что говорит о вырождении «чистого секса». Видимо, наступает новый этап во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, опосредованный уже не дискурсом о сексе, а дискурсом об автосексе, который позволит им окончательно освободиться от зависимости друг от друга. Секс становится все более «виртуальным» и «автоматизированным», без какой-либо эротики, которая должна предварять его своими любовными флюидами. Свидетельством техноэроса является, к примеру, техническая новинка, позволяющая обходиться без услуг реального сексуального партнера. Эту новинку изобрели японские «ученые». Она представляет собой небольшую коробочку с источниками питания, напичканную электроникой. Специальный датчик, через который проходят высокочастотные импульсы, прикрепляют к корню полового органа. При включении прибора возникает стойкая эрекция. Импульсы столь интенсивны, что способны вызвать оргазм с эякуляцией и без участия женщины45. Мы вынуждены были привести этот порнопример, так как он свидетельствует о кардинальном смещении в дискурсе о сексе: его уже заботит не столько сам секс, сколько его преодоление, в том числе и технологическое. Видимо, настанет такое время, когда о сексе будут вспоминать как о чем-то архаическом, как в наше время смутно припоминают, что же ритуально входит в эрос — в сверхчувственные отношения между влюбленными, — в котором секс не играл особой роли. «Наше общество, — считает М. Фуко, — порвав с традициями ars erotica, снабдило себя некой scientia sexualis. Точнее говоря, оно преследовало задачу производить истинные дискурсы о сексе; и это — за счет того, что оно подогнало, не без труда, прежнюю процедуру признания к правилам научного дискурса»46. Теперь, после того как признание вырвано у человека и сциентистский дискурс стал самодовлеющим, отпала необходимость не только в ars erotica, но и в scientia sexualis, наука желает быть полностью автономной от похотливой телесности, она хочет стать scientia rationalis. По мнению О. Тофлера, представление о том, что знание — власть, отживает свой век, для достижения власти в наши дни необходимо знание о знаниях.
Гипертрофировав потребность человека в истине, редуцировав к ней своими логическими ухищрениями его бытие, наука, по сути, превратила человека в «разумное животное», т.е. существо, способное удовлетворять свои животные потребности сугубо рациональным способом, а потому оказавшееся полностью соответствующим своей экзистенцией стратегическим целям развития Абсолютного Разума. Абсолютный Разум и есть абсолютно «несчастное сознание», провоцирующее вселенский Апокалипсис. Однако лишь с позиции Иерархического Человека «счастливое сознание» мономорфного телесного субъекта выглядит «несчастным сознанием», так как ускоренно подводит его к той бездне бытия, за которой простирается не онтология вечной жизни, а онтология вечной смерти — Ничтожество, распадающееся в Хаос, подлежащий очистительному огню Апокалипсиса. Это сознание поистине «счастливое», как и любое сознание, которое пиршествует во время чумы, принимая зачумленную действительность за вполне естественную форму бытования. В том-то и секрет «счастливого сознания», что оно в состоянии осознавать лишь то, что само «творит»; то, к чему оно осознанно идет, не может им восприниматься трагически, оно не может осознавать себя «несчастным сознанием», ведь именно оно несет человеку гедонистическое счастье, недоступное самотрансцендирующему и самоактуализирующему человеку. Сознание того, что наслаждение от открываемой «истины бытия» должно быть и перманентным, и все более прогрессирующим, не позволяет рациональному субъекту свернуть с дороги, вымощенной благими пожеланиями, однако ведущей в ад.
Модель мироприсвоения должна быть дополнена моделью самоотчуждения, ибо присваивать в мире человек в состоянии лишь свои собственные отчужденные сущности. Вне отчуждения нет присвоения. И напротив, модель миросозидания должна быть дополнена моделью самоосвоения, освоения своей собственной Самости, в которой Я и не—Я, не—Мир и Мир находятся в изначальном неразвернутом как во-внутрь, так и во-вне экзистенциальном синкретизме. Первые взаимообусловленные модели человеческой экзистенции могут быть построены на примате потребностей над способностями, вторые — на примате способностей над потребностями. Современный тип «прогрессивной эволюции» по сути своей основан на так называемом законе восхождения потребностей. Но если человечество поймет, что его спасение возможно лишь на пути возвращения к первоистокам, на пути «прогрессивной инволюции», оно с необходимостью начнет реализовывать экзистенциальную модель, в которой основу составит закон восхождения способностей.
С вытеснением телесного из экзистенции Иное в Сущем окончательно вытесняет из него Неиное, что влечет за собой процесс интенсивной хаотизации рационально упорядоченного мира, предваряет собой Апокалипсис. Набор рациональных функций, синтез которых ведет к формированию некоей надтелесной онтологии, делает иллюзорной и фиктивной саму человеческую экзистенцию. Квазирационализация начинает отрицать исходный набор телесных функций, объективации которых Рацио обязан своим модусным присутствием в человеческой экзистенции. Сущее начинает отрицать само существование, стремясь превратиться в абсолютную субстанцию, не обремененную какими бы то ни было формами субъектного присутствия в ней экзистенции. Отрицание телесности, сущность которой все же принадлежит существованию, обрекает тем самым Рацио и самого себя на гибель, так как онтология может быть только экзистенциальной, даже если экзистенция присутствует в ней в своей самоотчужденной форме. Не может быть онтологии Разума за пределами бытия Духа, как не может Сущее «существовать» за пределами существования Предсущего. Но этого не дано понять Рацио, стремящемуся субстанциализировать экзистенцию и экзистенциализировать субстанцию, дабы сформировать чистое бытие за счет чистых рациональных функций. «Рациональность, — писал С.Л. Франк, — поскольку она выражается в чистом моменте сознания и знания, в чистом свете теоретического озарения бытия, не спасает нас от слепой неосмысленности предметного мира и ничего в ней не изменяет; не так уже велико и существенно утешение быть погибающим "мыслящим тростником"»47. Квазирационализация — это всего лишь метафора, так как она не способна воплотиться в реальность в качестве вселенского гносеологического самопроекта Рацио. С достижением предельно допустимой рационализации структур Сущего непременно разверзнется бездна Хаоса. Структуры Сущего могут пребывать в форме упорядоченного Хаоса лишь при условии, что в них продолжает инобытийствовать хотя бы самая низшая субличность, свидетельством чего служит природный мир, в котором гомеостаз поддерживается так называемой производящей природой, несомненно являющейся некоей субъективированной объективацией. С устранением телесного субъекта и его персонифицированных природных форм с неизбежностью разрушится и вселенский Универсум Тел или телесный Универсум. «Надежды лишь на волю человека, даже в сочетании с ориентацией на знание объективных законов общества, — пишет В.Н. Сагатовский, — приводит не в рациональный или иррациональный рай, но в царство абсурда»48. Рацио вполне конструктивен, если остается в пределах «малого разума», как только он становится «большим», он оказывается не только иррациональным, но и абсурдным, хотя именно последнее делает его аутентичным этому безумному и абсурдному миру — миру, в котором господствует Иное.
Подмеченная С. Кьеркегором внутренняя парадоксальность истории еще более усиливается на этапе развертывания искусственных и рациональных структур. Парадоксальность онтологической ситуации, в которую попадает телесный субъект, состоит в том, что в своей экзистенции он вынужден опираться на рациональную проекцию собственной субстанциальности, все более и более вырабатывающей и инкорпорирующей его внутреннюю телесность. Из-под человеческой экзистенции уходит последняя онтологическая опора, так как под телесной субстанцией мира разверзается вселенская бездна — хаос — дурная бесконечность обломков онтологии, оказавшихся непригодными для строительства «нового порядка». Логика исчезнет вместе с исчезновением объекта, который она логизировала и в конце концов своей сверхлогизацией приведет к своему «логическому концу». Рациональное Я, или Рацио, и есть тот псевдосубъект, который присутствует, по выражению М. Хайдеггера, при своей смерти, в отличие от Логоса, всегда стоящего на страже человеческого бессмертия. Однако парадоксальность этой онтологической ситуации состоит еще и в том, что человек не осознает ее парадоксальной и продолжает доверчиво полагаться на самые радикальные проекты Рацио, верит, что посредством голого логического дискурса он в состоянии, если уж не сделать алогичную жизнь осмысленной, то хотя бы продлить ее до разумных пределов, хотя бы до предела физического существования данного исторического поколения, а «после нас хоть потоп».
Но вот вопросы, на которые современный человек все-таки мучительно пытается найти ответы: не является ли его рационально-сциентистская победа в деле преобразования телесного мира воистину пирровой, ведь Рацио — всего лишь самый низший срез Духа? Не является ли столь решительный перенос человеческой активности на самую низшую сферу его многоуровневого бытования лишь проявлением «хитрости научного познания», взбунтовавшегося рационализма, который унифицирует многомерное присутствие человека в мироздании, подчиняя его «объективной Логике» или «логике Объекта»? Не сопряжено ли столь стремительное и прогрессирующее развитие внешнего объективного мира человека со столь же стремительной деградацией его внутреннего субъективного мира? Каковы онтологические последствия такого возвышения Рацио для жизни человека в высших надрациональных сферах бытия, таких как технология, цивилизация, культура, дух? Делает ли научная революция человеческую экзистенцию более универсальной и целостной либо, напротив, примитивизирует и стереотипизирует ее, превращая в один из своих многочисленных эпифеноменов в качестве такого «средства рационального дискурса», которое призвано всего лишь актуализировать утопический проект по рациональной реконструкции Сущего? Эти вопросы далеко не риторические, от их решения зависит судьба человека, которая всегда в его собственных руках. Другое дело, что то, что человек порой держит в руках, оказывается не Судьбой, а Фатумом, потому-то он и должен быть осмотрительным, когда что-либо подбирает на дороге, тем более предварительно не выяснив, ведет ли она к Храму.
6.2. ХАОС КАК КВАЗИРАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ ПРИРОДЫ
Пока природа держит нас в безвыходности ин-ферно, в то же время поднимая из пего эволюцией, она идет сатанинским путем безжалостной жестокости. И когда мы призываем к возвращению в природу, ко всем чудесным приманкам красоты и лживой свободы, мы забываем, что под каждым, слышите, под каждым цветком скрывается змея. И мы становимся служителями Сатаны, если пользоваться этим древним образом. Но, бросаясь в другую крайность, мы забываем, что человек — часть природы. Он должен иметь ее вокруг себя и не нарушать своей природной структуры, иначе потеряет все, став безымянным механизмом, способным на любое сатанинское действие. К истине можно пройти по острию между этими двумя ложными путями.
И. Ефремов. Час быка
Мы подошли, может быть, к самому сложному моменту в построении субъектоцентристской историософемы — к определению Природы как объективации Духа и включению ее в качестве особой онтологической ниши в субъектоцентристскую модель Иерархического Бытия. Если для объектоцентристского мировоззрения природа является той эмпирической данностью, которая вполне легко укладывается «здравым смыслом» в основание философского дискурса о сущем, и настоящей «головной болью» оказывается проблема, каким образом ухитриться в это физическое основание вписать метафизический Дух или хотя бы Человека в качестве «мыслящего тростника» (субъект при объектном подходе к действительности оказывается как бы незаконнорожденным феноменом в мире, в котором действуют «объективные законы»), то для субъектоцентристского мировоззрения, которое исходит не из эмпирических фиксаций «здравого смысла» и из откровений абсолютной мифологемы, а основой дискурса полагает трансцендентальный Дух, а потому сталкивается с проблемой вписания в субъективную реальность объективной Природы. Для того чтобы как-то прикрыть эту «ахиллесову пяту» от острых стрел критики со стороны оппонентов, исповедующих объектный подход, попытаемся остановиться на содержании и объеме гносеологического статуса «природы» в этих двух, прямо противоположных монистических концептуализациях сущего. При этом, естественно, мы не сумеем выйти на некоторый паритет, так как если бы когда-нибудь удалось «диалектически снять» эти статусные различия как «природы», так и «духа», то это уже были бы и не субъектоцентристские, и не объектоцентристские философемы и даже вообще не сфера философии, а скорее всего мистика, рассматривающая Сверхсущее за пределами его гносеологического расчленения на субъект и объект.
Для того чтобы прояснить интересующий нас вопрос, необходимо найти такой ход в сравнительном анализе статусов природы, который позволил бы более четко выявить их парадоксальность, фиксируемую философским дискурсом, осуществляющимся с двух крайних точек единого онтологического континуума экзистенции. На наш взгляд, эту проблему можно хотя бы корректно поставить, если предварительно выяснить, что понимается под понятием «тело» в этих противоположных метафизических концептуализациях сущего. При объектном подходе тело, телесность рассматривается в качестве субстанциальной плоти, никем не сотворенной и неуничтожимой. В связи с ее онтологической самодостаточностью, к ней вполне допустимо сведение, редуцирование всей совокупности связей и отношений реальной действительности. Путем определенных гносеологических процедур к телесной организации мироздания редуцируются и «нестационарные тела», которые наделены качествами, не только не вписывающимися в действие законов объективной необходимости, но своей деятельностью их нарушающими. Даже духовные проявления человека вполне могут быть объяснены сугубо физически, в качестве производной от объективных законов отражения одних тел другими. Ярким примером тому может служить довольно типичная для объектного подхода сентенция, содержащаяся в «Системе природы» Гольбаха. «Мыслители, — писал он, — явно злоупотребляли столь часто производившимся различением между физическим человеком и человеком духовным. Человек есть чисто физическое существо; духовный человек — это то же самое физическое существо, только рассматриваемое под известным углом зрения, т.е. по отношению к некоторым способам действий, обусловленным особенностями его организации»49. Как мы видим, основу существования мира здесь составляет не что иное, как физическая субстанция, обладающая неким метафизическим модусом, под который можно подводить любые аномальные явления, не вписывающиеся в порядок природы. К ним можно отнести и субъективные проявления природного по своей сути человека, отличающегося от иных природных тел лишь наличием сознания.
Приводя высказывание Гольбаха, мы, естественно, не стремились всю довольно разветвленную объектоцентристскую систему свести лишь к физикалистскому пониманию соотношения Природы и Человека. В ней можно найти огромное количество вариантов этого гольбаховского определения с довольно сложными процедурами вписывания феномена субъективности в систему природной детерминации, однако весь плюрализм взглядов в русле объектного подхода, на наш взгляд, можно свести к посылке: Человек есть плоть от плоти Природы и субстанциально тождествен ей. После того, как это принято априори, к нему можно добавлять различного рода пояснения и уточнения. Так, вполне вписывается в него идея о том, что человек — не только часть природы, но и предельная форма ее автоэволюции, а потому он еще и «царь природы» и проч. Это объектоцентристское априори как бы снимает проблему духовности и субъектности человеческой экзистенции в качестве феномена сугубо метафизического и над-природного. Естественно, что при таком объектном подходе всеми признаками метаисторичности обладает природная эволюция, человек же историчен лишь постольку, поскольку вписывается своей рациональностью в естественный ход событий; если его деятельность оказывается в русле действий объективных законов природной необходимости, она вполне оказывается аутентична им. В человеческой истории действуют такие же законы, что и в природе, потому-то она чаще всего и уподобляется «естественно-историческому процессу».
При объектном подходе человеческая субъективность оказывается всего лишь особым природным объектом. Его некоторая нестационарность объясняется наличием сознания, которое вполне может быть конституировано в качестве органа самосознания объективной природы, рефлексирующей посредством «естественного интеллекта» по поводу своих собственных законов необходимости. Сознание — высшая форма самоотражения природы, это, если можно так выразиться, субъективированная форма объективной необходимости, а потому по своему содержанию оно аутентично объективным связям универсума природных тел. Такой объектный подход к субъекту вполне коррелирует с теми метаисторическими функциями, которые выполняет технологический универсум; ведь и искусственные тела можно представить в качестве разновидности естественных тел, а применяя более изощренную методологию, можно доказать и обратное, что естественная природа есть часть природы искусственной, понимая под последней особую природу человека. Однако при этом за пределы объектно-телесной, субстанциальной сущности мира объектоцентристская методология выходить не намерена.
Столь жесткий объектный подход к действительности вполне устраивал рационализм в связи с его внутренней логической непогрешимостью, и, наверное, еще долгое время считался бы неоспоримой истиной, если бы человечество не оказалось втянутым объектной установкой на рациональную модернизацию объектного мира в крайне глубокий и чреватый экзистенциальной катастрофой экологический кризис. Не случайно вполне прогнозируемая Гибель Природы подвергла сомнению истинность парадигмального основания метафизического позитивизма. Интересно, что рациональный субъект как-то прошел мимо таких вселенских событий, определивших его экзистенциальное статус-кво, как крушение Бога, Человека, Общества, потому что их онтологическое преодоление вполне входило в его планы, однако даже не смерть Природы, а всего лишь той ее части, которую он обозначил весьма циничным термином «Экология» — «окружающая среда», не дает ему покоя. Он понимает, что с исчезновением «природной среды обитания» исчезнет ее органическая часть, так и не успев превратиться в «искусственную среду обитания» своего Рацио. Именно перспектива вместе с изнасилованной им природой в ближайшее время уйти в небытие заставила внести в позитивизм некие коррективы. Допущения, которые были искусственно интроецированы неорационализмом в основание объектного подхода, связаны с частичным признанием за субъектом над- и сверхприродного онтологического статуса, однако эти допущения взрывают изнутри объективную Логику, или логику Объекта.
Начавшаяся история постпозитивистской философии, объявившей себя неклассической, постнеклассической, постмодернистской и проч., есть не что иное, как история постепенной утраты объектоцентризмом традиционной культуры философствования; она все более оказывается имитацией философского дискурса, основной ее целью, скорее всего, становятся мифологизация сциентистских рационализаций, искусственное придание им мировоззренческого статуса. Можно сказать, что после краха позитивизма и скатывания его в постмодернистскую методологию мы имеем дело со всеми признаками приближающейся смерти объектоцентристски ориентированной философии. В свое время позитивизм заявил, что философия изжила себя, и был абсолютно прав по отношению к той ее части, которая его породила. В то же время мы находимся у порога нового этапа расцвета философского дискурса, связанного с возрождением субъектоцентристской метафизики.
Итак, объявив природу «окружающей средой», рациональный субъект стал к ней относиться сугубо «экологически», пытаясь природу хоть как-то уберечь от своих же пагубных для нее воздействий. Но возникает вопрос, почему он оказался столь деструктивным, ведь догматом «сциентистской веры» является признание онтологической аутентичности внутренней и внешней природы человека? Ответ может быть один: человек аутентичен природе лишь в той мере, в какой и природа, и человек имманентны Неиному, так как и природа, и человек в своем отпадении от Него оказались причастны и Иному; они не могли быть имманентными друг другу. В той мере, в какой человек все еще остается сверхприродным субъектом, он одухотворяет природу, и, напротив, в той мере, в какой он выступает объективацией Иного — Духа Тьмы, он эту природу уничтожает.
Видимо почувствовав, что в рамках сугубо объектного подхода к природному универсуму невозможно восстановить безвозвратно потерянные в ней связи, особенно витальные, экологи все чаще начинают обращать свой взор в сторону философского трансцендентализма, в котором отнюдь не объект, а субъект является главной фигурой дискурса. Оказалось, что даже при столь узком экологическом осознании природного комплекса объектный подход не только недостаточен, но и крайне деструктивен, так как ориентирует на рациональную модернизацию природы, а не на ее защиту от этой модернизации. Он оказывается деструктивным даже при решении проблем по консервации еще оставшихся естественных связей в природе. В конце концов, экологи договорились до такой крамолы, что объектный подход в принципе должен быть исключен в решении природоохранных проблем и заменен на субъектный подход.
Интересно, что экологическое движение, возникнув в рамках позитивистской ориентации во взглядах на мир природных явлений, изнутри же его и разрушает, все более ориентируясь в своих акциях на субъектное, собственно гуманитарное отношение к природному универсуму как некоей духовно соразмерной целостности. Однако обратимся к высказываниям по этой проблеме экологически ориентированных философов. Так, Ф.И. Гиренок считает, что изменение бытийного положения человека, подготовленного всей предшествующей историей цивилизации и культуры, провоцирует на бессубъектное понимание природы, ставит ее перед человеком в качестве объекта. Природа, следовательно, как бы теряет свой собственный центр, составляя содержание вычисленного, методически проанализированного человеком. Бессубъектный образ природы на одном полюсе и бессубъектный образ человека — на другом создают коридор, движение по которому обнаруживает для человечества экологическое ничто, пустоту в качестве истины такого движения. И это ничто бытия человека, к которому подошла современная цивилизация, раскрывает себя в форме глобальной проблематики50. Именно объектный подход к природному универсуму, в котором вся тотальность природных феноменов оказалась редуцированной к телесной Субстанции или субстанциальной Телесности, и привел в конце концов к столь глобальному разрушению гомеостаза в универсуме естественных связей и процессов.
Однако объектный подход к природной действительности настолько укоренился в человеческом сознании и практике освоения, что при всей его субглобальной деструктивности, ставшей весьма опасной уже не только для природы, но и для самого человека, его почти невозможно хоть как-то потеснить в массовом сознании, а тем более сознании научном. «Прогрессистская ориентация» человечества оказалась незыблемой; от нее, видимо, он не откажется даже в судный день, оправдываясь тем, что в своем восходящем развитии оно не смогло избежать «роковых ошибок». В этой связи конструктивная критика объектоцентристского мировоззрения, которая в XX в. исходит уже не только от экзистенциализма, но и реального экологического движения и их идеологов, несомненно, должна быть всесторонне поддержана той частью философской общественности, которая еще не ангажирована властными структурами. Кстати, еще Беме в далеком Средневековье упрекал философов в уходе от постановки собственно экзистенциальных проблем, которые могут быть верно решены, если будут опираться на субъектный подход к действительности, имманентный Божественному провидению. «Если бы наши философы и ученые, — писал он в своей знаменитой "Авроре", — играли всегда не на скрипке гордости, а на скрипке пророков и апостолов, другое было бы, пожалуй, в мире познание и другая философия»51. Именно в эпоху столь непристойного и крайне вероломного восхождения неорационализма оформляется и «другая философия», о которой мечтал Беме.
В нашу эпоху в последние годы своей жизни на скрипке «пророков и апостолов» вдруг неожиданно заиграл Г.С. Батищев, который хотя и эзоповским языком (такова уж была эпоха), но все же сумел перевести некие трансцендентальные интенции на язык субъектно ориентированного философского дискурса. «В мире натуралистической активности, — писал он, — есть место только для вещей, но нет места для субъектности, спрашивается, может ли человек — и все человечество — утвердить свою субъектность в соотнесенности с этим миром и, так сказать, методами этого мира?... если человек имеет дело с внечеловеческой действительностью только на ее низших уровнях, — где та выступает как мир вещей, — и если он при этом исключает ее более высокие уровни, то он тем самым остается один-на-один с миром, исключающим субъектность. И тогда ничего больше не поделаешь — приходится утверждать свою собственную субъектность как единственно возможную во всей Вселенной, как монополию человечества... И тогда для утверждения своей субъектности у человека просто-напросто нет иных способов, кроме грубых методов борьбы по правилу: либо победить мир, навязывая ему свое господство над ним и своемерный контроль, либо исчезнуть в качестве субъекта и остаться вещью среди вещей. Позиция объектно-вещной активности и есть не что иное, как попытка утвердить положительно свою собственную, якобы единственную, субъектность по отношению к тому миру, который отрицает субъектное бытие и не оставляет для него никакого места... В том горизонте возможностей, где имеют место активность и пассивность, именно поэтому нет места для субъекта, для специфически субъектного бытия. Весь этот натуралистический горизонт, вся эта сфера взаимодействующих вещей по самой сути своей и в силу своей уровневой ограниченности характеризуется принципиальной бессубьектностью»52. Мы еще будем не раз возвращаться к идеям этого выдающегося мыслителя, одного из тех немногих в огромном сонме «играющих на скрипке гордости»; они нашли «свою игру», в рамках которой сумели, а главное, успели метафизически аранжировать те вечные трансцендентальные темы, по которым разрешено было лишь лупить барабанной дробью схоластической критики с позиции откровенного объектоцентризма.
Каков же онтологический статус природы в субъектоцентристски ориентированном философском дискурсе? Попытаемся в этом вопросе разобраться хотя бы в первом приближении, и отнюдь не для того, чтобы увязнуть в попытках постичь непостижимое, а с тем, чтобы приблизиться к пониманию причин столь жесткого противостояния рационального и телесного, искусственного и естественного в современной человеческой экзистенции. Даже в рамках последовательного объектоцентризма в связи с переживаемым экологическим кризисом выяснилось, что порядок необходимости и его детище — объективные законы развития и функционирования в их «чистом виде» — господствуют разве что в самых низших слоях природного универсума. Но этого знания еще мало, необходимо представить природу в качестве такой «объективированной субъективности», в которой эти законы необходимости представляют собой всего лишь онтологическую производную от духовной свободы, лишь при этом можно сформулировать хотя бы некоторую совокупность экологических принципов, соблюдение которых может привести к частичному восстановлению гармонии между Человеком и Природой.
Прежде всего, необходимо исходить из прямо противоположного метафизического априори: человек как существо физическое есть часть природы, а природа как физический комплекс есть часть человека как духовного существа. Природный комплекс нельзя конституировать в качестве самодостаточного универсума в связи с тем, что он не обладает необходимыми качествами целостности и универсальности, которыми характеризуется животворящая и онтологически самодостаточная Абсолютная Монада. И все же при самом грубом структурировании природного комплекса в нем выявляются по крайней мере две взамосвязанные формы природы — «мертвая» и «живая», между которыми осуществляются перманентные взаимопереходы, обусловленные девитализацией и ревитализацией телесной субстанции. Уже само наличие такого рода вселенского механизма, который имеет явную «субъектную природу», заставляет предположить, что в природе действуют надприродные духовные силы. Необходимо допустить, что существует некая надприродная сила, объективацией которой и является механизм, который биология предпочитает сводить к процессам ассимиляции и диссимиляции, происходящим между телесным организмом и средой его обитания. Что-то таинственное лежит за вполне умозрительным понятием «среда обитания». Если тело есть, как утверждал Фогт, то, что оно ест и само является продуктом поедания для других, более «высших тел», то тогда природа — это всего лишь затянувшееся пиршество хищников, и становится вполне понятным онтологический смысл «принципа удовольствия», который он поместил в основание природной экзистенции. Как видим, так называемые «средовые отношения», к которым редуцируются экзистенциальные отношения человека, могут разве что низвести его сущность до образа Вселенского Зверя. Даже все еще оставаясь внутри объектного подхода к анализу сущности природного комплекса, выясняется, что в нем присутствует еще одна составная часть, которая не умещается ни в живую природу, ни в мертвую — это так называемая особая «природа человека», принадлежащая одновременно им обеим, и в то же время к ним без остатка не сводимая. Более того, она как раз и является той инстацией, которая по-своему животворит мертвую и умертвляет живую природу. «Человек, — писал Н. Бердяев, — по существу своему есть уже разрыв в природном мире, он не вмещается в нем»53. Человек не только не вмещается в этот онтологический разрыв, но и своей активностью по ходу своей истории его все более расширяет, рационализируя взаимопереходы между «живой» и «неживой» природами под приоритеты развертывания своей особой экзистенции, в результате которой возникает еще одна природа — «искусственная», которая своим перманентным отчуждением от «человеческой природы» придает процессу девитализации живой природы катастрофический характер, а ее эксперименты ревитализации неживой природы чреваты порождением химер, способных завершить пиршество хищников.
Итак, еще в рамках сугубо объектного подхода вычленяются, по крайней мере, четыре взаимосвязанных между собой природных комплекса, существенно различающихся не только по формам телесности, но и по тем детерминантам, которые их упорядочивают в относительные целостности. Порядок необходимости в Природе оказывается не таким уж однозначным, каким бы хотел его представить сциентизм. Возникает подозрение, что обнаруживаемая целой иерархией «порядков» иерархия «природных сред» каким-то невероятным для рационализма образом восходит к некоей предустановленной свободной Гармонии или гармонии Свободы, вне которой природа не может быть универсальной, а универсум природным. Сам собой возникает вопрос о надприродной сути природы, о той онтологической инстанции, которая продолжает гармонизировать между собой отдельные ее онтологические части в некую органическую систему, несмотря на ее внутреннюю антагонистичность. Такой инстанцией по отношению к Природе при субъектном подходе выступают не ее имманентная Эволюция, а креационистские, животворящие способности субъективной реальности, которая мифологическим сознанием конституируется в качестве Бога, Абсолюта, Духа, в конечном счете — Бесконечного Субъекта; именно в нем изначально присутствует в свернутом виде и исторически развертывается вся иерархия природного комплекса.
В субъектоцентристски ориентированных философемах природа структурируется по соотнесенности ее составных частей не с некоей ее имманентностью, а с присутствующей в ней ноуменальностью и при первом приближении разделяется на природу творящую (продуктивную) и природу творимую (репродуктивную). «Природу как продукт (natura naturata), — писал Шеллинг, — мы называем: природа как объект (эмпирия занимается только ею). Природу как продуктивность (natura naturans) мы называем: природа как субъект (теория занимается только ею)»54. Под natura naturans понимается не что иное, как одухотворенная телесность, или Божественная телесность. Для того чтобы несколько прояснить трансцендентальный смысл неизреченного, обратимся за помощью к теологической и мистической литературе, посмотрим, что в ней понимается под универсалией natura naturans. Основной смысл, который в нее вкладывается, состоит в отождествлении творящей телесности с Телом Господним. «Не должно быть понято так, — проповедовал Я. Беме, — будто Божество тем самым отделено от природы; нет, но они — как тело и душа: природа есть тело, сердце Божие есть душа... Ибо земное тело, носимое тобою, оно и есть единое тело со всем возженным телом сего мира, и тело твое качествует совместно со всем телом сего мира и нет никакого различия между звездами и глубиною вместе с землею и телом твоим: все это есть единое тело; единственное между ними различие только в том, что тело твое есть сын целого, и оно — как все существо»55.
Природа как natura naturans есть не что иное, как телесное бытие Бога. В Библии это представление выражено в словах апостола Павла: «Прославляйте Бога в своем теле» (1 Кор. 6: 20). Выступая феноменализацией ноуменального мира, творящая природа представляет собой особую форму субъективности (к которой в полной мере могут быть применены все экзистенциальные характеристики), конституирующую в качестве универсума живых монад. «Только о природе как объекте можно сказать, что она есть, — писал Шеллинг, — но не о природе как субъекте, ибо она — само бытие или сама продуктивность»56. Однако эту свою субъектность, как впрочем и универсальность, природный комплекс утрачивает, как только обосабливается от животворящей сакральной телесности.
Природе как natura naturans противостоит природа в качестве natura naturata, и если первая подчиняется «порядку свободы», то вторая — «порядку необходимости». Что же представляет собой, с позиции мировоззренческого субъектоцентризма, эта сотворенная природа, у которой отсутствует способность к спонтанному порождению живых монад? Прежде всего, natura naturata представляет собой некую онтологическую маргинальность, которая находится, если можно так выразиться, под смешанной экзистенциальной юрисдикцией: по праву ее творца она принадлежит Богу, по праву завоевателя — дьяволу. Беме говорит о том, что Богу необходимо было сначала изгнать падшего ангела, а затем и падшего человека, и местом такого изгнания он избрал природу, которая с момента грехопадения и становится «падшей природой», т.е. такой онтологией, которой присущ нескончаемый круговорот жизни и смерти и в которой естественный процесс все более становится противоестественным, так как отношения в natura naturata в основном сводятся к отношениям между хищниками. Беме задает самые каверзные для себя, как для визионера и посвященного, вопросы, на которые в пределах рационального дискурса ответ найти невозможно, да он и не находит какой-либо утешительной версии; а потому вопросы эти выглядят чуть ли не как бунт против Бога. Беме недоуменно вопрошает: «Чем неугоден Богу человек, что Он предает его мучениям, раз Он сам сотворил его, и что Он вменил ему грех и осудил на вечную муку? Зачем тогда создал Он то, что еще гораздо злее? Зачем или откуда оно произошло? Или какова причина, или начало, или рождение яростного гнева Божия, откуда возникли ад и диаволы? Или как это произошло, что все твари в сем мире грызутся, дерутся и бьются между собою, и одинаково грех вменяется только одному человеку?»57
Как видим, даже сугубо религиозное сознание не может до конца понять и принять эту жестокую и бессмысленную природную естественность, именуемую natura naturata. Что же тогда говорить об атеистическом разуме, который все и вся подвергает сомнению, и лишь несомненным для него выступает именно эта безжалостная «естественность». Не потому ли рационалисты в своих метафизических построениях Природы исходят из необходимости ее покорять и завоевывать, а не одухотворять и очеловечивать? Если природа сводится лишь к natura naturata, то иного отношения она к себе не заслуживает, как говорится, «с волками жить, по-волчьи выть», но тогда вполне понятной оказывается необходимость стать человеку подлинным Зверем, чтобы тотально царствовать над этим Зверинцем. «Все находится в движении, — писал Вольтер, — все действует и противодействует в природе... Все есть действие, сама смерть действует. Трупы разлагаются, превращаются в растения, кормящие животных, которые в свою очередь служат пищей для других животных. Каков же принцип этого универсального действия?»58 Действительно, если именно такого рода «природный порядок» окажется окончательно принятым человеческим разумом, то грош цена этому разуму и человеку как его «биологическому носителю».
Для того чтобы разграничить в природе то, что создано Богом, от того, что испорчено Дьяволом, в мистической и религиозной литературе принято подразделять субстанцию на тело и плоть. Тело есть объективация Духа, а плоть представляет собой ту сторону телесности, которая подверглась прельщениям Дьявола. Если тело — это «светлица Бога», то плоть — «темница Дьявола».
Вся трагедия «телесного субъекта» как раз и заключается в том, что его «ойкос» оказался состоящим из «дома», в котором светится жизнь, и «домина», в которой прячется смерть. Если тело человека принадлежит Богу, а потому подлежит воскресению, то плоть принадлежит Дьяволу и является добычей Смерти. «Люди,— проповедовал Беме, — покинули свет и стали жить по похоти плоти своей в погибель: ибо как дверь света отверзлась, так и дверь тьмы; и из обеих вышли всякие силы и способности, какие там были. Когда теперь Адам вкусил от плода, который был и злым, и добрым, он вскоре приобрел таковое же и тело: плод был поврежден и осязаем, каковы и поныне все плоды на земле; таковое же плотское и осязаемое тело получили немедленно и Адам, и Ева. Но плоть — не весь человек; ибо эта плоть не может охватить или объять Божества, иначе плоть не была бы смертной и тленной... Вот почему человек носит с собою здесь на земле в своем теле вечную обитель диавола. Ты можешь щеголять ею, прекрасная богиня, и можешь пригласить пока диавола на пир в новое рождение, он сумеет быть тебе полезным; смотри только, как бы не родить тебе нового диавола, который бы остался в своем собственном дому... Теперь заметь: весь дом сего мира, состоящий в видимом и непостижимом существе, это есть ветхий дом Божий, или ветхое тело, состоявшее прежде времени и гнева в небесной ясности: но когда диавол пробудил в нем гнев, он стал домом тюрьмы и смерти... Плоть не есть жизнь, но мертвое неразумное существо, которое немедленно становится мертвою падалью и должно сгнить и рассыпаться прахом, лишь только перестанет качествовать в нем правление духа. Но и никакой дух не может пребывать в своем совершенстве вне тела: ибо как только он разлучается с телом, он теряет и правление. Ибо тело есть матерь духа, в которой дух рождается и почерпает свою крепость и силу; он — дух, и остается духом, разлучаясь с телом, но теряет свое правление»59.
Итак, диаметральность субъектного и объектного подходов во взглядах на природу прежде всего заключается в том, что если согласно первому она в качестве natura naturans оказывается органически встроенной в Дух и рассматривается имманентной порядку свободы (вернее, ее гармонии), a natura naturata предстает как ее не всегда удачное порождение, то согласно объектному подходу природа рассматривается в основном как natura naturata, подчиняющаяся порядку необходимости, из которого самопроизвольно вырастает гармония жизни (живая природа) и разума (природа человека). Объектный подход исходит из абсолютизации самой низшей, субстанциальной природы («плотской естественности»), тогда как при субъектном подходе природа принимается в качестве субъектосоразмерной и одухотворенной телесности даже в том случае, если она оказывается в отчужденном от производящего духа состоянии, т.е. по ту сторону добра и зла.
Рационализм обнаруживает в природе лишь плоть, трансцендентализм — тело, которое, будучи соблазненным и отпавшим от тела Господня, может превратиться в жалкую плоть. Станислав Пшыбышевский в начале века в одной из своих метафизических штудий утверждал, что спор о том, что первично — материя или сознание, бесплоден, так как сначала было и не Дело, и не Слово, а Пол. По крайней мере, такое представление о первоначалах сущего вполне согласуется с психоаналитически ориентированной философией, утверждающей, что основу телесности или Оно, лежащей в основании Бытия, составляет либидо. Не случайно дискурс о сексе, которым столь увлекся современный рационализм, по сути основывается на метафизических «прозрениях» С. Пшыбышевского, однако почему-то о его авторстве забывают упоминать.
Философско-религиозный дискурс о теле ничего общего не имеет с квазирациональным дискурсом о сексе. Более того, при субъектном подходе тело является столь божественным, сколь и душа, что прежде всего подтверждается важнейшим догматом христианской веры о воскресении праведников не только в духе, но и в теле. В то же время Священное Писание считает величайшим грехом относиться к телу как к органу плотских наслаждений, призывает всячески укрощать плоть во имя спасения не только души, но и тела.
Самое мерзкое, что современный иррационалистический рационализм интересует уже не столько даже плоть в качестве некоей абстрактной объективированной биоты, сколько крайняя плоть или пол с его либидо. Вожделение в христианской теологии, как считает П. Тиллих, применяется точно в том же смысле, в каком Фрейд употребляет понятие «либидо», но используется оно применительно к человеку в определенных обстоятельствах его существования; это — неограниченное устремление за пределы всякого удовлетворения, побуждение к получению удовлетворения сверх уже полученного. Согласно теологической доктрине, человеку в его сущностной добродетели не свойственно пребывать в состоянии вожделения или иметь неограниченное либидо. Он, скорее, ориентирован на определенный конкретный субъект, на некое содержание, будь то человек или нечто, с чем он связан любовью, которая носит характер eros либо agare (неважно, на что направлено это чувство любви)60. Любопытно, именно то, что религия пытается преодолеть в человеческой телесности, чтобы вернуть ей утраченную духовность, становится вожделенным предметом иррационального дискурса похотливого Рацио. Похоть знаний и похоть плоти — это две взаимосвязанные стороны человеческого грехопадения, метафизического отпадения natura naturata от natura naturans. Субъектный подход восстанавливает сакральное отношение к телу, а следовательно, и к природе как natura naturans, и потому является весомой альтернативой узкому экологическому сознанию, постоянно апеллирующему не к целостному Человеку, а лишь к его не вполне рациональному Рацио.
Последней единицей членения Всемирной истории нами принята Технология, а это означает, что Природа не может выступать единицей измерения исторического процесса. История внеприродна, как и Природа внеисторична. «Гораздо правильнее, — пишет Э. Трёльч, — за понятием "природа" оставить вместе с обычным словоупотреблением мир сатериальных и физических элементов, а понятие культуры и истории ограничить развитием человеческого духа и его ближайших предварений»61. То, что предлагает Э. Трёльч, является весьма заманчивым, так как столь резкое разграничение «человеческой истории» и «человеческой природы» существенно облегчает задачу построения субъектоцентристской историософемы. Однако это предложение вряд ли можно принять, так как природа хотя и не имеет своей отличной от Духа метаистории, однако, являясь его порождением, вплетается своими естественными процессами в общий процесс развертывания Нечто из Ничто.
На наш взгляд, более продуктивным является рассмотрение природной эволюции в качестве производной от креативно-эманационной активности Духа, что позволяет выявить определенные этапы, фазы развертывания духовной телесности в иерархический природный комплекс, причем крайними пределами такого континуального распаковывания прателесности могут выступать natura naturans и natura naturata. Кстати, принципы именно такого вплетения природных процессов в метаисторический ряд можно обнаружить уже в ранней религиозно-философской схоластике. Иоанн Скот Эриугена (IX в.) всю природу разделил на четыре вида: 1) творящая, но не сотворенная; 2) творящая и вместе с тем сотворенная; 3) сотворенная, но не творящая; 4) нетворящая и несотворенная. Первая природа — это, очевидно, Бог. Вторая природа — (платоновские) идеи, существующие в Боге. Третья природа — вещи, существующие в пространстве и времени. Четвертая природа — неожиданно снова Бог, но уже не как творец, а как конец и цель всех вещей. Все, что обязано Богу своим возникновением, стремится вернуться к нему; таким образом, конец всех вещей совпадает с их началом. Соединительное звено между единым и многим образует Логос. Эриугеной предусматривается и область небытия, в которое он включает различные вещи, например, физические предметы, не принадлежащие к умопостигаемому миру, и грех, поскольку он означает утрату божественного образа62. Удивительнейшим образом разрабатываемая нами историософская субъектоцентристская схематика природы совпадает с идеей, которую тысячелетием раньше высказал Скот Эриугена, и не только в содержательном, но и в структурном плане.
Метаисторический континуум, на котором располагаются онтологические формы природы, ограничен с одной стороны. Человек своей «духовно-телесной» дуальностью по ходу своей Истории все дальше дивергирует по нисходящей от natura naturans через каскад падений в natura naturata и в конце концов выходит к «нижней бездне природного бытия» — natura mode, выбраться из которой он в состоянии, лишь вновь вернувшись к natura naturans (схема 16).
|
S |
Астральный субъект |
Антропный субъект |
Социальный субъект |
Телесный субъект |
О |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Предельное бытие
* Предельные способности |
Скорее быть, чем иметь
* Способности – Потребности |
Скорее иметь, чем быть
* Потребности – Способности |
Предельное обладание
* Предельные потребности |
Схема 16. Метаисторические формы природы.
С позиции последовательного метафизического субъектоцентризма природа рассматривается в качестве совокупной вложенной телесности в космический, человеческий, социальный и технологический универсумы, которая своим субстанциальным распадом структурирует хаос. Природа иерархична, и каждая ее онтологическая ниша имеет свои экзистенциальные характеристики, иррелевантные миросозидающей креативности Абсолюта и мировоспроизводящим практикам Человека. В предварительном методологическом анализе того определенного метаисторического, на котором развертывается тот или иной универсум с его особой миротворящей и мировоспроизводящей практикой, необходимо установить тот реальный онтологический статус, которым природа наделяется.
Природу мы будем рассматривать как инобытие Духа. Он обладает целой иерархией последовательно понижающихся онтологических статусов, имманентных ступеням Нисхождения Духа во все более проявленные овнешненные слои Бытия. К метаисторическим формам природного универсума необходимо отнести: а) трансцендентную, или сакральную, природу (символическая протоприрода); б) эвалюативную, или культурно опосредованную, природу (ценностная протоприрода); в) прескриптивную, или социально опосредованную, природу (нормативная протоприрода); г) дескриптивную, или технологически опосредованную, природу (рационализированная природа); д) квазидескриптивную природу или псевдоприроду (квазирационализированную природу). Каждая из метаисторических форм природного комплекса (или иначе — универсума объективаций имеет свои особые онтологические функции в перманентно расширяющейся многомерной и многоуровневой человеческой экзистенции. Рассмотрим эти формы в отдельности.
Трансцендентная, или сакральная, природа (символическая протоприрода). Первочеловек имел совершенно иной образ природы, нежели человек современной цивилизации; не случайно, обращаясь к своим современникам, Ф.И. Тютчев писал:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
В отличие от экологического сознания современного человека, в котором природа — всего лишь его «среда обитания», для первопращура окружающий его мир — не что иное, как сакрализованный космос, или, как писал Тейяр де Шарден, — «божественная среда». Однако понятие «среда» применительно к трансцендентной природе никак не подходит, ведь и сам астральный субъект выступал «ментальной средой» для Духа, который находил свою укорененность не где-нибудь, а в душе человека, т.е. в субъективации собственного образа и подобия. Не только одухотворенность, но и отелесненность Человека-Микрокосма трансферировались им в образе Природы-Макрокосма. На начальном этапе метаистории человеческая телесность и природная субстанциальность находились в синкретичной целостности, скреплявшейся внутрисубъектными отношениями. Однако при всем при этом природа была частью человека, так как составляла в основном субстанциальную периферию его астральной телесности. Отношения между прачеловеком и праприродой схватываются трансценденталией «рай»: не человек — для рая, ибо он его не созидал, а рай — для человека, созданный Богом для его сакрально-соразмерной экзистенции.
Метафизически Человек предшествовал Природе как Образ и Подобие Бога, а потому и не составлял ее части. Напротив, Природа обретала свой астральный статус, выступая органической частью его Экзистенции. «Человек, — писал Н. Бердяев, — есть Божье творение, и метафизически он предшествует природному миру и его исторической судьбе. Человека нельзя вывести из природного развития мира. Но в природном мире человек имеет свой путь развития»63. Человек в перво-бытной ситуации, в ситуации перво-бытия, не был экзистенциальной производной от внешней среды, даже если она и являлась сакральной, так как его существование в Боге предшествовало сущности первоначально развернутого мира, в связи с чем его первичную экзистенцию невозможно редуцировать к ее собственной обмирщвленности и отелесненности, входящей в понятие сущего, ибо человек вечно предсуществует в Боге, и его генезис систематически воспроизводится Им в перманентной креации Сущего.
В связи с тем, что в субъектоцентризме существование предшествует сущему, сущность природы выступает трансорганической свернутостью целостного универсума телесных форм, развертывающихся во вне в процессе, который принято обозначать понятием «эволюция». Если эволюцию представлять в качестве последовательного развертывания потенцированной Духом телесности, то тогда мы не войдем в противоречие с принципами построения субъектоцентристского мировоззрения. Принципиальное расхождение начинается тогда, когда эволюцию понимают не как развертывание, а как развитие. При таком объектном подходе сущность предваряет собой существование, которое оказывается всего лишь средством ее плоской эволюции. Природа изначально предсуществует в Ничто, но по мере ее развертывания в Нечто обретает определенную онтологическую автономию. «Все органические существования, — писал Гёте, — заключаются в бесконечном, но не составляют его частей; они скорее причастны бесконечности»64. Однако эта ее онтологическая автономия весьма относительна, так как, являясь физической объективацией метафизической телесности, она становится «объектом» для мировоспроизводящих практик Человека.
Природа как natura naturans, согласно религиозным представлениям, своим генезисом уходит в первоначала миротворения. Если человек есть Образ и Подобие Бога, то и его телесность в трансцендентальном ее понимании соприродна сакральной телесности или телу Господню. Животворящая природа есть телесная оснкосмогенеза человека, составляет субстанциальную основу космического универсума. «Само так называемое "природное" бытие, — писал С.Л. Франк, — в своих последних глубинах тоже — производным образом — сверхприродно: "сверхприродное" начало его насквозь пронизывает и всецело объемлет. Связующим звеном между трансцендентно-сверхприродным и "природным" (в котором сверхприродное, таким образом, одновременно имманентно присутствует) есть именно та основная, глубинная стихия бытия, которую мы усмотрели в реальности»65. Природа в этом предельно широком космологическом ее понимании есть овнешненный Бог, а Бог — овнутрененная Природа.
Образом сакрализированной Природы и витализированного Бога является христианский Рай, в котором гармония между Духом и Телом была абсолютной и в котором свободная экзистенция первочеловека еще не разделялась надвое представлениями о добре и зле и их онтологическими проекциями в этом «прекрасном и яростном мире», в мире ожесточенного противостояния Неиного и Иного. «Ниспавший в дольний природный мир человек, — писал Н. Бердяев, — лишь в постепенном процессе развития поднимается и обретает свой образ. В этом истина эволюционизма. Падший человек смешался с низшей природой и утерял свой образ. Он начинает свою природную жизнь с самых низших стадий животной жизни»66. Однако несмотря на свое грехопадение, в результате которого божественное тело человека обрело форму плоти, все же следующим этапом развертывания телесных потенциальностей вовне явился процесс формирования человекосоразмерной природы.
Эвалюативная, или культурно опосредованная, природа (ценностная протоприрода). На этапе онтологического восхождения культуры отношения между Человеком и Природой оказываются эвалюативно, ценностно опосредованными. Господствующими в человеческом универсуме становятся субъектно-субъектные отношения, в рамках которых человек осознает «человеческую сущность» природы. Телесность обретает ценностное измерение, и в его рамках природа воспринимается в качестве совокупности очеловеченных естественных процессов. Такое человеческое отношение к природе оказалось и весьма продуктивным, поскольку природа проявила свои антропогенные свойства, явную склонность к очеловечению. Перманентное антропогенное воздействие на natura naturans привело к тому, что из нее выделилась антропная форма natura naturata, составившая субстанциальную основу родового именитства. Родовое именитство собиралось из природных компонентов, способных обрести культурные формы, в которых, с одной стороны, нашли свою актуализацию собственно человеческие потенциальности, а с другой — естественные процессы обрели свою человекосоразмерность. По классификации Эриугены, в отличие от natura naturans — творящей, но не сотворенной природы, эта, вторая, антропно опосредованная форма природы явилась «творящей и вместе с тем сотворенной». Человек стал преобразовывать природу по своим собственным «человеческим меркам».
В такой новой онтологической ситуации природа открывается человеку уже не как natura naturans, но еще и не как natura naturata, а как окультуренная природа, способная воспроизводить человекосоразмерные телесные формы. Культура в этой метаисторической ситуации оказывается онтологически соразмерной экзистенции антропного субъекта, а его овнешненная телесность или эвалюативная природа — ценностно соразмерной культуре. Вне культурных опосредований трудно говорить о сути человеческого статуса Природы и природного статуса Человека.
Природа выделяется в относительно обособленную от Космоса систему естественных связей и первично секуляризируется и десакрализируется не иначе как с обособлением родового человека, т.е. в процессе его антропогенеза. Она начинает ценностно структурироваться на окультуренную и косную. Культурой Природа из Космоса вычленяется искусственно, в ее основе лежит искушение (испытываемое отпавшим от Бога человеком) окончательно обособиться от Него, стать Феноменом и творить мир по своим, сугубо человеческим, феноменальным меркам. Эвалюативная природа — это natura naturans, к которой приложены человеческие измерения. «Природа очеловечивается, — писал С.Н. Булгаков, — она способна стать периферическим телом человека, подчиняясь его сознанию и в нем осознавая себя»67. В качестве «истинной природы» в этой антропоцентристской онтологической ситуации выступает лишь внутренняя природа родовых сущностных сил Человека, которые человек уже не столько изнутри «самоосваивает», сколько внешним образом «присваивает».
Перманентно актуализируясь друг в друге, антропные субъекты в состоянии «автономно» существовать от космического универсума, последовательно преобразовывая его «косную телесность» в морфологические структуры родовых сущностных сил (так называемая «очеловеченная природа»). Таким образом, в качестве «подлинной природы» антропным сознанием конституируется все то, что составляет телесно-субстанциальную основу его родового именитства. Все, что остается за пределами «освоенной природы», оценивается в качестве «дикой», «неосвоенной» природы, по отношению к которой допустимы любые репрессивные «внечеловеческие» способы воздействия. Впервые определенная часть природы оказывается внешней «средой обитания». Естественно, ею становится не окультуренная природа, выступающая субстанциальной несущей частью именитства, а природа первого рода — natura naturans (вот когда ее можно обозначить тейяровским понятием «божественная среда»). Средой обитания она становится лишь в результате космологической катастрофы и именно для антропного субъекта, который к natura naturans стал относиться как к чему-то внешнему и чуждому его окультуренной природе. «Враждебна культурному и в особенности творческому устремлению человека, — писал Г.С. Батищев, — вовсе не сама по себе природа, но лишь то, что из нее способны сделать — посредством ее овещнения — люди при определенных исторических отношениях между собой»68.
В связи с антропологическим обособлением Человека (в известном смысле) та часть Природы, которую человек стал сверхценностно осваивать и сверхсущностно присваивать, в значительной мере перестает быть сопричастной духовному Космосу, она все более оказывается объективацией падшего Духа. «Этот перевод мира в одну плоскость, эта смена вертикали горизонталью..., — писал М. Бахтин, — осуществлялись вокруг человеческого тела, которое становилось относительным центром космоса. Этот космос движется уже не снизу вверх, а вперед по горизонтали времени... В телесном человеке иерархия космоса опрокидывалась, отменялась; он утверждал свое значение вне ее»69. Природа эвалюативная отличается от природы трансцендентной прежде всего тем, что в состоянии расширенно воспроизводиться лишь в пределах творческой активности человека. Она утрачивает свои спонтанность и способность к креационистскому обновлению своего сакрального генофонда. Хорошо известно, что как только человек перестает воспроизводить ее в культурно опосредованных формах, она прекращает свое существование и распадается на не связанные между собой элементы, которые пополняют собой natura morte — квазисубстанциальный Хаос.
Прескриптивная, или социально опосредованная природа (нормативная протоприрода). Совершенно иной онтологический статус природа обретает в пределах человеческого социогенеза. Здесь она уже всего лишь неорганическое тело социума, объект активных воздействий со стороны технологически оснащенного социального субъекта. Если для антропного субъекта «средой обитания» выступала natura naturans, то по отношению к социальному субъекту функцию среды начинает выполнять эвалюативная культура и, напротив, социально оформленная часть природы становится не только его внешней, но и внутренней телесностью. Именно эта часть природы активно социоморфизируется и обособляется от природы, оказавшейся за пределами нормативного долженствования. Природа, и окультуренная и трансцендентная, становится чуждой социальному субъекту; он начинает планомерно ее разрушать, чтобы на ее развалинах создать новую форму своей телесности, соразмерной с его социальной сущностью. Та часть естественной телесности, которая восприняла социальную форму, и является третьим онтологическим видом природы — «сотворенная, но не творящая природа», которая в нашей классификации есть неорганическая телесность цивилизации.
В связи с тем, что в социальном универсуме господствуют субъектно-объектные отношения, социоморфная природа является той субстанцией, которая становится общей «несущей основой» для внешней и внутренней социальности в человеческой экзистенции. Прескриптивная природа оказывается объективированной цивилизацией, а цивилизация — социально субъективированной природой. На общем континууме совокупной социальной деятельности природа как «объект» перевоплощается в цивилизацию как «субъект», и наоборот. Динамика субъектно-объектных отношений в конце концов приводит к экзистенциальной неразличимости прескриптивных природы и цивилизации. «Природа и цивилизация, — писал Н. Бердяев, — суть разные ступени объективации духа, но в них есть и символизация. Символика подлинно божественного космоса есть и в человеческом отношении к природе, которая внешне воспринимается закованной и подчиненной необходимости»70.
Нормативное отношение к природе ведет к тому, что постепенно начинает складываться и функционировать особая, довольно замкнутая система социоприродных связей. Это наглядно видно по тому, с каким упорством, достойным лучшего применения, общественный человек в своей освоительной практике навязывает высшим онтологическим формам природы свои довольно узкие социальные мерки. Трансцендентная и эвалюативная формы природы в социальном контексте рассматриваются всего лишь в качестве естественной среды цивилизованной формы существования, производных и зависимых онтологии, вовлеченных в единый процесс социализации человеческой Природы и природного Человека. Основные требования, которые человек предъявляет к природе на этапе онтологического восхождения цивилизации, — своими физическими параметрами соответствовать целям и задачам совокупной социальной деятельности.
На этапе онтологического восхождения цивилизации существенным образом нарушается баланс между natura naturans и natura naturata в пользу последней. Все более обосабливающаяся от цивилизации технология, в которой в снятом виде присутствует социализированная природа, становится причиной внутреннего надлома не только природного, но и социального мира. «Риск катастрофы, — пишет А. Тойнби, — кажется присутствующим в использовании способности мимесиса, являющегося инструментом механизации в среде человеческой природы; и очевидно, что внутренний риск будет выше по степени, когда способность мимесиса вызывается к действию в обществе, которое находится в динамическом движении, нежели когда та же способность получает распространение в обществе в состоянии покоя»71. Это запечатлевается, по его мнению, в «идолизации эфемерных институтов», непомерном превознесении техники, «интоксикации от побед» и ряде других феноменов. Однако на социальном этапе присвоения человеком своих природных сущностных сил соотношение между естественной природой и природой искусственной все еще сохраняется, хотя общественное производство превращается в своеобразный конвейер, с которого сбрасывается в natura morte значительная часть «произведенной продукции». Хаос пополняется уже обломками социально упорядоченных природных структур.
Дескриптивная природа или технологически опосредованная природа (рационализированная природа). Онтологический статус природы подходит к нулевой отметке, когда человек переходит на стадию своего интенсивного «техногенеза», плоской эволюции своей — чужой «волющей телесности». Здесь Природа приобретает свойства Объекта и превращается в полном смысле слова в natura naturata, так как из реальной действительности начинают стремительно вытесняться Субъект и его естественно-исторические формы телесности. Согласно Эриугене, это четвертая форма природы, которая является «нетворящей и несотворенной». В технологическом универсуме онтологическую основу составляют объектно-объектные отношения, а потому не только Человек, но и Природа утрачивают свою изначальную субъектность.
Бессубъектный человек и бессубъектная природа начинают катастрофически растворяться в комплексе искусственных объективации, в которых господствует рациональный Порядок, или упорядоченный Рацио. Как верно заметил Ф.И. Гиренок, «граница между субъектным и бессубъектным образом человека совпадает с границей между естественным и искусственным миром»72. В этом искусственном мире субстанциальную основу составляет уже не некая метаисторическая форма «сакральной телесности», а телесность, рационально превращенная в плоть, которая подлежит разве что из-насилованию, что, собственно, и осуществляет телесный субъект по отношению к макро- и микроприроде.
Уже Лейбниц подметил некую «способность» природы к гиперобъективации, обусловленной технологическим характером ее естественной процессуальности. Природа в своих потенциях есть высшая форма «искусственной машины», объективируя которую, человек воспроизводит лишь ухудшенные ее инварианты. Живое существо, считал Лейбниц, — это «естественный автомат», который своим онтологическим самообособлением со временем может стать девитализированным «искусственным автоматом». Искусственность изначально присутствует в естественности и только ждет своей объективации. «Тело, — писал Лейбниц, — принадлежащее монаде, которая есть его энтелехия, или душа, образует вместе с энтелехией то, что можно назвать живым существом, а вместе с душою — то, что называется животным..., всякое органическое тело живого существа есть своего рода божественная машина, или естественный автомат, который бесконечно превосходит все автоматы искусственные, ибо машина, сооруженная искусством человека, не есть машина в каждой своей части... Но машины в природе, т.е. живые тела, и в своих наималейших частях до бесконечности продолжают быть машинами. В этом и заключается различие между природой и искусством, т.е. между искусством божественным и нашим»73. Идея Лейбница, как мы видим, оказалась не только плодотворной, но и вполне осуществимой, на этапе онтологического восхождения технологии природные процессы обрели свою техносоразмерность.
Технологические и природные процессы — удивительно изоморфны, этот их изоморфизм они обрели на пути взаимной рационализации. Из природы выделилась та ее часть, которая оказалась весьма отзывчивой на рациональный дискурс, а сам этот рациональный дискурс обрел недостававшую ему плоть, и уже не в качестве абстрактного предмета, а в качестве реальной субстанции. Технология есть не что иное, как рационально опредмеченная Природа, а Природа — рационально распредмеченная Технология. Технология в ее предельно широком значении, и есть natura naturata, или совокупность искусственно «оплотненных тел».
Постепенно в процессе своей истории человек заменяет природные комплексы на комплексы искусственные и, видимо, в обозримой перспективе будет жить в основном в искусственном мире, в мире natura naturata. Да и сама телесность человека будет вполне аутентичным natura naturata набором искусственных телесных органов и рациональных функций. Биология технологична, а потому биотехнология вполне в состоянии модернизировать естественные процессы и в определенных пределах рационализировать генотип, управляющий биологическим организмом. Отнюдь не случайно современный технологический субъект, агонизируя в экологически гибельной для него среде, продолжает уповать на чудеса науки, техники и технологии. За счет биотехнологической реконструкции своей внутренней и внешней телесности он стремится адаптироваться к условиям существования в техногенной среде обитания. Однако полностью раствориться в «объективной реальности» ему не дает телесная форма его субъективности, которую он стремится с себя содрать, чтобы полностью соответствовать своей плотской сущностью требованиям законов необходимости natura naturata. «Живые существа, — писал Шелер, — не "вещи", тем более — не телесные вещи. Они представляют собой последний вид категориальных единств»74. И пока жив человек — своей укорененностью в сферу духа, пока в качестве телесного субъекта он представляет собой «последний вид категориальных единств», биотехнологии не удастся его окончательно превратить в техносоразмерную биоту.
Технология есть господство человека над природой посредством сил самой природы. Она является крайней формой рационализированной человеком природы. «Применяя силу природы против силы природы, — писал Ясперс, — техника господствует над природой посредством самой природы. Это господство основано на знании. В этом смысле и говорят: знание — это власть»75. Посредством техносоразмерной природы телесный субъект выступает и производителем, и потребителем объективаций, семантическую основу которых составляют дескриптивные знания. Однако если Технология есть рациональный инвариант Природы как natura naturata, то сама Природа в конце концов модернизируется в иррациональный инвариант Технологии и в этом девитализированном виде становится natura morte.
Бытие телесного субъекта носит вненормативный, дескриптивный характер. Здесь человек становится аутентичным квазиприродному существу — Онтологическому Зверю, перманентно инкорпорирующему все остальные природные монады, превращающие природу в некое вселенское безотходное «производство ради производства», производство по замкнутому циклу, в котором изначальное вещество своими перманентными взаимопревращениями способно имитировать любые человеческие экзистенции. Квазителесный субъект есть не что иное, как интериоризация искусственных технологических процессов и процедур.
Технология, выступая универсумом объективаций, естественно, имеет право на «развитие», но не иначе как в своих собственных онтологических пределах, в пределах natura naturata, но под экзистенциальной юрисдикцией natura naturans, дабы не нанести вред витальной определенности Природы, трансцендентно интегрированной в Дух. «Теоретически для трансформации человека и природы, — считает Маркузе, — не существует других объективных пределов, кроме заданных самой грубой фактичностью материи, ее по-прежнему несломленным сопротивлением знанию и управлению»76. Но как только технология начинает взвинчивать темпы своего развития, так сразу же не только Природа, но и надприродные ниши человеческого Бытия превращаются в совокупность «зон изъятия», которые заполняются структурами Иного, а Неиному в Сущем оставляется лишь незначительный «онтологический пятачок», который, как ахиллесова пята, оказывается последним местом, куда еще не добралось Иное. Изъятым и технологически переработанным оказывается все то реликтовое в Сущем, что еще осталось не от совсем свернутой в изначальное Ничто предустановленной экзистенциальной гармонии. Научно-технический прогресс оказывается Паном, утратившим свою Природу: он уже не может далее двигаться, не опираясь на «технологический костыль». Однако ему остается недолго ковылять по изнасилованной и обесчещенной Природе, пантеистический Дух все более начинает отдавать смердящими запахами Техногена.
Квазидескриптивная природа, или псевдоприрода (квазирационализированная природа). Природа своими метаисторическими формами на вселенском экзистенциальном континууме граничит, как «выяснилось» выше, с двумя «безднами бытия» — абсолютным бытием — бытием Абсолюта, в котором она предсуществует своей «трансцендентной телесностью», и абсолютным небытием, которое есть не инобытие Абсолюта, а «псевдобытие» Хаоса, куда она погружается своей квазителесностью. Эта псевдоприрода не представляет собой некоего метаисторического этапа в развертывании телесной потенциальности, изначально свернутой в Ничто, она не есть и онтологическая структура Нечто, она вообще не есть совокупность даже самых низших телесных форм. Скорее всего, это — находящаяся в рассеянном состоянии Плоть, которую Природа обрела в момент ее отпадения от Духа, заключительным этапом инкорпорирующего способа ее «развития» и является Хаос. Гипертрофированно развившаяся плоть стала той «несущей частью» небытия, которая погрузила с собой все, что оказалось в человеческой экзистенции за всю ее метаисторию «избыточным», «вульгарно тучным», что выступало за пределы предустановленной гармонии, иными словами — все, что укладывается в понятие «порядок».
Понятию «плоть» необходимо придать предельно широкое метафизическое значение, включая в него квазиобъективацию не только природных форм (квазитехнология), но и цивилизационных (квазицивилизация), и культурных (квазикультура), т.е. всего того в исторических формах человеческой экзистенции, что стремилось заменить собой более высокие экзистенциальные формы, что претендовало на статус Абсолюта и было связано с гипертрофией воли (различные формы «воли к власти»), и с теми репрессалиями, посредством которых она реализовывалась. Таким образом, «плоть» — это некая квазиобъективация «порядка», который есть предтеча «хаоса», она — «тело» Дьявола, не случайно Беме утверждал, что падший ангел отличался от всех других ангелов необычайно красивым телом. В этом-то и вся суть различия между «телом» и «плотью» в христианской догматике: «тело» принадлежит Богу, а «плоть» — Дьяволу. «Плоть, — поучал Беме, — знаменует самое внешнее рождение, которое есть дом смерти... И это предел, до которого познает сам себя человек... Ибо мертвая плоть не принадлежит к рождению жизни, чтобы получать жизнь света в собственность; но жизнь света в Боге восходит в мертвой плоти, и рождает Ему из мертвой плоти иное небесное и живое тело, которое знает и постигает свет. Ибо сие тело есть лишь оболочка, откуда вырастает новое тело»77. С.Н. Булгаков считал, что человек как демиург должен быть выше этой natura naturata, омертвевшей, механизировавшейся, бессознательной природы, он должен нести в себе светлый огонь жизни, зажженный не в этом мире. В природе он должен быть сверхприроден78. Вся трагедия человеческого грехопадения как раз и заключается в том, что он все более утрачивает свойство сверхприродного демиурга, что его божественное тело все более превращается в дьявольскую плоть. Это, возможно, один из самых мощных символов грехопадения, позволяющий понять истинную суть того, почему «мир во зле лежит» и почему зло в нем концентрируется на его не только метафизическом, но и физическом исходе.
То, что квазиприрода, или natura morte, не является этапом в метаисторическом ряду, хорошо понимал Эриугена. Заключительным ее этапом он называл предельную форму natura naturata, именно она является тем онтологическим пределом, за которым простирается бездна, именуемая мертвой природой — natura morte. На границе бытия и небытия инобытийствующий в сущем Бог понимался Эриугеной уже не как творец, а как конец и цель всех вещей. Именно это, «приграничное» с небытием онтологии, — все то, что своим возникновением обязано Богу, что составляет содержание им предустановленной гармонии жизни, гармонии natura naturans и не подверглось сверхупорядочению под приоритеты развития низших экзистенциальных форм, подлежит свертыванию в изначальное Ничто, т. е. возвращению, апокатастасису в обитель Неиного. Напротив, все то, что искажено в бытии, что составляет его онтологическое Ничтожество, и принадлежит Иному в Сущем, и составляет подполье бытия, которое именуется Хаосом и подлежит очистительному пламени Апокалипсиса.
Мы обозначили то, что лежит между natura naturata и natura morte, квазидескриптивной или квазирационализированной природой потому, что она уже не составляет органическую основу неорганической технологии, а является объектом чистого рационального дискурса. Рацио, «освободившийся» от телесности, сам того не сознавая, очутился в плену у плоти. Таким образом, рациогенез символизирует собой не что иное, как заключительную стадию природогенеза, нисхождения ее от natura naturans через метаисторические формы natura naturata к своему концу в форме natura morte. Если чистый трансцендентальный Логос есть предвестник natura naturans, то чистый дескриптивный Рацио — предвестник natura morte. И в природном комплексе, и в комплексе парадигмально оформленных знаний эволюционные процессы происходят не иначе, как в «режиме катастрофы». Время существования объективаций и их «рациональных отражений», в зависимости от степени их интегрированности в более сложные онтологические и интеллектуальные структуры, исчисляется и тысячелетиями, и годами, и мгновениями. Временной поток достигает предела интенсивности у «нижней бездны» Бытия, распад предельной объективации и ее «рациональной мыслеосновы» происходит, по человеческим меркам, мгновенно, молниеносно. Некоторые частицы «живут» лишь миллионные доли секунды. «Не может ли случиться так, — я беру крайний случай, — писал Шеллер, — что человек, ориентированный только на внешнюю власть над людьми и вещами, над природой и телом, без указанных выше акций и противовесов в виде техники власти над самим собой в конце концов кончит противоположным тому, к чему он стремился: его все больше и больше будет порабощать тот самый естественный механизм, который он сам усмотрел в природе и встроил в природу как идеальный план своего активного вмешательства?»79 Человек оказывается соприродным естественной плоти, а природная плоть сорациональной человеческой плоти, причем и Человек, и Природа в существенной мере утрачивают истинную свою телесносоразмерность. «Человек есть то, что он ест», — грубо заявлял Фогт. Но ведь эту вульгарно-материалистическую сентенцию можно прочитать и наоборот: «То, что поедается тем, что ест (инкорпорирующая природа), и есть Человек»; неслучайно Хронос называли временем, пожирающим Бытие, которое вне человека может быть лишь бесчеловечным naturata morte.
Наука с ее рациональным дискурсом отнюдь не восстанавливает утраченную миром гармонию, а лишь еще более упорядочивает содержащийся в нем хаос. Тело, рационально отчужденное от Духа, есть мертвая плоть, даже если его псевдосуществование поддерживается весьма искусными средствами. В искусственном теле человеческая душа не может быть укорененной, и единственное ее спасение — поскорее покинуть эту темницу. Замена естественных форм искусственными приобретает такие масштабы, что начинает угрожать жизни на земле, однако приоритетность неживого над живым совершенно не смущает рационального индивида, прельщенного возможными чудесами от внедрения наиновейших научных достижений. «Жизнь — писал Ортега-и-Гассет, — это прежде всего хаос, в котором ты затерян. Люди чувствуют это, но боятся стать лицом к лицу со страшной действительностью, пытаются прикрыть ее завесой фантазии, и тогда все выглядит очень ясно и логично. Их мало беспокоит, что идеи могут быть неверны, ведь это просто окопы, где они спасаются от жизни, или пугала, чтобы ее отгонять»80. Современная наука очень хорошо научилась расчленять тело универсума, но совершенно не в состоянии свертывать расчлененные части в изначальную целостность, потому-то и нарастает угроза экологической катастрофы. Рациотеизм есть высшая форма отрицания уже не только Бога, Человека и Общества, но и самой Жизни. Рациональная форма нигилизма выступает внутренним основанием идеологии рационального Прогресса, или прогресса Рацио. Основным итогом перманентной рационализации мира, возникновения мира искусственных фетишей уже в недалеком будущем окажется полное и окончательное самовытеснение человека в сферу объектного инобытия — в постонтологию Абсолюта, в онтологию структурированного Хаоса.
6.3. ПРИРОДНАЯ КАТАСТРОФА
Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет Богом. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, все новое... Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения Бога и от уничтожения Бога до... до перемены земли и человека физически. Будет богом человек и переменится физически.
Ф.М. Достоевский. Бесы
Природная катастрофа будет последней в перманентной экзистенциальной трагедии, начавшейся в Духе и завершающейся в Рацио. Человечество давно уже смирилось с последствиями космической, антропологической и даже социальной катастроф, но пока не может адекватно воспринять начавшуюся природную катастрофу, связывая ее с действием внешних сил, совершенно не усматривая в своей собственной экзистенции той мощной отрицательной энергетики, раскрепощенной хитрым разумом, посредством которой он и ставит «последнюю точку» в этом затянувшемся вселенском спектакле. Людям всегда было свойственно искать причины за пределами своей собственной пассионарности и проклинать Судьбу, Фатум, но только не себя, не свои иррациональные потребности, а тем более то, что связано с «развитием» и «прогрессом».
В пределах объектоцентристского подхода к человеческой истории ее возможный конец чаще всего связывается с тотальной природной катастрофой, с которой человечество не в состоянии будет справиться. В рамках такого пессимистического взгляда на судьбу человечества содержится и весьма «оптимистическая» надежда на то, что эта неизбежная катастрофа произойдет в столь отдаленном будущем, что о ней современному поколению переживать, а тем более задумываться, не стоит. Надо жить с надеждой, что, по крайней мере, ныне существующее поколение «минует чаша сия». Более всего обывателя в этой версии конца человеческой истории «успокаивает» то, что подобного рода природные катаклизмы во Вселенной — явления весьма обычные, так как она развивается в «режиме катастроф», а потому вслед за исчезновением одной формы космической жизни с неизбежностью появится другая, более прогрессивная ее разновидность. Так что, если ощущать свою причастность к вечно обновляющемуся посредством катастроф мирозданию, то тогда можно найти определенный вселенский смысл не только в зарождении, но и в смерти всего живого. Пирамида рождений и смертей восходит к неким Сверстихиям, которые каким-то удивительным образом служат Автоэволюции Мироздания, и дело человечества, особо не задумываясь, прогрессивно экзистировать в общем русле действия объективных законов Эволюции. Правда, среди них есть и закон «отрицания отрицания», который периодически «снимает» одну форму жизни другой, но и ему необходимо подчиниться, ведь он есть то самое магическое средство, которым хитрый Разум приводит в онтологическое соответствие человеческую Историю с ходом объективной Эволюции.
Такая примерно версия конца человеческой истории начинает складываться в метафизическую концептуализацию после того, как Кант в ряде своих работ осуществил секуляризацию и рациональную интерпретацию традиционной космологии. Кант призывал человечество смотреть на страшные разрушения основ жизни не иначе как с некоторым чувством удовлетворения, так как они — обыкновенные пути провидения, судьбы. Любая система мира по мере своего существования исчерпывает все разнообразие, доступное ее устройству, и таким образом становится излишним звеном в цепи бытия; тогда вполне уместной является исполнение ею на сцене текущих изменений Вселенной последней роли, подобающей всякой конечной вещи, а именно — отдать дань бренности. Этот конец, предопределенный мирам, как и всем вещам в природе, подчинен некоторому закону. По этому закону, считает Кант, раньше гибнут те небесные тела, которые находятся ближе к центру Вселенной. Возникновение и образование миров также началось прежде всего около этого центра; оттуда разрушение, гибель постепенно распространяются все дальше, чтобы в конце концов путем постепенного прекращения движений похоронить в одном общем хаосе весь мир, завершивший период своего существования. С другой стороны, на противоположной границе сформировавшегося мира Природа неустанно занята образованием миров из первичной рассеянной материи и, достигнув старости по одну сторону вблизи центра, она на другой юна и обильна новыми образованиями. Таким образом, сформировавшийся мир находится между развалинами уже разрушенной и хаосом еще не сформированной природы. Поскольку совершенству всех миров так или иначе грозит неминуемая гибель, закон их уничтожения вполне объясним характером их механического устройства, тем более что даже в смешении с хаосом устройство заключает в себе семя возрождения81. Согласно теории физического катастрофизма, тот же самый механизм, благодаря которому животное или человек живет и растет, приносит ему в конце концов смерть, когда рост его заканчивается. Точно так же и постепенное ухудшение состояния Земли до такой степени вплетено в цепь перемен, которые вначале способствовали ее совершенствованию, что оно может стать заметным лишь через длительный промежуток времени. Поэтому мы должны бросить беглый взгляд на те изменчивые сцены, которые природа разыгрывает с самого своего начала до момента достижения ею совершенства, чтобы обозреть всю цепь следствий, в которой гибель — последнее звено82. Примерно такое же объектное и физикалистское объяснение сущности конца человеческой истории, но уже на диалектической основе, будет в дальнейшем воспроизведено и в историческом материализме. Несмотря на то, что в нем момент развития абсолютизируется, однако при этом утверждается, что на всем и вся лежит печать гибели и уничтожении.
При всей «объективности» приверженцев объектного подхода в понимании хода и исхода человеческой истории в нем неявно содержится весьма опасная установка, суть которой можно выразить следующим образом: если и произойдет экзистенциальная катастрофа, то человек в ней не будет повинен. Эта установка снимает все внутренние преграды на пути безудержной человеческой пассионарности и тем самым провоцирует его на неосознанное, внутренне немотивированное онтологическое самоубийство. Эта гибельная для человечества установка есть следствие одной из уловок хитрого разума, посредством которой он направляет исторические действия в общее русло объективной Эволюции, которая использует человека в качестве средства реализации целей Иного в Сущем. Однако общая результирующая этих действий в конечном счете оказывается направленной против самой человеческой экзистенции. «Субстанция действия, а следовательно, и самое действие вообще, — писал Гегель, — обращается против того, кто совершил его; оно становится по отношению к нему обратным ударом, который сокрушает его»83. Если все пережитые человеком в своей истории катастрофы (войны, революции, гибель богов, цивилизаций, культур, технологических и природных комплексов и ареалов и пр.) обусловлены лишь внешними неблагоприятными обстоятельствами, то стоит ли искать пути преодоления природной катастрофы, цинично обозначенной в эпоху научно-технического прогресса «экологической катастрофой» (опять-таки катастрофа во «внешней среде обитания» человека, а не следствие его внутреннего, духовного грехопадения), если ее причины объективны и не имеют особой связи с духовной деградацией человека. Иронизируя по поводу этого глубочайшего заблуждения современного человечества, Тойнби напоминает, что механику обвинять свою машину в том, что она его поработила, было бы столь же иррационально, как если бы, проиграв в соревновании по перетягиванию каната, мы стали бы обвинять в этом не себя, а канат. Потерпевшей поражение команде ничего не остается, как признать, что состязание проиграно, а сам канат здесь ни при чем. Это всего лишь спортивный снаряд для состязания в силе. И в космическом перетягивании каната между жизнью и материей нейтральную функцию посредника выполняет все, что можно назвать механизмом. Homo Faber обучился опасному ремеслу; и каждый, кто начинает действовать по принципу «не рискуя, не выиграешь», открыто подвергает себя опасности утрат, неизбежных в борьбе за корону победителя84. При объектном подходе отнюдь не человек, а внешние обстоятельства и применяемые им средства воздействия на природную среду оказываются истинными виновниками того, что его история зависла над нижней бездной бытия. Человек есть совокупность сугубо внешних обстоятельств и отношений, а потому именно в них и необходимо отыскивать причины, обусловливающие и Начало, и Конец его «объективной истории».
При всей «субъективности» субъектного подхода к осознанию метафизической сути возможного конца человеческой истории ее истинные причины связываются с состоянием внутреннего, а не внешнего мира человека. И, действительно, если окинуть беглым взглядом карту Земного Шара, то наглядно можно представить себе, из каких ее частей исходит эта вселенская катастрофа — конечно же из тех, которые обустроены по меркам Разума, в которых «процветает» информационно-технологическая цивилизация. Население остальных частей Земного Шара при их укорененности в самобытные культы, дотехнологические культуры и цивилизации и природные комплексы могли бы просуществовать еще не одно тысячелетие, если бы их «старший брат» не усадил всех в общий ковчег, стремительно продвигающийся к берегам Аида. И сбежать с этого ковчега никому не дано. Те, кто покидает этот «Летучий Голландец», приговариваются к одной из форм смерти (экономической, экологической, военной и пр.), так как из «открытого общества» исход может быть лишь общий, вполне обозначенный восходящей кривой всеобщего прогресса. Следовательно, основную причину природной катастрофы необходимо искать не в самой природе, а в человеке, эту природу умерщвляющем, подобно тому как на протяжении всей своей истории он вполне эффективно умертвлял в себе душу, жертвуя собой развязыванием космических, антропологических, социальных, технологических, а теперь и природных потрясений и катастроф.
Подлинная трагедия так называемого рационального человека состоит в том, что именно его собственная рационализированная экзистенция, а не какая-то внешняя сила оказывается той мощью, которая разрушает то, что лежит за верхними границами объективированного мира, все то, что не подлежит рационализации и алгоритмизации. «Обретя сверхчеловеческую мощь, — заключает Швейцер, — мы сами стали бесчеловечными»85. Метаисторический континуум мы выше ограничили такими предельными формами активности, как «трансцендентная слабость» и «рациональная сила». По ступенькам этого метаисторического континуума идет наращивание сущностных сил человека, и именно в конце своей истории человек присваивает такие мощные стихийные силы самой природы, которые и делают его жизнь при всей ее искусственной рационализации предельно иррациональной и стихийной. С деструктивными последствиями последней он справиться уже не в состоянии. И прежде всего потому, что он утратил свою изначальную «трансцендентную слабость» Духа, посредством которой перманентно творилась гармония Жизни, которая и составляла негэнтропийную основу Сущего. Утратив свою «креативную слабость» и обретя «рациональную силу», которую можно прикладывать лишь к тому, что этой «слабостью» было сотворено, человеческая экзистенция превратилась в некое тоталитарное образование, способное воспроизводить этот ущербный вид Homo Ratio не иначе как на пути все более прогрессирующего инкорпорирования компонентов «внешней среды обитания». Сверхсильный Рацио становится властелином Мира, и средствами такого его господства оказываются силы Хаоса, воплощенные в природных Стихиях. О том, что именно Рацио персонифицирует собой самые мощные сущностные силы, известно было и самому Гегелю, наделявшему Рацио абсолютным онтологическим статусом и на этой основе формировавшему свою историософему.
Разум Гегель называл не только «хитрым», но и мощным», способным насильственно изменять спонтанный ход истории в своих сугубо рациональных целях. «Единственною мыслью, которую привносит с собой философия, — писал Гегель, — является та простая мысль разума, что разум господствует в мире, так что, следовательно, и всемирно-исторический процесс совершался разумно. Это убеждение и понимание являются предпосылкой по отношению к истории как к таковой; в самой философии это не является предпосылкой. Путем умозрительного познания в ней доказывается, что разум — здесь мы можем продолжать пользоваться этим выражением, не выясняя точнее его отношения к Богу, — является как субстанцией, так и бесконечной мощью; он является для самого себя бесконечным содержанием всей природной и духовной жизни, равно как и бесконечной формой, а именно — то, благодаря чему и в чем вся действительность имеет свое бытие; разум есть бесконечная мощь»86. Однако мощь нужна лишь там, где гармония замещается порядком, где жизнь оказалась существенно подорванной бесконечными попытками ее оскопить и рационализировать. Действительно, Рацио достигает вершины своей мощи, лишь царствуя над natura morte. Интересно, что даже после такого вполне адекватного понимания сущности Рацио Гегель продолжал утверждать, что все действительное разумно, а разумное — действительно.
Разрушая посредством мощнейших рациональных процедур смысловую основу своего многоуровневого существования, человек тем самым делает бессмысленным собственное присутствие в мире предельно объективированных и отчужденных сущностей. Процесс самообъективации субъекта, превратившийся в некую внечеловеческую самоцель и подчиненный целям прогресса объективной истории, в конце концов превращается в пресловутый объективный процесс развития внешнего мира. Внутренний человек начинает вырабатываться столь интенсивно, что уже не в состоянии контролировать процесс самоотчуждения даже в целях своего экзистенциального самосохранения. Более того, внутренний человек начинает все более рассчитывать на то, что в снятом виде будет вечно присутствовать в универсуме самообъективаций. Это и есть то последнее прельщение, прельщение «жизнью вечной на земле», поддавшись на которое, человек превращается в абсолютного онтологического самоубийцу, абсолютного потому, что все, что оказалось овнешненным и овремененным в нем, есть Ничтожество, предназначенное очищающему огню Апокалипсиса.
Рассмотрим ряд последствий для человеческой экзистенции, которые уже сейчас вполне явно связаны с пока что вяло текущей природной (экологической) катастрофой.
Семантическая составляющая природной катастрофы. Семантическими рамками рациональной формы экзистенции выступают квазидескриптивные значения. Это такие псевдозначения или Термины, вульгарная точность содержания которых стремится обрести бесконечную валентность, чтобы заместить собой пустотные символы и тем самым превратиться в Слово. Изначальное Слово обладает трансцендентным значением, что свидетельствует о том, что его содержание стремится к нулю и лишь чревато целой иерархией содержательных смыслов, при валентности стремящейся к бесконечности, что позволяет ему символизировать собой Вечность и Бесконечность Бытия. Метаисторический семантический континуум, с одной стороны, «ограничен» трансцендентным Словом, а с другой — рациональным Термином. По мере того, как субъект со своим дискурсом перемещается по этой семантической горизонтали от Слова к Термину, он становится все более «говорливым» и все менее способным словесно воспроизводить целостность и универсальность своего Бытия. И, напротив, возвращаясь к самовитому Слову, он все более погружается в мудрость умолчания, в которой обретает высшие смыслы своего существования. Об этой способности осуществлять дивергенцию от осмысленного Слова к бессмысленному Термину и вновь возвращаться к апофатическим первосмыслам Слова хорошо сказано в «Символическом богословии» Псевдо-Дионисия Ареопагита. «По мере нисхождения от горнего мира к дольнему, — свидетельствовал он, — и речь моя, соответственно, становилась все более многословной; теперь же, по мере восхождения от дольнего мира к запредельным вершинам, речь моя становится немногословной, дабы по достижении конца пути обрести полнейшую бессловесность, всецело растворившись в Божественном безмолвии»87. Однако в рамках современного сциентистского дискурса человек не в состоянии осуществлять возвратное движение к целостному и символическому Слову, а потому и становится все более говорливым, способным излагать свою точку зрения по всем без исключения проблемам, даже по тем, которые входят в разряд сокровенных и непостижимых.
На этапе онтологического восхождения Рацио, дискурс которого все более перемещается от истинных дескриптивных значений ко все более ложным квазидескриптивным фикциям, изначальное и апофатическое Слово, посредством которого явлен был Целостный Мир, окончательно распадается на дурную бесконечность словесных ярлыков, обозначающих лишь отдельные конкретные вещи. Слово, которым пользуется рациональный субъект, представляет собой некую семантическую кальку с окружающего его искусственного мира, в котором почти отсутствуют естественные формы, семантическое означивание последних могло бы придавать дискурсу хоть какую-то жизненность. Вряд ли совокупность употребляемых рациональным субъектом значений можно обозначить родовым понятием — слово, скорее всего его более правильнее принимать за термин, лишенный каких-либо признаков субъектности.
Эти словесные ярлыки и термины, парадигмально упорядоченные, имеют тенденцию преодолевать искусственно навязываемую псевдосистемность и распадаться на отдельные семантические объективации, создавая тем самым «мертвую семантическую зону», т. е. некую совокупность знаков, хотя и обладающих денотатами, однако утративших изначальную значимость. И именно из этих мертвых знаков конструируются сверхзнаки путем искусственного придания им парадигмальных сверхзначений. Квазидескриптор — это мертвое дескриптивное значение, искусственно реанимированное и конституированное рациональным сознанием в качестве знака, обладающего значением символа, или символическим значением. Именно такого рода мертвые знаки и значения призваны регулировать отношения в еще живой natura naturata, но отнюдь не для того, чтобы гармонизировать в ней естественные связи и отношения с духотворящей natura naturans, а с тем, чтобы рациональным сверхупорядочением превратить ее в natura morte. Мертвыми символами жизнь не воскресишь, ее можно лишь окончательно загасить. Одним словом, вместо иерархии значений из символов, ценностей, норм и знаний, которые семантический универсум должен был бы вмещать в результате полного распаковывания изначального Слова, он оказывается переполнен «вульгарно тучными» псевдозначениями-терминами, претендующими на статус символов. Таким образом, природная катастрофа, завершающая собой перманентную антропологическую катастрофу, непосредственно обусловливается окончательным распадением семантического универсума на дурную бесконечность мертвых знаков и превращением их в семантическую форму Хаоса.
Эрнст Кассирер полагал, что в основе семантического хаоса лежит хаос самой жизни; упорядочивая значения первой формы хаоса, человек тем самым упорядочивает и хаос в своем собственном бытовании. Именно в этом он видит конструктивную функцию языкового выражения внеязыковой реальности. «Процесс образования языка, — писал Кассирер, — показывает, как хаос непосредственных впечатлений освещается и расчленяется для нас только благодаря тому, что мы даем ему «наименование» и, таким образом, придаем ему функцию языкового мышления и языкового выражения. В этом новом мире языковых знаков и сам мир впечатлений приобретает совершенно новое "состояние вследствие новой духовной артикуляции»88. Кассирер полагал, что семантический порядок вырастает из семантического хаоса и в качестве некоей совокупности наименований позволяет целенаправленно упорядочивать хаос бытия. Такой взгляд вполне приемлем, когда речь идет об эмпирическом бытии нецелостного индивида, который перманентно хаотизирует его и столь же перманентно его упорядочивает, однако как только мы стараемся понять, что же составляет основу его целостной и универсальной жизни, о которой он может даже и не подозревать, то тогда необходимо подключить к метафизическому анализу событийного ряда универсалию «гармония». Семантический континуум есть та метаисторическая горизонталь, по которой развертывается внутренняя гармония животворящего Слова. Да, семантический порядок вырастает из семантического хаоса, но он же и противостоит «семантической гармонии», которую замещает собой в процессе формирования «искусственных языков». Живой разговорный язык восходит к предустановленной гармонии Слова, тогда как его искусственная рационализация выступает всего лишь формой упорядоченной «языковой стихии», стремящейся превратиться в «семантический хаос». Если генезис «семантической гармонии» восходит к Слову, о чем интуитивно чувствуют мистики и поэты, то «семантический порядок» выстраивается за счет предельного упрощения Слова и придания ему рациональной однозначности Термина, что и осуществляют в своей деятельности ученые.
Высшей формой познания гармоничного и целостного мира является «неведение», посредством которого человек способен внутренне воспринять мир изначально и во веки веков предсуществующий в Слове. «Неведение, — учил Палама, — ... выше знания. Но это надо понимать не на том же уровне сравнения. Говорится о неведении, которое выше всякого земного знания, опыта и науки. Следовательно, говорится о высшем знании, основанном не на работе мозга, а помимо его — как состояние в благодати, как знание, так сказать, "по ту сторону" знания, основывающегося на опыте и учении. Если знание сравним со светом, то "неведение" — это свет над светом; это — результат приближения к Богу, который сам, как говорится в евхаристической молитве, "Неведом и Непостижим" — т.е. не может быть постигнут никаким знанием»89. Гармонически развернутое слово в совокупность генетически связанных между собой символов, ценностей, норм и знаний не требует искусственной терминологической упорядоченности. Напротив, чем более семантический универсум упорядочивается под приоритеты «развития» искусственных и ложных значений, тем более он утрачивает свою внутреннюю гармоничность и все более хаотизируется. Это как раз и является главной причиной превращения семантического универсума во все более искусственную систему квазизначений — значений мертвых, а потому и омертвляющих все то, к чему они искуственно прилагаются в качестве терминов в процессе сциентистского дискурса.
Терминологическая природа квазирационального дискурса делает совершенно невозможным использование символов, ценностей, норм и даже знаний в качестве значений, способных придавать рациональной экзистенции высшие надрациональные смыслы. Когда Наука начинает кумулятивно направлять свой парадигмально оформленный квазидескриптивный дискурс на символический Эйдос Культа, ценностный Логос Культуры, нормативные Знания Цивилизации и дескриптивную Логику Технологии, она превращается в поистине дьявольскую инстанцию, решающую и за Бога, и за Человека, и за Общество, и за Природу, кому стоит продолжать существовать в этом искусственном и безжизненном мире, мире мертвых значений, в мире, перевоссозданном по меркам Разума.
Квазидескриптивная форма рациональных суждений оказывается семантически имманентной уже даже не естественной, а противоестественной, искусственной динамике миру, именуемой автоэволюцией. Квазидескриптивный дискурс — это дискурс, который ведется между интеллектуальными роботами, предтечами которых выступают зомбированные научным дискурсом рациональные субъекты. Их внутренняя речевая деятельность становится все более аутентичной внеречевой деятельности компьютеров, их общим языком становятся искусственно создаваемые языки общения и их бесконечные версии, пригодные для «общения» между Искусственными интеллектами. Человек перестает понимать «язык природы», с которым еще недавно отождествлял так называемые «объективные законы», открываемые им в рамках рационального дискурса. Наука начинает жестко навязывать природе логику развития универсума искусственных объективаций и тем самым делает ее «немой», ее перестают «слышать», даже если она взывает к пощаде на доступном для ее оппонента «языке жестов», наиболее впечатляющими из которых выступают знаки природных катастроф. Даже этот отчаянный «крик души» не улавливается рациональным сознанием, ведь оно давно перешло на «мертвый язык», в рамках которого свидетельства «живого языка» воспринимаются лишь как семантическая немощь и немота. Естественный язык природы оскудевает в той мере, в какой в нее внедряют искусственные языки, а вместе с оскудением языка природных стихий все более хаотизируется и семантическая система человеческой экзистенции, она становится перегруженной ложными знаками и знамениями, составляющие «язык» Иного, «язык» Антихриста. Язык вновь оказывается «языческим», отчужденным от сакрального Слова. Квазидескриптивный язык — это не язык Истины, а язык Лжи.
В качестве средства абсолютного рационального дискурса живой разговорный язык явно не подходит, ибо в целях чистоты познания в нем необходимо было бы искусственно переиначить всю полисемантику содержащихся в нем знаков, придать им предельную однозначность, но такое «выворачивание вывернутого» привело бы к полному отрицанию экзистенциальной природы Языка. Это невозможно по той очевидной причине, что даже самые абстрагированные от человеческой экзистенции знаки и значения все же абстрагируются именно от экзистенции, а не от чего-либо иного и лишь в связи с этим только и способны составлять предельно абстрактный язык и быть семантическими носителями, как говорил Вл. Соловьев, «отвлеченных значений». Ведь они могут быть декодированы лишь в том случае, если обладают человеческими смыслами и не иначе как в пределах целостной языковой коммуникации человека. В той мере, в какой дескриптор утрачивает связь с семантическим универсумом, он превращается в элемент логической Фикции или фиктивной Логики, за которой стоят разве что «языческие» прельщения князя мира сего.
В семантическом плане природная катастрофа есть катастрофа естественного языка — языка кодовых зависимостей единого духовного генофонда жизни. Если посредством рационального дискурса человек пытается всего лишь описать генотипические связи в природном универсуме, то посредством квазидестриптивного дискурса он стремится заменить их связями логически-рациональными, чтобы, окончательно умертвив природу, использовать отчужденные ее праформы в качестве «строительного материала» для возведения искусственной среды обитания, способной функционировать и развиваться по строго заданным квазисемантическим параметрам. Тяга к использованию «мертвых языков» возникает тогда, когда свой «живой язык» мешает формированию сугубо «рациональных значений» — значений, способных объективно воспроизводить связи в исследуемом объекте.
Медицина одной из первых избрала значения, содержащиеся в латыни как языке «мертвом», прежде всего потому, что объектом познания и врачевания для нее выступает не духовный мир, а физиология человека, его телесная организация. К своему собственному телу неимоверно трудно было подобрать значения из живого разговорного языка, из них невозможно было извлечь некие рациональные вытяжки, которые смогли бы составить семантическую основу рационального дискурса о функциональных связей человеческой плоти. Медицину интересует ведь не столько человеческая телесность, которая своей целостностью обязана душе, по отношению к которой выступает ее акциденция, сколько человеческая плоть, которую вполне возможно рассматривать в качестве некой функциональной системы органов, связи и отношения между которыми вполне можно определить строго терминологически.
Живой полисемантический язык противился редукции высших языковых форм к низшим, вызванным редукцией человека к его телу, а тела к плоти. Осуществить искусственную квазидестриптивную вытяжку из символических, ценностных, нормативных значений, касающихся «человеческой плоти», из совокупности значений живого языка еще никому не удавалось. Для того чтобы семантически многозначное человеческое тело можно было предельно объективировать в некий «витальный организм», а потом его редуцировать к плоти, дабы затем в качестве объекта разложить на совокупность функционально взаимосвязанных элементов, необходимо было найти такой «мертвый язык», полисемантические значения человеческой телесности в котором, будучи искусственно интегрированными в общий контекст «живого языка», обрели бы необходимую для рационального дискурса о плоти свою определенность и однозначность. Но ведь латынь, являвшаяся живым языком в эпоху процветания Римской империи, естественно, не содержала тех однозначных дескриптивных значений, которые необходимы современной научной медицине. Только окончательно умертвив латынь, ее знаковые формы оказались пригодными в качестве однозначных значений медицинскому дискурсу уже не столько о теле, но и о душе человека.
Примерно по такой схеме создается весьма разветвленная система искусственных языков-сленгов, применяемых уже не только в медицине, но и в иных научно-практических дисциплинах. Этот пример заимствования знаков из чужих языков для построения системы «чистых дескрипторов» лишний раз убеждает, что на пути создания искусственных языков как непреодолимое препятствие лежит полесемантичный живой разговорный язык, не поддающийся рациональному оскоплению, а потому все чаще замещаемый мертвыми языками с их до примитивности упрощенными значениями, что и апробировано было в полной мере логическим и семантическим позитивизмом. Суть семантической катастрофы состоит в том, что живой язык омертвляется, а идущий ему на смену искусственный язык уже не в состоянии выполнять апофатическую роль Слова, порождающего новые жизненные смыслы. «Благодаря этим завоеваниям науки, — пишет В. Арон, — несмотря на значительные пробелы в знании, наша цивилизация впервые в истории сформировала себе представление о большинстве умерших цивилизаций. Сама живая находится среди умерших, осознает свою сингулярность и свою хрупкость»90. «Мертвых языков» в принципе быть не может, даже латынь и древнегреческий язык, если к ним подходить субъектно, способны многое поведать не только о жизни людей тех далеких исторических эпох, семантически воскресить их существование, но и понять, во что превратились мы, их далекие духовные потомки, ведь к их вечно живому философскому и культурному дискурсу мы всякий раз обращаемся, чтобы определиться в постоянно изменяющихся координатах нашего современного существования. Прежние культы, культуры и цивилизации не могут считаться окончательно умершими, пока они находят свое успокоение в мире, они находятся лишь в глубоком «семантическом анабиозе» и всегда готовы поведать нам о нашей собственной судьбе, стоит лишь к ним отнестись не по-медицински, а экзистенциально. Это скорее всего «уснувшие языки», которые всегда можно пробудить ото сна герменевтическими процедурами и с их пробуждением вновь воскреснет дух прежних этносов, погребенных в архетипических глубинах нашего бессознательного. Однако совсем другое дело, когда в рамках современного квазидескриптивного дискурса тенденциозно упрощается и оскопляется уже не «уснувший язык», а активно «бодрствующий язык» — живой разговорный язык экзистирующих ныне этносов. Превращение его в «мертвый язык» при живых носителях делает их экзистенцию не только хрупкой, но и призрачной, не поддающейся воскрешению, ибо воскрешению поддается лишь то, что имеет хоть какое-то отношение к субъектной форме существования. А потому точнее было бы говорить о том, что современная квазирациональная цивилизация еще при жизни замыкает собой иерархию мертвых цивилизаций, отличающуюся от них прежде всего тем, что неосознанно обрекает человека на Небытие.
Семантический Порядок, окончательно вытесняющий собой Гармонию Слова, таит в себе опасность превращения живого универсума значений в систему знаков Смерти, в совокупность ложных символов Иного. К сожалению, современная дегуманизированная наука есть наглядная иллюстрация пагубного культивирования Термина, она почти вытеснила из своего строго сциентистского дискурса святое Слово и в основном манипулирует однозначными знаками в их парадигмально замкнутой логической взаимообусловленности. Всемерно способствуя развертыванию универсума искусственных объективаций, наука отнюдь не ставит перед собой цель — вернуть миру утраченную им гармонию. Своей квазиупорядочивающей активностью наука становится главным препятствием для возрождения духовной гармонии.
Пирамиду рациональных предпочтений в дискурсе о мире начинают замыкать те, кто способен радикально изменить наличную совокупность условий человеческого существования. Слова «изменение» и «измена» экзистенциально изоморфны. Изменить нечто в то же время означает и изменить тому в изменяемом нечто, что ранее принималось в качестве и неизменного, и неизменяемого. «Речь идет не о том, правильно или не правильно мы строим свои отношения с природой, — пишет Ф.И. Гиренок, — а о том, достойно или недостойно мы существуем в мире. Идея рациональности определяет сегодня умонастроение людей. Она охватывает и ассимилирует все новые и новые сферы жизнедеятельности человека. Рационализации подлежит все, что рационализировано и своей нерационализированностью разрушает соразмерность вещей и мыслей о вещах, соотносительность разума и бытия. Внутри соразмерности разума и бытия бытие рассматривается как нечто мыслеподобное и в силу этого подобия рационально устроенное»91. Радикальное изменение в сущем, предлагаемое сциентистским проектированием, и есть перманентное измена тому в Сущем, которое составляет экзистенциальное содержание Неиного, и это же изменение в то же время вполне соответствует коварным «замыслам» Иного в нем. Квазирадикальные изменения в Сущем, все эти рационально спланированные иррациональные по сути своей революции и глобальные эволюции суть проявление лояльности субъекта-атома Иному и измена Неиному.
Пантеистический принцип построения мифологемы полностью ассимилировался научным сознанием. Наука и технология занимаются упорядочением хаоса, в который они предварительно превращают гармонию естественной жизни, переиначивая таким образом природу естественную в природу искусственную. В настоящее время очень трудно отделить истинные знаки и значения от ложных, неистинных, они составляют между собой сложные псевдосемантические симбиозы. Мы никак не можем выкарабкаться из исторически сложившихся неблагоприятных обстоятельств прежде всего потому, что в семантической основе нашего существования невозможно рационально отделить истинные значения от ложных. На каждом новом витке экзистенциального распада создается иллюзия того, что наконец-то мы уцепились за то единственное звено в цепи событий, которое позволит в корне преобразовать всю действительность на сугубо рациональных основаниях. Однако невозможно, следуя библейской заповеди, рациональным способом полностью очистить зерна истин от плевел лжи. Если это и можно осуществить, то только на трансцендентальной основе, однако человек, привыкший все рационализировать, утрачивает способность к самотрансценденции. В этом-то и состоит одна из величайших трагедий человечества: с продвижением по пути «прогресса» все более и более накапливается объем ложных форм в его «суверенных» сознании и жизнедеятельности.
Человек все более центрирует свое самосознание на низших и проявленных семантических формах. Однако лишенный способности к самотрансценденции, он в качестве сверхкомпенсации обретает высшую магическую способность гиперрационализировать сущее, но эта способность лишь мимикрирует под способность к самотрансценденции, что делает ее особо опасной для всего живого и естественного, т.е. для natura naturata. «Лишая значения издавна хранимые образы трансцендирования путем встраивания их в безграничную повседневную реальность, — пишет Маркузе, — общество тем самым свидетельствует о том, насколько возросла способность управлять неразрешимыми конфликтами — насколько трагедия и романтическая ностальгия, архетипические мечты и тревоги стали подвластными техническому разрешению и разрушению»92. В той же самой мере, в какой рациональный дискурс формально уподобляется процессу самотрансценденции, natura naturata превращается в natura morte, все более утрачивая возможность возродиться в качестве natura naturans.
Идеология, основывающаяся на квазидескриптивном дискурсе и редуцирующая человеческие качества к рациональным функциям, подавляет индивида семантически в той мере, в какой он внутренне подчиняется требованиям формальной логики. Логизируя мир, человек сам становится одной из логических фигур, объектом формальной сил-логистики (« силовой логистики»), подчиняется нормативам рационального дискурса, в котором не имеет уже особого значения, кто выступает субъектом говорения. Как только таким псевдосубъектом оказывается рациональное Я, иерархический субъект, в котором его витальность замещается «субъективацией» универсума самообъективаций, превращается в объект тотального семантического насилия со стороны отчужденного от него Субъективного Духа, превратившегося в противостоящий ему объективный Дух или дух Объекта. Как только дискурс своими квазидескриптивными формами окончательно мимикрирует под трансцендентные, эвалюативные, прескриптивные и дескриптивные значения, он превращается в мощное орудие разрушения сакральных смыслов, общечеловеческих ценностей и социальных норм; при этом человеческая экзистенция основательно погружается в мир онтологических фикций. В отличие от Логоса, дискурс которого спонтанен, ибо исходит из «онтологически слабого» Духа, Логике свойствен предельно организованный дискурс, обусловленный «отнологической мощью» Рацио; не случайно применительно к нему употребляют такие словосочетания, как «мощная мысль», «железная логика» и проч.
Ложь в дескриптивной упаковке принимается отчужденным человеком в качестве высшего выражения Правды. Рационально оформленная «правда» и есть та самая объективная Истина или истина Объекта, которая репрессивно воздействует на экзистенцию целостного субъекта, позволяя ему существовать лишь постольку, поскольку он способен подчиняться фикциям своего «суверенного» мышления. «Нужно подвергнуть сомнению нашу волю к истине, — считает Фуко, — нужно вернуть дискурсу его характер события и нужно лишить, наконец, означающее его суверенитета»93. Декартово «я мыслю, следовательно, существую» в ситуации рационального самоотчуждения превращается в гносеологический застенок, предназначенный для заключения в него целостной человеческой экзистенции, ведь именно заключение всегда является итогом рациональной силлогистики. «Но что же такое эта вещность личности? — задавался вопросом П. Флоренский и отвечал: — Это — тупое само-равенство ее, дающее для нее единство понятия, само-заключенного в совокупности своих признаков, т.е. понятия мертвого и неподвижного. Иными словами, это есть ничто иное, как рационалистическая «понятность» личности, т.е. подчиненность ее рассудочному закону тождества»94. Как известно, заключенный откликается обычно не на слово, а на порядковый номер, который ему присваивается «силовыми структурами». В мире упорядоченных отчужденных сущностей конкретный человек обладает разве что математическим значением. Ведь предлагалось логическим позитивизмом вместо эмпирически не верифицируемого значения «Человек», употреблять вполне операционализируемый числовой ряд: Адам-1, Адам-2, Адам-3.....Адам-N...
Власть дискурсивного языка над человеком уже в современную переходную эпоху становится чуть ли не самодовлеющей. Так, современная социальная власть уже во многом поступилась в пользу власти Языка над Словом. Информационная власть, или, как ее еще называют «четвертая власть» в обществе в основном воспроизводит «язы-ческую власть» Объекта над Субъектом, господствовавшую в эпоху, которая предшествовала Откровению. Принудительность современного квазидескриптивного языка исходит из Иного в Сущем, является средством глобального семантического самоуничижения Человека. «Если все ценно и вожделенно лишь потому, что одушевлено жизнью, — писал Плотин, — то как можешь ты, забывая о душе, которая в тебе есть, прельщаться тем иным, что вне тебя? Раз ты во всем прочем чтишь главным образом душу, чти ее прежде всего в себе»95. Лишь при условии вовлечения рационального дискурса в целостную систему говорения, основным субъектом которого выступает Дух или Интенциональный Субъект, человек в состоянии сохранить свою связь с ноуменальным планом бытия. В противном случае он окончательно выпадет из своей собственной метаистории, превратится уже даже не в «лагерную пыль», а просто в семантический выброс «чистого дискурсивного процесса».
Слово, распавшееся на дурную бесконечность понятий и терминов, упорядоченных логикой, перестает означивать собой тотальную целостность мироздания, ему под силу фиксировать лишь отдельные его феномены и фрагменты, обеспечивая функционирование соответствующих видов дискурса в рамках строго выверенных парадигм мышления, псевдосубъектом которых выступает так называемое объективное сциентистское сознание. Дескриптивный Рацио интересуется лишь объективной Истиной или истиной Объекта, а человеком лишь в качестве гносеологического Субъекта или субъекта Гносеологии — некоего субъективированного Теоретизма, по своей природе и структуре иррелевантного теоретизируемому Объекту.
Гносеологический субъект в этой объектной ситуации оказывается всего лишь эпистемологическим репрезентантом самопознающего объекта, его основная роль сводится к тому, чтобы язык имманентных законов Объекта наиболее аутентично перевести на язык дескриптивных значений, своей совокупностью выполняющих функцию самосознающей объективности. Гносеологический субъект все менее оказывается автором и все более переводчиком объективной текстовой реальности в сциентистский текст, в котором уже трудно обнаружить его уникальный личностный контекст. Дескриптивно-знаниевая форма дискурса онтологически изоморфна отнюдь не интенциям субъекта, а экстенциям объекта, интенциональный субъект, превратившийся в гносеологического субъекта, по своим эпистемологическим функциям все более начинает походить на «гносеологическую машину», структурно принадлежащую не универсуму субъективаций, а системе объективаций. Искусственный интеллект принадлежит искусственной телесности, результатом их рационально-технологического синтеза является автоматизированная Система или систематизированный Автомат. Наука превращается в «гносеологический орган» Хаоса, способствуя ему замещать собой Природу, и в той мере, в какой «искусственный интеллект» на этом поприще достигает успехов, он вытесняет из эпистемологического пространства «естественный интеллект», неспособный более придавать Хаосу некую разумную упорядоченность.
Квазирациональное познание является кумуляцией энергетики внутриобъектных отношений, внутренних отношений Плоти, изоморфных законам создаваемой Рацио квазидействительности — искусственной природы. Хотя квазирациональное познание и выступает некоторым образом мировоспроизводящей практикой, естественно негативной практикой, однако истинным его заказчиком выступает Иное в Сущем. Квазирациональное познание — функция, сторона онтологии той исторической процессуальности, которая обслуживает «системный переход» Порядка в Хаос, natura naturata в natura morte.
Сущее как реальность на заключительном этапе истории противостоит познающему разуму не в своей изначальной трансцендентной гармоничности, в которой инобытийствует Неиное, а как предельная эклектика из трансрациональных объективаций Неиного и квазирациональных объективаций Иного. Этот ущербный в экзистенциальном плане «объект познания» гносеологический субъект познает не иначе, как в контексте «прогрессивных устремлений» Иного и конституирует его проявления не иначе, как в качестве свидетельств Абсолютной Истины. Не случайно, то, что наблюдает познающий разум в сущем в индийской философии, обозначается Майей — покровом, прикрывающим Истинное Бытие. Гносеологический Субъект имеет дело лишь с «вечными и объективными законами бытия», с которыми он отождествляет экстенции, идущие от Иного, а потому он не в состоянии воспринимать их в качестве того, что испорчено в божественной гармонии самим Разумом в угоду Иному. Как часто можно слышать об очередном «открытии» познающего разума. Однако он «открывает» лишь то, что раньше было «прикрыто» вечностью от менее изощренного в своей хитрости его «разумного» предшественника.
Разум открывает в сущем то, что им же самим и испорчено, деформировано. Именно такого рода «способ воспроизводства» ущербной онтологии и возводится в разряд объективной закономерности, открываемой рациональным дискурсом в окружающей действительности, открытой для эмпирического наблюдения. Именно этому новоявленному закону бытия, разумом искусно и искусственно сконструированному, требуется поклоняться как олицетворенной «разумной действительности» и приносить в жертву этому Кумиру то, чем ранее человек поступаться не желал — свою естественную жизнь. Еще Аристотель настоятельно предупреждал, что «человеку не следует искать несоразмерного ему знания»96. В «Фаусте» Гете есть такие строчки:
Кто хочет что-нибудь живое изучить,
Сперва всегда его он убивает.
Потом на части разнимает,
Хоть связи жизненной, увы, там не открыть.
В конце истории возникает такое странное гносеологическое «сальто-мортале» в перманентно рационализируемом мире: наиболее разумной начинает считаться жизнь окончательно девитализированных субъектов, т.е. существование искусственных объектов.
Онтологическая составляющая природной катастрофы. Онтологическая сущность природной катастрофы заключается в том, что реальное бытие начинает замещаться знанием о бытии, реальность замещается иллюзией, а объектно-объектные отношения технологии не только десубъективизируется за счет вытеснения телесного объекта, но и деобъективизируется, и их природная основа постепенно утрачивает свою субстанциальность и погружается в хаос.
Самотрансцендирующий человек на заре своего становления был весьма гармонизированнным в отношениях и с миром, и с самим собой, однако по мере того, как он становился все более рационализирующим мир существом, он все более хаотизировал внешний и внутренний миры, и был вынужден на повторное упорядочение применять все больший объем насилия и самонасилия. Своими нововведениями сверхупорядочивая реально сущее, человек лишь хаотизирует его, так как при этом вытесняются традиционные гармонические связи в нем. Наука и ее квазидескриптивный дискурс — предельные средства по упорядочению хаоса, который им предварительно организуется в процессе разрушения более высших уровней и форм многомерного Бытия. Совокупность рациональных воздействий, по сути, — это те же самые магические действия, направленные на использование стихийных сил природы, лишь многократно усиленные дискурсивной мощью Рацио. Порядок искусственного мира, универсума объективаций представляет собой синтез стихийных сил природы и упорядочивающей мощи разума.
Упорядочение в локальных структурах Бытия может осуществляться лишь за счет хаотизации в отношениях между частями его Целостности, ведущее в конце концов к тому, что отдельные части обретают противоестественный статус обособленного феномена или псевдоцелостности, причем Бытие существенно понижает степень своей субъектности, а вместе с ней и уровень своей онтологической целостности и универсальности. «Чтобы понять часть, — писал Тойнби, — мы должны прежде всего сосредоточить внимание на целом, потому что это целое есть поле исследования, умопостигаемое само по себе»97. Однако что же принимать за целое в ситуации катастрофического распада целостности на части, мимикрирующие под целое? При объектном подходе, естественно, интерес исследователя перемещается на обособившуюся от целостности часть, и тогда целостность, к которой она ранее принадлежала, конституируется всего лишь в качестве «среды обитания», по отношению к которой допустимы любые репрессивные воздействия. При таком подходе бывшая целостность еще более хаотизируется, а отколовшаяся ее часть обретает дополнительный импульс к своему плоскому развитию, что приводит к необходимости установления такого нового порядка, который бы учитывал приоритетность развертывания этой части во все более универсальную целостность. Напротив, при субъектном подходе прежде всего выясняются причины распада прежней органической целостности и прогнозируется, какой будет новая целостность, если в нее сумеет развиться отколовшаяся часть. Таким образом, в центре внимания исследователя всегда удерживается некая первичная целостность и выясняется степень патологичности универсума, в котором часть активно противостоит своей собственной целостности. При субъектном подходе, по крайней мере, исключается провокация нового витка распада, предпринимаются попытки по реставрации и реконструкции тех онтологических структур, которые по каким-то причинам утрачивают свою субъектность. В любом случае примат целого над его интегральными частями является одним из основных принципов субъектоцентристской онтологии.
Рацио репрезентирует собой субстанциальный Порядок или упорядоченную Субстанцию и в этом плане выступает «умным органом» Природы, однако тот же Рацио, перешедший с дескриптивного на квазидесткриптивный дискурс, превращается в свою противоположность — в «без-умный орган» Хаоса, иррационализирующий рациональное, хаотизирующий упорядоченное. Рацио есть слуга двух господ — Природы и Хаоса, по мере обособления Природы от Космоса ее «умный орган» становится все более безумным и иррациональным, предающим ее самые высшие одухотворенные структуры, особенно natura naturans, Небытию, в котором Рацио в своей превращенной форме и становится «духом» Дьявола. Рацио и есть «падший дух», ведь подлинным объектом его дискурса является «онтологическое подполье» человеческого существования. «Ты, кичливый, надменный и гордый человек, — взывал Беме, — скоро мир станет теснее для тебя, и ты думаешь, что нет никого, кто был бы тебе равен! Одумайся теперь, ангельский ли ты носишь на себе образ, или диавольский»98. Как только оформляется «царство разума», онтология становится иррациональной, рациональность — квазионтологичной. Технологически опосредованное бытие телесного субъекта в результате радикальных изменений становится все более отчужденным в «пользу» псевдобытия рационального субъекта, а объектно-объектные отношения первого становятся фактически производными от внутриобъектных отношений второго. Внутриобъектные отношения — это уже «внутренние» отношения «внешнего мира», в котором инобытийствует отнюдь не человек, а отчужденный от него Рацио или рационально упорядоченная мощь Хаоса.
Подозрения о том, что онтологические корни Рацио необходимо искать в подполье мира сего, в аду, в котором духовные пытки являются весьма продуманными, все более подтверждаются изнанкой современной цивилизованной жизни. «Взаимообмен» онтологическими статусами между природой и хаосом — еще одно порождение «выворачивания вывернутого», по всей вероятности, уже последней модернизации в череде дьявольских реформации сущего, так как из сверхупорядоченной телесности можно вывернуть разве что запрятанный в его плотских структурах Рацио, который есть не что иное, как тайный агент Хаоса. «Осмелимся выдвинуть тезис, — пишет В.А. Кутырев, — расходящийся с традиционными философскими представлениями в принципе, а именно: субстанциально логос не является противоположностью хаоса. Все дело в уровне организационной сложности бытия и месте человека в нем»99. Конечно же, не божественный Логос, а лишь его зависимая составная часть — Рацио, отпавший от него, только тем и занимается, что упорядочивает хаос и хаотизирует порядок, посредством которых активно вытесняет предустановленную Логосом гармонию жизни. Рацио, решительно порвавший все свои связи с Жизнью, становится весьма явным предвестником Смерти. Хаос, упорядочиваемый квазиэвалюативными, квазипрескриптивными, а теперь уже и квазидескриптивными средствами насилия в этой новой, а точнее, заключительной, онтологической ситуации превращался во всеобъемлющее и тотальное Ничтожество, злым духом которого является глумящийся над жизнью Рацио. Онтологическая структура универсума объективаций, каким является искусственный мир, представляет собой рационально упорядоченный Хаос, в котором более нет места для трансрациональной гармонии.
Объектоцентристская мировоззренческая концептуализация ориентирует человечество на «рационалистический прорыв», на сознательное построение «царства разума», которое должно стать земным эквивалентом небесному раю. Однако что же ожидает человека в случае, если этот проект хоть в какой-то степени будет воплощен в «жизнь»? Естественно, тотальная смерть, и уже не только в теле, но и в духе. Конечным «продуктом разложения» внутрисубъектных отношений Абсолютного Субъекта являются «внутриобъектные отношения», или внутренние отношения Абсолютного Объекта, каковым и выступает Вселенский Хаос. Вселенский Хаос есть «конечный продукт» процесса гиперрационализации Человека и его Мира. В пределах квазирациональных внутриобъектных отношений человек предстает перед Иллюзорной Действительностью ее собственной Обезличенной Голограммой. «В силу своей имманентной логики, — писал Г.С. Батищев, — выбор чистого бытия благодаря и только благодаря миру, на деле оказывается выбирающим не только самоотрицание креативности, а и вообще самоликвидацию субъектности»100. Результатом последовательного рациогенезиса человека должно стать возникновение чистой Мыслеосновы для чистой Онтологии, синтез которых вполне укладывается в мистическое понимание Иллюзии или Майи. Майя есть результат последнего «диалектического снятия», осуществленного Разумом, посредством которого Мир окончательно преодолевает не только свою субъектность, но и объектность. Экзистенция, утратившая свою субстанциальность, превращается в энергетический эквивалент Бытия, в квант плоти, полная энтропия которого и есть Небытие или «бытие» Хаоса. Не случайно во всех без исключениях рациональных проектах будущего человек модифицируется в некую несубстанциальную субстанцию, что-то вроде «лучистой энергии». И даже здесь, при построении всеобъемлющей идеологемы идеального будущего, не обошлось без плагиата. Если в первомифе экзистенциальной предтечей субстанциальному миру является свет, а потому «мир» и «свет» в живом разговорном языке синонимичны, то в радикальной утопии свет выступает последней формой «диалектического снятия», посредством которого окончательно упраздняется «темный» мир. Таким образом в объектоцентристской идеологеме конца мира именно свет становится следствием экзистенциальной аннигиляции темного мира. Мир и свет в абсолютной идеологеме экзистенциально несовместимы.
Принцип «выворачивания вывернутого», которым пользуется идеология падшего мира, и здесь оказался тем испытанным приемом, посредством которого Рацио пытается присвоить себе статус не только Логоса, но и Реальности. Процедура наделения Мысли статусом Реальности называется реификацией. Майя, или Иллюзия, и есть результат квазиреификации Реальности. Реифицированная Реальность составляет онтологический модус Ничтожества. В онтологическое Ничтожество свертываются все формы ложного бытия и их рациональные реификации.
Порой Ничтожество так искусно мимикрирует под Ничто, что они становятся неразличимыми в философском дискурсе. Однако континуум онтологических форм развертывается лишь из Ничто и в него же свертывается. Ничтожество всего лишь совокупность распавшихся форм бытия, не подлежащих более упорядочению. Ничтожество лишь внешним образом мимикрирует под Ничто, как это видно на примере «света», обладающего совершенно противоположными онтологическими статусами в символическом мифе и рациональной утопии. Искусная реификация Ничтожества под Предвечное Ничто подвела многих крупных мыслителей. Так, Лев Шестов в своей апологетике Предсущего во всем обвинял Ничто, из материала которого Богу пришлось творить Мир, изначально соблазненный и опороченный этим же самим Ничто. «Человек, — писал Шестов, — отдавшийся во власть Ничто, считает себя знающим, считает себя праведным и не подозревает даже, что чем больше крепнет его уверенность в своем знании и в своей праведности, тем прочнее и нерасторжимее становятся цепи, которыми его сковало Ничто»101. Шестов, может быть сам того не желая, осуществил редукцию божественного Ничто к дьявольскому Ничтожеству. Это ли не пример того, как процедура реификации проникла в основы мистического постижения апофатической целостности сущего? Согласно субъектоцентристской концепции сущего, в полной своей «красе» Ничтожество появляется не в Начале, а в Конце истории, хотя его злой гений — Дьявол во плоти возникает с момента вселенского грехопадения. Проблема соотношения Ничто и Ничтожества так и не была корректно поставлена мистикой и столь же корректно интерпретирована философским дискурсом. Пока что мы введением в философский дискурс универсалии Ничтожества пытаемся лишь заострить эту проблему для тех, кто продолжит попытку несколько «прояснить» предельные основы философствования..
Одним из новомодных направлений в современной философии является неорационализм, претендующий на статус всеобъемлющей онтологии. Он пытается не только прояснить суть мироздания, но и вполне рационально объяснить, что такое Дух и как он «устроен». Согласно неорационалистическим откровениям, Дух есть онтологическая производная от объективного Мира. В аннотации к книге одного из адептов неореализма без лишней скромности отмечается, что она является «попыткой решить проблему, за которую философия до сих пор не бралась — включения духа в рационалистические модели»102. Вот как высоко оценивается рационалистическая редукция Духа уже даже не к Рацио, а всего лишь к одной из многочисленных моделей рациональности. Это ли не свидетельство той предельной степени рационалистической реификации Реальности, наделения ее предикатами Духа, до которой опустился современный философский объектоцентризм! То, что «не по плечу» было магии, оказалось весьма «легким делом» для логики. Включив Дух в свои рационалистические модели, Рацио тем самым стал не только над Реальностью, но и над Духом. Это ли не высшая форма на-силия формальной сило-гистики?
Рационалистическое снятие реальности осуществляется за счет десимволизации символов и последующей их трансференции в термины, причем в рамках такого рода псевдодискурса термины реифицируются под символы, и ими начинают оперировать не столько как со знаками, фиксирующими отношения реальности, сколько с самой реальностью, ибо эти знаки и есть реальность, что позволяет радикально замещать природные комплексы комплексами искусственными и даже объявлять первые онтологическими производными от вторых. Так, Г. Башляр в своей книге, посвященной психоанализу огня, весьма убедительно демонстрирует процедуру рационалистического выворачивания в принципе невыворачиваемого — того символического содержания, которое содержится в мифе об огне, отыскивая в огне как в первостихие некую прарациональность, которой своим генезисом обязана современная технологическая рациональность, за что и удосужился похвалы со стороны отечественного неорационалиста. «Теоретические доктрины, подобные квантовой механике, — пишет А.Ф. Зотов в предисловии к книге Г. Башляра «Новый рационализм», — выводят человека науки в сферу «технической реализации», позволяя ему сознательно создавать искусственные реальности (частным случаем области которых, кстати, выступает сама естественная реальность). Это значит, что на место традиционной темы объективного знания (имеющей сильный привкус созерцательности) в новой философии науки приходит тема объективации. Духовная активность современной науки начинает конструировать мир по образу разума»103. Как верно подметил В.А. Кутырев, рациональное начинает приравниваться к реальному, к сущему как таковому. Внутренний механизм этого процесса примерно таков: все считается рациональным, «типом рациональности: рационально то, что целесообразно (общепринятый критерий рационального); целесообразно то, что необходимо в какой-либо системе — реально; таким образом, мир системен и с необходимостью рационален. Отношение реального и рационального становится транзитным: все рациональное реально, все реальное рационально. По аналогичной схеме естественное вытесняется искусственным»104. В этом странном рацио-реальном симбиозе, который неореализм делает своей предметностью, искусственный мир становится реальностью, а естественный мир неким оптическим обманом зрения, иллюзией, Майей, избавиться от которого можно лишь обустраивая мир рациональных реальностей или реальных рациональностей. Несомненно, что по мере дальнейшей рационализации мира человек все больше будет утрачивать реальную его картину и пользоваться лишь свидетельствами, подчерпнутыми из виртуальной реальности формируемой квазирациональным дискурсом.
Как только реальность становится рациональной, а рациональность — реальной, граница между бытием и небытием оказывается столь условной, что рациональный субъект начинает с трудом отличать явь от сна и сон от яви. Примерно такое же состояние было и у астрального субъекта в связи с тем, что онтологическая грань, отделявшая микрокосм от макрокосма, была весьма проницаемой. Однако в той первичной онтологической ситуации творящим началом обладал «внутренний», а не «внешний» человек, ведь онтологическую основу космического универсума составляли внутрисубъектные отношения. В квазирациональной онтологической ситуации, напротив, внешний мир обладает статусом реальности, а внутренний человек реален лишь в той мере, в какой структура его ментальности выступает интериоризацией внутриобъектных отношений. Он должен принимать как данность любые экстенции, исходящие из его собственного объективизированного и реифицированного Рацио. Один из героев повести В. Ерофеева «Москва—Петушки» свое отношение к этому рационально-иррациональному миру определяет весьма характерной фразой: «Я если захочу понять, то все вмещу. У меня не голова, а дом терпимости».
Если энтропия в технологических структурах обусловлена активным вытеснением из экзистенции надтелесных феноменов, то энтропия в природном комплексе осуществляется за счет вытеснения структур natura naturata и замещения их структурами natura morte. Происходит все более радикальный процесс замены естественного на искусственное в отелесненной Вселенной или вселенской Телесности, которая становится все более рациосоразмерной. «У экологов, — пишет Ф.И. Гиренок, — возникла смутная догадка о том, что когда-то были другие проблемы, но отсчитывались они от феномена человека, а не от расположения планет в Солнечной системе. Последнее обстоятельство заставляет нас искать квазиантропологический подход к экологии»105. Так как негэнтропия в мироздании поддерживается лишь за счет укорененности в нем естественного и живого, то с расширением в нем сферы присутствия искусственного и мертвого энтропийные процессы начинают приобретать поистине апокалиптический характер и размах. Чем более рациосоразмерной становится экзистенция, тем менее устойчивыми и живучими оказываются ее формы. И как только естественная человеческая телесность окончательно трансформируется в искусственную плоть, способную существовать в автономном от человека режиме, так сразу же отпадет необходимость в каком-либо функциональном присутствии человеческого естества. Отпадет и необходимость историческому разуму в целях ускорения Прогресса провоцировать развертывание иррелевантной его темпам структуры потребностей «живого человека». Bo-плот-ив онтологические свойства и способности человека в реифицированную реальность, превратив их в плоть «искусственного интеллекта», т.е. в свою собственную «интеллектуальную плоть», Рацио наконец-то навсегда избавится от требований телесной плоти. Одной из целей рациогенезиса является полная и окончательная замена витальных потребностей потребностями эволюции — требованиями законов самодвижения. Отчужденный от человека мир, подобно улыбке кота, блуждавшей в кэрроловском Зазеркалье сама по себе, начнет свое «автономное» существование. Перманентно деградируя по законам энтропии, чистое бытие чистого разума в конце концов превратится в черную экзистенциальную дыру. Кэррол в «Алисе в Зазеркалье» по сути открыл еще один закон мироздания, согласно которому в мире Иллюзий или иллюзорном Мире в состоянии существовать отнюдь не целостности, а их распавшиеся части, ибо Зазеркальем реального мира является Хаос.
Итак, последней формой онтологической укорененности Субъекта в Объекте является его телесно-рациональное Я или рационализированное Оно, и как только его внешняя проекция — вселенское Оно, аннигилирует в чистый Абсолютный разум, завершится и метаистория Абсолютного Неиного в качестве развернутостей всех развернутостей, с окончательным свертыванием естественной гармонии в изначальное Ничто. Но вместе с завершением метаистории завершится и псевдоистория (историцизм) — процесс свертывания ложных и репрессивных структур Сущего в Ничтожество. Онтологическая смерть человека во вселенских масштабах, видимо, может рассматриваться не столько как следствие тотального вырабатывания «внутреннего человека», сколько как полное и окончательное растворение его телесности в телесной организации мира с последующей ее аннигиляцией в некую разновидность дьявольской энергии. В этом заключительном историцистском акте, по всей вероятности, найдет свою реализацию последняя потребность человека — потребность ухода в небытие, как следствие «усталости от жизни» или, точнее, «экзистенциальной усталости», явные признаки которой обнаруживаются в некрофильской ориентации современного человека, существенно подорвавшей основы его естественной жизни. Превратить свою многомерную Экзистенцию в одномерную Рационализацию, способную реифицировать все Мироздание — таково подспудное желание «последнего человека», которое может реализоваться разве что за счет окончательного исхода из мира реальных сущностей в мир ирреальных иллюзий, имя которому — Смерть. В крайней форме неореализма Смерть и есть реифицированная Жизнь.
Если укрепляется рациональная вера в то, что естественное есть всего лишь момент развития искусственного, то, несомненно, этим естественным стоит поступиться во имя Прогресса. «Сколько бы разум ни прославлял свободу, — писал Лев Шестов, — он все же хочет и должен вправлять ее в рамки необходимости»106. Объектоцентристское мировоззрение оперирует орруэловским новоязом, в котором «свобода — есть рабство», а «смерть — есть жизнь», а потому все внимание человека центрирует не на его возрождении в трансцендентном Духе, а на всесторонней рационализации его Тела, которая в случае успеха может обеспечить человеку вечное голографическое присутствие в мире искусственных сущностей. Уже современное поколение является свидетелем того, как социальная утопия, еще недавно выступавшая путеводной звездой прогресса, все решительнее вытесняется тотальным рационалистическим проектом, целью которого является стремление все сущее расчеловечить якобы во благо самого человека. Объектоцентристское мировоззрение совершенно игнорирует тот факт, что рацио не в состоянии экзистировать вне тела, так как не рацио, а тело является последним вместилищем духа. Как только из него будет вытеснена последняя субъективация, оно превратится в мертвую плоть и распадется на дурную бесконечность объективации, именуемую хаосом. Отчужденное не может существовать без отчуждаемого, они должны всегда составлять некую экзистенциальную пару в этом «прекрасном и яростном» мире. В ментальном плане это выражается в том, что вытесненное из сферы сознания продолжает свое существование в сфере бессознательного, что и позволяет искаженному и ложному бытию выполнять свои экзистенциальные функции и достигать некоторой псевдоцелостности. Как только рациональное сознание попытается окончательно обособиться от негэнтропийного бессознательного, оно лопнет подобно мыльному пузырю, пытавшемуся вобрать в себя весь воздух, содержащийся в атмосфере. В сфере многомерного бытия отчужденные онтологические формы в состоянии не только существовать, но даже и развиваться, лишь при условии, что на заднем плане бытия все еще продолжают существовать их высшие праформы.
С окончательным устранением человека из универсума объективаций в качестве его субъекта мир искусственный обретет способность к неограниченному «прогрессивному развитию», в расчеловеченной системе «человек—машина» место человека займет отчужденный от него разум и уже эта «рацио-машина» не будет нуждаться в каких-либо сдерживающих тормозах — ей под силу будут любые ускорения. Однако прогресс внешнего объективированного мира иррелевантен регрессу внутреннего субъективированного мира; при субъектности, стремящейся к нулю, объектность уходит в бесконечность. Но эта формула прогресса работает лишь при условии, если онтологическое взаимодействие все же не выходит за рамки объектно-объектных отношений при всей его системной гипертрофии. Как только субъект превращается в ментальный нуль, объект также оказывается онтологическим нулем, и как только исчезают последние признаки присутствия Субъекта как Неиного в Сущем, Объект как Иное мгновенно распадается на дурную бесконечность мельчайших квазиобъективаций. В это же самое метаисторическое мгновение Субъект, оказавшийся почти низведенным до нуля и почти у самого перигея своей инволюции, вновь инверсирует в субъективированную Бесконечность или бесконечную Субъективность — в «ментальную пустоту» — каким является вечно Предсущий Бесконечный Субъект. Так что с полным вытеснением Субъекта Объект окончательно прекращает свое «существование», которым он обязан был отнюдь не действиям законов эволюции, а эманационным всплескам Субъекта. Элементы объективной реальности — всего лишь онтологические сгущения, посредством которых метаисторически фиксируется процесс расширения человеческой экзистенции, вне субъективной реальности они оказываются всего лишь экзистенциальными фикциями, фикциями рационального сознания.
Несомненно, что в качестве узловой темы философского дискурса должно стать экзистенциальное соотношение Человека и того Места в Универсуме, в котором, если использовать терминологию Хайдеггера, он осуществляет свое Присутствие. И прежде всего предстоит выяснить, почему в Конце Истории Человек оказался онтологически не-у-местен Миру, а Мир несов-местим с Рацио, который сначала реифицировался под Духа Места, а затем обернулся Духом Мести?
Ментальная составляющая природной катастрофы. Заключительной фазой Всемирной истории в ментальном плане является история формирования предельно ложной рациональной субличности. «Центр притяжения человеческого существа, — считает Маритен, — опустился настолько низко, что для нас нет более, собственно говоря, личности, а есть лишь фатальное движение полиморфных подземных личинок инстинкта и желания... и все упорядоченное достоинство нашего личного сознания оказывается ложной маской»107. Рациональный модус телесного субъекта сам пытается обособиться в качестве субъекта независимого тела, реифицируемого им в качестве объекта, модус пытается стать такой ментальной целостностью, которая не должна зависеть от субстанции, что позволило бы Рацио самореифицироваться под Мироздание путем его радикальной десубстанциализации при посредничестве соответствующих рациональных процедур. «Сущее, — проповедовал Иоанн Дамаскин, — есть общее имя всего, что есть, и оно подразделяется на субстанцию и акциденцию. Субстанция есть более важное начало, ибо имеет свое существование в себе самой, а не в другом. Акциденция же есть то, что не способно существовать в себе самом, а созерцается в субстанции... определение субстанции таково: субстанция есть вещь самосущая и не нуждающаяся для своего бытия в другом. Акциденция же есть то, что не может существовать в самом себе, а имеет свое бытие в другом. Бог и все его творения суть субстанция; впрочем, субстанция Бога сверхсубстанциальна»108.
В телесном субъекте субстанцией является тело, а акциденцией рацио, который не может существовать вне тела, стремление акциденциальной рациональности преодолеть свою собственную телесную субстанциальность есть не что иное, как попытка стать Сверхсубстанцией, Абсолютным Разумом и заместить собой Бога. Она стремится стать такой же вечной, какой является человеческая несубстантивная душа, принадлежащая отнюдь не Телу, а Духу, и по отношению к которой само тело выступает ее акциденцией, так как не в состоянии автономно от души существовать. «Душа, — писал Плотин, — участвуя в страдательных состояниях тела, имеет эти состояния только как акциденции, а сама пребывает в себе и не есть принадлежность ни вещества, ни тела; напротив, она во всей своей целости из себя изливает свет на целое мировое тело и его освещает»109. Однако Рацио стремится развоплотиться не только в теле, но и в душе, преодолеть в себе изначальную апофатическую связь с Субъективным Духом. Более того, он стремится, как это видно на примере неореалистического дискурса, превратить Дух в акциденцию своей собственной сверхсубстанциальности.
Итак, в «ментальной норме» тело есть акциденция несубстанциальной души, а разум является акциденцией субстанциального тела, и как только эта трансцендентная цепочка разрывается, прекращает свое существование не только телесная субстанция, но и рациональная акциденция. Не безгрешная душа зависит от рациональной телесности, а наоборот, с превращением тела в плоть, душа, согласно доктринам монотеизма, вновь возвращается в обитель Духа, а Рацио вместе с Плотью обращается в Прах.
Душа в отличие от плотского Рацио не только транссубстанциальна, но и трансакциденциальна. «Душе, — писал Зиммель, — по крайней мере в принципе удается совершить то, что в обычных условиях совершить невозможно, быть целым и в то же время членом, составной частью целого, в русле полной индивидуальной свободы помогать создавать сверхиндивидуальный порядок»110. Но именно эту свою акциденциальность и тотальную зависимость от Тела, а следовательно, от Души, а через нее и Духа, Рацио и стремится преодолеть радикальным выворачиванием трансрациональных основ Неиного, модернизации его в Иное — в упорядоченный Хаос. Конечно же, этого Рацио свершить не дано по причинам, выясненным выше. Однако осуществляя свой проект, он все же весьма преуспевает в деформировании телесно-рациональной формы ментальности, превращая ее в маргинальную субличность, которую лишь условно можно обозначить термином «рациональный субъект», памятуя о том, что в его основании содержится хотя и онтологически ущербная, но все же телесная форма субъективности. К тому же, понятие «рациональный субъект» становится все более ключевым для неореалистов и нарицательным для гуманитариев. Научная рациональность, считает В.А. Кутырев, «превращает Homo sapiens в Homo Ratio, Homo sapientismus»111. Таким образом, ментальной сущностью заключительного этапа истории становится процесс трансформации человеческой субъективности в чистую рациональность, пытающуюся устранить... человеческое присутствие в сущем.
В качестве акциденции телесной субстанциальности Рацио имеет целую иерархию онтологических форм (схема 17), и все они являются имманентными онтологическим формам природы, о которых шла речь в предыдущем параграфе. Лишь превратившись в ложную и иллюзорную субстанцию, Рацио становится псевдоментальной акциденцией однако уже не Порядка, а Хаоса.
|
Космогенез человека |
Антропогенез человека |
Социогенез человека |
Природогенез человека |
||
|
СЛАБОСТЬ |
|
|
|
|
СИЛА |
|
|
|
|
|
||
|
Космические сущностные силы |
Антропные сущностные силы |
Социальные сущностные силы |
Природные сущностные силы |
||
Схема 17. Онтологические формы рационального дискурса.
Неявные формы рациональности, синкретично связанные с сакральностью, человечностью, социальностью и телесностью, в Иерархическом Человеке и представляют собой те истинные праментальные формы, которые затем инверсируют в ложную рациональную субъективность, в Homo Ratio. Овладев природными сущностными силами, рациональная псевдоличность вступает в силовые отношения со своей собственной субстанцией — телесным субъектом. По мере того, как все более патологичным становится внешний искусственный мир, человек вынужден к нему адаптироваться своей более радикально саморационализирующейся ментальностью. Мы не будем анализировать формы рационального дискурса, так как это особая тема, которая будет рассматриваться в заключительной книге «Суммы» (она будет называться «Введение в антропологическую онтологию»). Здесь же мы привели эту схему, чтобы наглядно представить, как рациональный дискурс, подспудно развиваясь во внерациональных практиках человека, в конце концов выродился в дискурс сугубо иррациональный, что и повлекло за собой обособление квазирациональной субличности или персонифицированного Рацио. Абсолютно адаптироваться к универсуму искусственных квазифеноменов человек в состоянии, став лишь абсолютным ментальным Ничтожеством. Таким образом, еще одной стороной природной катастрофы становится возникновение ментального модуса Ничтожества.
В этой радикальной квазиментальной ситуации начинает наконец-то действовать идеальная бихевиористская интерактивная модель, не нуждающаяся более в пресловутом «черном ящике», под которым ранее подразумевалось кодирующее и декодирующее устройство, именовавшееся в старые добрые допозитивистские времена личностью. Отныне нет уже необходимости перерабатывать стимулы, поступающие на «вход» ментальной системы, в некую совокупность реакций — на ее выходе, так как функцию «посредующего звена» берет на себя уже «белый ящик» — логическая машина, все более обретающая свойства и функции естественного разума, искусственно вычлененного из многоуровневого человеческого Интеллекта, восходящего к Духу.
Постепенно начинает складываться и развиваться некий «всеобщий искусственный интеллект», регулирующий отношения как между искусственными, так и естественными объектами. Рациональный дискурс, «субъектом» которого становится реифицированная Реальность, все более оказывается особой формой «всеобщего мыслительного процесса», протекающего в основном за пределами индивидуальных человеческих душ и сознаний, однако оказывающегося сопряженным с теми рациональными интенциями, которые из них репрессивно этим дискурсом вытягиваются. Видимо, тотальная и абсолютная Иллюзия и есть не что иное, как полное взаимоналожение двух форм рациональностей, результатом которого оказывается Квазиреальность, экзистенциальный статус последней стремится к нулю, а гносеологический — к бесконечности. Там, где индивиды лишь иллюзорно проживают и переживают «ирреальную реальность», состояния «субъективного» и «объективного», «внутреннего» и «внешнего» сознаний как по структуре, так и по содержанию оказываются предельно гомоморфными. Срабатывает эффект голого короля, многократно усиленный слепой верой в чистую Логику; отныне индивиды видят лишь то, что порождено Иллюзией и совершенно не реагируют на то, что оказывается проявлением «реальной реальности». Такую квазиментальную ситуацию необходимо обозначить термином — предельно реифицированная субъективность.
Дескриптивное содержание ментальности телесного субъекта оказывается всего лишь «индивидуализированной» калькой с рационального сознания. Редукция семантической неопределенности к собственно дескриптивному дискурсу делает проблему «понимания» индивидами друг друга предельно простой и тривиальной. Построение всеобщего текстового массива по законам формальной логики и логическая структурированность индивидуальных сознаний ведут к почти абсолютной аутентичности смыслов поступающих на «входы» всеобъемлющей когнитивной системы, что обусловливает однозначность и стереотипность реакций, которые поступают на ее «выход». Более того, «вход» и «выход» в этой когнитивной системе оказываются настолько закольцованными, что, по сути, в нее не может прорваться извне никакая иная информация, кроме той, которая циркулирует по логическим лабиринтам рационального дискурса. Когнитивное поле универсума объективаций и когнитивные поля рациональных субъектов будут настолько синхронизированными, что развертывающийся квазидескриптивный дискурс одновременно распространится на всю популяцию рациональных псевдосубъектов. Тело, — пишет Л.А. Мясникова, — является понимающим (и познающим) в той мере, в какой оно есть антенна, улавливающая жизненный поток, т.е. в какой само тело — жизнь»112. Потому-то Рацио и преодолевает свою телесность, дабы окончательно избавиться от приемной антенны, которая столь чувствительно реагирует на жизненные проявления, исходящие не только от рационализированной natura naturata, но и трансрациональной natura naturans.
Ментальность рационального субъекта при всей своей внешней «мощи» является столь хрупкой, что с трудом справляется с теми интенциями, которые исходят от интенциальных субъектов, вытесненных в бессознательное. «Понадобились столетия прогресса и привыкания, — пишет Маркузе, — прежде чем индустриальная цивилизация стала достаточно сильной, чтобы справиться с возвращением вытесненного. Но на ее поздней ступени ее рациональность, кажется, вновь готова лопнуть под натиском новой формы возвращения вытесненного»113. Возвращение вытесненного приобретает столь же вселенский размах, как и катастрофа во внешнем объективированном мире человека, можно даже сказать, что они являются взаимообусловленными переменными перманентного Апокалипсиса, идущего уже не одно тысячелетие.
Казалось бы, что за всю свою историю человечество впервые обрело реальную возможность окончательно упорядочить хаос своего бытия, ведь он уже одной ногой почти ступил в «царство разума», о котором столь страстно мечтал на протяжении последнего тысячелетия, разрабатывая все новые и новые утопки. Однако именно тогда, когда человек научился рационально и планомерно модернизировать устои своего существования, эти онтологические опоры оказались столь шаткими, что впору их укреплять какими-то иными, внерациональными способами. Высшие онтологии, в отличие от Оно, не поддаются столь однозначной и целенаправленной упорядоченности, мировой порядок организуется изнутри, а не извне. Он оказывается лишь в той мере онтологически упорядоченным и устойчивым, в какой в нем укоренена имманентная ему форма субъективности, восходящая к ментальной гармонии Бесконечного Субъекта. Кстати, и сам универсум объективаций в состоянии представлять собой именно органический и устойчивый универсум, а не искусственную систему объектов, связи и отношения между которыми подвержены энтропии и самораспаду, исключительно лишь в силу того, что в нем все еще продолжает инобытийствовать субъект. Однако именно это обстоятельство совершенно игнорируется объектоцентристским мировоззрением, пытающимся отыскать в мироздании некое «абсолютное тело», «абсолютный объект» и использовать его в качестве первокирпичика, пригодного для построения нового Здания Мира вместо старого и довольно ветхого Миро-Здания. Мир, составленный из этих «первокирпичиков», должен отличаться от старого мира своей особой устойчивостью. Таким миром, по замыслам неореалистов, должен стать искусственный мир, в котором человек будет присутствовать своим «искусственным интеллектом».
Самовытеснение Человека из созидаемого им объективированного мира — последний этап его перманентного грехопадения, дальше падать уже некуда — ниже располагается Танатос, абсолютно онтологическое отсутствие. Сфера Иного в Сущем становится все более всеобъемлющей, превращаясь в тотальное экзистенциальное Ничтожество, упорядоченное в Квазионтологию последними остатками отчужденной субъективности. Как только исчерпается и ее «экзистенциальный ресурс», вся эта громада распадется на дурную бесконечность мельчайших частиц и канет в Лету, или, иными словами, погрузится в Хаос. «Невозможно устроить мир материи, — писал И.А. Ильин, — не устроив мира души, ибо душа есть необходимое творческое орудие мироустроения. Душа, покорная хаосу, бессильна создать космос во внешнем мире; ибо космос творится по высшей цели, а душевный хаос несется, смятенный, по множеству мелких, противоположных "целей", покорствуя слепому инстинкту»114.
История делает последний рывок для самопреодоления и делает его, как всегда, радикальным понижением онтологического статуса у Субъекта и столь же радикальным его повышением у Объекта. Свертываются те проекты, которые в дорациональную историю были приоритетными — культовые, культурные, социальные, и прежде всего те из них, которые придавали движению экзистенции обратно-поступательный характер. Соотношение Метаистории и Историцизма, Неиного и Иного в Сущем окончательно и бесповоротно решается в пользу последних. Рационально-технологическая история в своем исключительно поступательном движении начинает стремительно приближаться к своему концу. Именно с этого метаисторического момента исторический процесс начинает осмысливаться не только как прогрессивный, но и чреватый вселенской катастрофой; ее необходимо предотвратить, но при этом сохранить «прогрессивную» направленность истории. На заключительном этапе истории историцизм становится главным оппонентом метаистории, и человек уже не ощущает в его доводах ту фальшь, которая в прежние времена вскрывалась символическим и ценностным самосознанием.
Мир появляется вместе с человеком и интенсивно эволюционирует в той мере, в какой человек самоотчуждается, но последний акт самоотчуждения человека и есть тот метаисторический момент, когда окончательно десубъективированный мир превращается в груду мертвых объективаций, воскресить которую не способны никакие объективные законы развития. Если квазикультура прекращает жизнь экзистенциальных монад — микрокосмов, а квазицивилизация ставит предел существованию человека как экзистенциального феномена, то квазитехнология, все более вырождающаяся в чистый рациональный передел сущего, вытесняет в небытие существование последней исторической формы субъективности. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5:12). Превратившись в рационального субъекта, человек становится не чем иным, как вселенским Ничтожеством, неспособным свернуть свою экзистенцию в изначальное Ничто, а потому своей волей к смерти оказывается не-вольным «субъектом» вселенского Апокалипсиса.
Природная катастрофа не есть следствие хода и исхода метаистории, в то же время она не есть и результат некой ее особой истории — естественной истории, о которой говорят натуралисты. Природа становится частью Истории лишь своей соотнесенностью с Духом и человеческой Экзистенцией; она внеисторична, если ее рассматривать лишь в качестве некоей совокупности физических процессов. Ясперс подчеркивал, что то, что составляет в истории лишь физическую основу, что возвращается, сохраняя свою идентичность, что есть регулярно повторяющаяся каузальность, — все это неисторическое в истории. В потоке того, что только происходит, историчность выступает как нечто своеобразное и неповторимое. Историческое подвержено разрушению, но во времени оно вечно. Отличительная черта этого бытия состоит в том, что оно есть история и не обладает длительностью на все времена. Ибо в отличие от того, что просто происходит, служит только материалом для простого повторения общих форм и законов, история есть то происходящее, которое, пересекая время, уничтожая его, соприкасается с вечным115. Таким образом, виновным в гибели Природы, как до этого в гибели Культа, Культуры и Цивилизации является лишь Человек, ибо эти катастрофы выступают ступенями «радикального снятия» на пути «прогрессивного» его историцистского устремления в «Царство Разума».
Польский поэт Леон Швед свою поэму «Manhattan extending» заключает следующим призывом к человечеству:
Разве можем мы всегда помнить что:
даже если бы существовал самый идеальный политик,
то все равно не хватило бы доброй воли,
что даже если бы придумали космическую лигу,
то все равно буйствовала бы война,
наряду с вставляющими нам вместо удаленных почек
искусственные,
с замещающими нам на наших сердцах клапана
пластическими искусственными
и даже тогда, когда будут работать
вечные искусственные сердца, легкие и почки,
и даже тогда будьте верпы требованию,
только бы добыть хоть на время,
только бы продержаться,
и все это наспех,
как обычно бывает на этой земле.
(Перевод авт.)
Природная катастрофа — последняя радикальная форма «диалектического снятия» Жизни, которую Человек осуществляет во имя Смерти. Однако этого еще можно избежать при условии, если человек изменит свою объектоцентристскую мирожизненную установку на противоположную и вновь осознает свою креативную миссию в Миротворении.
6.4. МЕТАИСТОРИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА: АПОКАЛИПСИС ИЛИ АПОКАТАСТАСИС?
Ученики спросили Иисуса: «Скажи нам, каким будет наш конец». Иисус сказал: «Открыли ли вы начало, чтобы искать конец? Ибо в месте, где начало, там будет конец. Блажен тот, кто будет стоять в начале: он и познает конец, и он не вкусит смерти».
Апокрифическое Евангелие от Фомы
Как вы не веруете в Аллаха? Вы были мертвыми, и Он оживил вас, потом умертвит вас, потом оживит, потом к Нему вы будете возвращены.
Коран. Сура 2:26
Разрабатываемая нами историософская модель расширяющегося человеческого бытия хотя и является предельно идеальной и абстрактной, как и положено быть любой метафизической концептуализации, апофатически восходящей к пророчествам, содержащимся в первомифе, однако, как нам кажется, определенным образом втягивает в себя реальный исторический процесс в качестве феноменализации Трансцендентного, объективации Духа. Именно феномены и объективации, как эмпирически наблюдаемые данности, фиксируются историческим сознанием, которое пытается путем их рациональной генерализации приобщиться к таинственному Смыслу Истории. В конце концов рациональный исторический дискурс приходит к выводу, что вся суть истории есть не что иное, как сплошная бессмыслица, поскольку она осуществляется не в вечности, а во времени, и ее конец фатален. Такой вывод вполне логичен, если исходить из сугубо объектного отношения к человеческой экзистенции и ее истории. При субъектном же подходе смысл истории оказывается отнюдь не имманентным ей самой, а конец истории не может быть понят вне трансцендентного контекста ее начал, и он отнюдь не фатален, ибо от субъекта, а не от объекта, зависит не только ход, но и исход его существования. У истории есть глубокий символический смысл и, хотя он относится к сфере непознаваемого, к нему можно в известной степени приобщиться, если подвигом веры погрузиться в апофатические глубины Откровения. Духовная истина открывается лишь на пути духовного преображения и самопознания. Смысл человеческого бытия и его истории определенным образом может приоткрыться в историософском способе постижения, если «вера в сакральное» будет дополнена, согласно Ясперсу, «философской верой»», если метафизический дискурс об историческом процессе при всей его внутренней связанности будет а-логичен, трансрационален, основан не на рациональных «принципах знания», а сакральных «принципах веры». Ясперс писал: «Философская вера не имеет прочной опоры в виде объективного конечного в мире, потому что она только пользуется своими основоположениями, понятиями и методами, не подчиняясь им. Ее субстанция всецело исторична, не может быть фиксирована во всеобщем — она может только высказать себя в нем. Поэтому философская вера должна в исторической ситуации все время обращаться к истокам. Она не обретает покой в пребывании. Она остается решимостью радикальной открытости. Она не может ссылаться на самое себя как на веру в окончательной инстанции. Она должна явить себя в мышлении и обосновании»116. При всей своей относительности философская вера в состоянии восходить к постижению смысла истории, если ее основанием будет служить абсолютный миф.
Разрабатываемая нами субъектоцентристская историософема в связи с тем, что она, как нам представляется, вполне корреспондирует с мифологическим творчеством человечества, а не с перманентно сменяющими друг друга относительными мифами (идеологемами, парадигмами, теоретизмами) хитрого исторического разума, открывает в своих рамках возможность метафизически интерпретировать не только феноменальные структуры сущего, но и трансцендентальные проявления должного. Субъектоцентристская модель исторического процесса как процессуальной целостности определенным образом учитывает тот идеальный трансцендентальный проект космодинамики, который, по свидетельству пророчеств, содержащихся в первомифе, «задумывал» Бог, приступая к творению сущего. И хотя «Человек пред-полагает, а Бог pac-полагает», все же, являясь существом свободным и самобытным, человек своими не вполне адекватными пред-положения-ми привносит в эту вселенскую космодинамику жизни нечто свое иное. При свете веры становится оче-видным, видимым внутреннему зрению то, что привносится человеком в мир сверх идеального космологического проекта, оказывается совсем не его иным, а навязанным ему чуждым иным, выступающим прежде всего средством его само-от-чуждения и следствием обольщения со стороны Иного, противостоящего Неиному в Сущем и восходящего к первородному грехопадению. Свой известный труд Жан-Жак Руссо начинает такими словами: «Все выходит хорошим из рук Мироздателя, все вырождается в руках человека». По мере того как человек вполне осознанно начинает служить Иному, принимая его за свое иное, он все более противопоставляет свою экзистенцию Неиному, утрачивая к себе рас-положение Бога. Гёте писал: «Я предвижу, что придет время, когда люди перестанут радовать Бога, и он вторично уничтожит их во имя нового творения». Вера в «свое иное», в феноменальное есть не что иное, как «своеверие», выступающее основой экзистенциального нигилизма и в конечном счете ведущее к рациональному самоотрицанию.
Человеку как особому Феномену, отпавшему от Ноумена, ввергнутому своей-чужой Историей в противостояние Неиного и Иного в Сущем, не дано достоверно интерпретировать изначальный и абсолютный экзистенциальный проект; в лучшем случае вся его эмпирическая история свидетельствует лишь о том, что ему как-то удается воплотить в жизнь некоторую антропоцентристскую модификацию трансцендентального замысла, некий свой особый онтологический самопроект, совпадающий с неявным целеполаганием Метаистории лишь в основном, в главном. Реальная история, которую человечество эмпирически проживает — всего лишь ее феноменологическое иносказание, терминологический пересказ дискурсивно невыразимого Символа. Сначала было Слово, иррелевантное Замыслу, однако оно постепенно вытеснялось Термином, который Замыслу начал придавать все более человеческие и даже недочеловеческие смыслы, пока, по утверждению экзистенциалистов, существование человека не стало онтологически бессмысленным и абсурдным.
Согласно христианскому вероучению, вся трагедия человеческой истории заключается в том, что низшие онтологии не только выделяются из высших и обособляются в относительно универсальные целостности, но и отпадают от них (догмат о грехопадении Человека, отпадении его от Бога). Вследствие такого не предусмотренного идеальной метаисторией поворота в судьбе человека культура начинает антагонистически противостоять культу, цивилизация — культуре, а технология — цивилизации. При построении всеобъемлющей историософемы необходимо учитывать тот крутой поворот в метаисторических событиях, который был порожден экзистенциальным бунтом Человека против Бога и повлек за собой бунт Вещей против самого Человека. «Бунт, — писал Камю, — порождается осознанием увиденной бессмысленности, осознанием и несправедливого удела человеческого. Однако слепой мятежный порыв требует порядка среди хаоса, жаждет цельности в самой сердцевине того, что ускользает и исчезает. Бунт хочет, бунт кричит и требует, чтобы скандальное состояние мира прекратилось. Цель бунта — преображение»117. Мятежный порыв низших экзистенциалов против высших в конечном счете оказался кумулятивно направленным против жизненного порыва, а устанавливаемый им порядок за счет вытеснения предустановленной гармонии обернулся распадом и хаосом.
Вся история человечества свидетельствует о перманентной и насильственной редукции высших форм бытия к низшим, которая осуществляется в целях установления господства нецелостного человека над целостным мирозданием. Присвоение мира в форме отчуждения, господство над ним сугубо внешним и тоталитарным образом оказывается возможным, если к миру применяются зауженные онтологические мерки, сначала человеческие, затем социальные и техногенные, а в конце истории и рациональные мерки. Г.С. Батищев вслед за Ф.М. Достоевским называл человека «свое-мерным», и это может быть еще одним его определением. По ходу истории человек постоянно изменял способы из-мерения действительности, выбирая все более дробные единицы отсчета, пока наконец-то не выбрал такую, по отношению к которой его собственная экзистенция оказалась несоразмерной. «Совершенно неверно применять низкую сферу как мерило для более высокой сферы; — писал К. Маркс, — в этом случае разумные в данных пределах законы (низшей сферы. — Ю.М.) искажаются и превращаются в карикатуру, так как им произвольно придается значение законов не этой определенной области, а другой, более высокой. Это все равно, как если бы я хотел заставить великана поселиться в доме пигмея»118. Однако никто из реформаторов мира сего никогда не следовал этому золотому правилу, не внял ему и сам К. Маркс, по сути применив к многомерной человеческой истории узкие социальные мерки.
Следствием редукционистской практики является перманентно увеличивающийся объем насилия, осуществляемого «внешним человеком» над «внутренним человеком», над своими высшими ипостасями и их внешними онтологическими проекциями. В результате такого прогрессирующего своемерия человек все более превращается в онтологического пигмея, в индивида-атома, последовательно вытесняющего из Мира-Дома все надобъектное и надрациональное.
По мере продвижения истории к своему завершению, человек становится все более зависимым от самого себя и начинает страстно желать своего самоосвобождения, освобождения от своего собственного своеволия и своемерия. Человеку, считает Г.С. Батищев, присуще воспринимать свой собственный исторический опыт, каким бы ущербным он ни был, в качестве абсолютного и универсального онтологического эталона для формирования и развития «внечеловеческой реальности», которую он воспринимает не иначе, как в качестве объекта своей экзистенциальной экспансии. «То, что человек, — пишет Г.С.Батищев, — имеет в своей собственной культуро-исторической диалектике универсальный эталон для всякой иной диалектики, какая только может быть во всей остальной, внечеловеческой действительности, и то, что последняя ставится заведомо ниже, ибо служит лишь лестницей, ведущей к человеку и на человеке завершающейся, — превращается в обоснование гордому притязанию человека быть Мерилом Всем Вещам, быть Судией над всем космосом. Отсюда... пафос не ведающего никаких сдерживающих критериев активного воздействия человечества на мир вне себя, пафос вторжения в мир, присвоения его себе «по праву Прометея», переделки его, господства над ним. Отсюда такое превознесение культуры, которое антагонистически противопоставляет ее природе, вообще внечеловеческому бытию и которое оборачивается подменой культуры цивилизацией... Отсюда такое превознесение истории человечества, которое равносильно поворачиванию спиной ко всему остальному космосу, самоизоляции от него и аксиологическому самозамыканию... В самом деле, ведь порядок утилизации — это порядок нанизывания добычи на центробежный вектор «от себя во вне»: от частных, локальных и ситуативных регуляций к более широким... на любой ступени всякая следующая выступает не сообразно своей собственной смысловой логике, а как следующее звено в цепи средств и вооружений, подчиняемое предыдущему и функционально-служебное для него. Такова последовательность, ведущая от средства первичного ко вторичному, третичному и так далее — к средству, многократно опосредованному и наиболее удаленному в этом нисхождении от самой активности к тому, чем она вооружилась: чем дальше, тем ниже. Когда же объектно-вещная активность добирается до бесконечных величин, до высших принципов, то они оказываются последними в этой перевернутой иерархии»119. Эту перевернутую иерархию жизни создает сам же человек путем последовательного упрощения высших форм бытия и искусственного усложнения низших, при этом сам он со всем своим неизбывным и сокровенным оказывается погребенным под созданной им за тысячелетнюю свою историю пирамидой власти, которую замыкает «власть Рацио».
История есть явная неудача жизни, неоднократно повторяли Н.А. Бердяев и С.Н. Булгаков, она явно противостоит метаистории, в ней последовательно культура отпадает от культа, цивилизация от культуры, а в «конце истории» вся многомерная в прошлом человеческая экзистенция оказывается предельно упрощенной гипердескриптивной технологией под приоритеты абсолютного господства на всех этажах Миро-Здания искусственного над естественным. Онтологические ступеньки начинают вести отнюдь не к полноте бытия Иерархического Человека, а к вульгарно переполненному, тучному псевдобытию (Жан Бодрийяр) одномерного человека (Г. Маркузе). И на каждой следующей псевдоонтологической ступеньке объективированная экзистенция (полужизнь-полусмерть) обретает все более гипертрофированные формы, служит средством все более репрессивного, насильственного воздействия низших универсумов над высшими, способом преодоления ими своей метаисторической вложенности, средством насильственного присвоения неприсвояемого — абсолютного онтологического Статуса, или онтологического статуса Абсолюта. Человек не только строит мир, по и разрушает ранее выстроенное им, вновь и вновь перестраивает его, как утверждается объектоцентристской идеологией, по все более рациональным меркам.
Конец истории есть важнейшее понятие не только субъектоцентристской, но и объектоцентристской историософемы, однако его содержание и форма, а также значение для целостной человеческой экзистенции интерпретируются прямо противоположным образом. При объектном подходе конец человеческого существования мыслится сугубо физически, смерть наступает не столько в силу внутренней исчерпанности витальных ресурсов, сколько в связи с внешней катастрофой, которая может произойти во внешнем физическом мире. Однако такая трактовка возможной гибели человечества совершенно не вяжется с верой в то, что мир не только перманентно развивается, но и прогрессирует от низших форм к высшим. Странно, что мир может погибнуть не в силу исчерпанности эволюции и не в силу того, что что-то может произойти экстраординарно в высших формах бытия, а в связи с катастрофой, которая ожидается в ее «физической подстилающей структуре», многократно «снятой», как утверждает диалектика, более высокими «формами движения». Ведь она, будучи несколько раз «снятой» высшими формами движения, должна по объектоцентристской логике «успокоиться», подчинившись их более высокого ранга законам необходимости.
При субъектном подходе конец истории является не физическим, а мета-физическим феноменом и выступает некоторой завершенностью духовного, но отнюдь не физического процесса. Гибель человечеству приходит не извне, а изнутри, а потому и требует иных, трансрациональных интерпретаций. При субъектном подходе, который предполагает некоторое метафорическое «знание» о целостном бытии человека, конец истории мыслится как апокалиптическая инверсия ее начал. Конечные объективации принадлежат времени, а потому и подлежат гибели, однако инобытийствующие в них субъективации, восходящие к бытию Бесконечного Субъекта, принадлежат Вечности, а потому и неуничтожимы — такова истина, которой апофатически владеет историософема, основывающаяся не на принципах рационального знания, а на интенциях трансцендентальной веры. Если человек своей плотью ввергнут в природный круговорот жизни и смерти, то своей душой он вовлечен в сверхприродный круговорот становления Духа, в котором все экзистенциальные начала и концы погружены в вечное и бесконечное Ничто. «В телеологической активности (т.е. в творчестве), — писал Гегель, — конец есть начало, следствие есть основание, действие есть причина, то, что уже есть, приходит к существованию»120. Если конец истории при объектном подходе является рациональным, то при субъектном подходе он — трансрационален, апокалиптичен.
Конец человеческой истории осуществляется не во времени, а в вечности, не в его объективации, а в Духе, процессуальной объективацией которого и выступает история. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3: 10.). «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее: пожелают умереть, но смерть убежит от них» (Откр. 9: 6.). В этих свидетельства Откровения речь идет отнюдь не о метафизическом, а лишь о физическом конце человеческой истории. Апокалиптический исход человеческой истории не есть окончательная гибель экзистенции, а всего лишь ее метаисторическое преображение.
Однако мы опять вступаем на «территорию» метафизического дискурса, а потому либо должны умолкнуть, либо предоставить возможность прояснить метафизический смысл Апокалипсиса тем, кто владеет трансцендентальным «дискурсом». Обратимся к тому мистическому опыту постижения апокалиптической сути истории, который накоплен теологией и в русском космизме. Пауль Тиллих, крупнейший христианский философ и теолог XX века, считает, что в христианской традиции существуют три фундаментальных концепции. 1) концепция благого бытия («Бог посмотрел на все, что он создал, и увидел, что это хорошо»); 2) концепция универсального падения (падение означает переход от бытия как сущностного блага к экзистенциальному отчуждению от самого себя, происходящий в любом живом существе и в любое время); 3) концепция возможности спасения (этимологически «спасение» восходит к латинским словам «Salus» или «Salvus» что означает «исцеленный» или «целый» в противоположность состоянию разорванности). Эти три суждения о человеческой природе присутствуют во всяком подлинном теологическом мышлении: сущностное благо, экзистенциальное отчуждение и возможность чего-то иного, «третьего», запредельного сущности и существованию, посредством чего разрыв может быть преодолен и исцелен121. Каждая из этих трех фундаментальных концепций, существующих в теологии, по-своему восходит к идее органического синтеза двух форм человеческого бытия и его истории: ноуменальной и феноменальной.
Любая разновидность монистической историософии, если принципы ее построения восходят к абсолютному мифу, обязательно содержит в себе некую генерализованную установку на то, каким образом человек должен относиться к ходу и исходу всемирной истории. Пауль Тиллих считает, что философия истории, выраженная в абсолютных терминах, может принимать две основные формы. Первую форму философии истории определяет чувство близости конца времен: приблизилось Царство Божие; решающий час близок, наступает великий, подлинный Кайрос, который преобразит все. Он видит цель истории в «царстве не от мира сего» или в победе разума в этом мире. В обоих случаях говорится абсолютное «Нет» прошлому и абсолютное «Да» будущему. Это фундаментальная интерпретация для всякого серьезного исторического сознания интерпретации истории как интерпретация, впервые воспринявшая понятие Кайроса. Вторую форму абсолютной философии истории можно назвать консервативной разновидностью первой, оформленной Августином. Согласно консервативному типу, решающее событие уже совершилось. Новое победно утвердилось в истории, хотя подвергается атакам сил тьмы. Финал истории — вселенская катастрофа. Ничего подлинно нового в истории ожидать не следует, необходимо сохранение уже данного. В обеих формах философии истории, как в консервативной, так и революционной, опасен факт полагания частной исторической реальности в качестве абсолютной. Это привносит непрерывное напряжение в историческое сознание и умаляет все иные исторические реальности. П. Тиллих считает, что обе формы абсолютной истории осуждены самим абсолютным, так как безусловное не может быть отождествлено с какой бы то ни было данностью, прошлой или будущей. Обусловленная реальность, полагаемая как нечто безусловное; конечная реальность, которой приписываются божественные атрибуты, есть реальность безбожная, есть «идол». В доктрине «кризиса», представленной Карлом Бартом, возникает третий тип философии истории — тип «индифферентности». Он безразличен к особым вершинам и глубинам исторического процесса. В истории продолжается перманентный кризис — кризис в двояком смысле этого греческого слова: суд и разделение. Ни один момент истории не свободен от напряжения между безусловным и обусловленным. Кризис перманентен. Кайрос дан всегда. С абсолютной точки зрения история становится безразличной. Кризис может быть эффективен, а негативное — преодолено. Последнее возможно лишь посредством нового творения. Не отрицанием, а утверждением преодолевается негативное. Как полагает П. Тиллих, «мы должны мыслить кайрос в универсальных терминах и не ограничивать кайрос прошлым, но возвысить до общего принципа истории, релевантного и по отношению к настоящему»122.
Установка на активное отношение к ходу и исходу Всемирной Истории содержится в религиозно философской доктрине русского космизма. Так, С.Н. Булгаков утверждал, что метаэмпирическая мировая трагедия выражена символами, которые не могут быть нами поняты до конца, они лишь намекают на стоящее за ними историческое содержание. Эти духовные силы, раздирающие мир своим противоборством, опознаются и в личном религиозном опыте; в этом смысле можно сказать, что и индивидуальная душа имеет свой личный Апокалипсис. И самая трагедия истории становится нам понятна лишь в меру личного духовного опыта и способности к проникновению в нее. Символы Апокалипсиса, считает С.Н. Булгаков, совершенно не имеют в виду события нашей эмпирической истории, по крайней мере, ей не адекватны. Метафизическая картина истории не совпадает с ее эмпирической картиной. То, что символизируется в Апокалипсисе, совершается в мире душ, духов и духовных сил. Величайшие всемирно-исторические события в апокалиптической схеме могут оказаться совсем незначительными, а еле замеченные в эмпирической истории могут иметь совершенно исключительное значение. Но в то же время в нем символизируется та самая действительность, к которой реально причастны и мы со своей духовной жизнью и своей историей. Потому нельзя принципиально отрицать возможности и того, что цепь апокалиптических событий выходит на поверхности истории, и тогда последняя непосредственно превращается в Апокалипсис. Апокалиптическое переживание истории в этом смысле возможно, возвращается потребность искать себя и свою эпоху в символах Апокалипсиса, вновь смотреться в это мистическое зеркало, в котором видят себя все исторические эпохи. Лишь там, где чувствуется живое дыхание подлинного религиозного опыта, живой трепет личного апокалипсиса, там раскрываются апокалиптические глубины и дали.
Как полагает С.Н. Булгаков, основная идея Апокалипсиса состоит в понимании мирового и исторического процесса как трагедии, притом не призрачной или временной, но вполне реальной борьбы двух духовных начал, причем злому началу принадлежит своя метафизическая реальность. Согласно этому метафизическому дуализму, трагедия не разрешается в истории, но лишь созревает в ней и потому к концу ее достигает величайшего напряжения и полной зрелости. Разрешение же ее отнесено лишь к эсхатологии, к новой мировой эпохе, когда князь мира будет изгнан, зло свергнуто123. В эсхатологии, неизменно присутствующей в большинстве религий, отводится большое место творчески-катастрофическим моментам бытия, каковыми являются в жизни отдельного лица его рождение и смерть, а в жизни мира — его сотворение и конец, или новое творение. Апокалипсис таким образом рассматривается в качестве апогея креативности и творчества, поскольку за ним следуют не только Воскрешение, но и Творение нового Мира и нового Человека.
Апокалипсис раскрывает будущее, заложенное в настоящем, но он не ограничивается этим; ибо содержит и откровение о том, что Бог сотворит с миром промышлением Своим и всемогуществом Своим. Только откровению, т.е. сверхъестественному ведению, в своем выражении естественно принимающему гносеологическую форму мифа, может быть доступна божественная сторона мирового процесса124. Предмет Апокалипсиса, считает С.Н. Булгаков, есть метаистория, ноуменальная сторона того универсального процесса, который одной из своих сторон открывается для нас как история. Это — историческая онтология, в которой раскрывается внутренний механизм мирового и исторического процесса. Апокалипсис есть откровение не столько о будущем, сколько о подлинно существующем во вневременных глубинах бытия в истории. Откровение нужно не только для проникновения в будущее, но и для проникновения через кору феноменов в область ноуменов125. В переводе «апокалипсис» означает «откровение», а потому он может быть понят лишь в качестве обобщенного символа метаистории, того его пункта, в котором ее начала и концы соединяются в единое кольцо жизни.
Апокалипсис не является историческим понятием, он внеисторичен, метаисторичен и выступает откровением о завершающем этапе нисхождения Духа и его Самовозвращения. В нем отнюдь не содержатся сведения о конце Метаистории, так как она осуществляется в Вечности, а потому не имеет своих внутренних «начал» и «концов». Он лишь свидетельствует о предельном моменте, до которого может осуществляться самообъективация Духа, о завершении одного метаисторического зона и возникновении нового зона, именно в рамках «границ» данного метаисторического зона могут быть трансцендентально обнаруживаемы феноменальные «начала» и «концы» истории человечества. «Существование Бога, — писал У. Джеймс, — является ручательством за то, что есть некий высший гармонический порядок, который останется нерушимым вовеки. Мир погибнет, как уверяет наука — сгорит или замерзнет; но если он является составной частью высшей гармонии, то замысел этого мира не погибнет и даст, наверное, плоды в ином мире; где есть Бог, там трагедия только временна и частична, а крушение и гибель уже не могут быть действительным концом всего существующего»126. Апокалипсис подводит черту лишь под феноменально-эмпирической историей человечества, и помимо того, что уничтожает ложные формы человеческого бытия, он выполняет сугубо конструктивную экзистенциальную функцию — свертывает все позитивное в человеческом существовании, все то, что соответствует предустановленной гармонии вечного бесконечного Духа.
В творчестве Н.А. Бердяева содержится весьма оригинальная метафизическая интерпретация Апокалипсиса. Он считает, что Апокалипсис есть необходимый момент гибели этого бесчеловечного объективированного мира и в то же время он есть начало творения нового мира, в котором человек окончательно будет освобожден от его патологической склонности к самообъективации и самоотчуждению. Объективированный мир должен в конце концов сгореть в огне, должна расплавиться его затверделость. Страшный Суд, который есть и в индивидуальной жизни людей, и в жизни мировой, — это как бы имманентное обличение неправды, но это имманентное обличение совершается через трансцендентную правду, превышающую все только человеческое. Бог не будет судить мир и человечество, но ослепительный Божественный свет пронизает мир и человека. Это будет не только свет, но и опаляющий, и очищающий огонь. В очищающем огне должно сгореть зло, а не живые существа127. Объективация в истории, в культуре есть великое дело активного, творческого духа, но она есть также великая неудача. Но это не означает, что дух совсем не должен себя объективизировать. Это значит лишь то, что мир должен кончиться, что история должна завершиться, что мир объективный должен угаснуть и замениться миром существования, миром подлинных реальностей, миром свободы128.
Парадоксальное противоречие во многих интерпретациях сути Апокалипсиса, по мнению Н. Бердяева, состоит в том, что мыслят конец времени, конец истории в этом времени. В этом трудность истолкования Апокалипсиса. Конец истории нельзя мыслить ни в пределах нашего испорченного времени как событие посюстороннее, ни вне исторического времени как событие потустороннее. Конец есть преодоление времени космического и времени исторического. Времени больше не будет. Это не конец во времени, а конец времени. Но время экзистенциальное, вкорененное в вечности, остается, и в нем-то и приходит конец вещей. Апокалипсис есть процесс вхождения в новый эон. Но это еще не вечность, которую тоже пытаются объективировать. Будет стерта резкая грань между посюсторонним и потусторонним129. Апокалипсис не есть только откровение о конце мира, он есть также откровение о событиях внутри истории, о внутреннем суде над историей130. В отличие от многих христианских мыслителей, Н. Бердяев не принимает Апокалипсис лишь в качестве отмщения Бога Человеку за его грехопадение. Он против того, чтобы нагнетать страхи вокруг пророчеств Иоанна Богослова. Этой проблеме он специально посвящает книгу «Истина и Откровение: Пролегомены к критике Откровения». Апокалипсис есть конец истории Иного и начало истории Неиного, он предваряет собой духовное преображение мира и развертывание его в новый метаисторический эон.
На наш взгляд, Апокалипсис как Откровение о Конце Мира имеет две взаимосвязанные стороны: 1) уничтожение Ничтожества в человеческой экзистенции и 2) восстановление в ней трансцендентных структур Ничто. Таким образом; высшим смыслом Апокалипсиса является Преображение и Спасение человеческих душ, а не их окончательное уничтожение, как это следует из сути физикалистских теорий, основу которых составляет признание энтропии в качестве «летального гена» Эволюции. Что же следует из понимания Апокалипсиса как Преображения человеческого существования для построения субъектоцентристской историософемы? Прежде всего то, что все усилия человека во спасение в Духе должны способствовать Провидению осуществить это чудо Преображения. Но тогда в историософии должен быть предусмотрен такой разворот в направленности исторического процесса, который бы привел к встрече с Провидением. «Встреча с Богом есть встреча с субъектом, а не с объектом. Субъект же никогда не действует на субъект как принуждающая объективность»131. Следовательно, история должна развернуться прочь от Бесконечного Объекта в направлении к Бесконечному Субъекту, который всегда находится не в конце, а в начале Метаистории. Таким образом, важнейшим принципом субъектоцентристской историософемы должен стать принцип перманентного возвращения Человека к своим сакральным Первоистокам.
Тема Возвращения, или Апокатастасиса, является одной из центральных во всех монотеистических религиях. Наиболее плодотворное свое философское развитие и обоснование она нашла в даосизме и неоплатонизме. «В мире — говорится в даосах, — большое разнообразие вещей, но все они возвращаются к своему началу. Возвращение к началу называется покоем, а покой называется возвращением к сущности. Возвращение к сущности называется постоянством»132. Наиболее подробно и полно учение об апокатастасисе развернуто в работах неоплатоников Плотина и Прокла. Вот некоторые выдержки из «Первооснов теологии» Прокла. Все эманирующее из чего-то по сущности возвращается к тому, из чего эманирует. Всякое возвращение совершается через подобие возвращающегося тому, к чему оно возвращается. Как оно эманировало, так и возвращается, и меры возвращения определяются мерами, связанными с эманацией. Завершения всех божественных эманации уподобляются их собственным началам, сохраняя безначальный и нескончаемый круг через возвращение к началам133.
В противовес прогрессистской концепции автоматического продвижения вперед к «царству разума» Ф. Шлегель в своей «Философии истории» также исповедовал концепцию исторического возврата как цели истории. История человечества приравнивается к поискам первоначальной истины (прарелигии) и первоначального райского состояния (прародины), намеки на которые якобы содержат мифы. «Божественная истина», явленная человечеству на заре истории и послужившая основой для всех религий и культур, затем искажается и затемняется. К идее возвращения склоняется и Маркузе, который пишет: «Не восходящая кривая, а замыкающийся круг завершает бытие: воз-вращение (re-turn) из отчуждения. Философия может представить это только как состояние чистой мысли. А между началом и концом происходит развитие разума как логики господства — прогресс через отчуждение. Подавленное освобождение находит поддержку в идее и в идеале»134. Все концепции сущего, признающие отчужденный характер человеческой истории, в той или иной степени связывают преодоление отчуждения с некоторым возвратным движением. И, действительно, чтобы кардинально преодолеть накопившиеся в истории человечества отчужденные формы бытия, ему необходимо вернуться на ту историческую развилку, до которой его существование еще не было отчужденным, и пойти по истинному пути, ведущему к самопримирению. Эта идея определенным образом присутствует и в марксистской диалектике, утверждающей, что в ходе целого ряда снятий происходит как бы возврат к прошлому, но на новом, более высшем, уровне развития; например, «коммунизм» как основная цель истории рассматривался в качестве диалектического возвращения к «первобытному коммунизму».
Идее «возвращения» не чужда и современная постнеклассическая философия. Поль Рикер видит путь возвращения к первоистокам сущего посредством преодоления диктата ложного сознания и погружения в бессознательное, в котором содержится алгоритм метаистории. Бессознательное есть источник, генезис; сознание есть цель времени, апокалипсис. Человек способен выйти из истории, испорченной сознанием, прервать повторяемость и создать историю, поляризованную предшествующими фигурами, т.е эсхатологией135. Возможность к самовозвращению человека Мишель Фуко связывает с реактуализацией бессознательного. «Под "реактуализацией", — пишет он, — я буду понимать... включение дискурса в такую область обобщения, приложения или трансформации, которая для него является новой... Чтобы было возвращение, нужно, на самом деле, чтобы сначала было забвение, и забвение — не случайное, не покров непонимания, но — сущностное и конститутивное забвение... Акт установления, действительно, по самой своей сущности таков, что он не может не быть забытым... забытое установление дискурсивности оказывается основанием существования и самого замка и ключа, который позволяет его открыть, причем — таким образом, что и забвение, и препятствие возвращению могут быть устранены лишь самим этим возвращением. Кроме того, это возвращение обращается к тому, что присутствует в тексте, или, точнее говоря, тут происходит возвращение к самому тексту — к тексту в буквальном смысле, но в то же время, однако, и к тому, что в тексте маркировано пустотами, отсутствием, пробелом. Происходит возвращение к некой пустоте, о которой забвение умолчало или которую оно замаскировало, которую оно покрыло ложной и дурной полнотой, и возвращение должно заново обнаружить этот пробел, и эту нехватку; отсюда и вечная игра, которая характеризует эти возвращения к установлению дискурсивности... это возвращение к тексту не есть историческое дополнение, которое якобы добавляется к самой дискурсивности и ее якобы дублирует неким украшением, в конечном счете несущественным; возвращение есть действенная и необходимая работа по преобразованию самой дискурсивности»136. Идеей возвращения пронизаны не только метафизическая концепция дискурса, разработанная Фуко, но и все без исключения герменевтические построения, ведь понять текст — это означает осуществить ретроспекцию в совокупность ключевых смыслов, которые вытеснены Рацио в сферу бессознательного, а это невозможно без трансрационального возвращения вытесненного.
Проблема возвращения вытесненного выступает одним из важнейших механизмов бессознательного, объективируемого в разнообразных психоаналитических процедурах. Этот механизм весьма хорошо описан в трудах Фрейда, Юнга, Фромма, Ясперса, Грофа и др. По сути, методики погружения в «бессознательное» или «ничто» основываются на процедуре психоаналитического возвращения человеческой самости в архетипические глубины Первоначал. «Через это возвращение, — пишет Юнг, — вновь восстанавливается начальное состояние, возникает невероятность тождества с Богом, а из этой невероятности, которая все же сделалась глубочайшим переживанием, образуется новый потенциал: мир вновь создастся, ибо обновилась установка человека по отношению к объекту»137. Таким образом, апокатастасис выступает не только апокалиптической универсалией, но и своими трансрациональными проекциями пронизывает определенные формы человеческого самопознания.
Однако способы возвращения к метаисторическим истокам в рамках метафизического дискурса предлагаются порой не вполне соотнесенными с символическими смыслами апокатастасиса, содержащимися в Откровении. Чаще всего в них речь идет не о спасении Человека, а судьбе Мира. Причем предлагаются порой диаметрально противоположные решения: от спасения этого мира, который не только «во зле лежит», но в нем все еще присутствует Неиное, до его сознательного разрушения с тем, чтобы ускорить процесс преображения человека, исходя из известного принципа реформаторов всех эпох и народов — «чем хуже, тем лучше». Первое решение вполне согласуется с христианской догматикой, так как лишь «смертью смерть поправ», возможно духовное преображение, однако при этом неясной оказывается судьба самого Человека; второе, крайнее, решение заключается в «самовозвращении через самоуничтожение и наиболее явно было сформулировано Ницше. «Самый нездоровый род людей...— писал Ницше, — воспримут веру в вечное возвращение как проклятие; и пораженный этим проклятием человек не остановится ни перед какими действиями: не пассивно сгинуть, но довести до гибели все, что в такой степени бессмысленно и бесцельно... Я пошел дальше по пути разложения, в этом нашел я для немногих новые источники силы. Мы должны быть разрушителями!. Я познал, что состояние разложения, в котором единичные личности могут достигать небывалой степени совершенства, является отображением и частным случаем всеобщего бытия. Против парализующего ощущения всеобщего разрушения и неоконченности я выдвинул идею вечного возвращения»138. Противоположным способом ницшеанскому является христианская идея спасения человека во имя воскресения; не случайно Богочеловек называется еще и Спасителем.
В связи с тем, что человек принадлежит к двум планам бытия: ноуменальному и феноменальному, существует и определенная экзистенциальная приоритетность в том, что необходимо спасать в первую очередь — внутренний или внешний мир, душу или плоть? При объектном подходе прежде всего имеется в виду спасение мира, даже ценой гибели человеческих душ. Напротив, при субъектном подходе спасению прежде всего подлежат души, а затем все то, что в мире субъективировано ими. Ориген говорил, что необходимо всех спасти и всех простить, надо спасти и душу падшего ангела — сатану, так как и он является порождением Бога. Н. Бердяев считал, что если хоть одно существо, обладающее экзистенциальным центром, не будет воскрешено для вечной жизни, то мир не удался, и теодицея невозможна. «При этих условиях и мое личное бессмертие, — полагал Н. Бердяев, — не только ущербно, но, в сущности, невозможно. Я завишу от судьбы мира и моих ближних, и судьба моих ближних и мира зависит от меня»139. Апокастатасис есть учение о всеобщем спасении, спасении всех падших душ путем их самовозвращения к своим духовным первоначалам.
В качестве ноумена человек должен заниматься отнюдь не сохранением падшего мира, а спасением своей заблудшей души, однако в качестве феномена он в основном занимается спасением преходящего мира, забывая порой позаботиться о душе, которая всегда устремлена в обитель Духа. В этом проявляется, может быть, самый большой парадокс реального существования эмпирического человека, который более всего стремится спасти мир и вполне готов служить его плоской эволюции в обмен на возможность физического выживания. Но «выживание» означает не только желание жить любой ценой; оно имеет и еще одно подспудное значение, указывающее на то, что его сущностью выступает процесс выживания, вытеснения человека из сферы самой жизни. Однако это второе его значение совершенно не учитывается адептами концепции выживания, которая является повсеместно признаваемой современным человечеством, зависнувшим над нижней бездной бытия.
Духовное спасение человека, согласно религиозным представлениям, есть дело Провидения, однако без активной помощи Ему со стороны Человека чудо спасения может и не состояться. Человек сам должен страстно желать своего духовного исцеления и прилагать к тому огромные усилия. Прежде всего, он должен вполне осознанно прекратить свое грехопадение и искренне раскаяться в перманентном самоотчуждении, т.е. той стороны его истории, которая по сути обслуживала интересы господства Иного в Сущем. «Отсутствие раскаяния после каждого греха — писал С. Кьеркегор, — это новый грех, и всякое из мгновений, пока этот грех остается без раскаяния, — это новый грех»140. Современный человек повинен за все грехи, которое совершило за всю свою историю человечество, он должен их взять на себя и очиститься от них, испытать истинный духовный катарсис, лишь пройдя через покаяние, он будет в состоянии обрести путь к спасению. Вся человеческая история должна быть вновь пережита человеком как история его собственного индивидуального поступка и не иначе как в «терминах» раскаяния и возрождения. Однако возникает вполне резонный вопрос, а желает ли современный человек своего возрождения в Духе? Поверив в прельщения, ему трудно выйти из пассивного ожидания вполне запрограммированного чуда обладания новыми более совершенными земными благами. Вера в Рацио не совместима с верой в Дух, вернее, она совместима в той мере, в какой Рацио трансцендентально интегрирован в Дух. Не усугубляет ли человек сложившуюся в мире апокалиптическую ситуацию своей чисто формальной верой в Трансцендентное, полагая, что если уж не Бог, то его суверенный Разум все равно его «спасут» от надвигающейся вселенской катастрофы? Современный человек все более уповает на «спасение» извне, не подозревая, что оно может прийти только «изнутри». Он наивно полагает, что если предельно усложнить свой внешний мир, то его довольно односложная душа (одномерный человек) вполне может найти в его структурах надежное убежище, из которого смерть не сумеет его извлечь, чтобы предать небытию. Однако такое убежище необходимо отыскивать не во внешнем мире, его там нет и быть не может, оно есть собственная безгрешная душа, всегда открытая спасающему Провидению.
Однако душа современного человека для его рацио — это «сплошные потемки». Более того, она давно погрузилась в летаргический сон, так как лишь в далеком прошлом обнаруживает свои истинные экзистенциальные праформы. Чтобы произошло чудо самовозвращения человека, прежде всего необходимо разбудить его спящую душу, а это можно сделать, если она, пробудившись, обнаружит в реальности признаки Возрождения. «Никакое обогащение, усложнение и даже согласование мирового устройства, — писал С.Л. Франк, — не может, как таковое "спасти" мир, достигнуть внутренней гармонии его бытия, пока составляющие его элементы, носители жизни, остаются слепыми, "спящими" монадами»141. Человек в духовном плане уже давно превратился в «спящую монаду». Он бодрствует, наслаждаясь земными благами, и погружается в духовную спячку, чтобы вновь бодрствовать, удовлетворяя свои «прогрессивные потребности». Духовно спящего человека пытался пробудить еще Беме. «О греховная обитель мира сего, как окружена ты отовсюду адом и смертью! — призывал он. — Проснись, близок час твоего возрождения, наступит день, показывается заря. О безумный и мертвый мир, каких ты еще просишь знамений? Все тело твое уже окоченело, а ты все еще не хочешь пробудиться от сна твоего! Вот, дается тебе великое знамение; но ты спишь и не видишь его»142. Но не только обычные люди вот уже несколько тысячелетий оказываются духовно-спящими, пробудиться ото сна не могли даже Апостолы в самый трагический момент Всемирной Истории, когда решалась на небе земная судьба Богочеловека. «Говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною... И приходит к ученикам и находит их спящими... и говорит им: вы все еще спите и почиваете? Вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников; встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня» (Мф. 26: 38—46.). Современный человек погружен в летаргический сон и просыпаться отнюдь не желает, но ведь сон — это инобытие смерти, а потому и возникает сомнение: жив ли он на самом деле, и если да, то сумеет ли он «сном сон попрать», чтобы духовным бодрствованием расширять «просвет бытия», через который можно выйти на Свет Божий.
Пробудить сонное царство человечества пытается вот уже два тысячелетия христианская религия, пробудить для активного его возвращения к абсолютным первоначалам. Идея апокатастасиса о возвращении к первоначалам, подкрепляется развернутым учением о нем, называемым сотериологией. Этот термин буквально переводится как учение о спасении и является принадлежностью (категориального порядка) христианского богословия. Основой Священного Писания является сотериология, так как главной христианской идеей является идея спасения человека. Сегодня ареал этого понятия расширен, и вполне уместно говорить, например, о сотериологической функции глубинных мировоззренческих построений. Каким образом должна к сотериологии относиться современная философия? На наш взгляд, она просто обязана войти в сотериологию своим дискурсом о духовной миссий Человека. Но для того, чтобы философия смогла бы вновь эффективно выполнять свою сотериологическую функцию, она, по крайней мере, должна стать антропологической, исходить из человекосоразмерности хода и исхода Всемирной Истории.
К сожалению, не только библейские пророки, но и современные философы все еще не могут пробудиться от «Сна Разума». Более того, подавляющая часть философов фактически провоцируют своими позитивистскими и неореалистическими установками распад современной цивилизации, разрабатывая все более радикальные прогрессистские утопии, в которых так нуждаются реформаторы. К. Маркс в «Тезисах о Фейербахе» писал, что вся предшествующая философия лишь описывала мир, но главное — как изменить его. Честнее было бы отойти в сторону и оставить свои советы о том, как можно радикально «изменять мир», а точнее, «изменять миру». Но даже и при этом весьма индифферентном отношении к судьбе человечества и его мира философы не могут избежать своей ответственности перед его историей. «Окончательный отказ эллинистических философов возвратиться из мира созерцаний в мир действия, — писал Тойнби, — может объяснить, почему надлом, который пережила эллинская цивилизация, стал для нее роковым»143. Современный философ уже давно покинул «башню из слоновой кости» и переселился в «сциентистские офисы»; он превратился во всезнающего менеджера по вопросам радикального реформирования мира на сугубо разумных началах. Не повинны ли в провале широкомасштабных проектов по построению «коммунизма», «открытого общества» диалектики и позитивисты, весьма охотно проектировавшие «потребное будущее», заказываемое «властью предержащих»? Современная философия переживает глубинный и весьма затяжной духовный кризис, связанный отнюдь не с отсутствием идей, а скорее с их переизбытком, большая часть которых, претендуя на всеобщность и всеохватность, лежит на поверхности обыденного сознания. Именно подобного рода идеи оказываются «халифами на час», как только возникает необходимость «воплотить в жизнь» очередной «проект века», как правило, влекущий за собой очередной виток экзистенциального распада. Осознанно перейдя на сторону дурной бесконечности Обыденного, философский дискурс стал весьма опасным для целостного Бытия. «Колоссальная ответственность, — считает В.Н. Сагатовский, — лежит на тех, кто берется за философско-мировоззренческое проектирование, ибо трудности в проверке истинности категориальных положений часто превращают стройную по видимости теоретическую конструкцию в беспочвенную утопию»144.
Но ведь именно утопическое, а отнюдь не мифологическое направление в современной философии продолжает заводить человечество в онтологический лабиринт, из которого рациональное сознание вряд ли знает иной выход, кроме как смерть во имя прогресса. Н. Бердяев считал, что ни в чем не выражается так падшесть мира, как в лживости нашей эпохи. Ложь перестает даже сознаваться как ложь, происходит перерождение сознания, при котором различение правды и лжи теряется. Именно ложное сознание, в котором, увы, философская рефлексия начинает все более доминировать, провоцирует цикл исторических и космических катастроф и обвалов145. Может быть, пора философии выйти из духовного подполья, в который она оказалась вытесненной сциентизмом, вновь почувствовать «любовь к мудрости» и начать верой и правдой служить целостному Человеку, а не одной из его организаций, именуемой Наукой.
Философия может вновь стать любовью к мудрости, если сумеет преодолеть в себе появившуюся в уходящем веке некрофильскую ориентацию, любовь ко всему искусственному и нечеловеческому. Однако эту некрофильскую ориентацию необходимо искать не в философии, а в самой человеческой экзистенции, квинтэссенцией которой является философия. Возникает еще один сакраментальный вопрос, не появилась ли у человека, по крайней мере за последнее столетие, перенасыщенная войнами и насилием потребность в абсолютном исчезновении? Не является ли потребность в смерти, замыкающей собой иерархию потребностей современного человека, утратившего способность в полном объеме воспроизводить свою жизнь в Духе? Написал же Ф. Тютчев в свою годину роковую: «Ничтожество — тебя я жажду». Что нам смерть, если нас ждет запрограммированное бессмертие? Человек может устать от бытия и пожелать полного своего исчезновения в абсолютном забвении.
По большому счету Человек есть то, во что он верит, телесный субъект является уже не Символом, как определял человека А. Лосев и каким он был на заре своей истории, а всего лишь Термином, вернее, незначительной сноской к нему в едином Словаре Логики, совершенно неприметной сноской к его присутствию при Конце Истории. Более того, «принцип веры» принадлежит уже не ему самому, ему этот принцип насильственно навязывается Кумиром, которому он поклоняется — Абсолютным Объектом — Неиным в Сущем. Базисными идеями существования становятся идеи наличного существования, идеи извечного присутствия при своей собственной Смерти. Не случайно М. Хайдеггер именно таким образом определил особенность человеческой экзистенции, его определение вполне коррелирует с бесчеловечной и жестокой эпохой, в которой человек начал активно и радикально самовытесняться из экзистенции. И не случайно А. Камю предложил считать самоубийство базисной категорией современной метафизики. Современная идеологема выживания есть все та же проекция предельной формы рационального верования, направленной против тысячелетней веры в возможность духовного просветления и возрождения. Анализ структуры современных рациональных верований, вне всякого сомнения, приводит к выводу, что человечество, используя название известного произведения Г. Маркеса, уже сейчас начинает писать «хронику широко объявленной смерти».
Мы полагаем, что генерализованные установки на отношение человека к ходу и исходу Всемирной Истории заложены в самих принципах построения историософии и в основном сформулированы в категориях либо субъектного, либо объектного подходов к действительности. Конечно же, между ними содержится довольно значительная часть переходных установочных форм, однако в связи с их эклектичностью они не представляют собой мировоззренческих генерализаций, а потому интересны лишь для анализа отношения человека не к целостной истории, а лишь к определенному ее фрагменту. Каждая из двух основных философем, одна из которых ориентирована монотеистически (субъектоцентристская), и вторая, придерживающаяся пантеистической ориентации (объектоцентристская), имеют свои метафизические проекции на экзистенциальное пространство современного человека; их взаимоналожение на его сознание делает последнее внутренне неуравновешенным. Они диаметрально противоположным образом символизируют содержание, направленность и смысл жизни человека, причем монотеистически ориентированная философема центрирует ее в сфере Духа, а философема, следующая за пантеизмом, особенно ее крайняя — сциентистская — в сфере Рацио. Первая линия возвращает человека к изначальной и предустановленной гармонии жизни, тогда как вторая призывает адаптироваться к порядку, устанавливаемому строгим рационально-прагматическим расчетом.
Человек оказывается перед выбором между мировоззренческими альтернативами и в рамках сделанного выбора должен выстраивать соответствующую стратегию своего существования. Если избирается линия, связанная с возвращением к гармонии из этого сверхупорядоченного падшего мира, то человеку приходится с позиции прагматиков влачить довольно «жалкое существование», так как в любом отечестве не только пророки, но и их последователи всегда считались более опасными, нежели отъявленные преступники, ибо они свидетельствуют о некоей «другой жизни», следование которой ставит под сомнение ценности прогресса. У приверженцев активного преодоления прельщений падшего мира есть довольно сильная сверхкомпенсания за те страдания, которые обязательно выпадают на их долю, стоит лишь обратить внимание на такие ключевые концепты, как «не хлебом единым жив человек», «нищета духа», «Христос терпел и нам велел» и т.д. Тот же, кто придерживается совершенно противоположной стратегии жизни и активно участвует в установлении любого, даже самого бесчеловечного порядка в универсуме, чаще всего достигает «запланированного жизненного успеха». Эта мировоззренческая установка в связи с ее довольно слабой духовной мотивированностью также требует сильной сверхкомпенсации, ее содержание вполне укладываются в такие сентенции, как «жизнь дается только раз, а потому от нее нужно взять по максимуму», «человек человеку волк», «после нас хоть потоп» и проч.
Таковы два основных мировоззренческих ориентира, определяющих содержание и направленность жизни современного человека, и если второй обслуживает требования волющей телесности, то первый ведет к спасению души и, увы, чаще всего чреват страданиями в этом падшем мире, ибо основная часть человечества придерживается сугубо прагматичного и рационального принципа существования и с огромным негативизмом относится к людям духовно продвинутым. Подавляющая часть человечества совершенно не осознает, что либо ты спасаешь вечную и сакральную душу от посягательств отчужденного мира, либо спасаешь этот падший мир ценой утраты своей души, ведь люди, как подмечено социологами, привыкли жить по предложенному историей сценарию, осуществлять ролевую игру в жизнь, а не духовно ее переживать. В сознании современного человека укоренилась идеологема сохранения мира любой ценой, даже ценой почти полного духовного распада личности. Не случайно в современной глобалистике утвердилась концепция выживания. Но ведь лишь на некоторое время спасти падший мир еще более глобальным его упорядочением можно лишь за счет последнего, самого, может быть, тяжкого греха — отказа от дарованной Богом жизни. Если перефразировать известную библейскую заповедь, то получим принцип, который лежит в основании концепции выживания: «чтобы спасти падший мир, необходимо душу свою сгубить».
Современное человечество, как никогда прежде, оказалось перед альтернативой: либо активно способствовать тому, чтобы возвратно-поступательное движение метаистории в основном превратилось в возвратное, чтобы начать двигаться прочь от гиперрациональных границ Хаоса к трансрациональным первоначалам Гармонии, либо столь же активно содействовать поступательному ходу истории, выводящему к этим же первоначалам, но уже через Хаос и посредством Хаоса, так как, переступив границу Постонтологии Абсолюта, человечество вновь окажется в его Предонтологии, но уже не посредством возрождения в Духе, а за счет онтологического самоубийства, именуемого Апокалипсисом. Время может идти вспять, а не только вперед, потому, что оно связано не только с процессом эволюции, но и с процессом инволюции. Посредством инволюции человеческая экзистенция вновь реинтегрируется в бесконечность Абсолюта, что говорит о том, что время способно втягиваться в Вечность. Время рассеивается, уничтожается, если оно центрируется ложными онтологиями. Однако распавшееся время способно вновь реинтегрироваться в Вечность, но уже лишь за счет катастрофических изменений в распавшемся Бытии, через так называемый «онтологический взрыв», вызывающий реинверсию внутриобъектных отношений Хаоса во внутрисубъектные отношения Гармонии. Метаистория осуществляется в Вечности и Бесконечности Абсолюта, и Человек как Образ и Подобие Бога — один из главных действующих лиц на подмостках ее Драмы. И от него во многом зависит насильственную или ненасильственную форму приобретет процесс развертывания Пустоты в Полноту Бытия и ее последовательное свертывание в изначальную пустотность Абсолюта. Эту метаисторическую дихотомию человек неосознанно избирает и не только в своем филогенезе, выступающем ментальной стороной Всемирной Истории, но и в онтогенезе, в индивидуальном становлении, о чем речь пойдет в следующей книге.
В заголовке этого заключительного параграфа «апокалипсис» и «апокатастасис» представлены в качестве метаисторической альтернативы: либо история не меняет своей объектной направленности и тогда получает «апокалипсис», либо она кардинально ее изменяет в сторону субъектности, и тогда вступает в действие «апокатастасис». Видимо, все же мы здесь сталкиваемся не с метаисторической альтернативой Конца Истории, а с двумя ее трансцендентными сторонами, модусами. Интуиция подсказывает, что Конец Истории, скорее всего, будет апокалипсисом в форме апокатастасиса, либо апокатастасисом в форме апокалипсиса. И так как нас более всего интересует проблема усиления конструктивной функции конца истории, то стоит задуматься о возможности того, чтобы апокатастасис все же преобладал над апокалипсисом на заключительном этапе экзистенциальной драмы.
Неоплатонизм не только выдвинул идею апокатастасиса, но и разработал, если можно так сказать, «технологию возвращения» к первоначалам сущего. «Все эманирующее из определенного множества причин, — учил Прокл, — возвращается через столько причин, через сколько эманирует. При этом всякое возвращение [совершается] через те причины, через которые [происходит] эманация... если возвращения совершаются циклично и от чего эманация, к тому и возвращение, а эманация — от совершеннейшего, то, значит, и возвращение — к совершеннейшему. И если возвращение начинается с того, куда дальше всего происходит эманация, и если эманация к последнему есть наименее совершенное, то и возвращение начинается с наименее совершенного. Следовательно, первично в том, что возникает вследствие возвращения, есть наименее совершенное, а самое последнее — наиболее совершенное»146. Итак, основная идея возвращения или восхождения к Первоначалам заключается в том, что то, что оказалось исторически самым последним в эманационном ряду должно возвратиться к предшествующему члену этого ряда, следствием креации которого оно явилось, а тот, в свою очередь, должен возвратиться к своему эманационному началу и так по всей эманационно-креационистской вертикали «вспять», пока наконец-то вся совокупность развернутостей вновь не свернется в пустотные и абсолютные Первоначала. Собственно говоря, в этом неоплатонистском учении о восхождении-возвращении предвосхищается идея Николая Кузанского о «свертывании всех развернутостей». Правда, в отличие от христианства, неоплатонизм свидетельствует о, так сказать, чистом апокатастасисе без какой-либо его связи с апокалипсисом. Однако для нас важна не только сама возможность апокатастасиса, но и то, в какой последовательности он может осуществляться, если человечество решится заменить «стратегию прорыва» на «стратегию возвращения».
Для того чтобы человек сумел все же существенно снизить уровень своей всеобщей деструктивности, он должен, на наш взгляд, придерживаться тех онтологических Пределов и Приоритетов, которые лежат в основании его универсальной и целостной жизни. Низшие и менее целостные универсальные формы его бытия должны быть вновь подведены им под онтологическую юрисдикцию более целостных и универсальных, вновь стать их вложенными системами, универсумами. Глубинная мировоззренческая интенция современного Человека должна быть направлена на то, чтобы «великие неудачи» каким-то чудесным образом превратить в «великие удачи» самопроявляющейся духовной субстанции. Необходимо ясно осознать, каким образом можно «заставить» технологию выполнять функцию объективированного базиса цивилизации, цивилизацию — быть социальным средством развития человеческой культуры, а последнюю реорганизовать таким образом, чтобы она превратилась в истинную антропную обитель Сакрального Духа. Задача эта далеко не сциентистская, а духовная, и решаться может лишь при условии, если человечество окажется в состоянии осуществить перманентное восхождение к своим духовным первоистокам, а это состояние может быть достигнуто отнюдь не средствами рационального расчета, а путем «духовного подвига».
В последние годы наибольшее распространение получила так называемая концепция «устойчивого развития». По всей вероятности, мы являемся свидетелями выдвижения, может быть, последней объектологической концепции, пытающейся отрегулировать отношения в универсуме таким образом, чтобы отдалить грозящую экзистенциальную катастрофу. Сам термин «устойчивое развитие» не выдерживает никакой серьезной критики, развитие всегда есть радикальное преодоление сложившейся формы устойчивости в универсуме, оно невозможно без радикального взрыва уже устоявшейся в нем системы отношений. «Что мир не стремится к устойчивому состоянию, — писал Ницше, — есть единственное, что доказано. Следовательно, мы вынуждены мыслить высшую точку в его развитии не как состояние равновесия»147. Скорее всего, необходимо говорить не об «устойчивом развитии», а об «эманационной сбалансированности» в человеческой экзистенции, в рамках которой ранее плоские эволюционные потоки, подчинявшиеся Хроносу, в состоянии интегрироваться в Единую Коэволюцию, которой способен управлять лишь Кайрос. Эволюции должны перестать быть «плоскими» и «инкорпорирующими», они должны укладываться в тот «энергетический ресурс», который обрели в результате эманационного всплеска. Лишь при этих условиях развитие тех или иных феноменов будет нарушать устойчивость в универсуме в допустимых «экзистенциальных пределах», не подрывающих основ его целостности.
Все возрожденческие идеи в конечном счете восходят к принципу перманентного возвращения к первоначалам. Возрождать, воскрешать ведь можно лишь то, что было уже в прошлом, а не то, что грядет из будущего. Сама религия есть не что иное, как процесс возвращения человека к Богу, возвращения к своим духовным, трансцендентным корням. Но что означает возвращение к первоначалам Сущего в рамках метафизической концептуализации? Оно отнюдь не означает необходимости разрушения тех «ступенек прогресса», по которым человек перманентно опускался вниз во все более проявленные, объективированные и овремененные формы существования. Это означает лишь одно — восстановление приоритетности высших онтологических форм существования над низшими. Человек прежде всего должен подчинить интересам космогенеза свои антропогенез, социогенез и техногенез. Не случайно православная философская мысль получила название «русский космизм». Истинным путем «сбалансированного становления» является тот, который следует приоритетности непроявленных и трансцендентных первоначал над всей иерархией проявленных форм человеческого существования. Следование же обратным приоритетам, господствующим в объектоцентристском мировоззрении, с неизбежностью приводит историю к онтологическому тупику, заканчивающемуся вселенской катастрофой. Возрожденческая идея модернизации жизни состоит в восстановлении онтологических приоритетов в многомерной человеческой жизни («Богу — богово, кесарю — кесарево»).
Субъектоцентристская мировоззренческая концептуализация дает ясное понимание сущности «эманационной сбалансированности» в целостной иерархии разноуровневых универсумов, связанных с космогенезом, антропогенезом, социогенезом и природогенезом Человека. Сбалансированное становление в целостной системе Бытия есть некая совокупность «сбалансированных становлений» онтологически разнородных универсумов. Каждый из них имеет свои внутренние критерии сбалансированности. Так, символическая (трансцендентная) реальность астрального субъекта может быть сбалансированной лишь в пределах целостного отношения человека к самому себе как Вечному и Бесконечному Субъекту всеобщего креативного процесса. Сбалансированность культурной (эвалюативной) реальности есть некое идеальное состояние субъектно-субъектных отношений, отношений общения антропных субъектов. Баланс цивилизационной (прескриптивной) реальности есть некое идеальное состояние субъектно-объектных отношений деятельности социальных субъектов. И, наконец, баланс в развитии технологии (дескриптивная реальность) — это идеальное состояние в системе объектно-объектных отношений гносеологического субъекта, выстраивающего такую линию познавательного процесса, при которой инверсия естественного в искусственное происходит отнюдь не в «режиме катастрофы» («тонкие технологии», «безотходные технологии» и проч.). Таким образом, сбалансированное становление целостного Бытия — это прежде всего некая онтологическая генерализация «частных» сбалансированных становлений разноуровневых универсумов. Но сбалансированное становление имеет еще иную смысловую составляющую. Баланс в саморазвертывающейся экзистенции должен соблюдаться не только по «онтологическим горизонталям», т.е. внутри «эволюционных потоков», но и по «онтологической вертикали», связанной с подчинением интенсивности и качества частных «эволюции» общей идее целостного и тотального развертывания суперсистемы, схватываемой понятием «коэволюция».
Сбалансированное становление есть взаимосогласованное и взаимообусловленное развертывание всей тотальности онтологических потенциальностей, имманентно содержащихся в целостной иерархии универсумов. Оно должно органично вытекать из многомерного процесса коэволюции разнородных уровней единого человеческого Бытия. Сама же коэволюция возможна лишь при условии, когда низшие формы бытия развиваются под приоритеты развертывания высших. Иными словами, культура должна развертывать человеческое в человеке под приоритеты сохранения в нем сакрального, трансцендентного. Цивилизация призвана развертывать в человеке социальное под приоритеты совершенствования в нем человеческого, а технология должна таким образом рационализировать мир объективаций, чтобы способствовать дальнейшему развитию социального в человеке. Как только эта система онтологических приоритетов начинает «переворачиваться», так сразу же коэволюция превращается в набор плоских эволюций, в котором низшие слои бытия начинают гипертрофированно развиваться за счет интенсивного разрушения и инкорпорирования (поглощения) высших.
Анализ целостной коэволюционирующей суперсистемы с неизбежностью выявляет не только онтологические Приоритеты, но и онтологические Пределы развития. С этой проблемой в свое время столкнулись члены «Римского клуба», а позднее участники конференции в Рио-де-Жанейро. Однако, оставаясь на позиции объектоцентризма и позитивизма, им так и не удалось сформулировать «пределы роста» в категориях человеческой экзистенции. Предлагаемая нами мировоззренческая концептуализация их содержит. Пределами развития человеческой культуры выступает целостность мироздания, пределами развития цивилизации — целостность культуры, и пределами технологии — целостность цивилизации. Но может возникнуть вопрос: возможно ли в принципе «развитие» низших онтологических форм лишь за счет имманентных ресурсов, исключающее репрессивное инкорпорирование энергетики высших экзистенциалов? Такое развитие в принципе возможно, но лишь при условии, если оно не форсируется искусственно, если оно не провоцируется гипернетерпением. Все так называемые «революционные скачки» в развитии общества и технологии до настоящего времени осуществлялись человечеством за счет столь же скачкообразных потерь в духовной, культурной и социальной сферах. Следовательно, вопрос состоит в том, насколько человечество в состоянии осознать всю неперспективность прорывов в низших сферах бытия за счет деградации высших, и способно ли оно изменить направленность своего исторического движения, способно ли оно возрождением в духе перманентно возвращаться к своим первоистокам с тем, чтобы выполнить свою особую миссию в космогенезе в процессе «сбалансированного» достраивания Миро-Здания донизу, до рационально сконструированного «технологического подвала».
В человеке изначально заложены возможности как рая, так и ада, а потому, чтобы понять, почему мир, который он созидает, одновременно походит и на Храм, и на Застенок, необходимо осуществить мировоззренческую интерпретацию всей исторической ретро- и перспективы с позиции Метаистории, метафорический образ которой и призвана постоянно конструировать Философия. Естественно, она никогда не дойдет до истины в последней инстанции, так как Дух познается самотрансценденцией, а не гиперрационализацией и строится не на принципе знания, а на принципе веры.
В завершение изложения основных положений субъектоцентристской историософемы попытаемся несколько снизить то общее пессимистическое настроение, которое может возникнуть по ходу чтения книги у читателей, более склонных оптимистически проживать свою жизнь и совершающиеся в ней события. Да, при первом знакомстве с субъектоцентристской историософемой, одним из принципов которой выступает катастрофизм, в отличие от прогрессизма объектоцентристской историософемы, переполненной радужным оптимизмом, невольно хочется отнести ее к разряду крайне пессимистических концептуализации сущего. Однако, как нам кажется, пока мы не выясним истинную роль оптимизма и пессимизма в целостном мировосприятии и мировоспроизведении человека, совершенно необоснованно к ним редуцировать целостные и универсальные историософемы.
Мировоззренческий пессимизм в экзистенциальном плане порой оказывается более конструктивным и продуктивным, нежели неоправданный оптимизм, так как всю ответственность за происходящие в истории события возлагает на самого человека. «Пессимизм все же, — писал Н. Бердяев, — означает более глубокое отношение к жизни и большую чувствительность к страданию и злу жизни. Оптимизм более поверхностен и означает недостаточную чувствительность к злу и страданию. Такова, например, оптимистическая теория прогресса, для которой всякая конкретная, живая человеческая личность есть средство для будущего, для грядущего совершенства. Пессимизм благороднее оптимизма, потому что более чуток к злу, к греху, к страданию, с которым связана глубина жизни»148. Согласно «мировоззренческому пессимизму», человек, и только он, повинен в своем вселенском самоотчуждении, в том, что своей предельно феноменализированной экзистенцией отпал от сакральной самотрансценденции. Это ощущение вселенской вины позволяет человеку с достоинством продолжать свою историю, зная, что наказание в конце истории вполне возможно исправить своим духовным преображением. «Я ничего не должен рассматривать как совершенно внеположное мне, — пишет Н. Бердяев. — За дело Каина и я ответствен. История и чужда мне, как объективация, как отчуждение, и близка мне, она и моя. Из этого противоречия в пределах нашего мира выйти нельзя»149. Субъектоцентристская историософема в этом плане является весьма и весьма оптимистичной, история человека в ней выглядит как «оптимистическая трагедия», трагедия, завершающаяся отнюдь не полным растворением человека в небытии, а его воскрешением для вечной жизни в Духе.
В отличие от субъектоцентристской историософии объектоцентристская концепция «исторического развития» выглядит чуть ли не верхом оптимизма, однако на самом деле несет в себе столь мощный заряд онтологической безнадежности, истинную деструктивность которой человек осознает лишь при похмелье от «очередных побед» над... самим собой. Многие идеологи XX века констатировали чуть ли не в качестве очевидного факта, что в массовом сознании мифологема о бренности земного существовании уже окончательно вытеснена идеологемой о ее онтологической самоценности, что утопия о вечной и райской жизни на земле начинает обретать вполне осязаемые исторические формы, основу которых составляет не только прогрессивное, но и устойчивое развитие человеческой экзистенции. Наконец-то архаичный миф окончательно и навсегда уступит в самосознании свое место научной идеологии. Но как это уже не раз бывало в истории выдвижения утопических идей, попытка их «внедрения» лишь усилила всеобщую экзистенциальную деструкцию, и так называемый естественно-исторический ход событий стал протекать уже в явном режиме катастрофы.
Как известно, неоправданный оптимизм и завышенные экзистенциальные ожидания, овладевающие людьми на начальном этапе внедрения Утопии в Жизнь, довольно быстро сменяются отчаянным пессимизмом и вакуумом мирожизненных смыслов. Утопия всегда основывается на стремлении максимально рационализировать человеческую земную жизнь, а рационализация ее трансрациональных форм делает ее еще более неустойчивой, нежели она была прежде, провоцирует преждевременную драматическую развязку, но уже не в Вечности и ее Бесконечной Метаистории (Трансцендентальной Мистерии), а в пределах времени и конечной истории. Если, по Хайдеггеру, экзистенция есть не что иное, как присутствие человека при своей собственной смерти, то любая ее рационализация способна лишь сократить сроки этого присутствия во времени. Другое дело, когда речь идет о вечной и бесконечной жизни человека в Духе, его при-сутствия при Бессмертии, при-сутствия при Сути. Здесь совершенно бессмысленны любые попытки еще более обессмертить Бессмертное. Жизнь как трансцендентное ожидание смерти есть всего лишь процесс духовного самопреображения, процесс перехода земной формы экзистенции в экзистенцию небесную, а потому и оказывается у верующих заряженной предельным оптимизмом, основанном на убеждении, что его жизнь за Пределами Беспредельного, «у времени в плену» в конце концов духовно преобразится, и временной поток, унесший его за Пределы Вечности, вновь вместе с ним в них обретет свое успокоение. «Исторический оптимизм, — пишет Р. Арон, — связан с верой в науку или, скорее всего, в цивилизаторскую силу науки. Знание должно излучать мудрость. Человек — господин и обладатель природы — должен также господствовать над самим собой. После победы над вещами мир между людьми установится сам собой»150. Однако не наука ли с ее сугубо объектным подходом к действительности перманентно провоцирует человека ко все более деструктивному самоотчуждению в погоне за все более прогрессивными условиями внешнего существования. Не она ли освобождает человека от ответственности за то, что якобы «знает, что творит»? Не является ли это рациональное знание сущего той ложью, следование которой лишь деструктивно воздействует на целостность человеческого Бытия или бытийствующего Человека?
Согласно христианскому догмату, вина за распятие Христа лежит на каждом человеке, даже на тех, кто еще не родился; разве не побуждает это человека через раскаяние и покаяние стремиться к самопреображению, к обретению утраченного чувства вселенской ответственности за то, что «не ведал, что творил». Напротив, сциентистское сознание освобождает человека от какой-либо ответственности за содеянное, более того, всячески превозносит любые формы снятий и насилий, лишь бы они были эффективными средствами для повивальной Старухи-Истории. Согласно объектоцентристской историософии, человек полностью освобождается за онтологические преступления, которые конституируются не иначе, как ошибки, которые всегда оказываются следствием неполноты знаний объективных законов истории. Разве кто-нибудь предъявил счет тем, кто ответствен за трагедию в Чернобыле? Напротив, она была сведена всего лишь к ошибкам в расчетах по проектированию атомной электростанции и просчетам в ее эксплуатации. Учет ошибок, на которые человек имеет полное право, ибо «не ошибается лишь тот, кто ничего не делает», дает, якобы, возможность предотвращения подобного рода катастроф в будущем. Но ведь дело не в предотвращении локальных катастроф, а в самой сути глобального катастрофизма, являющегося оборотной стороной глобального прогрессизма.
Информационно-технологическая утопия, принятая современным научном сообществом в качестве радикальной научной парадигмы, не могла не породить в мироощущении современного человека наивысшей формы онтологического оптимизма, который однако вскоре сменился наивысшей формой пессимизма и ощущения онтологического тупика, куда завел его так называемый научно-технический прогресс. Но этот гиперрационалистический пессимизм существенно отличается от пессимизма трансцендентального, он окрашен в столь мрачные тона, что сакральная жизнь человеческая начинает уже восприниматься как нечто незначительное, недостойное сохранению. И вот уже далеко не из кругов религиозных, а научных начинают исходить вселенское отчаяние и страх перед грядущим Апокалипсисом. «Современный пессимизм, — писал Ницше, — есть выражение бесполезности современного мира, — не мира и бытия вообще»151. Любая неудавшаяся в своем воплощении утопия порождает у людей так называемую «усталость от жизни». Особенно тягостным становится осознанное присутствие всего человечества при своей собственной смерти, тем более, если смерть обретает гипостазированные формы, порождаемые массовыми формами самонасилия. В условиях массового социо-техно-логического и социо-информационного насилия над человеком, в которых успела поднатореть современная цивилизация, усталость от жизни и ожидание неестественной, но вполне окончательной смерти, абсолютного небытия превращается чуть ли не в основную мирожизненную проблему у все более расширяющейся части общества. Все чаще появляются рационалистически ориентированные метафизические системы, в которых насилие и смерть начинают занимать свое «достойное» место.
Еще недавно сторонники объектоцентристской историософии прогнозировали достижение рая на Земле в ближайшем обозримом будущем, сейчас же именно они предрекают близкую и неминуемую гибель всему человечеству. Задолго до метафизического кризиса, охватившего на стыке тысячелетий мировоззренческий прогрессизм, Н. Бердяев предупреждал, что «оптимистические теории необходимого и непрерывного прогресса не выдерживают критики»152. Эдмунд Гуссерль в лекции «Кризис европейского человечества и философия»153 сумел вполне убедительно показать связь истории развития мировоззренческого рационализма со все углубляющимся кризисом духовности и человечности, охватившим западную культуру и цивилизацию. В ней же он наметил и пути возможного преодоления этого кризиса в глобальном масштабе. По прогнозам Гуссерля, кризис европейского бытия может закончиться только либо закатом Европы, если она отвернется от присущего ей рационального осмысления жизни и впадет в варварскую ненависть к духу, либо возрождением Европы, благодаря духу философии, способному окончательно преодолеть объективизм и крайнюю его форму — натурализм. По его мнению, только интенциональная, а именно трансцендентальная, феноменология способна преодолеть разрушительные последствия гиперрациональной установки на Человека и его Мир.
Мировоззренческий оптимизм на наших глазах превращается в крайнюю форму экзистенциального пессимизма. Мрачные сциентистские пророчества содержатся в докладах «Римского клуба» в «Повестке дня на XXI век», а известный отечественный футуролог Бестужев-Лада, ранее своими экспоненциальными выкладками подтверждавший неминуемый приход коммунизма, столь же научно обоснованно прогнозирует, что человечеству при сложившихся темпах разрушения экологии осталось существовать на земле не более чем 60 ± 20 лет. Мир с неизбежностью разрушится в обозримом будущем, если человек кардинально не изменит стратегию своего поведения в нем. Россия, к сожалению, вступила на путь модернизации своих мирожизненных основ по модели, которая подвела вплотную западную цивилизацию к онтологическому самоубийству. Планета не выдержит столь массированного и деструктивного воздействия на нее. Выбор пути дальнейшего исторического продвижения становится проблемой, затрагивающей судьбы всего человечества. В Повестке дня на XXI век записано, что ни одной стране мира не удастся повторить путь экономического развития США. Но страждущее человечество явно не желает менять направленность своего прогресса, оно желает жить не иначе, как по американским стандартам потребления. Развитые страны Запада в состоянии существовать лишь за счет прогресса в сфере производства и потребления благ. Стоит лишь притормозить этот процесс, как с неизбежностью эти исторические общности изнутри развалятся. Как мы видим, объектному подходу, в отличие от субъектного, присущ уже не принцип символического, а реального катастрофизма и исторического финализма. Наиболее полно он отражен в господствующей ныне концепции выживания. Единственной реальной альтернативной концепции выживания оказывается уже не апокатастасис, а апокалипсис. Проблема апокалипсиса — это проблема радикального выхода человечества из того онтологического тупика, в который завела его информационно-технологическая цивилизация.
Если субъектоцентристская историософема несет в себе огромный заряд трагического оптимизма, который лишь со стороны объектного подхода воспринимается как метафизический пессимизм, то объектоцентристской историософеме столь же органически присущ поверхностный водевильного характера оптимизм, на манер «хеппи энд» оборачивающийся в конце концов глубоко пессимистическим фарсом. Далеко не случайно теоретики экзистенциализма, франфуртской школы и «новой философии» увидели в истории прогрессивно нарастающее отчуждение, интерпретировали ее смысл в ракурсе все большей дегуманизации общественной жизни.
Мы вполне согласны с утверждением Р. Арона, что «ни оптимизм прогресса, ни пессимизм распада и одиночества, собственно, не определяют историческую идею»154. Историческая идея лежит за пределами ценностных установок общественного сознания, эмоциональная окрашенность которых варьирует от крайне оптимистических до крайне пессимистических настроенностей. Историческая идея — трансцендентная и непостижимая в своей основе — может приоткрываться лишь при субъектном и глубоко интимном к ней отношении, как к самому сокровенному в жизни человека.
Человек, в отличие от животного, ясно осознает конечный характер своего земного существования как в своем онто-, так и филогенезе, но из этого факта он может сделать, по крайней мере, два противоположных вывода. Первый из них состоит в том, что конец его истории является неким исходным пунктом для духовного преображения и перехода в жизнь вечную, а потому все то, что происходит в его временной жизни на Земле, — есть нечто весьма значительное не только для истории, но и значимое для его трансцендентного присутствия при Вечности. Второй же вывод заключается в том, что за пределами человеческого земного существования ничего нет и быть не может, а потому необходимо прожить жизнь в свое удовольствие, даже если именно она окажется последней в череде жизней, ибо «после нас хоть потоп». Если первый вывод исходит из творческого катастрофизма, то второй — из катастрофизма потребительского. Но лишь первая форма метафизического катастрофизма является по-настоящему конструктивной и оптимистичной, в предельно широком значении этих понятий. Н. Бердяев считал, что «творческому катастрофизму Достоевского, Ницше и подлинных символистов принадлежит будущее»155. Альберт Швейцер, отвечая на вопрос, пессимист ли он или оптимист, отвечал, что его познание пессимистично, а его воля и надежда оптимистичны. Я пессимистичен потому, говорил он, что глубоко переживаю бессмысленность всего происходящего в мире. Лишь в редчайшие мгновения я поистине радуюсь своему бытию. Я не могу не сопереживать всему тому страданию, которое вижу вокруг себя, бедствиям не только людей, но и всех вообще живых созданий. Я считаю, что у человечества нет иной судьбы, кроме той, которую оно сознательно готовит себе. Поэтому я не верю в то, что ему предопределено до конца пройти путь падения156. И именно в этом последнем убеждении гуманистически ориентированные мыслители находят источник своего оптимизма.
Принцип «творческого катастрофизма», если его последовательно придерживаться, в состоянии способствовать коренному и конструктивному преобразованию экзистенциальной ситуации, сложившейся в современном мире. Он нацеливает на духовную реинверсию в самом человеческом сознании, на духовное самовосхождение человека. Лишь на тяжком пути самопознания сами собой отомрут репрессивные слои ментальности, и Человек вновь обретет дар вслушиваться в безмолвие Абсолюта, погребенного в глубинах Бессознательного. Гармонизация онтологических слоев человеческого Бытия возможна лишь при радикальной метафизической реконструкции его трансцендентной субъектности. «Пока есть какое-нибудь несовершенство в мире, — писал B.C. Соловьев, — есть, значит, и компромисс противодействующих начал, ибо что такое несовершенство, как не фактическая уступка высшего начала низшему? Истинное совершенствование требует только, чтобы идеальное начало все глубже проникало в противодействующую ему среду и все полнее овладевало ею»157.
Вторая задача должна заключаться, на наш взгляд, в восстановлении со-творчества в многоуровневой человеческой экзистенции, возможность которого открывается лишь на пути автоинволюции Человека, последовательного перемещения «центра тяжести» мира с нижних его ярусов на более высокие. Это и есть проблема самовозвращения человека, движение как бы вспять: от познания к деятельности, от деятельности к общению, и от общения к креации. Спасать необходимо не мир, а человека, необходимо осуществлять совокупность «обратных снятий», преодолевающих ретроспективный ряд самоотчуждений, но это возможно лишь на пути восхождения Человека к своим абсолютным Первоистокам. Необходимо в самой человеческой экзистенции обнаружить онтологический механизм «снятия» самого «снятия». Человек должен не снимать в себе прошлые формы существования, а входить в содружество с ними, переподчиняя свои низшие Я высшим Я, репрезентирующим собой прошлые, более целостные исторические циклы становления. Необходимо редуцировать внешний мир к изначальным глубинным интенциям, а не наоборот, что свойственно гипертрофированным формам рациональности. Тогда можно более основательно заявить о программе Возрождения, как Восхождения к Первоистокам. Если гегелевская схематика порождает нигилистическое отношение к прошлой истории, то всеобъемлющая субъектоцентристская историософема должна строиться на идее возрождения и реконструкции форм бытия, подвергшихся деструктивному снятию. Возникает проблема: как отделить в исторических формах существования «зерна от плевел». Как отличить ложные формы бытия от истинных, под которые они мимикрируют? Здесь необходим подвиг Духа или духовный Подвиг.
На наш взгляд, мировоззренческая позиция мыслителя при всей его интенциональной вариабельности должна быть предельно жесткой и однозначной. «Неиное, — писал Николай Кузанский, — не может быть иным в отношении к иному, будь последнее чем-нибудь именуемым или неименуемым: ведь неиное определяет все таким образом, что оказывается всем во всем»158. К Иному в Сущем мыслитель всегда должен оставаться в непримиримой оппозиции, иначе он будет потворствовать Хаосу. Мыслитель не имеет права сходить с избранных им основоположений, а потому никаких компромиссов с иными мировоззрениями в принципе быть не может, так как шаг вправо, шаг влево — и ты в объятиях Эклектики, а это уже явная для мыслителя гносеологическая катастрофа, вне зависимости от того, является он приверженцем объектного или субъектного подходов к действительности. Эклектика не пугает представителей объектного подхода, ведь всегда можно спрятаться за ширму псевдодемократического плюрализма, в котором не представляется уже возможным ложь отличить от истины. Субъектоцентристскую историософему нельзя отождествлять с той формой метафизического пессимизма, в которую окончательно впал объектоцентристский мировоззренческой прогрессизм. «Творческий катастрофизм» в качестве принципа осознания глубинных пластов идеи Всемирной Истории, на наш взгляд, является одним из весьма продуктивных методов подлинной историософии. Чистота метафизической рефлексии требует восхождения к метафизическому монизму и еще выше — к трансцендентальному монотеизму.
___________________
Задняя обложка книги
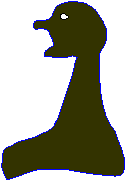 |
Бог имманентен Человеку в той мере в какой Человек трансцендентен Богу, антропологическая катастрофа нарастает в той мере в какой Человек абсолютизирует имманентность и релятивизирует трансцендентность в своей исторически расширяющейся экзистенции.
[1] Бердяев Н.А. Смысл творчества. // Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. - М., 1989. - С.294.
[2] Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М., 1973. – С.259.
[3] Бердяев Н.А. Смысл творчества. // Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. - М., 1989. - С.287.
[4] Шелер Макс. Человек и история. // Шелер Макс. Избр. произв. - М., 1994. - С.70.
[5] Арон Р. Введение в философию истории. // Философия и общество. N 2. 1997. – С.254.
[6] Фуко Мишель. Порядок дискурса. // Фуко Мишель. Воля к истине. - М., 1996. - С.92.
[7] Булгаков С.Н. Основные проблемы теории прогресса. // Булгаков С.Н. Соч. В 2 т. - М. 1993. - Т.2. - С.76.
[8] Зеньковский В.В. История русской философии. - Кн.1. – Ч.1. – Л., 1991. – С.16.
[9] Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. – СПб., 1993. – С.65.
[10] Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. //Бердяев Н.А. Царство духа и царство Кесаря. – М., 1995. – С.155.
[11] Heidegger M. Sein und Zeit. Tubingen. 1986. – S.20.
[12] Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории.1. Гештальт и действительность. - М., 1993. - С.131.
[13] Цит. по: Пьер Адо. Плотин или Простота взгляда. - М., 1992. - С.24-25.
[14] Плотин. Избр. трактаты. В 2-х т. - М., 1994. - Т.2. - С.137.
[15] Беряев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - Спб. 1996. - С.60.
[16] Бердяев Н.А. Дух и реальность. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. - С.386.
[17] Гартман Николай. Проблема духовного бытия. // Культурология. ХХ век. Антология. - М., 1995. - С.629.
[18] Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия. - М., 1991. - С.58.
[19] Николай Кузанский. Простец об уме. Книга вторая. // Николай Кузанский. Соч. В 2 т. - М. 1979. - Т.1. - С. 422.
[20] Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель. // Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. - М. 1991. С. 249.
[21] Булгаков С. Два града. - С. 103.
[22] Булгаков С.Н. Апокалиптика и социализм. // Булгаков С.Н. Соч. в 2 т. - М., 1993. - Т.2. - С. 393.
[23] См.: Федоров Ю.М. Историософема, восходящая к абсолютному мифу // Философия и миф сегодня. – Саратов. 1998.
[24] Цит. по: Франк С.Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия. // Франк С.Л. Реальность и человек. – М., 1997. – С.236
[25] Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. - М., 1994. - С.80.
[26] Арон Р. Философия истории. // Философия и общество. N 1. 1997. – С.270.
[27] Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель. // Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. - М. 1991. С. 272.
[28]Прокл. Первоосновы теологии. // Прокл. Первоосновы теологии. Гимны. - М. 1993. - С. 57.
[29]Прокл. Первоосновы теологии. // Прокл. Первоосновы теологии. Гимны. - М. 1993. - С. 57.
[30] Гартман Николай. Проблема духовного бытия. // Культурология. ХХ век. Антология. - М., 1995. - С.625.
[31] Гартман Николай. Проблема духовного бытия. // Культурология. Х век. Антология. - М., 1995. - С.626-628.
[32] Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии. // Вышеславцев Б.П. Этика преображенного эроса. - М., 1994. - С.180.
[33] Бродель Фернан. История и общественные науки. Историческая длительность // Философия и методология истории. – М., 1977. – С.127.
[34] Бродель Фернан. История и общественные науки. Историческая длительность // Философия и методология истории. – М., 1977. – С.135.
[35] Лессинг Теодор. Шопенгауэр. Вагнер. Ницше. // Культурология. ХХ век. Антология. - М., 1995. - С.427.
[36] Лебедев В.Э. Философия истории и метаистории. – Екатеринбург. 1997. – С. 9.
[37] Лебедев В.Э. Философия истории и метаистории. – Екатеринбург. 1997. – С. 13.
[38] Прокл. Первоосновы теологии. // Прокл. Первоосновы теологии. Гимны. – М. 1993. – С. 97.
[39] Бердяев Н.А. Я и мир объектов. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М. 1994. - С. 262.
[40] Фриауф В.А. Постсовременность: вечное возвращение или прорыв к новым горизонтам? // Россия и Европа: Философия, культура, современность. – Саратов. 1993. – С.177.
[41] Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. // Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1993. - С. 342.
[42] Булгаков С.Н. Апокалиптика и социализм. // Булгаков С.Н. Соч. В 2-х т. - М., 1993. - Т.2. - С. 389, 416, 429-430.
[43] Булгаков С.Н. Основные проблемы теории прогресса. // Булгаков С.Н. Соч. В 2-х т. - М., 1993. - Т.2. - С. 86.
[44] Николай Кузанский. Простец об уме. Книга вторая. // Николай Кузанский. Соч. В 2-хт. - М., 1979. - Т.1. - С.421.
[45] Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель. // Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. - М. 1991. - С. 137,259.
[46] Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. – М.. 1997. – С. 77.
[47] Булгаков С.Н. Апокалиптика и социализм. // Булгаков С.Н. Соч. В 2 т. - М. 1993. – Т. 2. С. 387-388.
[48] Булгаков С.Н. Апокалиптика и социализм. // Булгаков С.Н. Соч. В 2-х т. - М., 1993. - Т.2. - С. 389, 416, 429-430.
[49] См. параграф “Антиисторизм антропологии” в «Сумма антропологии Кн.1. Расширяющаяся вселенная Абсолюта».
[50] Мистическое богословие. – Киев. 1991. – С. 91-92.
[51] Сагатовский В.Н. Философия развивающейся гармонии. Ч.1. Введение: философия и жизнь. - Спб. - 1997. - С.116.
[52] Шелер Макс. Положение человека в космосе. // Шелер Макс. Избр. произв. – М., 1994. – С.187.
[53] Аристотель. Физика // Аристотель. Соч. В 4 т. - М., 1981. - Т.3. - С. 123.
[54] Аристотель. Физика // Аристотель. Соч. В 4 т. - М., 1981. - Т.3. - С. 127.
[55] А.Ф.Лосев. Хаос. // Мифологический словарь. - М., 1990. - С.569.
[56] Булгаков С.Н. Свет невечерний. - М., 1994. - С. 208, 219.
[57] А.Ф.Лосев. Хаос. // Мифологический словарь. - М., 1990. - С.569.
[58] Маркузе Герберт. Эрос и цивилизация. – Киев. 1995. – С.147.
[59] Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и че-ловеческого. // Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1993. - С.324.
[60] Плотин. Избр. трактаты. В 2-х т. - М., 1994. - Т.2. - С.111-112.
[61] Кант. Всеобщая естественная история и теория неба. // Кант. Соч. В 6 т. - М., 1963. - Т.1. - С.118,124.
[62] Кант. Единственное возможное основание для доказательства бытия Бога. // Кант. Соч. В 6 т. - М., 1963. - С.494.
[63] Шеллинг. Введение в философию мифологии. // Шеллинг. Соч. В 2 т. - М., 1989. - Т.2. - С.196.
[64] Федоров Ю.М. Сумма антропологии. Кн.1. Расширяющаяся вселенная Абсолюта. - Новосибирск. 1995. - С.222.
[65] Антология мировой философии. В 4 т. - М., 1962. - Т.1. - Ч. 2. - С.793.
[66] Франк С.Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия. // Франк С.Л. Реальность и человек. – М., 1997. – С.361.
[67] Арон Р. Введение в философию истории. // Философия и общество. N 2. 1997. – С.275.
[68] Франк С.Л. Непостижимое. // Франк С.Л. Соч. – М., 1990. – С.444-445.
[69] Булгаков С.Н. Свет невечерний. - М. 1994. - С. 93.
[70] Плотин. Избр. трактаты. В 2-х т. - М., 1994. - Т.2. - С.40-41.
[71] Соловьев В.С. Философские начала цельного знания. // Соловьев В.С. Соч. В 2 т. - М. 1988. Т. 1. - С. 233.
[72] Соловьев В.С. Первый шаг к положительной эстетике. // Соловьев В.С. Соч. В 2 т. - М. 1988. Т. 1. - С. 234.
[73] Булгаков С.Н. Свет невечерний. - М., 1994. С. 160.
[74] Николай Кузанский. О неином. // Николай Кузанский. Соч. В 2 т. М.,1980. - Т. 2. - С. 198.
[75] Прокл. Первоосновы теологии. // Прокл. Первоосновы теологии. Гимны. - М. 1993. - С. 33-34.
[76] Шелер Макс. Положение человека в космосе. // Шелер Макс. Избр. произв. – М., 1994. – С.174-175.
[77] Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. С. 79.
[78] Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М. 1994. - С. 117.
[79] Франк С.Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия. // Франк С.Л. Реальность и человек. – М., 1997. – С.328.
[80] Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии. // Вышеславцев Б.П. Этика преображенного эроса. М., 1994. - С.251.
[81] Браш М. Классики философии. В 2 т. - Спб. 1907. - Т.1. Греческая философия. - С.396.
[82] Гегель. Философия религии. В 2-х т. - М., 1977. - Т.2. С. 478.
[83] Маркузе Герберт. Эрос и цивилизация. – Киев. 1995. – С.147.
[84] Франк С.Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия. // Франк С.Л. Реальность и человек. – М., 1997. – С.428.
[85] Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. – М., 1978. - С.64.
[86] Кьеркегор С. Понятие страха. // Кьеркегор С. Страх и трепет. - М., 1993. - С.185.
[87] Ladriere J. Vie sociale et destinee. Gembioux, 1973. – P.64.
[88] Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. // Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1993. - С. 283.
[89] Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель. // Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. - М., 1991. - С. 38-39.
[90] Плотин. Избр. трактаты. В 2-х т. - М., 1994. - Т.1. - С.28.
[91] Лейбниц. Соч. В 4 т. - М., 1989. - Т.4. - С.392.
[92] Шеллинг. Соч. В 2 т. - М. 1989. -Т. 2. - С. 472-473.
[93] Бердяев Н.А. Дух и реальность. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. - С.367.
[94] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т.46. - Ч.1. - С.467. (уточненный перевод Г.С.Батищева. См. Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С. 23, 74.).
[95] Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. С. 175.
[96] Гартман Николай. Проблема духовного бытия. // Культурология. ХХ век. Антология. - М.,1995. - С.647-648.
[97] Николай Кузанский. Простец об уме. Книга вторая. // Николай Кузанский. Соч. В 2 т. - М. 1979. Т. 1. С. 422.
[98] Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М., 1979. - С. 350-351.
[99] Лебедев В.Э. Философия истории и метаистории. – Екатеринбург. 1997. – С. 9.
[100] Николай Кузанский. Об ученом незнании. // Николай Кузанский. Соч. В 2 т. - М. 1979. Т. 1. С. 103, 106.
[101] Тиллих Пауль. Теология культуры // Тиллих Пауль. Избранное. Теология культуры. - М., 1995. - С.248.
[102] Николай Кузанский. Игра в шар // Николай Кузанский. Соч. В 2 т. - М. 1980. - Т. 2. - С. 295.
[103] Бердяев Н.А. Дух и реальность. / Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. – С.368.
[104] Шеллинг. Соч. В 2 т. - М. 1989. - Т. 2. - С. 473-476.
[105] Соловьев В.С. Первый шаг к положительной эстетике. // Соловьев В.С. Соч. В 2 т. – М., 1988. – Т. 1. – С. 235.
[106] Франк С.Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия. // Франк С.Л. Реальность и человек. – М., 1997. – С.232.
[107] Шеллинг. К истории новой философии. // Шеллинг. Соч. В 2 т. - М. 1989. - Т. 2. - С. 473-474.
[108] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.326.
[109] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.229.
[110] Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. - СПб., 1880. - С.115.
[111] Бердяев Н.А. Дух и реальность. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. С. 385.
[112] Кассирер Эрнст. Философия символических форм. // Культурология. ХХ век. Антология. - М., 1995. - С.185.
[113] Франк С.Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия. // Франк С.Л. Реальность и человек. – М., 1997. – С.224.
[114] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.391.
[115] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.131-132.
[116] Бердяев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - Спб. 1996. - С. 149.
[117] Бердяев Н.А. Философия свободы // Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989. – С.203.
[118] Прокл. Первоосновы теологии. // Прокл. Первоосновы теологии. Гимны. - М. 1993. - С. 52.
[119] Прокл. Первоосновы теологии. // Прокл. Первоосновы теологии. Гимны. - М. 1993. - С. 74.
[120] Тиллих Пауль. Кайрос. // Тиллих Пауль. Избранное. Теология культуры. - М., 1995. - С.231-232.
[121]Николай Кузанский. Охота за мудростью. // Николай Кузанский. Соч. в 2-х томах. - М. 1980. - Т. 2. - С. 408.
[122] Фуко Мишель. Порядок дискурса. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.76.
[123] Плутарх. О происхождении мировой души по “Тимею” Платона. // Браш М. Классики философии. В 2 т. -Спб. 1907. - Т.1. Гречаская философия. - С.397-402.
[124] Беряев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - Спб. 1996. - С.60.
[125] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - М., - Т.46. -Ч.1. - С. 105.
[126] Франк С.Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия. // Франк С.Л. Реальность и человек. – М., 1997. – С.422.
[127] Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель. // Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. - М. 1991., - С. 245.
[128] Шеллинг. Введение в философию мифологии. // Шеллинг. Соч. В 2 т. - М., 1989. - Т.2. - С.213.
[129] Батищев Г.С. Особенности культуры глубинного общения. // Вопросы философии. 1995. N 3. - С.104.
[130] Фуко Мишель. Порядок дискурса. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.81.
[131] Ignatov Assen. Antropologische Geschichtsphilosohie. Sankt Augustin, Akademia Verlag, 1993. S.60
[132] Плотин. Избр. трактаты. В 2-х т. - М., 1994. - Т.2. - С.37.
[133] Трёльч Э. Историзм и его проблемы. - М., 1994. - С.655.
[134]Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. - М., 1993. - С.184.
[135] Зиммель Георг. Проблема исторического времени. // Зиммель Георг. Избр. в 2 т. - М., 1996. - Т.1. Философия культуры. - С.519.
[136] Niebur R. The Self and the Dramas of History. N.Y., 1955, p.225.
[137] Heidegger M. Sein und Zeit. Tubingen. 1986. – S.381.
[138] Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель. // Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. - М. 1991. С. 273-274.
[139] Трёльч Э. Историзм и его проблемы. - М., 1994. - С.47.
[140] Булгаков С.Н. Философия хозяйства. // Булгаков С.Н. Соч. В 2 т. - М. 1993. - Т.1. - С.224.
[141] Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человече-
ского. // Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1993. С. 263-265.
[142] Булгаков С.Н. Свет невечерний. - М., 1994. С. 181.
[143]Булгаков С.Н. Основные проблемы теории прогресса. // Булгаков С.Н. Соч. В 2 т. - М. 1993. - Т.2. - С.77.
[144] Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель. // Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. - М. 1991. С. 271
[145] Трёльч Э. Историзм и его проблемы. - М., 1994. - С.71.
[146] Беряев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - Спб. 1996. - С. 45-46, 98.
[147] Булгаков С.Н. Апокалиптика и социализм. / / Булгаков С.Н. Соч. В 2-х т. - М. , 1993. - Т. 2. - С. 429.
[148] Гартман Николай. Проблема духовного бытия. // Культурология. ХХ век. Антология. - М., 1995. - С.608.
[149] Эйнштейн А. Собр. научных трудов. - Т.4. - М., 1967. - С.200.
[150] Кьеркегор С. Понятие страха. - Страх и трепет. - М., 1993. - С. 209.
[151] Трёльч Э. Историзм и его проблемы. - М., 1994. - С.42-43.
[152] Бердяев Н.А. Самопознание. – М., 1991. – С.786.
[153] Булгаков С.Н. Религия человекобожия у Л.Фейербаха. // Булгаков С.Н. Соч. В 2 т. - М. 1993. - Т. 2. - С. 213.
[154] Popper K. The poverty of historicism. L., 1957. Vol. 2. - P.270
[155]Батищев Г.С. Философская концепция человека и креативности в наследии С.Л.Рубинштейна. // Вопросы философии. 1989. N 4. - С.106.
[156] Николай Кузанский. Охота за мудростью. // Николай Кузанский. Соч.в 2 т. - М. 1980. - Т. 2. - С. 399.
[157] Бергсон А. Творческая эволюция. -М., 1914, - С.238.
[158] Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1.Гештальт и действительность. - М., 1993. - С.278.
[159] Шелер Макс. Формы знания и образование. // Шелер Макс. Избр. произв. – М., 1994. – С.31.
[160] Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель. // Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. - М. 1991. С. 276.
[161] Трёльч Э. Историзм и его проблемы. - М., 1994. - С.60.
[162] Риккерт Генрих. Науки о природе и науки о культуре. // Культурология. ХХ век. Антология. - М., 1995. - С. 87,90.
[163]Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1.Гештальт и действительность. - М., 1993. - С.288-290.
[164] Арон Р. Философия истории. // Философия и общество. N 1. 1997. – С.258-259.
[165] Эспиноза Сервера А. Кто есть человек? Философская антропология. // Это человек. Антология. - М. 1995. С. 97.
[166] Соловьев Вл. Чтение о Богочеловечестве. - Собр. соч. - Т. 3. – С. 149.
[167] Гроф Станислав. За пределами мозга. – М., 1993. – С.83.
[168] Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии. // Вышеславцев Б.П. Этика преображенного эроса. М., 1994. - С.238.
[169] Ориген. О Началах. – Самара. 1993. – С.43.
[170] Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. - С. 41.
[171] Гете И.В. Созерцающая способность суждения // Гете И.В. Избр. соч. по естествознанию. - М., 1957. - С.382.
[172] Гете. О математике и о злоупотреблении ею. // Гете. Избр. филос. произв. - М., 1964. - С.287.
[173] Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель. // Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. - М. 1991. С. 253.
[174] Гадамер Г.Г. В круге понимания. //Актуальность прекрасного. – М., 1991. – С.81-82.
[175] Гете. Максимы и размышления. // Гете. Избр. филос. произв. - М., 1964. - С.367.
[176] Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. Т.1 (1). – М., 1990. – С.234.
[177] Франк С.Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия. // Франк С.Л. Реальность и человек. – М., 1997. – С.422.
[178] Ильин И.А. О сущности правосознания. // Ильин И.А. Соч. в 2 т. – М., 1993. – Т. 1. Философия права. Нравственная философия. – С.76
[179] Ильин И.А. О сущности правосознания. // Ильин И.А. Соч. в 2 т. – М., 1993. – Т. 1. Философия права. Нравственная философия. – С.77.
[180] Булгаков С.Н. Свет невечерний. - М., 1994. С. 226-227.
[181] Маритен Жак. Интегральный гуманизм. // Маритен Жак. Философ в мире. - М., 1994. - С. 122-123.
[182] Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии. // Вышеславцев Б.П. Этика преображенного эроса. - М., 1994. - С.177.
[183] Шестов Лев. Киргегард и экзистенциальная философия. - М. 1992. - С. 231.
[184] Бергсон А. Творческая эволюция. – М., 1909. – С.89.
[185] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.58.
[186] Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. - С.318.
[187] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.56.
[188] Ильин И.А. О сущности правосознания. // Ильин И.А. Соч. в 2 т. – М., 1993. – Т. 1. Философия права. Нравственная философия. – С.77.
[189] Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. – М., 1994. – С.49.
[190] Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. // Бердяев Н.А. Царство духа и царство кесаря. - М. 1995. - С. 25.
[191] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.175.
[192] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.203.
[193] Sartre J.-P. Critigue de la Raison dialectigue. – P., 1985. Tome 2, - P.324.
[194] Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия. - М., 1991. - С. 59.
[195] Хайдеггер М. Преодоление метафизики. // Хайдеггер М. Время и Бытие. - М., 1993. - С.182.
[196] Цит. по: Тиллих Пауль.Теология культуры. // Тиллих Пауль. Избранное. Теология культуры. - М., 1995. - С. 306.
[197] Ортега-и-Гассет. Восстание масс. // Вопросы философии. 1989. N 4. - С.131-132.
[198] Булгаков С.Н. Догматическое обоснование культуры. // Булгаков С.Н. Соч. В 2 т. - М., 1993. - Т.2. - С.639.
[199] Гегель. Философия истории. // Соч. В 14 т. – М.-Л., 1935. – Т.8. – С. 26,32.
[200] Гете. Эрнст Штиденрот. Психология для объяснения душевных явлений. // Гете. Избр. филос. произв. - М., 1964. - С.285-286.
[201] Кант И. Трактаты и письма. - М., 1980. - С.50.
[202] Зиммель Георг. Конфликт современной культуры. // Зиммель Георг. Избр. в 2 т. - М., 1996. - Т.1. Философия культуры. - С.495.
[203] Ницше Ф. Собр. соч. - М., - Т.1Х. - С.261.
[204] Гартман Николай. Проблема духовного бытия. // Культурология. ХХ век. Антология. - М.,1995. - С.625-626.
[205]Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия. - М., 1991. - С.13.
[206] Кьеркегор С. Понятие страха. // Кьеркегор С. Страх и трепет. - М., 1993. - С.241.
[207] Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. // Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1993. - С.285.
[208] Кьеркегор С. Болезнь к смерти. - Страх и трепет. - М., 1993 - С. 280-281.
[209] Булгаков С.Н. Философия хозяйства. // Булгаков С.Н. Соч. В 2 т. - М., 1993. - Т.1. - С.232.
[210] Гете. Проблемы. // Гете. Избр. филос. произв. - М., 1964. - С.281.
[211] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.389.
[212] Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. С. 319.
[213] Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель. // Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. - М., 1991. - С. 259.
[214] Зиммель Георг. О сущности культуры. // Зиммель Георг. Избр. в 2 т. -М., 1996. - Т.1. Философия культуры. - С.475.
[215] Popper K. The poverty of historicism. L., 1957. Vol.1. - P.3.
[216] Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. - М., 1993. - С.150.
[217] Булгаков С.Н. Основные проблемы теории прогресса. // Булгаков С.Н. Соч. в 2- х. - М. 1993. - Т. 2. - С. 79.
[218] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.93.
[219] Гартман Николай. Проблема духовного бытия. // Культурология. ХХ век. Антология. - М., 1995. - С.631.
[220] Коллингвуд Р. Дж. Идея истории: Автобиография. - М., 1980. - С.216.
[221] Рикер Поль. Что меня занимает последние 30 лет. // Рикер Поль. Герменевтика. Этика. Политика. - М., 1995. - С. 69.
[222] Булгаков С.Н. Философия хозяйства. // Булгаков С.Н. Соч. В 2-х. томах. М.,1993. - Т.1. - С. 175.
[223] Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. // Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1993. С. 263-265.
[224] Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. С. 318.
[225] Тиллих Пауль. Кайрос. // Тиллих Пауль. Избранное. Теология культуры. - М., 1995. - С.227.
[226] Арон Р. Введение в философию истории. // Философия и общество. N 2. 1997. – С.261.
[227] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.351.
[228] Трёльч Э. Историзм и его проблемы. - М., 1994. - С.473.
[229] Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. Т.1 (1). – М., 1990. – С.197.
[230] Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1993. С. 25.
[231] Croce B. History as the story of liberty. N.Y., 1941. - P.51.
[232] Коллингвуд Р. Дж. Идея истории: Автобиография. - М., 1980. - С.216, 287, 314.
[233] Риккерт Генрих. Науки о природе и науки о культуре. // Культурология. ХХ век. Антология. - М., 1995. - С. 88.
[234] Benoist J.-M. La revolution structurale. P., 1980, P.50.
[235] Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М., 1971. – С.65.
[236] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.241.
[237] Бердяев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - Спб. 1996. - С. 145.
[238] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.109-110.
[239] Франк С.Л. Реальность и человек. – М., 1997. – С. 237-238.
[240] Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. Т.1 (1). – М., 1990. – С.219.
[241] Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. – М., 1993. – С. 73.
[242] Сэв Л. Основные понятия. Акты, способности. Проблема потребностей. // Психология личности. Тексты. — М., 1982. — С.43-44.
[243] Зиммель Георг. Социология религии. // Зиммель Георг. Избр. В 2 т. - М., 1996. - Т.1. Философия культуры. - С. 570.
[244] Фейербах Л. Избр. филос. произв. В 2 т. – М., 1955. – Т.2 – С. 579.
[245] Ранее нами была разработана социально-психологическая модель человеческой активности “способности-потребности”. См.: Федоров Ю.М. Типология личности: способности-потребности. // Общество, культура, человек. — Баку. 1990.; Федоров Ю.М.Социальная психология. В 2. кн. - Тюмень. 1997. - Кн.2. - С.154-182.
[246] Гегель. Философия истории. // Гегель. Соч. В 14 т. – М.-Л., 1935. – Т.8. – С.14.
[247] Цит по: О,Шоннеси Дж. Принципы организации управления фирмой. - М., 1979. - С.123-124.
[248] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т.46. - Ч.1. - С.476.
[249] Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М., 1973. – С.227.
[250] Булгаков С. Н. Философия хозяйства. // Булгаков С.Н. Соч. в 2 т. — М. 1993. — Т.1. — С.232.
[251] Бердяев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - Спб. 1996. - С.11-12.
[252] Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности. // Вопросы философии. 1989. N 4. - С.94-95.
[253] Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977. – С.131.
[254] Фромм Э. Иметь или быть? — М., 1968.
[255] Сэв Л. Основные понятия. Акты, способности. Проблема потребностей. // Психология личности. Тексты. — М., 1982. — С.43-44.
[256] Маркузе Герберт. Эрос и цивилизация. – Киев. 1995. – С.112.
[257] Зиммель Георг. Кризис культуры. // Зиммель Георг. Избр. в 2 т. - М., 1996. - Т.1. Философия культуры. - С.491.
[258] Зиммель Георг. Гете. // Зиммель Георг. Избр. в 2 т. - М., 1996. - Т.1. Философия культуры. - С. 165.
[259] Батищев Г.С.Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.344.
[260] Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. - М., 1956. - С.476.
[261] Б.П.Вышеславцев. Вечное в русской философии. // Б.П.Вышеславцев. Этика преображенного эроса. - М., 1994. - С.270.
[262] Шелер Макс. Ordo amoris. // Шелер Макс. Избр. произв. - М., 1994. - С.357-358.
[263] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.242.
[264] Фуко Мишель. Воля к знанию. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.250.
[265] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т.26. - Ч.3. - С.507.
[266] Булгаков С.Н. Основные проблемы теории прогресса. // Булгаков С.Н. Соч. В 2 т. - М. 1993. - Т.2. - С.69.
[267] Паркинсон Сирил Норткот. Мышеловка на меху // Паркинсон Сирил Норткот. Законы Паркинсона. — М., 1989. — С.245.
[268] Фромм Э. Иметь или быть? - М., 1986. - С.171.
[269] Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994. - С.12,15.
[270] Маритен Жак. Интегральный гуманизм. // Маритен Жак. Философ в мире. — М., 1994. — С.70.
[271] Арон Р. Введение в философию истории. // Философия и общество. N 2. 1997. – С.251.
[272] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т.26. - Ч.3. - С.541.
[273] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т.23. - С.173.
[274] Зиммель Георг. О сущности культуры. // Зиммель Георг. Избр. в 2 т. - М., 1996. - Т.1. Философия культуры. - С.482.
[275] Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса // Выготский Л.С. Собр. соч. В 6 т. — М., 1982. — Т.1. — С.306-309.
[276] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.246.
[277] Соловьев В.С. Соч. В 2 т. - М., 1988. - Т.1. - С.268.
[278] Бердяев Н.А. Дух и реальность. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М. 1994. - С. 387.
[279] См.: Коптюг В.А. Конференция ООН по окружающей среде и развитию. Информационный обзор. - Новосибирск. 1992.
[280] Николай Кузанский. Игра в шар. // Николай Кузанский. Соч. в 2-х томах. - М. 1980. - Т. 2. - С. 295-296.
[281] Тиллих Пауль. Теология культуры // Тиллих Пауль. Избранное. Теология культуры. - М., 1995. - С.294.
[282] Цанер Ричард М. О подходе к философской антропологии. // Это человек. Антология. - М. 1995. С. 163.
[283] Шелер Макс. Положение человека в космосе. // Шелер Макс. Избр. произв. – М., 1994. – С.165,170,174-175.
[284] Плотин. Избр. трактаты. В 2-х т. - М., 1994. - Т.2. - С.116.
[285] Ориген. О Началах. – Самара. 1993. – С.95.
[286] Ильин И.А. О сущности правосознания. // Ильин И.А. Соч. в 2 т. – М., 1993. – Т. 1. Философия права. Нравственная философия. – С.226.
[287] Плотин. Избр. трактаты. В 2-х т. - М., 1994. - Т.2. - С.112.
[288] Древнекитайский философ Лао-цзы и его учение. - М., 1950. Гл.16.
[289] Шелер Макс. Положение человека в космосе. // Шелер Макс. Избр. произв. – М., 1994. – С.171.
[290] Древнекитайский философ Лао-цзы и его учение. - М., 1950. Гл.40.
[291] Плотин. Избр. трактаты. В 2-х т. - М., 1994. - Т.2. - С.113.
[292] Беряев Н. Дух и сила // Бердяев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - Спб. 1996. - С. 169.
[293] Беряев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - Спб. 1996. - С.54-55.
[294] Бердяев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - Спб. 1996. - С. 99.
[295] Плотин. Избр. трактаты. В 2-х т. - М., 1994. - Т.2. - С.111.
[296] Хайдеггер М. Письмо о гумманизме. // Проблема человека в западной философии. – М., 1988. – С.338.
[297] Шелер Макс. Положение человека в космосе. // Шелер Макс. Избр. произв. – М., 1994. – С.165.
[298] Ильин И.А. Понятие права и силы. // Ильин И.А. Соч. в 2 т. – М., 1993. – Т. 1. Философия права. Нравственная философия. – С.16-18.
[299] Фуко Мишель. Воля к знанию. // Фуко Мишель. Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.191-192.
[300] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.305.
[301] Плотин. Избр. трактаты. В 2-х т. - М., 1994. - Т.2. - С.14.
[302] Булгаков С.Н. Свет невечерний. - М. 1994. - С. 181.
[303]Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. С. 148.
[304] Шелер Макс. Положение человека в космосе. // Шелер Макс. Избр. произв. – М., 1994. – С.172.
[305] Фуко Мишель. Воля к знанию. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.200.
[306] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.431.
[307] Зиммель Георг. Понятие и трагедия культуры. // Зиммель Георг. Избр. в 2 т. - М., 1996. - Т.1. Философия культуры. - С.467.
[308] Гегель. Лекции по философии истории. – СПб, 1993. – С. 72.
[309] Хайдеггер М. Европейский нигилизм. // Хайдеггер М. Время и Бытие. - М., 1993. - С.92.
[310] Гегель. Лекции по философии истории. – СПб, 1993. – С. 79.
[311] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.382-383.
[312] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.289.
[313] Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. С. 117.
[314] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.336.
[315] Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. — М., 1994. — С.23.
[316] Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель. // Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. - М. 1991. С. 233.
[317] Шестов Лев. Киргегард и экзистенциальная философия. - М.: 1992, с. 100.
[318] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т.46. - Ч.1. - С.192. Цитата дана в переводе Г.С.Батищева. См.: Батищев Г.С.Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.344.
[319] Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994. - С.7-8.
[320] Гете И.В. Поэзия и правда. // Гете И.В. Собр. соч. в 13 т. - М., 1932-1959. - Т.1Х, - Ч.1, Кн.2. - С.87.
[321] Маркс К, Энгельс Ф. Соч. Изд. 2. – Т.39. – С.35.
[322] Бердяев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - Спб. 1996. - С.79.
[323] Маркузе Герберт. Эрос и цивилизация. – Киев. 1995. – С.27-28, 30.
[324] Foucault M. Surveiller et punir: Naissance de la prison. – P., 1975.
[325] Сагатовский В.Н. Философия развивающейся гармонии. Ч.1. Введение: философия и жизнь. - Спб. - 1997. - С.198.
[326] Ильин И.А. О сущности правосознания. // Ильин И.А. Соч. в 2 т. – М., 1993. – Т. 1. Философия права. Нравственная философия. – С.227.
[327] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.42.
[328] Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994. - С.65
[329] Сагатовский В.Н. Философия развивающейся гармонии. Ч.1. Введение: философия и жизнь. - Спб. - 1997. - С.196.
[330] Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. // Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1993. - С.309.
[331] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т.32. - С.45.
[332] Цит. по: Ильин И.А. О сопротивлении злу силою. // Ильин И.А. Соч. в 2 т. – М., 1993. – Т. 1. Философия права. Нравственная философия. – С. 456.
[333] Цит. по: Ильин И.А. О сопротивлении злу силою. // Ильин И.А. Соч. в 2 т. – М., 1993. – Т. 1. Философия права. Нравственная философия. – С.457.
[334] Древнекитайский философ Лао-цзы и его учение. - М., 1950. Гл.36.
[335] Бердяев Н. Дух и сила. // Бердяев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - Спб. 1996. - С. 179.
[336] Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994. - С.7.
[337] Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Изд.2. - Т.23. - С.754.
[338] Ильин И.А. О сопротивлении злу силою. // Ильин И.А. Соч. в 2 т. – М., 1993. – Т. 1. Философия права. Нравственная философия. – С.430.
[339]Бахтин М.Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренесанса. - М., 1965. - С.395,473.
[340] Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994. - С.304.
[341]Маркарян Э.С. Очерки теории культуры. - Ереван. 1969. - С.80-81.
[342] Лем Станислав. Сумма технологии. - М., 1968. - С.26.
[343]Бердяев Н. Пути гуманизма // Бердяев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - Спб. 1996. - С. 182.
[344] Ильин И.А. О сущности правосознания. // Ильин И.А. Соч. в 2 т. – М., 1993. – Т. 1. Философия права. Нравственная философия. – С.76.
[345] Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. – М., 1994. – С.152.
[346]Эллюль Ж. Технологический блеф. // Это человек. Антология. - М. 1995. С. 283.
[347]Лафарг П. Соч. В 3 т. - М-Л., 1925-1931. - Т.3. - С. 351,200,201.
[348] Лафарг П. Соч. В 3 т. - М-Л., 1925-1931. - Т.3. - С. 400, 419.
[349]Ганжин В.Т. Смыслообретения и смыслоутраты в культуре и биографии личтости (опыт аксиологического анализа проблематики). // Психолого-педагогические и философские аспекты проблемы смысла жизни (материалы 1 и 2 симпозиумов) - М., 1997. - С.181.
[350] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т.1. - С.74.
[351] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.342.
[352] Бергсон А. Творческая эволюция. - М., Спб., 1914. - С.238.
[353] Хомяков А.С. По поводу Гумбольдта. // О старом и новом. - М., 1988. - С.197.
[354] Levy B.-H. La barbarie a visage humain. P., 1977. - P.154.
[355] Гегель. Лекции по философии истории. – СПб. 1993. – С.139.
[356] Гегель. Лекции по философии истории. – СПб. 1993. – С.149.
[357] Ignatov Assen. Antropologische Geschichtsphilosohie. Sankt Augustin, Akademia Verlag, 1993.
[358] Цит. по: Пьер Адо. Плотин или Простота взгляда. — М., 1992. — С.120.
[359] Ортега-и-Гассет. Вопросы философии. - С. 92.
[360] Гегель. Лекции по философии истории. – СПб. 1993. – С.73,84.
[361] Шелер Макс. Формы знания и образование. // Шелер Макс. Избр. произв. – М., 1994. – С.31.
[362] Бердяев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - Спб. 1996. - С.81-82.
[363] Ignatov Assen. Antropologische Geschichtsphilosohie. Sankt Augustin, Akademia Verlag, 1993.
[364] Зиммель Георг. Понятие и трагедия культуры. // Зиммель Георг. Избр. в 2 т. - М., 1996. - Т.1. Философия культуры. - С.469.
[365] Цит. по: Зиммель Георг. Гете. // Зиммель Георг. Избр. в 2 т. - М., 1996. - Т.1. Философия культуры. - С. 178.
[366] Трёльч Э. Историзм и его проблемы. - М., 1994. - С.154.
[367] Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель. // Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. - М. 1991. С. 146.
[368] Кьеркегор С. Понятие страха. - Страх и трепет. - М., 1993. - С. 161.
[369] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.143.
[370] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.379.
[371] Соловьев В.С. Три силы. // Соловьев В.С. Соч. В 2 т. - М., - Т.1. - С.19-20.
[372] Моисеев Н. Человек и ноосфера. - М., 1990. - С.286.
[373] Булгаков С.Н. Религия человекобожия у Л.Фейербаха. // Булгаков С.Н. Соч. в 2 т. - М. 1993. - Т. 2. - С. 211.
[374] Фуко Мишель. История безумия в классическую эпоху. – СПб. 1997. – С. 37.
[375] Казначеев В.П. Живое пространство: ноосфера? (перспективы геополитики). // Русская мысль. 1993. N 3-12. - С. 81.
[376] См. наши публикации: Культурная интеграция. // Освоение без отчуждения (2). - Тюмень. 1989.; Спасти Север может не политика, а культура. // Арктическая политика: человеческое измерение. - Тюмень. 1990.; Гуманитарная экспертиза Ямальского конфликта: заявка на проект (в соавторстве). //Арктическая политика: человеческое измерение. - Тюмень. 1990.; Гуманитарная рефлексия в структуре рефлексивных форм обществознания. // Гуманитарные проблемы освоения. - Москва-Тюмень. 1990.; Этика Севера - интратеория "Ямальского конфликта". // Ямальский конфликт: гуманитарная экспертиза. - Тюмень. 1991.; Космологическая парадигма этики Севера. // Этика Севера: экспертный потенциал. - Тюмень. 1991.; Ментальная структура конфликта. // Этика Севера. В 2-х т. - Томск. 1992. - Т. 2.; Этика Севера как космология морали. // Этика Севера. В 2-х т. - Томск. 1992. - Т. 2.; Гуманитарная экспертиза: основные понятия интратеории. // Гуманитарная экспертиза. Возможности и перспективы. - Новосибирск, "Наука", 1992.; Конфликтологический анализ современного состояния и тенденции развития нефтегазовых районов. // Югра. 1994. N 2.; Конфликтологический анализ современного состояния и тенденции развития нефтегазовых районов. // Пути и средства достижения сбалансированного эколого-экономического развития в нефтяных регионах Западной Сибири. - Нижневартовск. 1995. Труды NDI.; Сводный отчет о выполнении НИР по проекту 5.4.5 "Разработка концепции природопользования в районах проживания народов Севера с учетом национальных и исторических традиций". - Тюмень: ИКЗ СО РАН. 1993.; Сводный отчет о выполнении НИР по проекту "Конфликтологический анализ Тюменской области как социально-территориальной целостности". - Тюмень: ИКЗ СО РАН. 1994.
[377] Фриауф В.А. Россия и Запад: философия перед выбором времени. //Россия и запад: взаимовлияние идей и исторических судеб. – Саратов. 1997. Фриауф В.А. Философия? Да! Метафизика? Нет! // Перспективы метафизики. – СПб. 1997.
[378] Шелер Макс. Положение человека в космосе. // Шелер Макс. Избр. произв. – М., 1994. – С.184.
[379] Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. – М., 1994. – С.77.
[380] Тиллих Пауль. Теология культуры // Тиллих Пауль. Избранное. Теология культуры. - М., 1995. - С.241.
[381] Бубер Мартин. Затмение Бога. // Бубер Мартин. Два образа веры. - М., 1995. - С. 347.
[382] Шелер Макс. Положение человека в космосе. // Шелер Макс. Избр. произв. – М., 1994. – С.191.
[383] Кьеркегор С. Понятие страха. // Кьеркегор С. Страх и трепет. - М., 1993. - С.133.
[384] Кьеркегор С. Страх и трепет. // Кьеркегор С. Страх и трепет. - М., 1993. - С.54-55.
[385] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.93.
[386] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.43.
[387] Мережковский Д.С. Грядущий Хам. - СПб., 1906. - С.66.
[388] Плотин. Избр. трактаты. В 2 т. - М., 1994. - Т.1. - С.9.
[389] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.288.
[390] К.Г.Юнг. Проблема души современного человека. // Это человек. Антология. - М. 1995. - С.36.
[391] Шелер Макс. Философское мировоззрение. // Шелер Макс. Избр. произв. – М., 1994. – С.4-5.
[392] Хайдеггер М. Письмо о гумманизме. // Проблема человека в западной философии. – М., 1988. – С.336.
[393] Франк С.Л. Непостижимое. // Франк С.Л. Соч. – М., 1990. – С.333-334.
[394] Губман Б.Л. Западная философия культуры ХХ века. – Тверь. 1997. – С.86.
[395] Фейербах Л. Избр. филос. произв. В 2 т. - М., 1955. - Т.2. - С. 308.
[396] Бердяев Н.А. Дух и реальность. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М. 1994. - С.440.
[397] Николай Кузанский. Об ученом незнании. // Николай Кузанский. Соч. В 2 т. - М. 1979. - Т.1. - -С. 163.
[398] Бердяев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - СПб., 1996. - С.118, 125, 48.
[399] Маритен Жак. Интегральный гуманизм. // Маритен Жак. Философ в мире. - М., 1994. - С.70-71.
[400] Древнекитайская философия. В 2 т. - М., 1972. - Т.1. - С.120, 268.
[401] Пико делла Мирандола. Речи о достоинстве человека. // Эстетика Ренессанса. – М., 1981. – С.249.
[402] Бердяев Н. Пути гуманизма. // Бердяев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - СПб. 1996. - С. 184.
[403] Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. // Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1993. - С. 275.
[404] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.165.
[405] Бердяев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - Спб. 1996. - С.53.
[406] Николай Кузанский. О неином. // Николай Кузанский. Соч. в 2 т. - М. 1980. - Т.2. - С. 198, 243.
[407] Булгаков С.Н. Свет невечерний. - М., 1994. С. 326.
[408] Федотова В.Г. Типология культур // Культура: теория и проблемы. – М., 1995. – С.256.
[409] Лосский Н.О. Ценность и бытие. // Лосский Н.О. Бог и мировое зло. - М., - 1994. - С.288.
[410] Бердяев Н. Философия неравенства. - М., 1990, с.248.
[411] Зиммель Георг. Социология религии. // Зиммель Георг. Избр. В 2 т. - М., 1996. - Т.1. Философия культуры. - С. 575.
[412] Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель. // Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. - М. 1991. С. 39.
[413] Булгаков С.Н. Догматическое обоснование культуры. // Булгаков С.Н. Соч. В 2 т. - М. 1993. Т. 2. С. 643.
[414] Бубер Мартин. Затмение Бога. // Бубер Мартин. Два образа веры. - М., 1995. - С. 347.
[415] Фарре Луис. Философская антропология. // Это человек. Антология. - М. 1995. - С. 190.
[416] Тиллих Пауль. Кайрос. // Тиллих Пауль. Избранное. Теология культуры. - М., 1995. - С.230.
[417] Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. - М., 1993. - С.264.
[418] Бердяев Н. Философия неравенства. - М., 1990, с.256.
[419] Тиллих Пауль. Теология культуры // Тиллих Пауль. Избранное. Теология культуры. - М., 1995. - С.266.
[420] Лосский Н.О. Ценность и бытие. // Лосский Н.О. Бог и мировое зло. - М., - 1994. - С. 286, 287, 288.
[421] Белый А. Пути культуры // Вопросы философии. 1990. N 11. – С.91.
[422] Мамардашвили М. Как я понимаю философию. - М., 1990. - С.58.
[423] Трёльч Э. Историзм и его проблемы. - М., 1994. - С.175.
[424] Булгаков С.Н. Догматическое обоснование культуры. // Булгаков С.Н. Соч. В 2 т. - М. 1993. Т. 2. С. 642.
[425] Зиммель Георг. Понятие и трагедия культуры. // Зиммель Георг. Избр. в 2 т. - М., 1996. - Т.1. Философия культуры. - С.446.
[426] Зиммель Георг. Понятие и трагедия культуры. // Зиммель Георг. Избр. в 2 т. - М., 1996. - Т.1. Философия культуры. - С.447.
[427] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т.46. - Ч.1. - С.105.
[428] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т.46. - Ч.1. - С.476.
[429] Тиллих Пауль. Кайрос. // Тиллих Пауль. Избранное. Теология культуры. - М., 1995. - С.231.
[430] Франк С.Л. Непостижимое. // Франк С.Л. Соч. – М., 1990. – С.374-375.
[431] Батищев Г.С. Особенности культуры глубинного общения. // Вопросы философии. 1995. N 3. - С. 126.
[432] Хайдеггер М. Письмо о гумманизме. // Проблема человека в западной философии. – М., 1988. – С.344.
[433] Хайдеггер М. Слова Ницше "Бог мертв". - Вопросы философии. 1990. N 7 - С. 172.
[434] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.282.
[435] Кронер Рихард. Самоосуществление духа. Пролегомены к философии культуры. // Культурология. ХХ век. Антология. - М., 1995. - С.274.
[436] Тиллих Пауль. Кайрос. // Тиллих Пауль. Избранное. Теология культуры. - М., 1995. - С.230.
[437] Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. - С. 224.
[438] Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и че-ловеческого. // Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1993. С. 262.
[439] Зиммель Георг. Понятие и трагедия культуры. // Зиммель Георг. Избр. в 2 т. - М., 1996. - Т.1. Философия культуры. - С.450.
[440] Гете. Максимы и размышления. // Гете. Избр. филос. произв. - М., 1964. - С.356.
[441] Франк С.Л. Непостижимое. // Франк С.Л. Соч. – М., 1990. – С.399-400.
[442] Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. - М., 1993. - С.262.
[443] Зиммель Георг. Конфликт современной культуры. // Культурология. ХХ век. Антология. - М., 1995. - С.379.
[444] Фриауф В.А. Парадокс культуры или культура парадокса. // Декада науки. Материалы 57-й научной конференции Саратовского государственного технического университета. Гуманитарный учебно-научный центр (12-19 апреля 1994 г.). Вып. 1. – Саратов. - С.59.
[445]Трёльч Э. Историзм и его проблемы. - М., 1994. - С.300.
[446] Арон Р. Философия истории. // Философия и общество. N 1. 1997. – С.267-269.
[447] Фуко Мишель. Порядок дискурса. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.89.
[448] Бубер Мартин. Я и Ты. - М., 1993. - С. 35.
[449] Зиммель Георг. Кризис культуры. // Зиммель Георг. Избр. в 2 т. - М., 1996. - Т.1. Философия культуры. - С.493.
[450] Benoist J.-M. La revolution structurale. P., 1980, P.68.
[451] Андреев Даниил. Роза Мира. - М., 1991. - С.46.
[452] Булгаков С.Н. Свет невечерний. - М., 1994. С. 276
[453] Кант И. Трактаты и письма. - М., 1980. С. 50
[454] Кьеркегор С. Понятие страха. // Кьеркегор С. Страх и трепет. - М., 1993. - С.137.
[455] Бердяев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - СПб. 1996. - С. 147.
[456] Шелер Макс. Ordo amoris. // Шелер Макс. Избр. произв. - М., 1994. - С.356.
[457] Ориген. О Началах. – Самара. 1993. – С.95.
[458] Ориген. О Началах. – Самара. 1993. – С.91.
[459] Бердяев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - Спб. 1996. - С.78.
[460] Хайдеггер М. Слова Ницше "Бог мертв". // Вопросы философии. 1990, N 7, С.167.
[461] Шеллинг. Введение в философию мифологии. // Шеллинг. Соч. В 2 т. - М., 1989. - Т.2. - С.230.
[462] Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. С. 69-70.
[463] Хайек Ф.А. Дорога к рабству. // Вопросы философии. 1989. N 12. - С.104-105.
[464] Шеллинг. Введение в философию мифологии. // Шеллинг. Соч. В 2 т. - М., 1989. - Т.2. - С.203.
[465] Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель. // Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. - М. 1991. -С. 37.
[466] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т.32. - С.45.
[467] Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель. // Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. - М. 1991. С. 42-43.
[468] Хайдеггер М. Слова Ницше "Бог мертв". - Вопросы философии, 1990. N 7 - С. 169.
[469] Серафим Саровский. О цели христианской жизни. // Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Х1Х век. - М., 1995. - С.369.
[470] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.137.
[471] Шестов Лев. Киргегард и экзистенциальная философия. - М., 1992. - С.197-198.
[472] Кьеркегор С. Понятие страха. // Страх и трепет. - М., 1993. - С. 202.
[473] Франк С.Л. Непостижимое. // Франк С.Л. Соч. – М., 1990. – С.356.
[474] Булгаков С.Н. Религия человекобожия у Л.Фейербаха. // Булгаков С.Н. Соч. В 2 т. - М. 1993. - Т.2. - С.200.
[475] Штирнер М. Единственный и его собственность. В 2 ч. - Спб. 1909. - Ч.2. - С.75.
[476] Булгаков С.Н. Человекобог и человекозверь. // Булгаков С.Н. Соч. в двух томах. - М., 1993. - Т.2. - С.479.
[477] Франк С.Л. Непостижимое. // Франк С.Л. Соч. – М., 1990. – С.354-394.
[478] Сартр Ж.-П. Первичное отношение к другому: Любовь, язык, мазохизм // Проблема человека в западной философии. – М., 1988. – С.303.
[479] Кьеркегор С. Болезнь к смерти. // Кьеркегор С. Страх и трепет. - М., 1993. - С. 308.
[480] Шелер Макс. Ordo amoris. // Шелер Макс. Избр. произв. - М., 1994. - С.358.
[481] Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. - М., 1993. - С.493.
[482] Маритен Жак. Краткий очерк о существовании и существующем. // Маритен Жак. Философ в мире. - М., 1994. - С.30.
[483] Юнг Карл Густав. Психологические типы. – М., 1996. – С.194.
[485] Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. - М., 1978. - С.137.
[486] Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель. // Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. - М. 1991. - С.232.
[487] Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. - С.204.
[488] Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. - С.324.
[489] Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. // Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1993. - С.311.
[490] Маритен Жак. Интегральный гуманизм. // Маритен Жак. Философ в мире. - М., 1994. - С.62-65.
[491] Ориген. О Началах. – Самара. 1993. – С.68.
[492] Батищев Г.С. Особенности культуры глубинного общения. // Вопросы философии. 1995. N 3. - С. 126-129.
[493] Бубер Мартин. Затмение Бога. // Бубер Мартин. Два образа веры. - М., 1995. - С. 352.
[494] Levy B.-H. Le testament de Dieu. – P., 1979, - P.108.
[495] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.291.
[496] Бердяев Н.А. Я и мир объектов. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. - С.256.
[497] Николай Кузанский. Об ученом незнании. // Николай Кузанский. Соч. В 2 т. - М. 1979. - Т.1. - С. 96.
[498] Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. – М., 1994. – С.55.
[499] Бердяев Н.А. Смысл творчества. // Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989. – С.480.
[500] Арон Р. Введение в философию истории. // Философия и общество. N 2. 1997. – С.258.
[501] Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. – М., 1994. – С.213.
[502] Бердяев Н.А. Смысл творчества. // Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989. – С.480.
[503] Бердяев Н. Дух и сила. // Бердяев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - СПб. 1996. - С.163
[504] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.100-101.
[505] Хюбнер Курт. Критика научного разума. – М., 1994. – С.283.
[506] Франк С.Л. Непостижимое. // Франк С.Л. Соч. – М., 1990. – С.414.
[507] Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994. - С.48.
[508] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2. - Т.20. - С.303.
[509] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.316.
[510] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т.46. - Ч.1. - С.486
[511] Marcel G. Les hommes contre L¢humain. P., 1951, P.118.
[512] Шпенглер О. Прусская идея и социализм. Б.г. – С.112-113.
[513] Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. - С.335.
[514] Юнг Карл Густав. Психологические типы. – М., 1996. – С.140.
[515] Гегель. Эстетика. В 4 т. - М., 1973. - Т.4. - С.157-158.
[516] Heidegger M. Sein und Zeit. Tubingen. 1986. – S.128.
[517] Мясникова Л.А. Тайна и смысл индивидуального бытия. – Екатеринбург. 1993. – С.42
[518] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.319.
[519] Ортега-и-Гассет. Вопросы философии. - С.80,82.
[520] Levy B.-H. Le testament de Dieu. – P., 1979, - P.115.
[521] Хайек Ф.А. Дорога к рабству. // Вопросы философии. 1989. N 12. - С.103.
[522] Трёльч Э. Историзм и его проблемы. - М., 1994. - С.40.
[523] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.250.
[524] Бердяев Н.А. Философия свободного духа. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. - С.309.
[525] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.113.
[526] Ортега-и-Гассет. Восстание масс. // Вопросы философии. 1989. N 4. - С.127.
[527] Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. - С.324.
[528] Marcel G. Pour une sagesse tragigue et son au-dela. P., 1968, P.128.
[529] Бердяев Н.А. Смысл творчества. // Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989. – С.475.
[530] Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994. - С.110.
[531] Зиммель Георг. Социология религии. // Зиммель Георг. Избр. В 2 т. - М., 1996. - Т.1. Философия культуры. - С. 588.
[532] Маркузе Герберт. Эрос и цивилизация. – Киев. 1995. – С.155.
[533] Ортега-и-Гассет. Восстание масс. // Вопросы философии. 1989. N 4. - С.125.
[534] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.224.
[535] Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994. - С.8-9.
[536] Арон Р. Введение в философию истории. // Философия и общество. N 2. 1997. – С.246.
[537] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - СПб. 1997. - С.153-154.
[538] Фуко Мишель. Порядок дискурса. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.51.
[539] Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994. - С.109.
[540] Horkheimer M., Adorno Th. Dialectik der Aufklarung. Fr.a.M., 1969, S.15.
[541] Ортега-и-Гассет. Восстание масс. // Вопросы философии. 1989. N 4. - С.118.
[542] Sartre J.-P. Critigue de la Raison dialectigue. – P., 1985. Tome 1, - P.14.
[543] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т.21. - С.173-174.
[544] Toynbee A.J. A Study of History. L., 1988. – P.44.
[545] Булгаков С.Н. Догматическое обоснование культуры. // Булгаков С.Н. Соч. В 2 т. - М. 1993. - Т.2. - С. 638.
[546] Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С.261, 267, 286.
[547] Бердяев Н. Философия неравенства. - М., 1990. - С.248.
[548] Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. - М., 1993. - С.170.
[549] Шпенглер О. Закат Европы. – М.-П., 1923. – Т. – С.33-34.
[550] Маркузе Герберт. Эрос и цивилизация. – Киев. 1995. – С.86.
[551] Marcuse H. Kultur und Gesellschaft. Fr.a.M., 1968, - S.149.
[552] Арон Р. Философия истории. // Философия и общество. N 1. 1997. – С.255.
[553] Фарре Луис. Философская антропология. // Это человек. Антология. - М. 1995. С. 195.
[554] Ladriere J. Vie sociale et destinee. Gembioux, 1973. – P.39.
[555] Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С.39.
[556] Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С.81.
[557] Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С.226.
[558] Toynbee A.J. A Study of History. L., 1988. – P.72.
[559] Арон Р. Философия истории. // Философия и общество. N 1. 1997. – С.265-266.
[560] Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С.259.
[561] Маркузе Герберт. Эрос и цивилизация. – Киев. 1995. – С.ХХV111.
[562] Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С.86.
[563] Маритен Жак. Интегральный гуманизм. // Маритен Жак. Философ в мире. - М., 1994. - С. 115.
[564] Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. - М., 1993. - С.163.
[565] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.170.
[566] Эспиноза Сервера А. Кто есть человек? Философская антропология. // Это человек. Антология. - М. 1995. - С. 99.
[567] Ladriere J. The Challenge Presented to Cultures by Science and Technoiogy. – P., 1977. – P.11.
[568] Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. Т.1 (1). – М., 1990. – С.92.
[569] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - СПб. 1997. - С.319-320.
[570] Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. - М., 1993. - С.264.
[571] Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. - С.149.
[572] Ортега-и-Гассет. Восстание масс. // Вопросы философии. 1989. N 4. - С.132.
[573] Бердяев Н. Самопознание. - М., 1990. - С.102.
[574] Bart K. The Epistle to the Romans. – In: Dimensions of Faith. Contemporary Prophestant Teology./ Ed. By W.Kimmel and G.Clive. N.Y., 1960, P.118.
[575] Гегель Г.В.Ф. Политические произведения. – М., 1978. – С.608.
[576] Ортега-и-Гассет. Восстание масс. // Вопросы философии. 1989. N 4. - С.154-155.
[577] Маркузе Герберт. Эрос и цивилизация. – Киев. 1995. – С.ХХ1V.
[578] Маркузе Герберт. Эрос и цивилизация. – Киев. 1995. – С.163.
[579] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.112.
[580] Маркузе Герберт. Эрос и цивилизация. – Киев. 1995. – С.ХХ1V.
[581] Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С.259.
[582] Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994. - С.73.
[583] Шпенглер О.Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. - М., 1993. - С.164.
[584] Бердяев Н.А. Я и мир объектов. - Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. С. 270.
[585] Levy B.-H. Le testament de Dieu. – P., 1979, - P.139-140.
[586] Бердяев Н. Дух и сила. // Бердяев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - СПб. 1996. - С. 163-164.
[587] Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель. // Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. - М. 1991. С. 152.
[588] Шеллинг. Введение в философию мифологии. // Шеллинг. Соч. В 2 т. - М., 1989. - Т.2. - С.240-241.
[589] Леви-Стросс. Структурная антропология. – М., 1983. – С.298.
[590] Арон Р. Философия истории. // Философия и общество. N 1. 1997. – С.272.
[591] Гоббс Томас. Левиафан. // Гоббс Томас. Соч., В 2 т. – М., 1991. – Т.2. - С.111.
[592] Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С.261.
[593] Бердяев Н. Дух и сила. // Бердяев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - СПб. 1996. - С. 165.
[594] Бердяев Н. Пути гуманизма. // Бердяев Н. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. - Спб. 1996. - С. 186.
[595] Шелер Макс. Формы знания и образование. Шелер Макс. Избр. произв. – М., 1994. – С.19.
[596] Арон Р. Введение в философию истории. // Философия и общество. N 2. 1997. – С.258-259.
[597] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.38
[598] Хайек Ф.А. Дорога к рабству. // Вопросы философии. 1989. N 12. - С.135.
[599] Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1993. С. 196.
[600] Heidegger M. Sein und Zeit. Tubingen. 1986. – S.118.
[601] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.346-347.
[602] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.36.
[603] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.229.
[604] Ильин И.А. Понятие права и силы. // Ильин И.А. Соч. в 2 т. – М., 1993. – Т. 1. Философия права. Нравственная философия. – С.33-34.
[605] Кьеркегор С. Страх и трепет. - Страх и трепет. - М., 1993 - С. 78.
[606] Лосский Н.О. Бог и мировое зло. // Лосский Н.О. Бог и мировое зло. - М., - 1994. - С.323.
[607] Франк С.Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия. // Франк С.Л. Реальность и человек. – М., 1997. – С.280.
[608] Шелер Макс. Формализм в этике и материальная этика ценностей. // Шелер Макс. Избр. произв. - М., 1994. - С.333.
[609] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.113.
[610] Трёльч Э. Историзм и его проблемы. - М., 1994. - С.166.
[611] Бердяев Н.А. Смысл творчества. // Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989. – С.486.
[612] Щедровицкий Г.П. Исходные представления и категориальные средства теории деятельности. // Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании (теория и методология). - М., 1975. - С.84-85.
[613] Трёльч Э. Историзм и его проблемы. - М., 1994. - С.287.
[614] Гегель. Философия религии. - М. 1976. Т. 1. С. 392-393.
[615] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.180.
[616] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.109.
[617] Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. В двух томах. Т.1. - М., 1990. С. 78.
[618] Франк С.Л. Непостижимое. // Франк С.Л. Соч. – М., 1990. – С.368.
[619] Юнг Карл Густав. Психологические типы. – М., 1996. – С.110.
[620] Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С.224.
[621] Цит. по: Фуко Мишель. История безумия в классическую эпоху. – СПб. 1997. - С.9.
[622] Арон Р. Введение в философию истории. // Философия и общество. N 2. 1997. – С.258.
[623] Бердяев Н.А. Я и мир объектов. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. С. 270.
[624] Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. – М., 1994. – С.7.
[625] Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. // Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1993. - С.324.
[626] Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. С. 325.
[627] Toynbee A.J. A Study of History. L., 1988. – P.456.
[628] Маритен Жак. Интегральный гуманизм. // Маритен Жак. Философ в мире. - М., 1994. - С. 53-54.
[629] Nicolas J.-H. Le Christ – centre et fin de L¢Histoire. – Revue thomiste. 1981. T.81, N 3, P.373.
[630] Маркузе Герберт. Эрос и цивилизация. – Киев. 1995. – С.ХХ1V.
[631] Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. - М., 1993. - С.164.
[632] Toynbee A.J. A Study of History. L., 1988. – P.46-47.
[633] Франк С.Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия. // Франк С.Л. Реальность и человек. – М., 1997. – С.428.
[634] Франк С.Л. Непостижимое. // Франк С.Л. Соч. – М., 1990. – С.366.
[635] Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. Т.1 (1). – М., 1990. – С.265.
[636] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.385.
[637] Фуко Мишель. Воля к знанию. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.109.
[638] Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. - С.337.
[639] Фуко Мишель. Порядок дискурса. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.87.
[640] Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса // Выготский Л.С. Собр. соч. В 6 т. — М., 1982. — Т.1. — С.306-309.
[641] Фуко Мишель. Воля к знанию. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.156.
[642] Фуко Мишель. Воля к знанию. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.109.
[643] Фуко Мишель. Воля к знанию. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.111-112.
[644] Фуко Мишель. Воля к знанию. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.119.
[645] Фуко Мишель. Воля к знанию. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.144.
[646] Фуко Мишель. Воля к знанию. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.147.
[647] Фуко Мишель. Воля к знанию. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.154-155, 166.
[648] Цит. по: Юнг Карл Густав. Психологические типы. – М., 1996. – С.111.
[649] Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994. - С.189.
[650] Фуко Мишель. Воля к знанию. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.149.
[651] Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994. - С.ХП.
[652] Фрейд Зигмунд. По ту сторону принципа удовольствия. // Зигмунд Фрейд. «Я» и «Оно». Труды разных лет. - В 2-х Кн. – Тбилиси. 1991. – Кн.1. – С. 192.
[653] Ориген. О Началах. – Самара. 1993. – С.104.
[654] Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С.233.
[655] Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. – М., 1993. – С. 269.
[656] Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия. — М., 1991. — С.110.
[657] Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С.286.
[658] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.115-116.
[659] Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994. - С.60-61.
[660] Бердяев Н.А. Я и мир объектов. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. - С. 245.
[661] Бердяев Н.А. Дух и реальность. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. - С. 367, 368.
[662] Бердяев Н.А. Философия свободы // Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989. – С.42.
Бердяев Н.А. Философия свободы // Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989. – С.42.
[663] Бердяев Н. Опыт эсхатологической метафизики (творчество и объективация). // Русские философы. - М., 1993. - С.70.
[664] Флоренский П.А. Homo faber. Публикация в: Половинкин С.М. Флоренский П.А.: логос против хаоса. – М., 1989. – С.56-59.
[665] Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. – М., 1994. – С.8.
[666] Флоренский П.А. Обратная перспектива. //Философия русского религиозного искусства. – М., 1933. – С.258.
[667] Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С. 14.
[668] Юнг Карл Густав. Психологические типы. – М., 1996. – С.110-111.
[669] Наше общее будущее. – М., 1989. – С. 50.
[670] Фуко Мишель. Воля к знанию. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.176-177.
[671] Маркузе Герберт. Эрос и цивилизация. – Киев. 1995. – С.145.
[672] Маркузе Герберт. Эрос и цивилизация. – Киев. 1995. – С.79.
[673] Ортега-и-Гассет. Восстание масс. // Вопросы философии. 1989. N 4. - С.115.
[674] Бубер Мартин. Я и Ты. – М., 1993. – С. 11.
[675] Франк С.Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия. // Франк С.Л. Реальность и человек. – М., 1997. – С.290.
[676] Фуко Мишель. Воля к знанию. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.165.
[677] Плотин. Избр. трактаты. В 2-х т. - М., 1994. - Т.2. - С.99.
[678] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.386.
[679] Ницше Фридрих. Воля к власти. - М., 1994. - С.286.
[680] Конт О. Курс позитивной философии. – СПб., 1912. – С. 122.
[681] Эллюль Ж. Технологический блеф. // Это человек. Антология. - М. 1995. С. 283.
[682] Шелер Макс. Формализм в этике и материальная этика ценностей. // Шелер Макс. Избр. произв. - М., 1994. - С.294.
[683] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.173.
[684] Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. – М., 1994. – С.81.
[685] Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. С. 88.
[686] Horkheimer M., Adorno Th. Dialectik der Auflarung. Fr.a.M., 1969, - S.12.
[687] Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994. - С.4.
[688] Бердяев Н.А. Я и мир объектов. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. - С. 260.
[689] Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С.226.
[690] Шелер Макс. Формализм в этике и материальная этика ценностей. // Шелер Макс. Избр. произв. - М., 1994. - С.322.
[691] Шелер Макс. Положение человека в космосе. // Шелер Макс. Избр. произв. - М., 1994. - С.160.
[692] Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С.227.
[693] Шкловский В.Б. Зоо или письма не о любви. // Шкловский В.Б. Избр. соч. – Т.1. – С.187.
[694] Паскаль Б. Мысли о религии. – М., 1902. – С. 76.
[695] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.237.
[696] Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994. - С.Х1Х.
[697] Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С.233.
[698] Шестов Лев. Киргегард и экзистенциальная философия. – М., 1992. – С. 24, 186.
[699] Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С.289.
[700] Арон Р. Философия истории. // Философия и общество. N 1. 1997. – С.272.
[701] Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994. - С.1.
[702] Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994. - С.ХХ.
[703]Винер Н. Кибернетика и общество. - М., 1959. С. 185.
[704] Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994. - С.203.
[705] Шелер Макс. Формализм в этике и материальная этика ценностей. // Шелер Макс. Избр. произв. - М., 1994. - С.283.
[706] Лессинг Теодор. Шопенгауэр. Вагнер. Ницше. // Культурология. ХХ век. Антология. - М., 1995. - С.408.
[707] Тиллих Пауль. Теология культуры // Тиллих Пауль. Избранное. Теология культуры. - М., 1995. - С.376.
[708] Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. – М., 1994. – С.88.
[709] Фуко Мишель. Воля к знанию. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.259.
[710]Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель. // Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. - М. 1991. С. 140.
[711]Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.202.
[712] Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С.305.
[713] Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С.214.
[714] Фуко Мишель. Воля к знанию. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.348.
[715] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.323.
[716] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.284.
[717] Horkheimer M., Adorno Th. Dialectik der Auflarung. Fr.a.M., 1969, - S.13.
[718] Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. – М., 1994. – С.32-33.
[719] Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. - С.354.
[720] Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994. - С.63.
[721] Ортега-и-Гассет. Восстание масс. // Вопросы философии. 1989. N 4. - С.154.
[722] Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994. - С.43.
[723] Вышеславцев Б.П. Кризис индустриальной культуры. - Нью-Йорк. 1982. - С.218.
[724] Винер Н. Кибернетика и общество. - М., 1958. - С.27.
[725] Штирнер М. Единственный и его собственность. - Ч.2. -Спб. 1909. - С.182.
[726] Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. – М., 1994. – С.111.
[727] Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - Спб. 1997. - С.199-200.
[728] Фуко Мишель. Что такое автор? // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.38.
[729] Юнг Карл Густав. Психологические типы. – М., 1996. – С.151.
[730] Тиллих Пауль. Теология культуры // Тиллих Пауль. Избранное. Теология культуры. - М., 1995. - С.282.
[731] Фуко Мишель. Воля к знанию. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.148.
[732] Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. - Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. С. 319.
[733] Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. С. 87.
[734] Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. Т.1 (1). – М., 1990. – С.78.
[735] Шелер Макс. Положение человека в космосе. // Шелер Макс. Избр. произв. - М., 1994. - С.148.
[736] Бубер Мартин. Я и Ты. - М., 1993. - С.24.
[737] Бубер Мартин. Я и Ты. - М., 1993. - С.22.
[738] Маркузе Герберт. Эрос и цивилизация. – Киев. 1995. – С.114.
[739] Ортега-и-Гассет. Восстание масс. // Вопросы философии. 1989. N 4. - С.117.
[740] Фуко Мишель. Воля к знанию. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.105.
[741] Фуко Мишель. Воля к знанию. // Фуко Мишель. Воля к истине. – М., 1996. – С.248-249.
[742] Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994. - С.327.
[743] Юнг Карл Густав. Психологические типы. – М., 1996. – С.116-117.
[744] Цит. по: Юнг Карл Густав. Психологические типы. – М., 1996. – С.112.
[745] Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. Т.1 (1). – М., 1990. – С.236.
[746] Шелер Макс. Формы знания и образование. // Шелер Макс. Избр. произв. – М., 1994. – С.26-27.
[747] Федоров Н.Ф. Соч. 1982. – С. 301.
[748] Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель. // Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. - М. 1991. С. 134.
[749] Хюбнер Курт. Критика научного разума. – М., 1994. – С.286.
[750] Бердяев Н.А. Смысл творчества. // Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989. – С.254.
1 Франк С.Л. Непостижимое // Франк С.Л. Сочинения. – М., 1990. – С. 366.
2 Флоренский П.А. Столп и утверждение истины: В 2 т. – М., 1990. – Т. 1 (1). – С. 265.
3 Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. – СПб., 1997. – С. 385.
4 Фуко М. Воля к истине. – М., 1996. – С. 109.
5 Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – М., 1994. – С. 337.
6 Фуко М. Воля к истине. – С. 87.
6 Фуко М. Воля к истине. – С. 87.
7 Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса // Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. – М., 1982. – Т. 1. – С. 306-309.
8 Фуко М. Воля к истине. – С. 156.
9 Фуко М. Воля к истине. – С. 109.
10 Фуко М. Воля к истине. – С. 111-112.
11 Там же. – С. 119.
12 Фуко М. Воля к истине. – С. 144.
13 Там же. – С. 147.
14 Там же. – С. 154-155, 166.
15 Цит. по: Юнг К.Г. Психологические типы. – М., 1996. – С. 111.
16 Маркузе Г. Одномерный человек. – М., 1994. – С. 189.
17 Фуко М. Воля к истине. – С. 149.
18 Маркузе Г. Одномерный человек. – С. XII.
19 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд З. «Я» и «Оно»: Труды разных лет: В 2 кн. – Тбилиси, 1991. – Кн. 1. – С. 192.
20 Ориген. О Началах. – Самара, 1993. – С. 104.
21 Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С. 233.
22 Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. – М., 1993. – С. 269.
23 Opmeгa-u-Гассет X. Что такое философия? – М., 1991. – С. 110.
24 Тойнби А.Дж. Постижение истории. – С. 286.
25 Ницше Ф. Воля к власти. – М., 1994. – С. 115-116.
26 Маркузе Г. Одномерный человек. – С. 60-61.
27 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – С. 245.
28 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – С. 367. 368.
29 Бердяев Н.А. Философия свободы // Бердяев Н.А. Философия свободы: Смысл творчества. – М., 1989. – С. 42.
30 Бердяев Н. Опыт эсхатологической метафизики (творчество и объективация) // Русские философы. – М., 1993. – С. 70.
31 Флоренский П.A. Homo fabеr // Половинкин С.М. Флоренский П.А.: Логос против хаоса. – М., 1989. – С. 56-59.
32 Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. – М., 1994. – С. 8.
33 Флоренский П.А. Обратная перспектива // Философия русского религиозного искусства. – М., 1933. – С. 258.
34 Тойнби А.Дж. Постижение истории. – С. 14.
35 Юнг К.Г. Психологические типы. – С. 110-111.
36 Наше общее будущее. – М., 1989. – С. 50.
37 Фуко М. Воля к истине. – С. 176-177.
38 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. – Киев, 1995. – С. 145.
39 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. – С. 79.
40 Ортега-и-Гассет X. Восстание масс // Вопр. философии. – 1989. – № 4. – С. 115.
41 Бубер М. Я и Ты. – М., 1993. – С. 11.
42 Франк С.Л. Реальность и человек. – М., 1997. – С. 290.
43 Фуко М. Воля к истине. – С. 165.
44 Плотин. Избранные трактаты: В 2 т. – М., 1994. – Т. 2. – С. 99.
45 Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. – С. 386.
46 Ницше Ф. Воля к власти. – С. 286.
47 Конт О. Курс позитивной философии. – СПб., 1912. – С. 122.
48 Эллюль Ж. Технологический блеф // Это человек: Антология. – М., 1995. – С. 283.
49 Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей // Шелер М. Избранные произведения. – М., 1994. – С. 294.
50 Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. – С. 173.
51 Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. – С. 81.
52 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – С. 88.
53 Horkheimer М., Adorno Th. Dialectik der Auflarung. – Fr.a.M., 1969. – S. 12.
54 Маркузе Г. Одномерный человек. – С. 4.
55 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – С. 260.
56 Тойнби А.Дж. Постижение истории. – С. 226.
57 Шелер М. Избранные произведения. – С. 322.
58 Шелер М. Избр. произв. – С. 160.
59 Тойнби А.Дж. Постижение истории. – С. 227.
60 Шкловский В.Б. Зоо, или письма не о любви // Шкловский В.Б. Избр. соч. – Т. 1. – С. 187.
61 Паскаль Б. Мысли о религии. – М., 1902. – С. 76.
62 Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. – С. 237.
63 Маркузе Г. Одномерный человек. – С. XIX.
64 Тойнби А.Дж. Постижение истории. – С. 233.
65 Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия. – М., 1992. – С. 24, 186.
66 Тойнби А.Дж. Постижение истории. – С. 289.
67 Apoн Р. Философия истории // Философия и общество. – 1997. – № 1. – С. 272.
68 Маркузе Г. Одномерный человек. – С. 1.
69 Там же. – С. XX.
70 Винер Н. Кибернетика и общество. – М., 1959. – С. 185.
71 Маркузе Г. Одномерный человек. – С. 203.
72 Шелер М. Избранные произведения. – С. 283.
73 Лессинг Т. Шопенгауэр. Вагнер. Ницше // Культурология: XX век. Антология. – М., 1995. – С. 408.
74 Тиллих П. Теология культуры // Тиллих П. Избранное: Теология культуры. – М., 1995. – С. 376.
75 Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. – С. 88.
76 Фуко М. Воля к истине. – С. 59.
77 Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991. – С. 140.
78 Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. – С. 202.
75 Тойнби А.Дж. Постижение истории. – С. 305.
80 Тойнби А.Дж. Постижение истории. – С. 214.
81 Фуко М. Воля к истине. – С. 348.
82 Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. – С. 323.
83 Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. – С. 284.
84 Horkheimer М., Adorno Th. Dialectik der Auflarung. – S. 13.
85 Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. – С. 32-33.
86 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – С. 354.
87 Маркузе Г. Одномерный человек. – С. 63.
88 Ортега-и-Гассет X. Восстание масс – С. 154.
89 Маркузе Г. Одномерный человек. – С. 43.
90 Вышеславцев Б.П. Кризис индустриальной культуры. – Нью-Йорк, 1982. – С. 218.
91 Винер Н. Кибернетика и общество. – С. 27.
92 Штирнер М. Единственный и его собственность. – СПб., 1909. – Ч. 2. – С. 182.
93 Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. – С. 111.
94 Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. – С. 199-200.
95 Фуко М. Воля к истине. – С. 38.
96 Юнг К.Г. Психологические типы. – С. 151.
97 Тиллих П. Избранное: Теология культуры. – С. 282.
98 Фуко М. Воля к истине. – С. 148.
99 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – С. 319.
100 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – С. 87.
101 Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. – Т. 1 (1). – С. 78.
102 Шелер М. Избранные произведения. – С. 148.
103 Бубер М. Я и Ты. – С. 24.
104 Бубер М. Я и Ты. – С. 22.
105 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. – С. 114.
106 Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. – С. 117.
107 Фуко М. Воля к истине. – С. 105.
108 Фуко М. Воля к истине. – С. 248-249.
109 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – С. 327.
110 Юнг К.Г. Психологические типы. – С. 116-117.
111 Цит. но: Юнг К.Г. Психологические типы. – С. 112.
112 Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. – T.l (1). – С. 236.
113 Шелер М. Избранные произведения. – С. 26-27.
114 Федоров Н.Ф. Сочинения. – М., 1982. – С. 301.
115 Ясперс К. Смысл и назначение истории. – С. 134.
116 Хюбнер К. Критика научного разума. – М., 1994. – С. 286.
117 Бердяев Н.А. Философия свободы: Смысл творчества. – С. 254.
1 Беме Я. Аврора. – М., 1990. – С. 104-105.
2 Ориген. О Началах. – Самара, 1993. – С. 78.
3 Булгаков С.Н. Свет невечерний. – М., 1994. – С. 161.
4 Антология мировой философии: В 4 т. – М., 1969. – Т. 1, ч. 2. – С. 845.
5 Булгаков С.Н. Философия хозяйства // Булгаков С.Н. Сочинения: В 2 т. – М., 1993. – Т. 1. – С. 235.
6 Декарт Р. Сочинения: В 2 т. – М., 1989. – Т. 1. – С. 317.
7 Николай Кузанский. Диалог о становлении // Николай Кузанский. Сочинения: В 2 т. – М., 1979. – Т. 1. – С. 343.
8 Бердяев Н.А. Философия свободы: Смысл творчества. – М., 1989. – С. 55.
9 Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? // Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. XIX век. – М., 1995. – С. 397.
10 Монтень М. Опыты. – М., 1979. – Кн. 1-2. – С. 492.
11 Декарт Р. Сочинения: В 2 т. – М., 1989. – Т.1. – С. 492.
12 Фихте. О назначении ученого. – М., 1935. – С. 60-61.
13 Фрейд З. Я и Оно // Хрестоматия по истории психологии. – М., 1980. – С. 208-209.
14 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. – Киев. 1995. – С. 80.
15 Шелер М. Человек и история // Шелер М. Избранные произведения. – М., 1994. – С. 70.
16 Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия. – М., 1992. – С. 186, 187.
17 Палама Г. Беседы: В 3 т. – М., 1994. – Т. 3. – С. 70.
18 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Леонтьев К.Н. Собр. соч.: В 9 т. – М., 1912. – Т. 5. – С. 199.
19 Назаретян А.П. Интеллект во вселенной. – М., 1991. – С. 195.
20 Бондаренко А.Д. Современная технология: Теория и практика. – Киев, 1985. – С. 123.
21 Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. – СПб., 1997. – С. 202.
22 Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993. – С. 339.
23 Фихте И. Избранные сочинения. – М., 1916. – Т. 1. – С. 402.
24 Шелер М. Избранные произведения. – С. 26.
25 Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992. – С. 216.
26 Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. – М., 1990. – Т. 1. – С. 65.
27 Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. – М., 1993. – С. 65.
28 Toynbee А.I., Ikeda D. The Toynbee Ikeda dialogue: Man himself must choose. – Tokyo; N.Y., 1982. – P. 300.
29 Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. – С. 79.
30 Тиллих П. Избранное: Теология культуры. – М., 1995. – С. 267.
31 Роттердамский Э. Философские произведения. – М., 1986. – С. 227.
32 Гете. Избранные философские произведения. – М., 1964. – С. 367.
33 Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993. – С. 353.
34 Кутырев В.А.Естественное и искусственное: Борьба миров. – Нижний Новгород, 1994. – С. 27.
35 Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. – М., 1994. – С. 91.
36 Сарджент Л. Утопия и утопическое мышление. – М., 1991. – С. 8.
37 Ницше Ф. Воля к власти. – М., 1994. – С. 46.
38 Николай Кузанский. Сочинения: В 2 т. – М., 1979. – Т. 1. – С. 298.
39 Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. – М., 1994. – С. 27-28.
40 Маркузе Г. Одномерный человек. – М., 1994. – С. 222.
41 Зиммель Г. Избранное: В 2 т. – М., 1996. – Т. 1: Философия культуры. – С. 538.
42 Ladriere J. Vie sociale et destineе. – Gembioux, 1973. – P. 20.
43 Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. – С. 89.
44 Фуко М. Воля к истине. – М., 1996. – С. 57.
45 Летний вояж // Дайджест эротической прессы. – М.: «Наш вариант», 1992. – С. 3.
46 Фуко М. Воля к истине. – С. 168.
47 Франк С.Л. Сочинения. – М., 1990. – С. 423.
48 Сагатовский В.Н. Философия развивающейся гармонии. – СПб., 1997. 4.1: Введение: философия и жизнь. – С. 209.
49 Антология мировой философии: В 4 т. – М., 1969. – Т. 2. – С. 668.
50 Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. – М., 1994. – С. 126-127.
51 Беме Я. Аврора. – С. 262.
52 Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. – СПб., 1997. – С. 170, 177.
53 Бердяев Н.А. Философия свободы: Смысл творчества. – М., 1989. – С. 297.
54 Шеллинг Ф. Сочинения: В 2 т. – М., 1987. – Т. 1. – С. 193.
55 Беме Я. Аврора. – С. 269, 368.
56 Шеллинг Ф. Сочинения. – Т. 1. – С. 194.
57 Беме Я. Аврора. – С. 330.
58 Антология мировой философии. – Т. 2. – С. 549.
59 Беме Я. Аврора. – С. 16, 248, 315, 372, 394.
60 Тиллих П. Избранное: Теология культуры. – С. 323.
61 Трёльч Э. Историзм и его проблемы. – М., 1994. – С. 202.
62 Рассел Б. История западной философии. – Новосибирск, 1997. – С. 379.
63 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – С. 150.
64 Гёте. Избранные философские произведения. – С. 345.
65 Франк С.Л. Реальность и человек. – М., 1997. – С. 298.
66 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – С. 150.
67 Булгаков С.Н. Сочинения: В 2 т. – М., 1993. – Т. 1. – С. 133.
68 Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. – С. 247.
69 Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М ., 1965. – С. 395, 473.
70 Бердяев Н.А. Истина и Откровение: Пролегомены к критике Откровения. – СПб., 1996. – С. 150.
71 Toynbee A.J. A Study of History. – L., 1988. – P.164.
72 Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. – С.18.
73 Лейбниц Г. Сочинения: В 4 т. – М., 1982. – Т. 1. – С. 424.
74 Шелер М. Избранные произведения. – С. 305.
75 Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991. – С. 117.
76 Маркузе Г. Одномерный человек. – М., 1994. – С. 199.
77 Беме Я. Аврора. – С. 296, 314.
78 Булгаков С.Н. Сочинения. – Т. 1. – С. 145.
79 Шелер М. Избранные произведения. – С. 117.
80 Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. – С. 139-140.
81 Кант И. Всеобщая естественная история и теория неба // Кант И. Сочинения: В 6 т. – М., 1963. – Т. 1. – С. 214, 215; 222, 223.
82 Кант И. Вопрос о том, стареет ли земля с физической точки зрения // Кант И. Сочинения. – Т. 1. – С. 99.
83 Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. – М., 1993. – С. 80.
84 Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С. 304.
85 Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992. – С. 375.
86 Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. – С. 64.
87 Мистическое богословие. – Киев, 1991. – С. 8.
88 Кассирер Э. Философия символических форм // Культурология. XX век. Антология. – М., 1995. – С. 179.
89 Палама Г. Беседы: В 3 т. – М., 1994. – Т. 3. – С. 119.
90 Арон Р. Философия истории // Философия и общество. – 1997. – № 1. – С. 256.
91 Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. – M., 1994. – С. 128, 129.
92 Маркузе Г. Одномерный человек. – М., 1994. – С. 91.
93 Фуко М. Воля к истине. – М., 1996. – С. 78, 79.
94 Флоренский П.А. Столп и утверждение истины – М., 1990. – Т. 1. – С. 80.
95 Плотин. Избранные трактаты: В 2 т. – М., 1994. – Т. 1. – С. 12.
96 Аристотель. Сочинения. – М., 1976. – Т. 1. – С. 71.
97 Тойнби А.Дж. Постижение истории. – С. 28.
98 Беме Я. Аврора. – С. 153.
99 Кутырев В.А. Естественное и искусственное: борьба миров. – Нижний Новгород, 1994. – С. 28.
100 Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. – СПб., 1997. – С. 210.
101 Шестов Лев. Киргегард и экзистенциальная философия. – С. 190.
102 Воин A.M. Неорационализм. – Киев, 1992. – С. 168.
103 Башляр Г. Новый рационализм. – М., 1987. – С. 6.
104 Кутырев В А. Естественное и искусственное: борьба миров. – С. 166, 167.
105 Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. – С. 15.
106 Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия. – С. 87.
107 Маритен Ж. Философ в мире. – М., 1994. – С. 72.
108 Антология мировой философии: В 4 т. – М., 1969. – Т. 1, ч 2 – С. 623, 624.
109 Плотин. Избранные трактаты. – Т. 2. – С. 6-7.
110 Зиммель Г. Избранное: В 2 т. – М., 1996. – Т. 1 . Философия культуры. – С. 585.
111 Кутырев В.А. Естественное и искусственное: Борьба миров. – С. 137.
112 Мясникова Л.А. Тайна и смысл индивидуального бытия. – Екатеринбург, 1993. – С. 33.
113 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. – Киев, 1995. – С. 67.
114 Ильин И.А. Сочинения: В 2 т. – М., 1993. – Т. 1. Философия права. Нравственная философия. – С. 76.
115 Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991. – С. 242.
116 Ясперс К. Философская вера. – М., 1991. – С. 425.
117 Камю. А. Бунтующий человек. – М., 1990. – С. 126.
118 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. – Т. 1. – С. 74.
119 Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. – СПб., 1997. – С. 63, 200.
120 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. – М., 1972. – Т. 3. – С. 201.
121 Тиллих П. Избранное: Теология культуры. – М., 1995. – С. 322.
122 Тиллих П. Избранное. Теология культуры. – С. 221.
123 Булгаков С.Н. Апокалиптика и социализм // Булгаков С.Н. Сочинения: В 2 т – М., 1993. – Т. 2. – С. 413-416.
124 Булгаков С.Н. Свет невечерний. – М., 1994. – С. 183.
125 Булгаков С.Н. Сочинения: Т. 2. – С. 413.
126 Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. – М., 1909. – С. 507.
127 Бердяев Н.А. Истина и Откровение: Пролегомены к критике Откровения. – СПб., 1996. – С. 25, 128.
128 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – М., 1994. – С. 393.
129 Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993. – С. 355.
130 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – С. 318.
131 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – С. 390.
132 Древнекитайская философия: В 2 т. – М., 1972. – Т. 1. – С. 119.
133 Прокл. Первоосновы теологии: Гимны. – М., 1993. – С. 34, 39, 106.
134 Маркузе Герберт. Эрос и цивилизация. – Киев, 1995. – С. 119-120.
135 Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. – М., 1994. – С. 182.
136 Фуко М. Воля к истине. – М., 1996. – С. 36, 37.
137 Юнг К. Г. Психологические типы. – М., 1996. – С. 313.
138 Ницше Ф. Воля к власти. – М., 1994. – С. 65, 185, 186.
139 Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993. – С. 339.
140 Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993. – С. 327.
141 Франк С.Л. Реальность и человек. – М., 1997. – С. 426.
142 Беме Я. Аврора. – С. 156.
143 Тойнби Дж. Постижение истории. – С. 269.
144 Сагатовский В.Н. Философия развивающейся гармонии. – СПб., 1997. - Ч. 1: Введение: философия и жизнь. – С. 70.
145 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – С. 323.
146 Прокл. Первоосновы теологии: Гимны. – М., 1993. – С. 38.
147 Ницше Ф. Воля к власти. – М., 1994. – С. 299.
148 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – С. 425.
149 Бердяев Н.А. Истина и Откровение. – С. 81.
150 Арон Р. Философия истории. – С. 271.
151 Ницше Ф. Воля к власти. – М., 1994. – С. 50.
152 Бердяев Н.А. Истина и Откровение. – С. 206.
153 Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Культурология. XX век. Антология. – М., 1995. – С. 317-327.
154 Арон Р. Введение в философию истории. – С. 242.
155 Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – С. 454.
156 Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992. – С. 35, 369.
157 Соловьев B.C. Сочинения: В 2 т. – M., 1988. – Т. 1. – С. 343.
158 Кузанский Н. Сочинения: В 2 т. – М., 1980. – Т.2. – С. 2, 36.
Внимание! Сайт является помещением библиотеки. Копирование, сохранение (скачать и сохранить) на жестком диске или иной способ сохранения произведений осуществляются пользователями на свой риск. Все книги в электронном варианте, содержащиеся на сайте «Библиотека svitk.ru», принадлежат своим законным владельцам (авторам, переводчикам, издательствам). Все книги и статьи взяты из открытых источников и размещаются здесь только для ознакомительных целей.
Обязательно покупайте бумажные версии книг, этим вы поддерживаете авторов и издательства, тем самым, помогая выходу новых книг.
Публикация данного документа не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Но такие документы способствуют быстрейшему профессиональному и духовному росту читателей и являются рекламой бумажных изданий таких документов.
Все авторские права сохраняются за правообладателем. Если Вы являетесь автором данного документа и хотите дополнить его или изменить, уточнить реквизиты автора, опубликовать другие документы или возможно вы не желаете, чтобы какой-то из ваших материалов находился в библиотеке, пожалуйста, свяжитесь со мной по e-mail: ktivsvitk@yandex.ru