

|
|
|
Анатолий РУДОЙ

Книга о жизни матросского коллектива флагманского крейсера Черноморского флота „Дзержинский” в советсткое послевоенное время. Показана нелепость и преступность системы подготовки военных кадров на основе всеобщей воинской повинности, а также невозможность обеспечения безопасности страны слабо подготовленными не профессиональными, а главное: не заинтересованными защитниками. Идеология войны и отношение к войне обязаны быть другими: человекосберегающими. Вместо борьбы до последней капли крови следует эту кровь вместе с интеллектом направить на исключение войны как явления, характеризующего примитивизм людей и малый их мыслительный ценз.
Для широкого круга читателей.
На русском языке
АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО № 38252 от 04.05.2011
ISBN 966 – 7405 – 80 – Х ©® А. И. РУДОЙ 2011
Посвящаю сыну С Е Р Г Е Ю
КРЕЙСЕР
Над Севастополем сиял жаркий майский день. Обилие тепла радовало горожан и природу. Нарядные люди в легких одеждах заполнили улицы. Все вокруг излучало спокойствие и доброту. Пестрые потоки неторопливых пешеходов вливались на площадь и, несколько побурлив, вольготно растекались по живописной набережной. Ласковое солнце, чуть заметный ветерок и буйство весеннего цветения создавали ощущение благости и умиротворения. Счастье бытия дополнялось пением птиц, шелестом тихого прибоя и мягкими звуками мирного дня. Однако постепенно в эту идилическую наполненность сначала еле-еле, затем все более настойчиво стал проникать посторонний шаркающий ритм: шарк-шарк, шарк-шарк ... Приближаясь и нарастая, он начинал подчинять себе окружающее великолепие, заполнять собой пространство и вынуждать гуляющих вертеть головой в поиске того, что так бездарно врывается в весеннюю мелодию Творца. Вскоре все, возмущенные диссонансной нотой, развернулись в сторону Большой Морской и увидели колонну матросов, которая черной лентой вилась на проезжей части дороги под аккомпанимент собственных шагов. Зимняя одежда, потные лица, небритые щеки, за плечами вещмешки, без оружия ... пленные ... стройбат ... штрафная рота? Так разглядывая, заметили, наконец, на погонах СФ – северный флот ... аааа! Пополнение, пехота, салаги, черпаки! Зрители сразу потеряли интерес к происходящему. Дальше колонна продвигалась в молчаливом безразличии, приправленном легкой укоризной за разрушенную благость удивительного дня. Поравнявшись с переулком, шагающая лента изогнулась, повернула вправо и стала спускаться к знаменитой Минной стенке – месту базирования эскадренных миноносцев. Вскоре первые ряды колонны вступили на исторический пирс. Утомленные люди приосанились, как-то сразу взяли шаг и пошли печатать удаль по горячему асфальту. С захлестом и под ногу взвилась команда, строй качнулся, замер и развернулся лицом к морю. “Вольно!” Всё! Мы дома. Место, к которому стремились три недели, достигнуто. Позади осталось Баренцево море, обжитый маленький тральщик, северодвинский флотский экипаж и дырявый товарный вагон без единого удобства. Прибывшие тихо и с удовольствием рассматривали непривычный пейзаж. Прямо перед ними шаловливо играла волной, серебрилась и ласкалась к бортам кораблей Южная бухта. От нее исходил незнакомый свежий дух, отдающий йодом, травой и какой-то щемящей романтикой. Над бухтой носились, казалось, совсем без дела бакланы, чайки и голуби. В северных портах не так! Если уж баклан летит, то целеустремленно, с пониманием своего бакланьего дела. Ему не просто надо поймать рыбу, это как бы между прочим, а главное показать себя в полете, в кувырке, броске и во всем своем озорном задоре. Наиболее хвастливые из них давали представление, особенно, если заметят интерес людей. Для начала они с бреющего полета падают вниз, на матросов, однако, не долетая самую малость, снова взмывают вверх, горланя так радостно, что и лица людей светлеют, появляются улыбки, а там уже недалеко и до хорошего настроения. Наигравшись, отлетают подальше, в изящном нырке ловят рыбу, взлетают в небо, замирают и бросают улов, а сами несколько раз проносятся под ним и снова ловят, едва он коснется волны. Были случаи, когда артистов награждали аплодисментами. Птиц это устраивало ибо знали они, что вслед за какими-то хлопками рук в море полетят кусочки колбасы, а они, ясное дело, вкуснее рыбы. Здесь же бакланы толстые, ленивые, да и кричат они как-то не так и летают криво ...
К невзрачным кнехтам тонкими канатами пришвартованы эсминцы, почти касаясь стенки ютом. С пирса на корабли переброшены трапы без роликов и лееров. На что надеется народ? А вдруг свежая волна с открытой стороны, отлив, прилив или мороз? Ах, да! Какой отлив на Черном море? Или волна во внутреннем заливе, а мороз, да знают ли здесь, что это такое? И северян охватила тихая тоска по бескрайним просторам, высокой волне, чистым льдам и снегам, по морозам, по приливам ... по родным, ну да, конечно же, по родным краям. Ведь именно там дети превратились в мужчин. Там выдержали первый и много других боёв за право быть живым и оставаться человеком, штормовой поход и качку с недельной потерей сознания, трагедии, победы ... жизнь.
Вдоль строя прошёл матрос в ладно подогнанных рабочих брюках, босоножках и обнажённый до пояса. Спустился по трапу в шлюпку, отдал концы, укрепил гюйс, поставил парус ... и ожили сказки Грина. Парус, шлюпка, загорелый человек, серебром струится ласковое море ... юг! И нет места в этой красоте и неге грубости, конфликтам и смертям. Но скоро горькая ирония останется от несбывшихся надежд. Людская пучина опасней морской!
Постепенно головы прибывших вертеться стали мягче, глаза, пробегая ширь залива, отмечали все больше уже знакомых объектов, обстановка казалась почти привычной. Начинала одолевать скука и жара. Сначала сняли теплые шапки, расстегнули шинели, убрали ремни, сложили вещмешки горой, а пот все равно липкими ручейками струился под зимними тельняшками, кальсонами и собирался в сапогах. Северяне уже много часов стояли обособленно, никому не нужные, вызывая насмешки расторопных местных моряков. Подходило время обеда. Колонна стихийно рассредоточилась, образовались компании, появились столы, сервированные на ящиках, и, ясное дело, каждый стол увенчала припасенная еще в родных северных краях неразлучная нольпятка. Чувствовалось, что спешить некуда, потому ели медленно с анекдотами и прибаутками и вскоре стройные ряды приезжих превратились в цыганский табор. Кто-то достал трехрядку, кусок фанеры сошел за барабан, а Гиви Нодия вытащил по сему случаю свои барашковые сапожки без каблуков, на мягкой подошве и плавно на носочках полетел по кругу, припадая на колено, дико озираясь и от удовольствия крепко матерясь. Танцы, частушки и песни ронеслись по водной глади.
На кораблях прошло дневное построение, затем развод караулов, а на пирсе веселье все разгоралось, подогретое раз, еще раз, еще никто не помнит сколько раз. Ближе к ужину на причале показалась группа офицеров. По их походке, выправке и размытости лица угадывались тыловики, штабисты. К танцующему люду подлетел, пружиня ногами в коленях, старший лейтенант. Набрал воздуха, выпятил грудь и закричал: “В колонну по четыре становись!” Удаль молодецкая разгулялась, какой там ... “становись”. Где вы были раньше? Минут через двадцать большинство из них стояли в строю, других держали, несколько человек сидело, двое лежали. Горели костры, освещая горы бутылок, консервных банок и дров. Старлей метнулся в сторону навстречу капитану третьего ранга, выплывающему из темноты на свет под фонарем. Что-то доложил, показал на моряков рукою, отступил назад, пропустил каптранга, тот подошел: “Здравствуйте, товарищи матросы!” Отвечать было некому. Люди упорно молчали при повторном и третьем обращении. В этой ситуации корабельный офицер нашел бы решение, не стал бы обострять обстановку, а штабист: ”Кто старший по званию?” Вперед вышел старший матрос Каримов, низенький щупленький азербайджанец, невесть какими путями умудрившийся удостоиться одной узенькой лычки на погонах. На флоте информация распространяется быстро. Месяца через два узнали, что Каримов осужден на четыре года дисциплинарного батальона с последующей четырехлетней службой на корабле, если, конечно, выживет. Лежащих и сидящих определили в штрафную роту.
Наступила темная южная ночь, пирс жил своим размеренным графиком и никто из тысяч людей на многих кораблях никак не реагировал на то, что уже произошло и на то, что на причале по-прежнему стоят беспризорные моряки. Наконец, ближе к полуночи, стали прибывать корабельные баркасы. На пирсе появились офицеры со списками в руках, которые издали, не подходя к озлобленным людям, стали брезгливо выкрикивать фамилии. Колонна постепенно таяла и к утру от нее никого не осталось. Затем пришли матросы, убрали площадь и замели следы короткого привала, круто изменившего судьбы взрослых пацанов. Ибо каждый из них прожил девятнадцатый год в борьбе с собой и с сослуживцами, побывал в кипящих штормах северных морей, много мерз и от морской болезни часто ловил во рту желудок. Уже они видели смытых, замерзших, взорвавшихся, пообвыкли, притерпелись и только к унижениям не удалось привыкнуть. Корабельные матросы в угоду царствующему командиру демонстрируют в сорокоградусный мороз и лютый ветер лыжную гонку на пятнадцать километров, будучи раздетыми по пояс. По ночам в штабе циклюют паркет осколком стекла, заучивают наизусть запутанные биографии многочисленных начальников, в дождь красят забор в городском саду... Матрос – это некий наполнитель флотского уклада, который должен быть безропотным, преданно взирающим, с готовностью выполняющим, это тот объект, над которым работают все, получая награды и звания, и которого как бы и нет в силу его послушности, бесправия и безразличного к нему отношения. Имеющееся в наличии большое количество рядовых позволяет быстро устранить последствия любой убыли экипажа, поэтому на морских учениях отрабатывается живучесть корабля, а не живучесть матросов, ибо для строевого корабля такой комплектующий механизм, как человек, найдется всегда. Замена людских единиц происходит естественно!
Ночь проходила в ожидании. Над бухтой уже обозначился рассвет. Наконец, от стенки отвалил последний баркас и направился к мысу Голландия, возле которого на двенадцатых бочках стоял крейсер “Дзержинский”. Ночной залив с бесконечными огнями, вспышками и бликами с запахами свежей волны, таинственными свистками , гудками, шумами отвлек бывших северян, зачаровал своею красотой и тут же подавил их едва они, увидев, осознали, что на этом огромном чудище им придется провести многие годы. Уходила эта тягостная ночь, навсегда оставив гнетущий след в душе. Многие годы спустя, она в разных вариантах будет являться во сне, неизбежно предвещая плохое. Вместе с нею таяла легенда о ласковом море на юге, о людях, в любую минуту готовых подставить плечо, помочь и спасти. Стала остывать душа.
Над Угольным причалом занималась заря. Первые лучи пробежали по берегу, заскользили по воде и осветили крейсер во всей могучей красоте. Люди на баркасе, запрокинув головы, наблюдали чудо рождения нового дня. Вот солнце уже подступило к юту, осветило деревянную палубу, отмытую до желтизны, и заиграло веселыми бликами по закругленным бортам. Перемещаясь дальше, перемахнуло через ростры, показалось на шкафуте и полубаке. Ещё чуть-чуть и достигнут волнорез, а потом и бак. Мощные борта, горделиво сужаясь к форштевню, к верху плавно расходились и держали носовую палубу как бы навесу, придавая всему облику изящную легкость, стремительность и силу. Над бортами возвышались мачты, увешанные флагами, дымовые трубы, боевая рубка. Много, очень много орудий стояло по бортам, на рострах, впереди и сзади корабельных надстроек и даже на шкафутах – самых узких местах палубы. Увиденное наполняло и подавляло. Человек такой маленький и как ему не затеряться в дебрях стальных? Позже оказалось, что теряется и часто! Для восполнения одной из таких потерь и прибыли моряки с Северного флота.
– На баркасе? – прозвучало сверху.
– Старшина Доров, доставил смену, разрешите на борт?
– Добро, по одному, с вещами!
Пассажиры подхватили мешки, бросили прощальный взгляд на сверкающий залив, шагнули на упорную скобу, затем на планширь баркаса, прыгнули на причальный мостик и затопали сапогами по ступенькам крейсерского трапа под его недовольный скрип. Моряки, бросая даже беглый взгляд на трап, способны многое узнать о корабле. Нет одинаковых трапов, каждый из них неповторим и, служа конкретным людям, отражает свет их бытия. На этот раз трап поднимался кверху невесомым узором ступенек, балясин и лееров. Он, казалось, парит над водой, играя светом бронзовых накладок и сверкая чистотой. Восемнадцать ступенек и – палубный мостик, следующий шаг, первый в жизни шаг ... назад уже дороги нет. Живым – только по звонку, по сроку, демобилизовавшись, а если раньше – многие уходили раньше, навсегда. Северяне, теперь уже бывшие, с этой минуты стали черноморцами. Перевод в другую воинскую часть, не изменяя сущности службы, всегда связан с длительным периодом адаптации к новым условиям жизни. Переход же с тральщика на крейсер – это практически начинать всё сначала. На больших кораблях от эсминца и крупнее весьма редко встречаются служащие по первому году. Как правило, туда попадают после учебных отрядов и прохождения практики на малотоннажных судах, а это уже второгодки. Именно они, второгодки, называемые салагами, являются тем объектом, над которым нависают все и всегда. Прежде всего, это заканчивающие второй год службы, затем старожилы третьего года и, наконец, элита корабельной массы, пребывающая на корабле четвертый и пятый годы. Эта элита, именуемая годками, к службе имеет слабое отношение. Она именно пребывает на корабле, просто проживает, зорко следя за соблюдением флотских традиций во всем их широчайшем проявлении от самых гуманных и возвышенных до предельно гнусных и жестоких. Командование использует годков для управления корабельной массой и те, управляя чванством и самодурством, довольно быстро начинают испытывать ненависть своих подчиненных. Молодые матросы, мучась, страдая и терпя, лелеют надежду излиться на других новичков, если судьба даст им возможность дожить до того времени, когда и они станут годками. Поскольку издевательство, как таковое, является творческим процессом, каждый, переваливший рубеж годка, вносит свой вклад в вековую копилку приемов возвеличивания себя за счет уменьшения других.
Прибывших построили возле рубки вахтенного офицера, о каждом из них сделали запись в бортовом журнале. Вскоре прибыл дежурный по радиотехнической службе, РТС, старшина первой статьи Панченко. Недовольным, сонным и ленивым голосом скомандовал: ”Напряя-ву!” – и зашагал впереди строя, сопровожая его по многочисленным коридорам, палубам и переходам к носовому кубрику с табличкой №12. Внезапно остановившись, буркнул: ”Через тридцать минут побудка, стоять здесь, можно курить!” – и провалился вниз по трапу, видно, досыпать.
Курить, так курить! Достали, зажгли, затянулись, сели на волнорез и вместе с выдыхаемым дымом вслед за шапкой полетели на леера. Встали, поправили одежду, смотрим на место старта, а там стоят крепкие парни в одних трусах и, по отечески, добродушно смеясь, подзывают к себе. Как и положено по уставу, не доходя полтора метра, останавились перед весельчаками и получили удар по ногам от кого-то сзади. Покачнулись, наклонились, но удержались, не упали, хотя шапки все-таки откатилась к борту.
– Чего вертишься, салага? – донеслось со стороны – там тебя стоять не научили? Слушай первый корабельный закон, – поднял палец пончикообразный носитель трусов – “годков знать в лицо, приветствовать первым, подчиняться беспрекословно!
– Что стоишь не по форме?
Бросаюсь за шапкой, надеваю, подхожу к собравшейся толпе обнаженных людей, с интересом наблюдающих неловкость по-зимнему одетого моряка, и внимающих очередному развлечению. Каждый из зрителей, видимо, припомнил свои первые шаги на военном корабле с неизбежными при этом унижениями и участвуя в травле как бы передавал эстафету, снимая с себя груз обиды, и с удовольствием перекладывая его на младшего, возводя себя тем самым в старшие. Не совсем старшие, так чуть-чуть, но уже несколько, пусть на самую малость, но ближе к годкам, а самое главное то, что ему уже есть над кем проявить себя, показать себя, разрядить себя и утвердиться: прямо на глазах ростут в самомнении!
– Эй, Серенко, как он идет к тебе? где шаг, отмашка рукой, видать второй закон ему неведом? – жиреющий наставник снова поднял пухлый палец – “слушайся всех, кто дольше служит!”
– А что это саламон в руке зажал? Похоже сигарету? расскажи ему, Серенко! – веселились матросы, радостно осознавая, что они уже приподнялись в корабельном рабстве и есть на кого посмотреть сверху вниз. Коль есть подавляемый, то подавитель найдётся.
– Курить за десятым шпангоутом! – под одобрительный хохот изрек учительствующий умник.
– А волнорез? – напомнили ему из глубины толпы.
– Вот-вот, северная швабра, заруби себе хоть на шую: на краску не садись! – важно и с удовольствием закончил наставление годок. Аналогичные представления проходили и на других участках обширной носовой палубы. Там корабельные аборигены так же окружили не по-южному тепло одетых и потому неловких людей, изливая на них весь сарказм своего подневольного бытия. И когда в пылу самоутверждения обступившие весельчаки заставили Рутова Сергея зубной щеткой вымыть швартовый трос, неожиданно для всех местный заводила приподнялся вверх, чуть повисел в пролёте и рухнул мешком на якорные цепи.
Матросы – народ вспыльчивый и гордый. Всякие попытки усмирить вспыхнувших моряков приводили к расширению конфликта и вовлечению в драку экипажей других кораблей. Но особенно разрушительны схватки моряков между собою. Северяне, объединенные совместным унижением, и местные, сплотившись в стремлении подавить и тем самым получить свою долю отмщения за прошлые обиды, вступили в неравный бой.
Вскоре пять человек в разорванных шинелях, босиком, придавленные сверху собственными вещмешками, лежали на палубе избитые и тихие. Кроме них не было ни одной живой души. Никто не знал, что это такое вдруг случилось, из-за чего, что прибывшее пополнение не поделило между собой? Конечно же, какой-то чепухи. Вызванные санитары одного за другим относили на носилках медленно приходящих в сознание побежденных бойцов в редко пустующий корабельный лазарет. Волнующее вхождение в дружную черноморскую семью состоялось! По истечении недели уже можно было снимать пластыри, бинты и шины. Посвященные в начальный курс морской науки стали понемногу двигаться, расхаживаться и к концу второй недели покинули, как потом оказалось, самое благостное место на корабле.
Извечный закон, по которому любая среда оказывает сопротивление проникновению в нее инородных тел, в человеческом сообществе, помимо чисто механического отторжения, проявляется еще и в психической дискредитации. Если не удается уничтожить или изгнать, значит нужно подавить. Это осадный процесс, рассчитанный на длительное время, и хотя момент торжества отодвигается, зато приобретается некая идея, поддерживающая вялоагрессивную особь в длительном возбуждённом состоянии, заменяющем полезную деятельность и дающем ощущение значимости жизни. Таким особям обязательно нужен враг или ненавистный человек, а на худой конец – сойдет и новый член команды.
Пять человек, степенно спускаясь по трапу, вошли в кубрик. Ровное гудение голосов несколько приутихло, головы повернулись к ... У входа стояли люди в изорванной одежде, без погон, босиком, в синяках и ссадинах. Они, осмотревшись на новом месте, увидели свои вещмешки, направились к ним, вытащили одежду и обувь, начали переодеваться. Присутствовавшим стало ясно, что следующая стычка с этими людьми ... круто изменит судьбы кого-то из них. Битый человек приобретает новые свойства, ранее не известные ни ему самому, битому, ни окружающим. Преодолевая изначальный страх перед болью и увечьем, сознание принимает вариант возможной травмы или смерти, а потому раскрепощается, в движениях появляется свобода, эмоции уступают место холодной сосредоточенности и дальше бой ведет спокойно работающий механизм, победить который трудно. Бой, боль, битость рождают человека нового качества, способного выжить в притворно дружелюбной взаимноагрессивной среде с непрерывно меняющимися лидерами и произвольными этическими ценностями. Переодевание военнослужащих в новой обстановке связано с неизбежной демонстрацией формы одежды. Безусловно, она одинакова на всех флотах, в основных чертах одинакова, но в деталях настолько сильно разнится, что даже молодые матросы легко отличают своего от не своего, не читая надписи на бескозырках и погонах. Форма моряков на одном корабле не совсем такая, как на другом, она зависит от года службы, сильно видоизменяется у годков, порой становится совсем неузнаваемой у демобилизованных. Она отражает материальные возможности, внутренний мир и содержание человека и вцелом воздействует на окружающих некоторым обобщающим восприятием здоровья. Если учесть еще всякие нашивки, накладки, значки, медали, ордена, их количество, взаимное расположение и умение носить с горделивой осанкой, прибавить к этому ритуал закуривания, самого курения и выстреливания окурка, навыков обращения с носовым платком, часами и зажигалкой, способностью создавать тонкий запах табака, свежести и моря, то по одежде и манерам моряка можно воссоздать очень многое из его служивой биографии.
Новички заметны сразу своей правильной одеждой и плакатностью поведения. Только у них сохраняются нетронутыми ширина брюк, длина шинели, глубина захлеста верхней полы на нижнюю, расположение ремня на животе, толщина и перегиб белой нашивки на подшинельном воротнике. Они еще не приобрели зудящей потребности с особым форсом загладить складки гюйса, форменки или штанины и, кончено же, не созрели до перешивания бескозырки. На всех кораблях есть неимоверно уважаемые люди, умеющие придать бескозырке тот вид, который принят именно у них для данного года службы, конкретной должности и звания. Поскольку периодические проверки заканчиваются изыманием неуставной одежды от флотских энтузиастов-модельеров требуется целый набор фасонов, пригодных для корабельных смотров, для берега, отпуска и парадов. Верхом совершенства является бескозырка с высокой тульей, отделенной от огромного верха толстым белым кантом, причем очень важно, чтобы кант проходил точно, ну совсем точно, по кромке стыка тульи и верха, а не так как у салаг: почти на палец ниже. Бывалого моряка заставить надеть неперешитую бескозырку невозможно. Это равносильно позору или, на худой конец общественному порицанию, поэтому все попытки извести перешивание формы наталкивались на молчаливое, но непреодолимое сопротивление корабельных моряков.
Гардероб матроса обширен. Даже простое перечисление одежды составит весьма длинный список. Это прежде всего парадная форма, которая бывает черная, белая, смешанная. Черная имеет летний, осенний и зимний варианты, с шапкой или бескозыркой, с перчатками и без них, с нижним бельем и без него, в шапке с опущенными или поднятыми ушами. Рабочая одежда шьется из сукна, фланели или парусины черного, белого или синего цвета, сочетаемая с тельняшками без рукавов или с рукавами, белыми рубахами и кальсонами и к ним добавляется еще бездна трусов, носков, носовых платков, гюйсов, подворотничков, ремней, погон, ленточек и многого другого. С годами накапливаясь, оно не вмещается в штатном хранилище – рундуке, а ведь там еще должно остаться место для обуви, щеток, бритвы, книг, писем и прочей матросской надобности. Причем все наполнение рундука должно пунктуально соответствовать корабельному уставу и бесчисленным инструкциям. Оно подлежит внезапным проверкам, за которыми чаще всего следуют наказания, а за ними дополнительная работа по наведению порядка. И так все длинные годы.
Переодевание лазаретников подходило к завершению. Перед старожилами кубрика предстали симпатичные, крепкие парни. Их одежда соответствовала второму году службы, однако, она все-таки не такая, как принята здесь. Берет надвинут почти на самые брови, вместо того, чтобы взлететь на макушку и лихо накрениться к уху, свисая козырьком. Гюйс поднимается на плечи не от начала отворота куртки, а сверху, хотя этот вариант более щеголеват. Надо присмотреться, возможно, незаметно-тихо удастся перенять и гоголем по палубе пройтись! Под курткой тельняшка, вот это зря! Достаточно и полосатого куска, пришитого на видном месте разреза: стирки меньше да и не так жарко. Куртка плотно облегает бедра, удлиненная и заглажена двумя складками. Наверное, от холода, чтобы не задувало. На юге все наоборот: куртка широкая и покороче. Пусть проходит теплый ветер, освежает. Брюки плотные, внизу навалились на шнурки. Ну уж нет! Черноморцы ботинки не шнуруют. Традиция! Привилегия! Особый флотский шик! И носки не носят, конечно, если можно незаметно снять. И без них жарко, даже в разбитых ботинках, у которых на месте бывших перегибов прорезаны как-бы совсем естественные щели ... Только годкам негласно разрешалось ходить по кораблю в гражданских босоножках. И, наконец, рабочая одежда новичков была матово белого цвета, мягкая на ощупь с нечетко выглаженной складкой; гюйс почти салатовый, а тельняшка не белочерная, а синеголубая. Каждый из старожилов кубрика знал, что роба становится такой от огромного количества стирок в соленой воде, вызывающих медленный переход цветов от травянисто-сине-зеленого, до того, который они видели сейчас. Матросы так же знали и то, что якорная жизнь не вынуждает человека так часто стирать одежду. Такая необходимость появляется в походах, в море при непрерывной корабельной работе, и особенно в неспокойную погоду.
Получается, что перед ними не новички, а новые члены команды, проверенные морем и людьми. Агрессивность старожилов кубрика начала спадать, зарождающаяся доброжелательность проявилась кое-где улыбками и, казалось, явной угрозы новой проверки силой и телесным подавлением не ожидалось.
Однако на корабле это пока единственный объект, на котором еще можно проявить себя, ибо другие сослуживцы уже определились во взаимоотношениях. Каждый занял свое отвоеванное место господина или слуги, барина или лакея, начальника или подчиненного и передел может стоить если не головы, то собственных костей. Потому затишье для одних, для других было временем продумывания и подготовки новых атак.
Местнические отношения всегда отягчают службу. Угнетаемому и угнетателю приходится принимать на себя дополнительный груз, неизбежно падающий на них в ходе конфликта. Часто этот груз настолько непосилен, что приводит к смерти кого-то из них или сразу обоих. Тем не менее, в любой среде всегда имеются особи, являющиеся неугомонными носителями интриги, бунта или вождизма. Наиболее рьяно вскипают недавние униженные, невольники или обращенные в новую веру. Так и на корабле. С прибытием пополнения вчерашние салаги стали старше на мизинец, но старше. Они немедленно принимаются правильно служить, т.е. “делать замечания”. Безобидное слово “замечание” на крейсере может стоить жизни. Этим словом определялись любые, даже совершенно несущественные отклонения в форме одежды, в движении по палубе, в выполнении строевых команд, в том, как, пропуская офицера, становишься к борту, как его при этом сопровождаешь глазами, не по инструкции уложен рундук, заправлен бушлат, начищена обувь и вообще за любые нарушения. Но если их нет, замечания все равно сыпятся за то, что выбрит не до синевы, за громкий рапорт или тихий доклад, за пререкания и разговор в строю, неуставное обращение, не доел обед, не сделал, опоздал, не ответил, не сдал, не получил, не донёс, не осознал ... Окажись, вдруг, что и это всё в порядке, тогда – за отсутствие усердия, не проявленное старание, непринятие мер и за любую другую провинность, которая придет в голову очередному радетелю.
Сделанные замечания записываются в толстенный журнал, суммируются пофамильно и по достижению какого-то числа являются основанием для ареста, карцера, гауптвахты. Но чаще всего замечание оборачивалось для виновного внеочередными работами, вахтой или дежурством. Новые люди заступают на вахту через сутки, поэтому для отработки наказания остается только один свободный день, и таким образом получается бессменная вахта на многие недели, месяцы, пока будешь жить. Матросы, измученные бессоницей, работой, построениями, неумолимым корабельным режимом, допускают нарушения во время очередных и штрафных дежурств, а это приводит к новым наказаниям. Никогда к замордованным не проявляется снисхождение. Чем больше издерганный человек теряет лицо, тем пренебрежительнее к нему относятся и охотнее толкают к черте. Спасение в гибели, болезни или случае.
Как всегда неожиданно, крейсер вышел в море. На третьи сутки похода стало штормить. Начался дождь. Запретили движение по верхней палубе, задраили люки, двери, иллюминаторы. Люди перемещались по низам. Корабль попал на длинную волну, и сильно переваливаясь, изматывал моряков бортовой и килевой качкой. Бывшие северяне, привыкшие к штормовой болтанке на маленьком тральщике, никак не могли подстроиться к монотонному, непреодолимому подъему палубы с одновременным боковым креном, зависанием в самой верхней точке и таким же опусканием, выворачивающим душу. Первое знакомство со штормовым Черным морем давалось тягостно. Не лучше себя чувствовали и старослужащие. Качка – это то явление, на котором куется характер человека. Нет людей, не болеющих морской болезнью. Есть лишь разное отношение к ней, разная прочность биологической конструкции и разная волевая стойкость личности. Известны случаи, когда даже незначительные движения палубы приводили к многочасовым рвотам, потере сознания и понижению температуры тела. Лечить такую болезнь невозможно. Нет лекарств от качки. Человек должен сам себя подготовить, переделать и в конечном счете сделать! И такие удивительные люди были. Например, выдающийся командир корабля, капитан первого ранга Алексей Максимович Мурзаев не переносил качку вовсе, однако, управлял эсминцем во многих кругосветных экспедициях. Сослуживцы замечали у него несколько покрасневшие, слегка воспаленные глаза, неровный румянец на лице, чуть дрожащие пальцы и сипловатый голос. Какое же мужество надо иметь, чтобы выпустить наружу такую малость и скрыть невыносимую боль внутри себя? Другие люди каждый своей дорогой идет в борьбе с недугом. Начинают все обычно с голодовки. Однако молодой организм требует подкрепления. Работа в море связана с большой отдачей сил, да еще корабельная ритмика все время вращается вокруг четырехразового приема пищи, как здесь удержаться? Дальше в ход идут леденцы, конфеты, таранька, вобла, тройной одеколон, жвачки, таблетки – все это напрасно. Успех, если какой-то и появится, то временный, после которого жизнь становится невыносимой, невозможной. Только с годами, мучаясь, выворачиваясь и борясь, приходит некоторое успокоение, затем облегчение и, наконец, относительная стойкость. Корабельные матросы нашли два показателя успешного преодоления последствий качки: возможность курить в качку и принимать пищу. Первая сигарета, полностью докуренная в свирепый шторм, знаменует собой победу! Это запоминается, об этом рассказывает моряк годы спустя, заслуженно гордясь собой и черпая силы от этой победы в трудные минуты гражданской жизни.
В штормовую погоду крейсерские стряпчие стараются готовить нежирную пищу, однако, даже запах ее, не то, что вид, вызывает болезненные спазмы желудка, выбрасывающего содержимое. Удержать эти судороги поначалу невозможно. Если желудок пуст, мутит все равно, выделяется желудочный сок, желчь, кровь и успокоение наступает только с отключением сознания. Большинство матросов начинает частично приобщаться к еде в конце второго года. Первый штормовой обед, осторожный, с прислушиванием к себе, с боязливым ожиданием приступа – это событие, достойное упоминания в автобиографии и передаче по наследству, как фамильное достижение. Впоследствии для научившихся принимать пищу в штормовом походе, обед превращается в банкет с обжорством, поскольку к ним переходят порции отказников. Может, уже и есть не надо, наполнен выше меры, но какой же нормальный моряк упустит возможность пофорсить, если случай подходящий и повод важный да ещё в кругу понимающих сослуживцев.
Поход походом, шторм штормом, но коль сию минуту нет войны: “Команде руки мыть, бачковым построиться!” – разнеслось в положенное время на радость едокам. Что-то бы другое объявили, можно и не сразу с места рвать, малость побурчать, ругнуться, так, не злобно – для порядка, а потом ... пришлось бы исполнять, но душу бы отвел. И каждый день, годами люди рады слушать: ”Команде обедать!” Наступила великая веха в жизни моряка. Прежде всего, это уважительный повод вычеркнуть из списка, длиной в четыре года, очередной компот, что обозначает уменьшение срока службы на один день. Затем каждый получает в собственность два часа времени, если, конечно, не на вахте, свободен от дежурства или работы, не наказан по замечанию, нет боевых тревог, готовности номер один, номер два, номер три, нет химической, газовой или ядерной атаки, машины и прочее заведование в исправности, а начальник занят другим матросом. А больше и нет причин, чтобы отвлечь человека от обеда и последующего сна, если, конечно, не нужно стирать, гладить, штопать, пришивать, начищать, подгонять, убирать, осматривать и закреплять. Вот и все, пожалуй, дальше можно и прилечь, если, конечно, выучил инструкцию, повторил устав, нет спевки хора, летучей информации, смотра правильности отхода к дневному сну ... А когда же, все-таки, прилечь, почитать, написать? Без флотской смекалки на корабле не обойтись.
Кубрики наполнились гулом, ибо обед на корабле тоже работа, иногда весьма опасная с участием большого количества людей. Одни расчехляют штормовые крепления столов и банок (скамеек) устанавливают их и привинчивают к палубе. Другие достают из рундука бачки, миски, ложки, ножи, чайник, чумичку и прочую утварь. За столом обедает коллектив, называемый бачок. Члены бачка, как правило, относятся к одному и тому же боевому посту, поэтому возглавляется стол старшиной или старшим бачка, обычно, годком. Он не участвует ни в каких приготовлениях и только смотрит за порядком, традициями, церемониалом. На каждый день из состава столующихся назначается бачковой. В его обязанности входит контроль за установкой стола и банки. Если его не уважают, ему не помогут ставить стол и тому придется самому это делать четыре раза в день. Затем переход на камбуз по низам, стояние в очереди, наполнение бачка первым блюдом и доставка в кубрик, разливка по мискам и подача старшине и годкам с должным манером для откушания. Пока справляются с первым, бачковой идет по тому же сценарию за вторым, и, наконец, за компотом. Одновременно все вместе доставить невозможно, так как эта процедура установлена с незапаметных времен, поэтому бачковой ходит три-четыре раза, расходуя на это личное время. После обеда ему следует вымыть посуду, насухо протереть и сложить до следующего раза. Бачок рассчитан на 12 человек. Если вычесть старшину, других годков, отпускников, командировочных, больных, занятых на дежурстве, остается несколько человек, которые по очереди, выполняя работу официанта или лакея, обслуживают коллег, отличающихся только тем, что они на корабле на мизинец дольше. Конечно, остается надежда, согревающая душу, что салага, дослужившись до годка, станет таким же чванливым и влиятельным, но до этого надо еще дожить, до бачковаться.
В этот день бачковым был матрос Гордеев. С самого утра его дежурство незаладилось. В толчее возле маленького, раскачивающегося вместе с палубой зеркала, бритвой порезал щеку. Кровь попала на белую робу, создавая впечатление неопрятности. Переодеваясь, в узком проходе между койками столкнулся с проверяющим офицером и будучи в одних трусах, не нашелся как отрапортовать на вопрос: “Что это такое, мать вашу...? как стоите? номер?” Имелся ввиду боевой номер, нашитый на всей рабочей одежде и являющийся исчерпывающим личным свидетельством корабельных людей. Он включает в себя номер боевой части, боевого поста и операторского места. Эти три цифры долгие годы сопровождают матроса по жизни, въедаются в память и со временем кажется, что сначала родился номер, а потом уже и сам человек под него. Пока внимал проверяющему, опоздал на построение бачковых. К его приходу вахтенный офицер уже заканчивал осмотр рук, ногтей, ушей, зубов, причесок и носовых платков. Первоначальный строй из доброй сотни бачковых поредел почти на треть. Прозвучала команда сомкнуться и в это время между пиллерсами средней палубы показался Гордеев. Балансируя в спешке на скользком линолеуме, размахивая чайником и подносом, в порыве старательного рвения он на угрожающей скорости приближался к командиру. Как и следовало ожидать, он не сумел затормозить и с разбегу бросился в объятия офицеру. Тот отпрянул в сторону, но пропустить угрозу не смог. Вместе они грохнулись на палубу и скатились к переборке, отброшенные креном корабля на волне. Более опытный вахтенный вскочил первым, схватился за кобуру и с криком: “Куда прешь, эбаный салага? стать в строй, номер?” – отбежал от Гордеева к началу строя. Однако разорванные брюки, виноватый вид матроса и громкий хохот вокруг заставили его сначала улыбнуться, а затем и самому присоединиться к неожиданному веселью. Пока дождался очереди, несколько остыл душой. Загрузился маслом, сахаром и с горячим чайником в руке двинулся в обратный путь, вписывая себя в ходуном ходящие комингсы, пиллерсы, борта, койки, двери и снующих людей. Как раз по сигналу: ”Команде завтракать!” – добрался до кубрика. Успел! Это маленькое, короткое, но счастье. Выложил на стол три кирпичика хлеба, поставил чайник, поднос. Молодые сослуживцы руками держали припасы, препятствуя им скатиться вниз при особенно сильном наклоне палубы. Гордеев в это время разрезал одну буханку на четыре части, каждую из которых острогал со всех сторон строго вертикальными резами так, чтобы осталось хлеба со спичечный коробок, положил на него такую же красивую пайку масла и накрыл все это двумя кусками сахара. Затем разложил полученный деликатес на алюминиевой тарелке и, держа ее в одной руке, чайник – в другой, по очереди, начиная со старшины бачка, стал предлагать бутерброд с одновременным наливанием чая. Если у годка хорошее настроение, он кружку будет держать и тогда не надо ловить ее на кренящемся столе. Ну, а если ... как сегодня? Корабль провалился в неожиданно глубокую волну. Посуда устремилась в дальний угол стола. Туда же заскользил и стоящий рядом Гордеев, по пути проливая чай и роняя тарелку. Потом, на лету, он все это поймал, но порядок был уже нарушен. Улучив момент, восстановил равновесие и, пружиня ногами, бачковой снова подрулил к старшине. Тот глянул на опрокинутый хлеб, лежащий боком бутерброд, побледнел от неуважения к себе, взял черпак и со словами: “Я тебя, придурок, научу служить!” – опустил его на голову матроса. Брызнула кровь, кожа на лбу стала набухать, принимая особый синий оттенок. Немая сцена длилась недолго. Ее обычное продолжение ведет старшину второй статьи Шипова к немедленной смерти, а матроса – к смерти в рассрочку. Шипов это знал и часто ловил кайф палача, видя шанс выжить в затурканности и замученности новичков. Гордеев промолчал, закрыл глаза, опустился на скамью, стал медленно наполнять кружку чаем. Только неподъемное горе или крайняя безисходность могут вынудить умного человека вести бой с врагом, имея с ним равные шансы в бою. Одновременная смерть с ним не приносит отмщения! Шансы нужно готовить ...
Бачкование настолько неприятная работа, что привыкнуть к ней не удается. Четыре раза в день необходимо выполнить много унизительных операций. Каждая из них обставлена невероятными условностями, традициями, церемониалом, несет отсвет личных качеств старшины бачка и других годков, зависит от количества молодых за столом, от того на якоре корабль, на рейде или в походе, штормит или спокойное море, кто из офицеров дежурит, какое подразделение является расходным и от многих других случайных обстоятельств. Ориентироваться в них, мгновенно и безошибочно отрабатывать новые неожиданные вводные, обязан каждый матрос. Иначе наказание, наказание, наказание. Каждый раз бачкование заставляет внутренне сжиматься, насиловать психику и обреченно покоряться не столько необходимой, сколько продуманно оскорбительной непреодолимой силе.
Кажется вот только что был завтрак ... Шипов ... кровь ...! Тихо, Гордеев, разожми кулак, потуши глаза ..., уже ведь объявили: “Команде построиться”. Затравленно посмотрев на матросов, Гордеев взял посуду и шагом невольника постылой дорогой побрел на камбуз. Противная слабость в коленях, постоянная тошнота и бессонница туманят ватную голову. Сегодня семнадцатые сутки бессменной вахты, а прилечь ... получится вряд ли. Терпи, Гордеев, Юрке в карцере, Павлу в лазарете не легче, не говоря уже о Ладине, его скорее всего засудят! В бесчувственном спокойствии наполнил бачок, схватил его двумя руками за выступающие дужки и, ловя ногами уходящую палубу, наклоняясь и приседая, отправился в путь по качающимся коридорам. Как и положено по штормовому расписанию, дверь в кубрик была задраена. Значит опять предстоит сражение. Искусство прохождения тяжелой стальной двери с высоким порогом, прочно закрытой на шесть ригелей и раскачивающейся в шторм словно таран, должно воспеваться в народных былинах. Сделать то же самое, когда две руки заняты обжигающе горячим бачком, наполненным доверху – это уже выдающееся мастерство на уровне медали. Однако суровый флотский быт так густо усыпан наградами, что люди, пообвыкнув, делают свое дело, даже не подозревая о его исключительности. В конце-концов, каждый, изучив характер двери, приноравливается к ней, как к живому существу, и постепенно притерпевшись, с большими или меньшими потерями и синяками, но преодолевает ее.
Так и Гордеев, прижав одной рукой бачок к животу, свободной рукой, выждав момент, повернул ригеля. Дверь сама на очередном качке отошла к переборке и в освободившийся проем, сгруппировавшись калачиком, устремился ненагражденный герой. Дверь, будто опомнившись, лязгнула за его спиной, но было уже поздно: человек успел проскочить! Оказавшись в кубрике, Гордеев сразу услышал матроса Степова, который сидел вверху на средней койке в позе петуха и на все лады надрывался трелью ку-ка-ре-ку! Степов, бывший артист кукольного театра, три месяца назад, истерзанный бессрочными дежурствами, спать престал совсем и подвинулся умом. Корабельные врачи лечить отказались, признав его здоровым. Безвредный и тихий, он пел только днем и матросы его не трогали, понимая, что любой из них может разделить такую же судьбу. Вдруг Степов захрипел, затем умолк, дернулся всем телом и упал на подошедшего Гордеева. Спасая Степова, бачок и себя, Гордеев уронил бачок, поймал Степова и вместе они покатились по палубе, размазывая борщ по всему кубрику. Брызги борща разлетелись повсюду, щедро облепив перборки, койки, рундуки, матросов и старшину Шипова. Стерпеть такое старшина не мог. Он решительно смахнул капусту с глаз, догнал еще прыгающий бачок и с силой насадил его на голову Гордеева, все еще скользящего в борщевой луже. Тот ойкнул и затих. Таааам-та-там-та-та-тааам ... Зазвучал самый ненавистный корабельный сигнал: боевая тревога. Кубрик мгновенно опустел. Люди душой чувствуют, что это не учебная тревога. Мелодия такая же, исполняется так же и так же назойливо надрывается звонок, но матросы, связанные жизнью с этим сигналом, безошибочно определяют его истинное значение. На этот раз тоже сомнений не было, поэтому корабль в боевую готовность был приведен раньше нормативного времени.
Матрос Гордеев, медленно приходя в себя, осмотрелся, увидел пустой кубрик и, зная, что обед пустяком не прерывается, попытался подняться. Подтянул одну ногу, столкнул обмякшего Степова с другой, прижал рукав к разбитой голове и рванул бегом по ступенькам наверх. Выбежал на бак, проскочил полубак и шкафут, схватился за поручни трапа на ростры, поднялся, разбежался и ... непредолимая сила понесла его на леера. Он скользил вниз по круто наклонившейся палубе, неумолимо приближаясь к борту, над которым уже нависла готовая пролиться кипящая волна. Жизнь и смерть разделяет мгновение. Гордеев бросился на четвереньки, прилип к палубе животом, его развернуло пропеллером и зашвырнуло под добротно принайтованный баркас. Силы человеческих рук не хватает, чтобы удержаться в отходящей с палубы волне. Осмотрелся! За что можно зацепиться? И увидел цепь, свисающую за борт, оттуда показались две руки, со знакомыми часами, а за ними подтянулась голова. Шипов. Шипов за бортом! Снять ремень, намотать на руку, подать пряжкой вперед, вытянуть, спасти! Кого? Кого это надо спасти? Но тогда придется задержаться, задыхаясь, под волнами и разделить с ним шансы поровну в бою. Или вдвоем выжить, или вместе в бездну, навсегда. Судьба, как часто ты вручаешь долю палача в руки его жертвы. Извечный закон природы, по которому злодей, по мере накопления злых дел превращается в свою противоположность, в жертву, и муки в его новом воплощении превосходят муки прежних жертв. Если бы злодеи помнили об этом ... Гордеев ремень снимать не стал. Выждав момент, добежал до ростровой надстройки, прижавшись к пиллерсу, переждал сплошной накат чёрных волн и стремительным броском на полусогнутых ногах рванулся вслед за отступающей водой к боевой рубке. Один ригель, второй ... шестой! И только было хотел открыть дверь – снова нависла волна. Уловил момент и ...
– Ты где это шляешься, Гордеев, нашел, мудак, время для прогулок? – негодовал командир отделения, вовсе не обращая внимания на совершенно мокрого человека, в крови и ссадинах, со ржавыми разводами на некогда белой одежде.
– Бескозырку сорвало, жалко вещь, перешитая, – мялся Гордеев, сознавая, что три минуты опоздания даром ему не сойдут.
– Чего стоишь, салага, работай ... до вечера.
– Дожить бы до вечера, а наказаний уже ... службы не хватит ...
– Команде надеть индивидуальные спасательные средства, готовность номер один – разнеслось по корабельной связи.
Остальное экипаж узнал несколько часов спустя после отбоя боевой тревоги. Все началось с того, что впередсмотрящий неожиданной скороговоркой, прерываемой моментами погружения носовой части в волну, доложил о черном предмете в кабельтове от него. Навигационные радиометристы, акустики и дальномерщики целеуказание не подтвердили. Для выяснения обстановки на бак был послан штурман старшина первой статьи Садов. Выйдя из боевой рубки на шкафут, он набросил замок страховочного линя на штормовой трос и скользя по нему, двинулся в путь. До волнореза добрался благополучно, перешагнул через него и скрылся вместе с кораблем под водой. Схлынула волна и с мостика увидели, как беспомощное тело старшины перекатывается по палубе, удерживаемое только страховочным поясом. Его спасением занялась боцманская команда, а между тем, черный предмет был различим и без уточнения обстановки. Это была мина. Огромная. Утыканная множеством контактных взрывателей, она напоминала безобидного ежика. И без того малое расстояние неумолимо сокращалось. Даже полный задний ход не в состоянии остановить крейсер на такой короткой дистанции. Уйти вправо или влево значит стать поперек волне и сломать двестиметровый корпус корабля при провисании его срединной части. Расстреливать мину поздно. Она уже рядом! Прыгает, забавно вращаясь и кувыркаясь, показывает оборванный трос, прилипших ракушек и обросшие тиной рога. Видать, с войны таилась в глубине, устала ждать, сорвалась и отправилась искать свою жертву. И вот встреча состоялась. Бездушное творение давно ушедших людей через мгновение убъет полторы тысячи живых. Осознавая полную беспомощность, корабль обреченно ждал взрыва, чтобы стало, наконец, известно, кого жребий оставит в живых, кто будет ранен и затем утонет, а кому судьба сразу подведет черту. Мгновенье истекло. Секунды дальше понеслись. Мина, величаво проплывая вдоль левого борта, тыкалась в него рогами, отходила и, порезвившись на волне, важно приближалась. Не торопясь клевала рогом, замирала, поджидая новую волну, и разгонялась снова. Морские династии, биографии, карьера, угнетение, замечание, наказание – как сразу все это исчезло перед лицом вечности. Куда вдруг девалось то, к чему человеки за этим бортом стремились еще несколько минут назад? Почему они, выйдя убивать, сами так бояться смерти? Палач превратился в свою противоположность, в жертву, охотник оказался пойман, ибо, взявшись за оружие, от него и примет смерть.
Тем временем мина, продвигаясь дальше, внушительно простучала отсеки с двенадцатым кубриком, затем семнадцатым, добралась до двадцать пятого, приблизилась к оборванной леерной цепи на рострах и в отходящей волне, плавно раскачиваясь, удалилась от борта. Корабль стал набирать скорость. Еще немного – и сотый калибр с левого борта двумя стволами сразу ... Мина взорвалась, едва снаряд коснулся воды вблизи ее, второй снаряд влетел уже в столб воды, поднятый так, что высокие волны казались легкой зыбью на реке. Вслед за первым взрывом последовал второй, третий и они продолжались дальше чередой, будто внутри большого шара хранился арсенал из мин размерами поменьше. Конечно же, обычно такого не бывает! А если бывает, то только один раз, один единственный раз, который не повторится больше никогда. Это как напоминание о тщетности суеты земной, о краткости людской дороги и внезапности ее конца.
Однако в течение длинной корабельной службы, аналогичный случай повторился еще дважды. В тихоокеанской бухте Абрек проводилась погрузка на эсминец снарядов для противолодочной ракетной бомбовой установки. Каждый из них был весом около девяносто килограмм и длиной полтора метра, поэтому его переносили с берега на борт два матроса, уложив снаряд на плечи, как бревно. Шли медленно, осторожно, с подстраховкой, особенно оберегая носовую наиболее чувствительную часть. Благоговейно перенесли одну, вторую, а третью – уже несколько свободнее, потом пообвыкли и с веселыми прибаутками носили их, как дрова. В обед положено палубу мыть, флотский шик требует, чтобы она было не только чистой, но и блестящей. И вот для блеска к морской воде добавляется солярка, которая оставляет на вороненой броне тонкую, красивую и неимоверно скользкую пленку. Гордеев, к этому времени уже старшина первой статьи, возглавлял погрузку и после обеда первым взялся за работу. Взвалив себе и своему заму на плечи снаряд, шел уверенной походкой человека, многие годы шагавшего по палубе, вдруг, поскользнулся и, выделывая отчаянные движения в попытке удержать рановесие, раскачал тяжелый груз и вместе с ним припечатался к палубе. Снаряд упал именно носовой чувствительной частью, прогнулся в этом месте и покатился к леерам, противно лязгая стабилизатором. Произошло невозможное: бомба не взорвалась. Люди боялись пошевелиться или сказать слово, чтобы не вызвать акустическую детонацию. Гордееву и другим, кто упал вместе с ним, пришлось пролежать до прибытия бригадных спецалистов. Те осмотрели, нежно отнесли на сопку, положили, отошли и взрывная волна швырнула их в спасительный ров. Не успели схлынуть комиссии, так и оставшиеся недовольными, что снаряд, принятый ими, позволил себе не взорваться и так скомпрометировать их, как в подземном арсенале оборвался трос, удерживающий тяжелую вагонетку. Освободившись, вагонетка на повороте слетела с рельс, врезалась в штабель зенитных снарядов и замерла. Гордеев со своей командой из подземелья вышел бодрым шагом, весело смеясь. Через неделю в лазарете шутки поубавились, и люди впали в угнетённое состояние, из которого выходили медленно и были к службе долгое время негодными. Так что невозможные события всё-таки происходят. Видно, ими управляют неземные силы и пока не свершится всё, задуманное ими, человеческая воля мало чего значит.
Прозвучал отбой боевой тревоги. Под мягкие, почти успокаивающие звуки корабельного горна, служивый народ расходился по кубрикам. Для начала пришлось заняться повсеместной уборкой разлитого борща, потом доставить заново пищу и приступить, наконец, к прерванному обеду. Постепенно стали разноситься подробности, все более полно воссоздающие свежие события. Оказалось: смытых водой один, старшина второй статьи Шипов, свидетелей нет, точная картина трагедии неивестна, виновных, естественно, также нет; умерших двое – впередсмотрящий, матрос Белов, от разрыва сердца умер на боевом посту, почетно будет похоронен в море в парусиновом чехле с уже остывшей гильзой, привязанной к ногам, и матрос Степов, ну этот в последнее время был какой-то странный, скорее всего, так же будет предан морю; раненых один, штурман Садов, сотрясение мозга, помещен в лазарет. И всего-то? Это меньше допустимых потерь личного состава в боевой обстановке! Боевой? Всякое движение корабля в морских просторах – это вечное упование на милость нездешних сил, ибо в потерях мог бы оказаться крейсер, который якобы боевой.
По флотским понятиям бачок должен возглавить старшина второй статьи Уралов, однако, он был гнилой и им немножко брезговали. Сначала, ещё два года назад, на коже появились красные пятна, которые стали медленно чернеть, послойно шелушиться и проникать вглубь тела. Проходило время, плотный комок омертвевшей ткани выпадал, а на его месте начинала нарастать новая нежная масса, нестерпимо зудящая и отталкивающе действующая на окружающих. Старшина лечился на берегу и каждый раз прибывал на борт писаным красавцем. Но и месяца не проходило, как все повторялось сначала. Вопрос о его списании на землю даже не стоял, ибо живым с корабля досрочно не уходят.
Не годился на эту роль и годок Решенко, который уже полгода с мачты наводил бинокль на кромку горизонта в надежде первым донести о затерянной земле, но каждый раз ему мешали берега залива. Вчера его обычная угрюмость прерывалась короткими смешками, видать нашелся, как перехитрить досадную помеху. Хорошо, что тихий ... Перебирая других столующихся, дошли, наконец, до старшего матроса Жирова и, поразмыслив, согласились с его назначением. Большой, округлый сельский увалень за пять лет не утративший деревенского добродушия и неторопливости. Первой его обязанностью было разделение имущества Шипова. По традиции вещи погибшего служили амулетом, охраняющим нового владельца от несчастий, поэтому каждый пожелал взять себе вещицу не то, чтобы на память, скорее для защиты от того, кто держит нашу душу на крючке. Очередь дошла и до Гордеева, но тот отказался, сославшись на синий талисман на лбу. Жиров не одобрил: к чему, дескать, вспоминать такие пустяки? Ну, там, малость приложился, так ведь годок, а ты, Гордеев, флотские понятия должен правильно блюсти и множить традиции ...
После ужина Жиров, расхаживая с сигаретой в зубах, о чем-то мучительно размышлял, разводил руками, гримасничал и к вечернему чаю ушел измученный, вспотевший, но довольный. Съев печенье и добавку к нему, прикоснулся к руке бачкового Петренко и задушевно говорит: “Крабы тебе цицьку б дали, салага, не греми тарелкой, тут вот, как я тебе скажу” – и замолчал. Шутка ли, первый раз начальником стал и сразу так удачно выступил. Выждал паузу, подался весь вперед: “Ты, Петренко, нравишься мне – тебе носки стирать; ты, Сокур, тоже, вроде, парень, это, как его, тебе – гюйс, подворотнички и носовой платок; тебе, Петро, так и быть, бери ботинки и шнурки, смотри только, чтоб ... ну да ладно, потом скажу; тебе, Зорик, убирать кровать, ну а стелить нашу постель будет Шутов. Тааак! Кому не досталось дела при дворе моего величества? Опять этот Гордеев? Ну-ка, сука битая, подойди сюда! И стал медленно поднимать куртку. Сначала показался пояс брюк, потом живот, поросший волосами и, по мере оголения, все больше выступал растянутый пузырь, начинавшийся где-то возле подбородка. Когда роба задралась, Жиров ткнул себя пальцем в брюхо: “Ты будешь гладить, с детства обожаю!” Вот и новый вождь возник на радость подданным его. Поистине неистребимо атаманство на ниве народной! Ум без куража незаметен!
– Опусти подол, подруга, вижу землю! Все наверх! Ура! – размахивая биноклем, в кубрик ворвался возбужденный Решенко. Подбежал к Жирову, облапил его и потащил на шкафут.
Жиров вскоре вернулся недовольным. Вновь открытая земля оказалась намозолившей глаза Куриной пристанью на северной стороне Севастопольской бухты. Напряжение требовало разрядки. Ага! Где этот, как его ... которого я призвал к себе?
– Гордеев, крабы б твою ...! Сказал же тебе, сука, подойди сюда! Согни коленки, ленты в зубы и ко мне бегом, как надо ... ! Преобразился человек. Видно, годами сдерживаемая страсть, наконец-то, прорвалась в таком ничтожном возвышении. Извечное стремление ломать и подавлять вырвалось наружу, завладело ещё недавно тихим парнем и теперь несло его, несло ...
Невольник сделал все, как велел господин. Выхватил из-за спины ленточки бескозырки, сунул их в рот и стал жевать. Присел, робко подогнув колени, уставил взгляд куда-то в пустоту, стал прислушиваться к тайному сигналу, ловя его по кубрику осторожными дрожащими шагами. Он удалялся в угол, открывал зачем-то рундуки, постоял возле двери, тянулся вверх, на палубу ложился и все искал, искал кого-то, нагнетая страхи непонятные. Гордеев не замечался раньше в шутовстве и потому его внезапное старание все расценили, как начало новых бед. Не то чтобы того ... подвинулся слегка, а может чувствует опять противный стук рогатой смерти, или проникли свыше голоса, предвестники судьбы. Моряки, лишенные привычной тверди под ногами, свято верят чудесам и байкам, густо пересыпанным: “Вижу, на меня наплывает ..., я за жабры хвать ... , а оно душит и голосом Петрова говорит ..., вдруг из моря прямо по курсу ..., и шлюпку нашу вдребезги ...” Гордеев с отрешенными глазами обогнул владыку, пробормотал кому-то невнятные слова, приник ушами к переборке, замер, напряженно слушая, дрожа всем телом. Затем откинул ригеля, толкнул иллюминатор и внутрь ворвался шум бушующего моря. Нашел! Приставил ухо к ревущему проёму и пальцем властно поманил вельможу. Тот подошел, сунул голову за борт, посмотрел по сторонам, получил шлепок волной и, оглушенный ревом, отпрянул назад: „Ну?”
– Что ты нукаешь, не слышишь, бóров, Шипов стонет? Смерть годка смущала: жил себе, служил, потом это ... Гордеев подвернулся и вот ... в море стонет. Жиров глянул на матроса: нет улыбки, святая кротость в лике и жалость струится из глаз. Отпевает значит Жирова. Унаследовал бачок, вот и поделился судьбой, потому к себе зовет. Такое уже было. Мертвые манят, по ночам ведут беседы, тихим шепотом влекут и уводят в мир другой, спокойный. Стонет Шипов или плачет, или нет совсем пугающих вестей, теперь уже неважно, главное, что есть надежная примета. Шипов, стоны, голоса, а вдруг не врет Гордеев? Так нежданно повезло, мог проявить себя, пошло удачное начало, Шипов, отпусти! Прозвучала команда: “Третьей вахтенной смене построиться средняя палуба правый борт”, а Жиров все сидел на рундуке, вздыхал, что-то бормотал, иногда вскакивал, делал круг по кубрику, садился снова, ерзал и вел себя беспокойно. В душу заползло сомнение, появилась неуверенность, он вдруг осознал и свою беззащитность перед завтрашним днёем и что с корабля, как и Шипов, может сойти раньше срока, не зря ведь зовет. Утром Жиров долго искал носки, не нашёл, взял другие и только к обеду вспомнил, что не выстиранные с вечера, их, возможно, утащили крысы, надел невыглаженные брюки, заправил койку, как салага, даже придержал дверь бачковому и неожиданно поздоровался с дневальным. Человек сломался! Через полгода возле Новороссийска его смыла ураганная волна за месяц до демобилизации. Морские приметы управляют судьбой.
Начинаются они еще на стапелях, где даже малое событие, умело истолкованное знатоками, приобретает зудящий мистический смысл и пророческое значение, сопровождающее корабль по жизни. Если при постройке кто-то упал, зашибся, погиб, что-то сломалось, взорвалось, утонуло; особый грянул гром, молния была ... вы видели, как выгнулась дуга ...? И в этот момент завыла собака, да кааак завыла? Сбежал кот, не согласившись ночевать; мыши перешли на борт раньше крыс; не летают воробьи, не садятся голуби, бутылка с шампанским сразу не разбилась о борт, канат не давался топору, а как шел корабль к воде: рывками, лениво, с охотой, а бурун за кормой? А кто первый ступил на палубу: не дай бог, если женщина, или рыжий, или лысый, или меченый ... и еще по сотням других тонкостей, определяют знающие люди судьбу корабля. Затем все годы отмечается день его рождения и подгоняются к нему наградные, отпускные и бытовые дела, а прожитое время становится шкалой для событий: на двадцатом году срок службы скостили до пяти лет, на двадцать третьем – до четырех, с ... по ... командиром был адмирал Угрюмов ... Корабль – это живое существо, которое рождается, живет и ..., нет, нет, всё время живет. Ужасное и не столько страшное, сколько неприятное и оскорбительное слово, вместо многоточия, моряк не произносит. Зачем напоминать ему, тому, который держит судьбы на крючке, о такой гадкой выходке.
Первая встреча с водой еще на заводе становится началом длинной цепи первых событий. Первый командир, первый аврал и тревога, первый большой сбор, подъем флага, выход в море, приписка на месте базирования и много-много других моментов, навсегда остающихся в биографии корабля и людей, отдавших ему часть своей жизни, а иногда и всю жизнь. Каждый этап отражается в сознании сотен участников, по-своему толкующих любые происшествия. Их рассказы, обросшие подробностями тех, кто сам, лично сам видел, а если кто не верит, может спросить ну хотя-бы у других годков, рождают былины, со временем превращаюшиеся в легенды, которые затем уже крошатся на многие предсказания и намеки судьбы. В дальнейшем ценность моряка и вообще степень его оморяченности, определяется тем, насколько он глубоко знает тайные приметы, всегда ли к случаю их вспоминает и сбываются ли его пророчества. Годок, слабо понимающий местный фольклор, или невпопад, не тем манером, не с тем форсом его употребляющий, теряет авторитет, отодвигаясь в корабельной соподчиненности не вверх или вниз, а как-то в бок и жизнь тогда идет-течет мимо него. Важно не только уловить примету, но еще и донести. Добиться чтобы слушали и было понятно, и приняли люди, но самое главное, чтобы сбылось! А если не повезет и пророчество зряшным окажется, надо правильно истолковать и найти причину, напустить важного тумана и коль это будет враз, так непременно то случится. Ну, а если снова мимо ...? Это узнают сразу все и вокруг прорицателя образуется едва заметная пустота, постепенно наполняемая равнодушием и пренебрежением. Поэтому слово, сказанное матросом, может его высоко поднять или низко опустить и, прежде чем сказать: ”Шипов стонет”, Гордеев сознательно поставил свою жизнь на кон. Не подтверди Жиров эту примету, и ему пришлось бы вскоре ... Неважно, как бы это случилось. А подтвердив, Жиров выжить уже не мог. И не выжил!
Приметы тайным смыслом связаны с людьми. В свое время Шипов долго подбирал рисунок на циферблат часов. Перебрал их десятки, сам пытался рисовать, просил корабельных живописцев и все не то, и все не так! Эта страсть матросов украшать часы сродни перешиванию безкозырок. Надо, чтобы часы были, как ни у кого: или фосфором горели, или прятались в чехол, или вызывали зависть волшебством картины со штурвалом и голубями, с русалками и парусами, что угодно, лишь бы не так, как у других. После долгих мучений он остановился на сюжете, предложенном ему Гордеевым: за боротом на оборванной страховочной цепи висит человек на фоне падающей на него пенистой волны. С часами Шипов не расставался, показывал всем, ходил с закатанными рукавами, гордился исключительностью рисунка и ревниво посматривал на других носителей матросской моды, чтобы не стащили идею. По этим часам его опознали на тихом Балаклавском пляже, вытащив из прибрежного прибоя почти полностью обглоданный скелет с редкой вещью на бывшей руке.
Кармическая сила заложила в душу при рождении неосознанный образ кончины и когда рисунок совпал с нареченной судьбой, человек, почувствовав комфорт, сам прикрепил к себе указующий знак, чтобы тот, кто держит души на крючке, не мог ошибиться. И таких примеров много. Вот еще один из них. В каюте лейтенанта Лопанцева висела картина, изображавшая вход фрегата с поднятыми парусами в узкий пролив, над которым, почти падая нависали огромные скалы, готовые в любой момент рухнуть на хрупкое судёнышко. Каждый раз, входя в каюту, он испытывал неуютность, давление, боль, старался даже вроде, сжаться, и прошмыгнуть под страшной глыбой. Он почти мучился, но картину снять не смел, не хватало духу, не доставало сил. Так продолжалось долго. И вот однажды в Средиземном море в непроглядную черную южную ночь он заступил на вахту дежурным по кораблю. При очередном обходе верхней палубы вдруг почувствовал тот же ужас, что исходил от картины, висевшей каюте. Не раздумывая, подчиняясь внутренней установке души, бросился в рубку, включил сирену боевой тревоги ... От рубильника его оттащили силой. Оказалось, на маленький эсминец в полной тишине без единого огня надвигался невидимой горой американский авианосец. Соотношение масс один к пятнадцати. Никаких шансов! Тот же хрупкий фрегат под скалой. Кто заранее вложил в его душу спасительную тревогу?
Приметы властно управляют судьбой. Они есть всегда, даже когда корабль уходит в море. Вот уже подняли якоря, флаг на ют перенесли, отдали швартовы и закружились пенные буруны за кормой. Могучий исполин, постепенно набирая скорость, несет себя по бухте в величавой красоте. Форштевень гордо раздвигает воду, уходит от бортов отвальная волна, сильнее вспенилась отвальные гребни от бортов. Горластые бакланы, провожая, сверху смотрят, носятся над мачтой и даже на ростры залетают. В криках слышно беспокойство, может они что-то видят, чувствуют или точно знают? Говорят же ведающие люди, что души погибших переходят в птиц и живые души их глазами видят себя с поднебесной высоты. Вот стая закружилась над шкафутом, резкие движения, с хрипом голоса, носятся над ... кранцем, снять его готовы и тем самым отогнать поганую примету. Кранцы за бортом притянут беду, что-то случится, люди, смотрите! Стая в испуге прочь улетела от черного дыма из труб – это плохо совсем, злая примета, люди, не идите в море, остановитесь! Корабль, безусловно, пойдет! Будут потери или его ждет удача, как-то сокрыто во многих других осторожных намеках: не сняты чехлы со спасательных средств, флаги на мачтах не по уставу, не закреплен выстрел у борта и свисающий линь треплет волна, якорь не держится в клюзе и болтается на длинной цепи, на палубе бегают люди, кильватерный след неровный, угрюмый ... Приметы затем отражаются в флаге. Если на месте резвится на самой вершине флагштока, значит, все люди живые и приметы не смогли проявить свою черную удаль, но бывает, что флаг опускается ниже, оставляя место на древке для траурной ленты ...
Однажды в очаровательный летний день, наполненный южным счастьем, корабль прошел через всю бухту и уже миновал боны с пришвартованным к борту шестивесельным ялом. Сигнальщики с равелина заметили непорядок, срочно передали семафор и досадную шлюпку убрали, однако, плохая примета уже состоялась. Проходило время, крейсер спокойно работал в море, выполняя программу похода, и, казалось, неоткуда ждать неприятностей. Все так удачно складывалось, что командир в поощрение стараний экипажа, разрешил в обед купание с борта. Штурманская группа перед этим изучила состояние моря: температуру воздуха и воды, высоту волн, другие тонкости, но особенно тщательно проверили наличие течения. Вода возле корабля не двигалась, течение отсутствовало вовсе, не было его! На юте выстраивалась шеренга из двадцати человек, каждый из них снимал ботинки, ставил справа от ноги, накрывал бескозыркой и, оттолкнувшись от борта, ласточкой летел в синюю волну. Вскоре за кормой весело плескалось около пятисот человек. Шутки и смех, молодое озорство и прибаутки были в самом разгаре, когда матросы, вдруг, увидели свой же корабль, спешно уходящий от них. Расстояние быстро возрастало, а начальное легкое удивление, скоро сменилось тревогой и перешло в панику. Люди рванулись вплавь за удаляющимся кораблем, но навстречу им, упруго толкая в грудь и отбрасывая назад, напирал мощный поток. Вскоре стала очевидной бессмысленность сопротивления внезапно возникшей непреодолимой силе. Пловцы, отдавшись на милость стихии, уносились в неведомую даль. Корабельные плавсредства, спешно направленные в погоню, настигли людей за горизонтом, далеко в открытом море. На сей раз обошлось без жертв. Кажется нелепым ставить в одну причинную связь забытую возле борта шлюпку и водоворот. Порознь эти события настолько маловероятные, что можно считать их невозможными. Однако в данном случае их что-то ведь объединило, коль они произошли? Может и впрямь приметы правят судьбой?
Итак, Жиров придержал дверь бачковому, вернулся в кубрик и остановился в задумчивости возле койки Шипова. Затем медленно, почти торжественно, скатал постель и велел матросу Петренко отнести для замены в баталерку – корабельный склад белья. Подошёл к Гордееву: “Давай, якорись на верхотуре, оттуда Сокур причалит на место старшины, а на рундуке пришвартуем зеленых салажат”. Однако Сокур наотрез отказался занимать койку Шипова, усматривая в этом дурную примету и не желая накликать на себя ... ну, вобщем, знаешь, понимаешь, как-то неохота, пусть будет в другой раз ..., словом, ни в какую! Перебрали всех по очереди, кто по понятиям имел право претендовать на удачно расположенную, а потому льготную койку: второй ярус, в углу, возле иллюминатора, с маленьким трапом для восхождения, но самое главное – над изголовьем отсутствовали ненавистный громкоговоритель корабельной связи и колокол боевой тревоги. Отказались все: уже, дескать, привыкли к месту, без динамика не спится, а в колокол – ну просто влюблены. Так что, извини, Жиров! Тогда сообща было решено переселить туда матроса Денина, который занимал койку сразу у входа и каждый раз, проходя мимо него, приходилось зажимать нос или ускорять шаг, спасаясь от невозможной вони. Тошнотный запах исходил от пробкового матраса, ежедневно пропитываемого мочой самого Денина. Это была его очередная попытка симулировать болезнь в надежде досрочно, но живым покинуть крейсер. До этого он безуспешно несколько месяцев маялся дизентерией, глотал пуговицу, привязанную леской к зубу, чтобы рентген засвидетельствовал туберкулез, пробовал демонстрировать припадки и стриптиз с эпилепсией, прошел этап почти безнадежного наркомана, выпивая все запасы зубного порошка, одеколона, элексира, зубных капель из местного ларька, перегоняя гуталин на самогон и глотая растворитель водостойкой краски. Корабельные врачи на него не обращали внимания, сослуживцам быстро надоел, его избегали, сторонились, отвергая, как все нездоровое. За уклонение от работ и дежурств над ним издевались, били, калечили, что приводило Денина в восторг. Постепенно вокруг него образовалась пустота, его обходили, как неустранимое зло. Так продолжалось около полутора лет и, забегая вперед сообщу, что после моченедержания он увлекся сомнамбулизмом и в одну из ночей, изображая лунатика, забрался на мачту и, свалившись с реи, разбился о палубу. Не было случая, чтобы кто-то досрочно ушёл с корабля и остался живым. Или полный срок, или парусиновый чехол с грузом.
Поддавшись общему нежеланию занимать эту, как её ... чем-то нехорошую койку, Денин тоже отказался. Тогда Жиров, брезгливо скривив физиономию, двинул его кулаком чуть пониже шеи, и пока тот был квелым, перетащил удушающие пожитки и швырнул их вместе с владельцем на несчастливую койку. И снова подтвердилась старая корабельная примета: в каждом кубрике есть место, убивающее людей. В двенадцатом кубрике это была койка Шипова, с нее в вечность уже ушли, считая Денина, пять человек. Поскольку великая миграция матросов не состоялась, Гордееву пришлось по-прежнему обитать на рундуках. По сравнению с гамаком это было, несомненно, улучшение бытовых условий, ибо уже появилась возможность лечь на живот или боком, а не только на спину. Рундук представляет собой небольшой металлический ящик, прикрепленный к палубе и накрытый крышкой. Три стоящие рядом рундука образуют удлиненную площадку, на которую укладываются матрац и пробковая подушка, накрытые простынями и одеялом. После побудки белье по особому правилу складывается, сворачивается рулоном вместе с матрацем и укладывается на третью полку-верхотуру. Средняя койка предназначается исключительно для годков или старослужащих, таких мест в кубрике мало и они находятся на пристальном учете у всего экипажа. Прежде всего она находится на уровне груди, поэтому на нее удобно взлетать, взявшись руками за верхотурную и среднюю и бросая тело вдоль палубы; на ней можно сидеть, не упираясь головой сверху, как это обычно бывает при сидении на рундуке или верхней койке; она снабжается красивыми перилами, через которые проходит прочный ремень, закрепляющий человека в шторм и предохраняющий его от падения при сильном бортовом крене. Обычные ступени роста проходят от гамака до рундука, затем верхняя койка и, наконец, средняя – мечта и зависть всех матросов. Из трех рундуков Гордееву принадлежал только один, владельцами двух других были хозяева средней и верхней коек. Поначалу сон на рундуках превращается в пытку, ввиду того, что в ящики под матрацем постоянно кто-нибудь да заглядывает. И это происходит круглосуточно, месяцами, годами. Прерывистый, дерганый сон часто приводит к болезням. Однако со временем даже такое действо настолько утрясается, что проходит незаметно для обеих сторон: спящего человека бесцеремонно откатывают, открывают крышку рундука и, повозившись там, закрывают, а матроса, если повезёт и не забудут, возвращают на место. И все же рундучники мечтают побыстрее возвыситься до верхотуры ну, а потом ... как сказочный терем за синими долами видится годковая койка.
Через несколько дней раздумий Жиров сообразил, что на пустующее место Денина следует переселить упрямого Сокура, сотрясающего ночами центральные, наиболее обжитые районы кубрика, трубным храпом со свистом и завыванием. К этому времени беспокойный Сокур уже прошел курс матросского воздействия и несколько уменьшил громкость своих рулад, но этого было еще недостаточно. Позади остались внезапные падения с койки, неожи- данное обливание забортной водой, накладывание на нос самой ... достойной портянки, поджигание бумаги между пальцами ног, но наиболее удачным оказался метод бросания ботинка с предварительным прицелом в голову. Сначала Сокур лез в драку, но после того, как осознал выгодность варианта: нет шума – нет ботинка, стал думать как уберечь себя. Сначала старался спать чутко, но проходило совсем мало времени и очередной ботинок пополнял горку обуви, скапливающейся за ночь возле его койки. Затем придумал подтягивать челюсть резиновым жгутом, держать в зубах кусок веревки, пробовал лежать на животе, укрывшись с головой одеялом, и даже с надетым противогазом. Все напрасно! И вот теперь он совершенствовал многообещающий новый метод, подсказанный ему за десять пачек сигарет сибиряком-охотником из Ханты-Мансийского округа. В доработанном виде он выглядел следующим образом. Под самыми крыльями носа на верхнюю губу накладывается тонкая нить, оба конца которой свисают с двух сторон койки и натягиваются небольшими грузиками. Пока человек лежит тихо и не храпит, нитка не ощущается и не причиняет беспокойства. Как только ударит храпёжная удаль, нос и губа приходят в движение и начинают тереться о нитку, что вызывает неудержимую щекотку и чихание. Первые результаты обнадёживают, несмотря на то, что Сокур, чихнув, ловит, как пес в цирке, подпрыгнувшую нитку и перекусывает ее, лязгнув, зубами. На восстановление покусанной охранной конструкции не хватало времени ввиду молниеносного засыпания охраняемого. Но все же воодушевленный Сокур уговорил сослуживцев повременить пока с ботинками до решающего испытания с рыбацкой леской, обтянутой проволочной спиралью. Соседи просьбу пообещали уважить, ну а пока, для чистоты эксперимента ... Целый день Сокур мыл место Денина, а Гордеев койку Сокура. Конечно же, новая обитель должна сверкать чистотой, наведенной не кем-то, а лично жильцом. Однако корабельная уборка – это не только мытье содой и мылом. Это прежде всего изучение крысо-мыше-клоповой обстановки. Койка может быть как угодно чистой, но если одна, две или три соседние, но не дружественные биологические популяции считают её своей, жизни человеку не будет. Война начнется жестокая, на изничтожение, и неизвестны случаи, чтобы победил человек. Поэтому Гордеев наследную койку снял с цепей, отсоединил все, что отделялось, отвинтил, открутил и полностью разобрал пружинную конструкцию. Затем каждую деталь в отдельности прочистил внутри и снаружи, промыл, просушил и окурил невыносимо смердящим горящим ватным жгутом. После сборки пришлось ему еще долго забивать деревянными пробками отверстия в трубчатых опорах, преграждая туда путь нахальным сожителям. Также тщательно осматривалось и обезвреживалось все околокоечное пространство. Постепенно, к вечернему чаю, адский труд был закончен, и матрос Гордеев в коечном исчислении стал на мизинец старше, заняв третью ступень бытового роста, после гамака и рундука! Хотя счастье все же омрачалось трудностью лежания боком, ибо плечо упиралось в потолок, и необходимостью слетать горизонтально палубе, а не соскакивать с койки из-за невозможности сидеть на ней. Однако, как промежуточный этап к заветной средней койке, он годился, грел душу и выделялся радостным событием в однообразной и беспросветной корабельной жизни.
Сегодня Гордеев заступал на вахту дневальным по кубрику. Уже закончилась процедура приведения себя в праздничный вид, начинающаяся с чистки ботинок до зеркального блеска, глажки черной парадной формы второго срока носки до неимоверной остроты складок, надевания свежайшего белья и венчающаяся бритьём, стрижкой и подготовкой носового платка. Но особенно важно при этом привести лицо в восторженно-счастливое состояние, чтобы на корабельном смотре вновь заступающего наряда не дать повод вахтенному офицеру потребовать не то что бы рассказать, а выдать без запинки фрагмент или всю целиком инструкцию дневальному на пяти листах, обязанности матроса, правила обращения со средствами борьбы с пожаром, водой, химическим, газовым, ядерным заражением, памятку санитару и еще около двадцати других наставлений. Малейшая остановка или недостаточно радостный вид, или не та преданность в глазах, не та выправка и молодцеватость и человек к дежурству не допускается. Он лишается этим самым удовольствия отслужить один раз в свою очередь и награждается другими дежурствами, но уже вне очереди, хотя свою вахту он тоже отстоит после того, как расскажет многочисленным начальникам все, что им нужно знать.
Кубрик представляет собой жилое помещение, по всему объему густо заполненное рундуками, койками, столами, вентиляционными шахтами, кабелями, трапами, люками и другим корабельным оснащением. Одна или несколько сторон такого жилья примыкают к бортам, поэтому оттуда может исходить угроза затопления. Другими сторонами кубрик часто граничит с машинным отделением, топливными ёмкостями или котельной установкой, угрожающими пожаром. Но особенно опасно соседство с многочисленными арсеналами, хотя в случае взрыва хотя бы одного снаряда сдетонируют сотни тысяч других снарядов, мин, бомб и ракет. Корабль до предела насыщен взрывчаткой и представляет собой красивую плавающую пороховую бочку, с поднесенным ярко пылающим смоляным факелом, который до поры до времени не соприкасается со смертоносной начинкой. Поэтому пост дневального по кубрику является центральным в обеспечении безопасности корабля, а к самому дневальному предъявляются хотя и справедливые, но очень суровые требования. В течение четырехчасовой смены ему запрещено держать руки в карманах, сидеть, облокачиваться, участвовать в сторонних разговорах, спать стоя даже с открытыми глазами, покидать кубрик без подмены хотя бы на мгновение, отвлекаться даже в мыслях, быть вялым или сонливым. За все, что происходит в помещении, отвечает дневальный.
Истекал третий час дежурства Гордеева. В штормовом море при задраенных иллюминаторах, люках и дверях кубрик напоминает парилку. Душно! Влажно! Жарко! Голубой свет ночника льётся с потолка, создавая нереальный призрачный мир, уплывающий в синеву вслед за вечно качающейся панорамой спящего жилища. Смыкаются веки, клонится голова, подгибаются колени. Всё замедленнее становится реакция на непрерывные тягуче-острые укусы, которыми наполнено зудящее тело. Сознание окатывается волнами раздирающей боли, расползающейся по коже обжигающим пожаром. Оно всецело подчинено этому чувству. Невозможно избавиться от вечного желания разодрать одежду, разодрать кожу, разодрать врага, безжалостно терзающего усталого человека. Клопы. Человеческой силы не достает для борьбы с этим бездушным врагом. Что бы ни делал матрос, его не оставляет вечно голодный паразит. Днем его активность спадает, он прячется в недоступных местах, которых на корабле великое множество, отсыпается, и готовится к новым атакам. Ночью же от него нет спасения. Откуда-то из незаметных щелей в бортовой обшивке, кабельной изоляции, из под линолеума и различных утеплителей, лавина за лавиной они, быстро передвигаясь по всему обозримому пространству, нападают на все, что содержит теплую живую кровь. Спящих они обседают так густо, что порой не видно кожи. Умеют преодолевать одеяла, простыни, одежду и неудержимо, сплошной шевелящейся массой, накатывают на свою жертву. Клопа невозможно раздавить, он прогибается, уплощается и остается невредим. Его можно смести щеткой, но только с открытых мест, что не приносит избавления, ввиду немедленного заполнения очищенной площади новыми захватчиками. Их укусы сами по себе болезненные, вызывают кровотечение с набуханием кожи и превращением пораженного места в нестерпимо зудящий, долго незаживающий струп. Измученный Гордеев решился на отчаянный шаг, сродни святотатству: он разделся на посту. Снял рубаху, тельняшку, брюки и дошел в своем отчаянии до трусов, как в коридоре промелькнула тень. Вскоре в кубрик вошел дежурный по кораблю и, увидев стража порядка, рвущего в остервенении на себе одежду, выхватил свой ТТ, спрятался за переборку и навел ствол на дневального. Ситуацию прояснил сам Гордеев, обратившись к дежурному с уставным докладом: ”Товарищ капитан-лейтенант, дневальный по двенадцатому кубрику матрос Гордеев”, и добавил с безнадежностью в голосе: “Извините, клопы заели, нет больше сил!” Дежурный, убедившись, что перед ним не очередной сумасшедший, спрятал оружие, подошел: ”Покажи! если врешь, в карцер немедленно!” Гордеев ответил: “Есть!”, подошел к ближайшей койке, отодвинул спящего матроса и отступил в сторону, предоставляя офицеру наблюдать картину бегства почти сплошной шевелящейся массы с голубого света в черную тень и красные потоки, стекающие со спины моряка на белую постель. Та же картина открылась дежурному и в других кубриках, где ночь была наполнена бормотанием и стонами истерзанных людей.
В вахтенном журнале появилась запись: “В некоторых жилых помещениях личного состава замечены насекомые, предположительно клопы”. И все! Такие отчеты делаются периодически уже десятки лет. Видимо, так было бы и дальше, если бы судьбе не было угодно распорядиться иначе. Через несколько дней в ночной тишине кубрика неожиданно раздался надрывный крик, продолжающийся даже после падения тела на палубу. Спустя минуту мимо дневального пронесся с отчаянным воплем матрос Сокур и бросился вниз по трапу. Его ноги отстучали вторую, третью ... пятую палубу и затихли. Вскоре оттуда донесся рев воды, огромным фонтаном врывающейся внутрь через отдраенный кингстон. Дневальный доложил наверх: “Пробоина, второй отсек, пятая палуба, затопление забортной водой.” Водолазы, прибывшие по тревоге, увидели картину, которую долго потом обсуждали морские чины. Раздетый до трусов матрос ступенька за ступенькой отступает по трапу, оттесняемый поднимающейся водой. Беспрерывно наклоняясь, он методично что-то со злостью втыкал в бурлящий поток, противно смеясь и злорадно восклицая: “Вот тебе, падла”. Оказалось, таким образом моряк творил самосуд над клопами, которых пригоршнями собирал со снятых брюк, рубахи, тельняшки и топил, топил, поводя вокруг безумными глазами. Кингстон закрыли, воду откачали, матроса арестовали. Корабельный врач нашел его вменяемым. Суд, заседавший на крейсере, признал моряка виновным в организации диверсии с целью затопления боевого корабля и осудил его на два года заключения с отбытием срока в дисциплинарном батальоне. Матрос в своем бесправии лишен возможности защитить себя от любого насилия, даже от произвола клопов, мышей и крыс. Он не может заработать, купить и устранить. Это не под силу и командирам, так как клопы по описи не значатся, а потому и не положено для них ни отравы, ни учета. Матроса судьба опускает в стихийно сложившуюся среду с внешне благопристойным оформлением и его выживаемость определяется умением демонстрировать восторженно-счастливое состояние независимо от глубины телесной и душевной боли. Только во сне сознание Сокура смогло пробиться через многослойное психическое подавление и, возмутившись нереальностью происходящего, стало по-своему искать путь к освобождению. Вскоре Сокур сошёл с корабля живым, но не свободным, ибо одна тяжесть была заменена другим еще более неподъемным грузом. Оставшиеся матросы вынуждены по-прежнему находиться в кубриках, где на правах хозяев проживают непобедимые клопы. Однако нечаянный подвиг Сокура возымел и положительное действие, вынудив начальство принять меры во исполнение частного определения суда. Возвратившись из похода, еще и месяца не прошло, а на корабле уже была объявлена последняя в людской истории война клопам. В течение недели жильцы были выселены со всеми пожитками на верхнюю палубу отчего она, украсившись простынными навесами, шатрами из столов и подвесными койками, стала походить на театральную сцену с массовкой из жизни переселенцев. В пустые кубрики спустились бригадные специалисты в почти водолазных костюмах, долго разливали там жидкость с нестерпимым запахом и, оставив взведенные химические бомбы, ушли, задраив кубрики по-штормовому. Двадцать дней боевые отравляющие вещества с неимоверной силой убивали все, что могло быть живым. Наконец, после ухода команды на берег, люки были отдраены, началось длительное проветривание, так и не устранившее до конца удушливую атмосферу. Вскоре добровольцы, заскучавшие по оседлой жизни, спустились в низы. Побыв там немного, выходили наверх осоловевшие, жадно хватали воздух и поминутно вытирали слезящиеся глаза. Постепенно моряки все же освоили жилище и в блаженном покое проспали одну, затем вторую и даже третью ночь. Появилась слабая надежда на окончание клопокровного кошмара. Прошло еще несколько дней, жильцы расслабились и успокоились с радостью отмечая ослабление зуда на заживающих ранах. Кубрик наполнился здоровым духом, доброжелательностью отношений, приутихли конфликты. Люди перестали бояться, начало исчезать ощущение неполноценности, возникавшее ранее от сознания того, что каждый жилец являлся не личностью, а клопокормом и клопоносцем. Благостная картина продолжалась до очередного выхода в море. В один из дней похода марсовый, срывающимся от волнения голосом, прокричал в телефонную трубку: “Мостик, мостик, правый борт, пятнадцать, полтора кабельтова, перископ!” С ходового мостика ответили сразу: “Не ори, голубь, доложи, как надо!” – “Есть! Марсовый пост, наблюдатель Петров, с правого бо- рта в пятнадцати градусах на удалении полтора кабельтова вижу перископ подводной лодки, идет с нами параллельным курсом”.
– Продолжать наблюдение!
– Есть! – Марсовый отключился. Доклад с мачты подтвердил данные акустиков. Штабные службы сообщили, что в этом районе наших лодок нет, следовательно, за крейсером идет враг, намерения которого неизвестны. Весть о смертельной опасности разнеслась по кораблю. И к моменту, когда был получен приказ уничтожить чужого в наших водах, люди были уже привычно собранные, действовали слаженно, понимая ... еще были свежими воспоминания от встречи с миной. Бомбили долго, квадрат за квадратом накрывали морскую поверхность реактивными снарядами. Со дна поднимались доски, бревна, гильзы, что угодно, только не осколки вражеской лодки. Наконец, по мере расходования бомбового запаса, в нескольких местах появились жирные пятна мазута, дающие некоторое успокоение. Однако количество этих пятен внезапно стало быстро расти и вскорости они образовали сплошную пленку, скрывающую от наблюдателей возможные приметы попадания. Корабельные гидроакустики доложили о движении лодки на глубине, являющейся предельной для обнаружения. Итак, враг жив, таится, маскируется! Его ответные действия непредсказуемы.
Напряжение экипажа возросло, ибо крейсер, находясь в учебном походе, оказался в море без должного охранения. Командование флотом направило в район боевых действий подкрепление из двух эсминцев и вертолетного звена. Через несколько часов воздушная разведка и дополнительное прослушивание глубины позволили определить наиболее безопасный коридор, по которому крейсер благополучно возвратился домой. Глубокой ночью пришвартовались на своих двенадцатых бочках. Команда, кроме вахтенных, все ещё переживая волнующие события, отошла ко сну. Однако спать пришлось недолго. Один за другим матросы покидали кубрики. Ругаясь и раздирая кожу от невыносимого зуда, они бросали матрацы на палубу и под южными звездами засыпали до утра. Те несчастные, которые остались в кубрике, были безжалостно искусаны и испачканы в собственной крови. Кубрик был вновь оккупирован полчищами еще более изголодавшихся и непомерно свирепых клопов. Жизнь в нем стала невозможной.
Клоп-охотник напал на жертву-человека в тот момент, когда она была подавлена психически и угнетена физически. Видимо, люди в ослабленном состоянии что-то излучают или формируют вокруг себя нечто такое, что подсказывает паразиту момент атаки. До тех пор пока в помещении после химической профилактики находились здоровые, спокойные и бесконфликтные жильцы, клопы не показывались, хотя были живы, голодны и пища была рядом. Это подтверждается примером гостиниц, общежитий, общих квартир, где две соседние комнаты могут существенно отличаться клопо-тактической обстановкой. Так что же получается? Клопы на корабле – это вовсе не зло, а индикатор нравственности, показатель человечности, мерило здорового духа? Чего на них пенять, если люди грызут себе подобных еще более изощренно, доводя подавляемую особь до гибели. Клопы этого себе не позволяют. Среди них принято пищу беречь, они человека насмерть не загрызают. Они лишь пользуются объедками с эмоционального стола, на котором пиршество устроили люди ... так называемые люди, доведшие себя до такой грани, что даже клоп, возвысившись в самомнении, считает их своей жертвой. Тогда получается так, что не клопов надо изводить, а переделывать человека. И наоборот: не переделав человека, избавиться от клопов не удастся никогда.
В истории также есть подтверждение такому выводу. В книгах библиотеки Ватикана, изданных в 14 – 15 веках, между страницами нашли вековое, но не вечное, успокоение большое количество клопов, пребывающих многие годы в летаргическом сне. В критические моменты жизни народов, отмеченные войнами, восстаниями, эпидемиями, подсказывающее излучение становится настолько сильным, что какая-то часть уснувших особей пробуждается, находит жертву и воскресает к бытию. Живут они пока есть поддерживающее излучение. Однако оно исчезает с установлением спокойствия и клопы снова засыпают на неопределенное время до очередного вселенского горя.
Клоп питается кровью, как и все остальное, что благочестивый человек относит к сатанинскому отродью. Но клоп является порождением нашей безнравственности, следовательно, и темные силы имеют то же происхождение. Тогда борьба с дьяволом уносится из необъятных мистических далей, приближается к человеку и направляется им на борьбу с самим собой. Дьявол и человек неразделимы, они порождают и формируют друг друга. Каков человек, таков и дьявол. Обратная формула также верна: каков дьявол, таков человек, ибо творение всегда несет на себе отражение творца.
Применительно к кораблю, эта задача до сих пор не решена и в каждом отдельном случае экипаж, неся потери, самостоятельно сражается с поразительно живучим и развитым представителем чёрных сил, посланным нам в наказание и назидание.
Вот и теперь дежурный по кораблю, увидев стекающую кровь, струпья на спине матроса и убегающих в тень паразитов, поспешил отойти от нехорошего места, оскорбляющего своим видом возвышенную поэтику морской службы. К тому же ни к чему было подвергать себя участи клопоносца и тащить беду в каюту, городскую квартиру да и вообще оскорблять свои глаза недостойным зрелищем. Тем более, что в силу своего бесправия и невозможности занять активную позицию, он никак не мог повлиять на клопов и облегчить жизнь людей, не прослыв в своем кругу этаким чудаком и умником. Для него важно, чтобы на дежурстве не произошли чрезвычайные происшествия, которые будут поставлены в вину ему лично: вскрытие корабельных арсеналов, складов и кладовых, разгерметизация люков и кингстонов, проникновение на борт посторонних, несвоевременная подача командирского катера к минной стенке, недолжное сверкание пуговиц на кителе и неоченная густота проистекающей преданности при встрече начальников. А клопы, струпья, кровь этим займется кто-нибудь когда-нибудь, а если и нет, ну что же ... так было всегда, что же здесь особенного? Вот если моряк одет не по форме? Оооо! Накатаны, отработаны манеры и слова, обороты речи, хлёсткие фразы, голос с вибрирующе-дребезжащим негодованием и обличительным вы-ражением глаз, бровей, губ, всего лица, тела, всей сущности. “Эттаа штаа таакооэ, наомеэр? Каак стоите, мааць вашу...? Паачеему непоффоррме? Ааа! Кто начальник! Доложите!” – Мичман Кореев сделал замечание за неуставное перемещение по пристроечной полосе левого полушкафута. Вдруг оратор встрепенулся, дернул плечами, отчаянно торопясь поправил фуражку, ударил два шага по палубе и звонким командирским голосом:
–Товарищ капитан третьего ранга, мичман Кореев, старшина интендантов, обучаю матроса Р-12-4 правилам движения по соответствующим частям шкафутной палубы согласно сигнальным флагам на реях, а также порядоку прижатия тела к переборкам.
–Вольно, мичман, продолжайте – и майор медицинской службы прошел дальше к носовым кубрикам, огибая ретивого.
Вина матроса состояла в том, что, пропуская старшего по званию в самом узком месте прохода, пришлось тесно прижаться к переборке. Подозрительный сверхсрочник усмотрел в этом неуважение. Дальше технология наказания отработана: он записывает объявленное замечание в корабельном журнале, матрос докладывает своему начальнику, тот сверяется с журналом и делает отметку “наказан”, а на вечерней поверке, провинившемуся матросу придется выслушать, стоя перед строем, историю прежних нарушений и меры, принятые по ним, выводы о злостном саботаже корабельной дисциплины и, наконец, получить максимум того, что отведено уставом репетующему радетелю. Нужно ответиь: “Есть, разрешите стать в строй?” – и, получив добро, стать так, чтобы не дать повод вызвать снова и возрадоваться добавке за нестроевое поведение: качнулся при повороте кругом, не та отмашка рукой, не выровнял носки, не та ухмылка ... Обжалование действий наказующих относится к фантастически искаженному мировозрению. Дежурный выслушал доклад дневального тринадцатого кубрика, с брезгливостью проследил путь отступления грызущих полчищ и скорым шагом покинул помещение. Офицеры в матросских жилищах бывают редко. Это два мира, едва соприкасающихся, мало понимающих друг друга, имеющих разные интересы и культуру. Вцелом же матрос для офицера – это некий механизм, который должен слушаться, исполнять, подчиняться и выполнять, а в остальном частоколом дисциплины его надо так обставить, чтобы оттуда ничего не было видно-слышно и не мешало жить. Случай с Гордеевым в очередной раз убедил дежурного, что без особой надобности не следует делать обход по низам, поскольку нового там не ожидается, а со всем старым успешно справятся местные божки за счет взаимного подавления, освобождающие служебное время офицеров от лишней загрузки. В результате таких рассуждений Гордеев остался без наказания, что вносило в его душу даже некоторую неуютность в связи с незавершенностью эмоционально притерпевшейся технологиии угнетения. Создавшуюся беспросветность ухудшать было некуда, поэтому он ушел в умывальник и тщательно стряхнул с одежды все подозрительное, что шевелилось и могло бы грызть, кусать, сосать. Вернулся в кубрик в три часа ночи! Конец вахте! Пришел с развода караула сменщик, принял пост, а Гордеев взял с койки одеяло, бросил на палубу и забылся тяжелым сном до побудки, уже не реагируя на беспрерывный обжигающий зуд. В шесть часов, как и многие годы до этого, раздался дребезжащий грохот звонка и сигнал: ”Команде вставать, койки убрать!”. В кубриках началась обычная утренняя суматоха. Одни заправляли постель, другие бежали умываться, третьи собирались бриться. Кто побогаче, кому помогали из дома, или служивые, сумевшие прикопить из тощего довольствия, те имели собственное зеркало, которое бережно ставили на среднюю койку и, важно надувая щеки, брились уединенно, изображая местных магнатов. Матросская беднота довольствовалась общим зеркалом малых размеров, не превышающих развернутую книгу. Около сорока человек должны глядеться в него почти одновременно и умудриться закончить бритье минуты за три – четыре. В дальнейшем умение делить малое удобство на многих желающих сразу отличает узников корабельной вольницы от людей домашнего воспитания, которые всегда, даже если ему не особенно и нужно, полностью стремятся закрыть собою зеркало и подольше удерживать любимое отражение, не смотря на снующих вокруг других претендентов. В общественном умывальнике и гальюне в это время возникает такое столпотворение, что многие отказываются от неотложных желаний и отодвигают их на более удобный момент. Иногда такие хитрецы попадают в напряженную ситуацию при неожиданных многочасовых тревогах, учениях или авралах.
В походе или тем более в шторм физзарядка не проводится, поэтому через двадцать минут по корабельной трансляции раздается: “Команде приготовиться к приборке”. И вскорости: “Команде приступить к приборке”. Весь внутренний объем крейсера распределен между членами экипажа и каждый из них свое заведование мылом, содой, ветошью, шваброй и забортной водой доводит до такого состояния, которое уже многократно определялось его начальниками как достаточное. Если же кто-то слукавил и не дотянул до черты – это обычный повод для наказания, и подходящий случай для правильно служащих показать и проявить себя на доступной теме. Далее, в семь часов “бачковым построиться, команде руки мыть!” И, наконец, “команде завтракать”. Бачковые приносят хлеб, масло, сахар и чай. Но это еще не пища. Это только исходное сырье для приготовления того, что едят корабельные люди. Прежде всего берется четвертинка буханки хлеба и обрезается со всех сторон так, чтобы остаток в точности равнялся по объему двум кускам сахара. Если это сделано, то можно считать, что большая часть работы уже позади, вскорости можно будет и перекусить. Где-где, а моряк за завтраком важничает. В остроганный мякиш он долго всматривается, уточняет размеры и наклоны граней, сравнивает свое творение с достижениями соседей, и если убеждается, что не хуже, чем у других, а может даже малость и того ... обошел не менее умелых мастеров, тогда со всей торжественностью на хлебный островок водружается сахар. Новое сооружение опять подравнивается, подправляется, выверяется и, если глаз остается довольным, венчается шедевр куском масла. Вот почти и все! Осталось только верхний пьедестал правильно расположить на среднем, уточнить общую линию с нижним и, коль все благополучно, можно приступать к наливанию чая в кружку. Неспеша! Лишнего ни в коем случае! Ровно на один глоток. Дальше делается плавное движение рукой до легкого прикосновения с триединым лакомством и сопровождение его в раскрытый рот с торжественной укладкой на язык. Затем поклажа уносится куда-то вглубь, туда же заливается чай и после нескольких жевков проглатывается. Завтрак на сегодня закончен. Из четырехлетнего списка вычеркивается дата, укорачивающая длинный перечень на один день! Пусть не на много, но все же ярче загорается заря свободы.
Сразу после уборки столов и посуды раздался сигнал боевой тревоги. Учебной. Каждый моряк умеет бегать пешком. Гордеев тоже освоил неторопливую спешку и теперь мчался шагом на боевой пост. Сотни раз преодолённый путь тем не менее всегда скрывает новые неожиданности, и вот теперь, взглянув под баркас, вспомнил последнюю встречу с Шиповым, суеверно попятился к переборке, ухватился за поручни и, перебирая руками, добрался до заветной двери. Успел! Без замечаний. Прошел к четвертому пульту: “Товарищ командир поста, матрос Гордеев по боевой тревоге прибыл”. Это был последний доклад, свидетельствовавший, что все операторы радиолокационной станции обнаружения заняли штатные места и готовы приступить к работе. От начальника – старшины первой статьи Колева – последовательно поступили приказания: включить термостат, подать накал, затем анодное напряжение и, наконец, нажать самую ответственную кнопку с надписью “высокое”. Забегали стрелки приборов, искрами возгорелись многочисленные сигнальные лампочки, зажужжали моторы и сельсины, защелкали реле и на круговых индикаторах сначала слабо проявилась, потом окрепла и побежала по чёрному экрану электронная развертка, отслеживающая вращение антенны. Пока всё шло благополучно и люди, захваченные привычным ритмом, начали успокаиваться. Скоро появится цель, тогда можно будет совсем расслабиться и размеренно отрабатывать вводные.
Где-то далеко от корабля в штормовом море болтается на плавучем якоре старая баржа, которую надо разбомбить снарядами крейсерской башни главного калибра. Уже во всех помещениях сняты зеркала и плафоны, закреплены мебель, оборудование, инвентарь, ибо все это может свалиться, разбиться, поранить или придавить от сильного толчка при залпе корабельных батарей. Уже снаряды досланы в стволы, которые пока что смотрят вдаль, за горизонт, скрывающий цель от оптических средств наблюдения. А электронные? Почему же они молчат? Где цель? Что случилось? Старшина Колев к этому моменту окончательно понял, что его приборы на этот раз цель не найдут. Что-то произошло с аппаратурой, где-то неполадка и скорее всего вызвана она отсутствием контакта. Но где он этот таинственный контакт и сколько их штук, отказавших, и где их искать, и с чего начать, и как доложить? А кто виноват и что дальше будет?
В боевой обстановке корабль, потерявший локационное зрение, обречен, поскольку современная технология нападения не оставляет шансов на жизнь. На ходовом мостике находится командование, посвятившее себя целиком морскому делу. Многие годы ступенька за ступенькой поднимались командиры к вершинам полководческого мастерства. Учились побеждать в учебных и реальных боях, защищая свою честь, вверенных людей и свободу страны. И вот наступил момент, когда все знания должны быть востребованы, обработаны и вложены в бой. Однако победа зависит уже не от них. Из командиров они превратились в заложников. Если матросы найдут отказавший контакт, отремонтируют станцию и обнаружат цель, то несмотря на промедление, еще можно предпринять отчаянную попытку осилить более расторопного врага. А если не успеют, не смогут или не захотят? Бездушная машина подавления приводит к апатии и безразличному отношению к окружающим и к себе, социальное и бытовое унижение выключает интеллект, а расходование времени на муштру сокращает или совсем исключает возможность учебы. Но как найти контакт без интеллекта, без желания, без знаний?! В который раз в критические моменты мы славим народных умельцев? Колев встал, подчеркивая этим трагичность момента, и: ”Операторам отдать крепления нижнего отсека”. Подчиненные проворно отработали приказание. Дальше последовало: “Выдвинуть отсек на ширину ладони”. И это было выполнено в точности. Старшина зашел сбоку так, чтобы его могли видеть, показал руками решительное движение и добавил словами: “Энергично дослать отсек на место!” Раздался удар, треск, звук падения и всё стихло. Аналогичное наказание понесли контакты всех других пятнадцати отсеков. Затем снова: термостат, накал, анодное, высокое, но результат остался неизменным. Станция по-прежнему не работала, несмотря на то, что примененная методика устранения неисправностей ранее всегда давала положительный результат. Народные приемы, утяжелённые хваткой дровосека, видимо, не всегда применимы к деликатно организованным электронным приборам. На этот раз матросы захотели, но не смогли, не хватило грамотности. Все они с отличной строевой выправкой, правильно бачкуют и приветствуют старших, чтят традиции и дисциплину и еще многое другое умеют и могут. Однако этого оказалось мало для выполнения главного предназначения: победить в бою. Помимо всего перечисленного нужны еще знания, навыки и здоровый дух. Но всё, как пар в свисток, ушло в муштру.
Потерянное зрение восстановить не удалось и в реальном бою к этому времени уже давно исчезли бы круги от водоворота, провожающего крейсер в пучину морскую вместе с угнетенными и угнетателями. В учебном же бою это не только не смерть, а удачный повод выдать неожиданную вводную и более широко проверить выучку экипажа. Командир корабля, обращаясь к старшему помощнику, приказывает: “Товарищ капитан второго ранга, срочно внесите в регламент учений новую нештатную ситуацию: выход из строя электронных средств обнаружения и наведения!”
У старпома имеется только одна возможность решения потешной задачи: установить на барже радиомаяк. Безусловно, если бы это был подлинный враг, то такие разговоры могли бы проводиться только с рыбами на дне, а с баржей можно и ... покомандирствовать! Но как доставить маяк по штормовому морю? Парадный катер – несерьезная игрушка, практически непригодная для движения даже в трех или четырехбалльный шторм, малый и большой баркасы с мотором или веслами также не подходят в силу своей неуклюжести, низкобортности и незащищенности от захлеста волны. Остается вечный морской труженик – шестивесельный ял. Если с него снять парусное вооружение, двух баковых гребцов приспособить ведрами беспрерывно вычерпывать воду, а рулевым назначить легковеса, то какие-то шансы появятся. В случае опрокидывания шлюпка не тонет, люди могут держаться за бортовые спасательные фалы и, как-то силясь и загребая веслами, возможно, когда-нибудь, куда-нибудь ... вполне возможно. При условии, что раньше не замерзнут, ибо в шторм из глубины поднимается весьма холодная вода, в которой трудно продержаться долго даже в тропических широтах и ветер сильно холодит до окоченения!
В бой всегда посылают лучших и сражение, выигранное ценой их жизней, приводит к тому, что победой пользуются другие, в чем-то уже худшие, поскольку от них ушли лучшие. Каждая война приводит к отстрелу самого достойного, что ко времени создала природа, потому любой конфликт ухудшает породу человеческую за счет невозвратного изымания более совершенных особей. Так и сейчас уверенный голос старпома, проистекающий из динамиков, объявил: “Призовым шлюпкам РТС и боцманской службы построиться средняя палуба правый борт, надеть спасательные пояса!”. Вот так! Зачем экономить ничьих людей? Призовых, лучших, за борт, в кипящее море, на авось ..., вернее – на смерть.
Итак, решительность и матросская смекалка, проявленные при восстановлении станции, не принесли ожидаемого результата. Между старшиной Колевым, боевым информационным постом и командной рубкой начали циркулировать вопросы, требования, приказания, угрозы и крепкие обоснования с народным мотивом, однако, цели как не было, так и нет. Наконец, произошло редчайшее событие: на боевой пост прибыли начальник РТС и его заместители. Матросы вскочили и тут же шлепнулись снова в кресла, поскольку в порыве рвения не успели отстегнуть штормовые крепления. Пока они возились, проснулся Гордеев, пользовавшийся каждой возможностью добавить хотя бы немного забытья к бессонной ночи. Еще мгновение и он вместе со всеми стоя, с развернутыми в сторону офицеров плечами и уважительно устремленными на них глазами, приветствовал начальников немым изливанием почтительности. Колев же, отпечатав на палубе три положенных шага, взметнул руку к берету и почти счастливым голосом: “Товарищ капитан третьего ранга, личный состав боевого поста номер двенадцать занимается устранением неисправностей материальной части!” Все! С последними звуками доклада инициатива в принятии решения передается начальнику РТС. Но какая инициатива? Какое решение, если командир, по сути, впервые видит людей, от которых зависит теперь уже и его судьба и участь корабля вместе с сотней других офицеров-строевиков, а не офицеров-профессионалов в своем деле, как требует того логика боя. Однако каптри нашелся: “Доложите о проделанных мероприятиях!” – “Есть, доложить о проделанных мероприятиях! Нами проделаны мероприятия, то есть, следующие мероприятия согласно боевой инструкции мероприятий и другие особые мероприятия по устранению сбоев станции и мероприятия по ремонтированию контактов, а так же отдельные мероприятия по устранению неисправностей, командир поста старшина первой статьи Колев”. Переборки поста почти полностью были завешены аккуратными рамками, окаймляющими тексты, инструкции, положения на все случаи жизни. На все, кроме только что возникшего, поэтому нет никакой возможности уличить старшину в невыполнении, нарушении, уклонении ... А стоит красиво: носки ботинок разведены на ширину приклада, прямые ноги, грудь в меру подана вперед, уставной изгиб руки, пальцы поднесены к берету, глаза – не придерешься. Прекрасен старшина. Вот только цели нет и корабль на дне! А старшина великолепен.
– Призовым шлюпкам РТС и ... Не ожидал Гордеев, что вот так буднично закончится жизнь. Хотя может быть какой-то шанс ещё ... пока живой брезжит надежда, но ... нет, шанса нет!
– Товарищ капитан третьего ранга, разрешите обратиться к матросу Бойко? И, не ожидая командирского “добро”, продолжал:
– Юра, в рундуке адрес матери, напишешь всё подробно, я обещал ей, вещи завещаю тебе, раздашь сам, Жирову не доверяй. Встал, пожал руки всем, похлопал по плечу каждого и к каптри:
– Разрешите идти? – Идите!
Захлопнулась дверь рубки, лязгнули ригеля и Гордеев остался один на фоне бушующего моря. Постоял, проверил спасательный пояс и побрел, неспеша, на место построения. С его прибытием все оказались в сборе. Четырнадцать человек. Два экипажа двух шлюпок. Каждую из них возглавлял лейтенант с подчиненными ему шестью гребцами. В строю стояли старшины и матросы в рабочей летней одежде, перетянутые пробковыми поясами, и без какого-либо жизнеобеспечения. Действительно! Зачем козе баян? Краткий инструктаж, напоминание о верности долгу, о доблести и ...
Равняйсь! Смирно! Направо! На ростры шагом марш! Строй качнулся и, ловя уходящую палубу, направился к ростровым кран-балкам. Уже без команд заняли свои места, безразлично поглядывая за борт и примериваясь какая из очередных волн захлестнет наверх, на высоту шести метров и достанет днища спускаемой шлюпки. Это ответственный момент для матросов, вращающих лебедку. Нужно дождаться шлепка волны снизу и быстро опустить шлюпку вслед за уходящей водой, чтобы вверх взлететь уже на волне и тем самым избежать удара. Это не всегда получается, ибо возле борта волна идет ломаная, беспорядочная и уследить за ней трудно. К тому же лебедка не позволяет управлять скоростью спуска. Но сноровка людей, приноровившихся к капризам моря, спасает там, где не дотягивают несовершенные механизмы. После нескольких чувствительных толчков шлюпка коснулась воды, гребцы сначала руками, затем веслами энергично оттолкнулись от корабля и свободный полет начался.
Весло на ветру – тот же парус. Его задувает, сносит и вырывает свирепая сила и чтобы удержать его в руках необходимо умение. Весло даже в спокойной воде не желает погружаться или не хочет всплывать, если ушло вглубь, или норовит стать ребром и выпрыгнуть наверх где-то впереди или сзади гребца. Если действуют одновременно ветер и волна с пенными загибами, с кипением и захлестом, то управление веслом является тонким мало воспетым искусством. А слаженная музыка оркестра из шести весел на фоне ревущей штормовой стихии – это тот накал страстей, который напрасно ищут музыканты в уюте оперных залов. Дирижирует инструментами в шлюпке левый загребной, самый сильный, ловкий и умелый моряк, способный длительное время задавать темп и ритмику движений несмотря на всевозможные мешающие факторы. Он располагается на первой банке слева, впереди него только командир шлюпки, который не вмешивается в тонкую работу запевалы. Он может предупредить его о возможном изменении взятого темпа и тогда загребной самостоятельно подойдет к нему, не срывая дыхание, сердцебиение и напряжение мышц. И только в экстренных случаях, связанных с особой опасностью, командир, тогда уже не считаясь с физиологическим срывом, отдает команду, обязательную к выполнению. С действиями левого загребного согласует свои движения правый загребной, задающий рабочую ритмику правому борту шлюпки. В целом же все семь человек представляют собой единый слаженный организм, где практически не используются слова, а понимание достигается на уровне ощущений и взглядов. Не все люди пригодны для работы в шлюпочной команде. Коллектив отбирается долго и поэтапно. Придирчиво оценивается каждый претендент, от которого требуются не только недюжинные физические и волевые качества, но еще и быстрый подвижный ум, позволяющий безошибочно отрабатывать постоянно изменяющиеся ветровую и водную стихии.
Застучали уключины, весла взметнулись и упруго легли на волну. Командир, вдохнув и осмотревшись: “Правый борт – на воду, левый – табань!” Шлюпка, разворачиваясь, стала выходить на длинные накаты, беспрерывно и враждебно налетавшие на низкие борта легкого судёнышка. Начался поиск подходящего галса. Предпринималась попытка за попыткой лечь на свой курс девять градусов на северо-восток. И каждый раз встречный ветер поднимал носовую часть, подставляя ее прямой волне и вода обрушивалась внутрь, заполняя объём так, что всплывали нижние мостки-рыбины. Как и предполагалось, два человека едва справлялись с водой, которая со всех сторон непрерывными струями, брызгами и потоками неслась и неслась, заливала и наполняла и не было края воде ни сверху, ни сбоку, ни снизу. Попробовали уйти левее курса – ещё хуже. Отвернули правее – борта заскользили по низу нависшей громады, но вскоре вершина ее надломилась и рухнула сверху тяжелой лавиной, наполнив борта почти до краев. Уже вчетвером работают люди, и что за откачка ведром при такой-то щедрости моря? Рыскает шлюпка, ищет дорогу, пробует приспособиться к волне и нет намека на удачу. Неумолимая стихия катит вздыбленные воды, ураганный ветер срывает пену и швыряет вместе с брызгами на смельчаков, у которых отвага стала вытесняться усталостью, а стремление выжить подернулось налетом безисходности и безразличия. Командир, накрывшись шторм-накидкой, вызвал по рации крейсер, доложил обстановку. Недолго шипящие наушники встрепенулись и донесли через гудящее пространство короткий приговор: “Приказ выполнить к тринадцати ноль-ноль” – щелчок и наступила тишина. Осталось три часа двадцать шесть минут. За истекшие чуть более двух часов шлюпки одолели около трех миль, так что иногда с вершины пенного утеса вдалеке всё еще было различимо пятно корабля. Впереди осталось непройденным расстояние примерно в десять раз большее. При таком темпе понадобится почти тридцать часов. А люди уже стали замер- зать, посинела кожа, плохо стали слушаться пальцы, все труднее сжимать рукоять весла, подкрадывалась знакомая истерическая весёлость. Тупик. Сейчас, пожалуй, не хватит сил и обратно вернуться. Холодная вода, северный ветер, высокая чорная волна и ... покинутость, брошенность, выброшенность.
Униженным не подняться до героев. Выбор невелик. Вперед бессмысленно, назад ... еще более бессмысленно. Значит вниз? Если остаться в шлюпке, значит сражаться с двумя смертельными врагами: ветром и холодом, если уйти в воду – недруг будет один: холод. Но самому затопить свою шлюпку? Каждую минуту судьба вынуждает человека пересматривать свои нравственные критерии и в борьбе с самим собой рождать новое понимание бытия, вооружившись которым приходится вечно бросаться в погоню за непрерывно ускользающей действительностью. А она такая, что шлюпку и топить-то не пришлось. Чуть замешкался и очередная волна уже накрыла гребцов, придавила собой и стала играть человеками, как резвое дитя надоевшей игрушкой. Рация утонула, берет и ботинки потеряны давно, только мокрые брюки и распашонка-куртка отделяют живое тело от мертвой стихии. Никаких припасов, никаких надежд. В остановившемся времени четырнадцать человек с трудом цепляясь за скользкие леера, отдались на волю случая. Потекли длинные часы, на протяжении которых люди даже приноровились к волне, уже знали когда нужно несколько поднырнуть, затаить дыхание, или можно чуть нависнуть на планширь ныряющей шлюпки и хоть немного отдохнуть. Пробовали шутить, но слова ветер срывал с губ, загонял их в горло вместе с водой и долго потом слышались хрипы и кашель несостоявшегося весельчака. На несколько минут размытым серым конусом проблеснуло солнце. По приметам должно быть часов около шестнадцати. Значит в воде они уже семь часов. Все труднее даются движения. Холодно. Кажется холод идет изнутри, вырывается наружу и остужает все вокруг. Останавливается мысль, теряется пространство. Море не утихает. Наступил ранний южный вечер, быстро переходящий в невыразимо чёрную ночь. Темнота добавила к бездне снизу такую же бездну сверху, и человек потерялся в огромной природе, царственно взирающей в своем безразличии на страдания ею же порожденных существ. Сначала обреченные пытались хоть изредка выкрикивать слова, окликать по имени, отзываться, но чем дальше в ночь, тем труднее давалось каждое усилие и неясно было порой, что это всё-таки происходит? Нужно было дёрнуться, рвануться, ощутить упругость страховочного линя и почувствовать себя ещё живым. Но дергания становились все реже, появились свободные места в провисающих леерных петлях, и тела, и руки, сжимавшие канат, забавляясь, трепала безразличная волна. На рассудок людей снизошел спасительный туман. Они перестали чувствовать, бояться, понимать и продолжали держаться, подчиняясь неосознанным первобытным инстинктам. Только на рассвете в этих нехоженых водах невесть откуда появился сухогруз, идущий в Одессу. На борт были подняты девять человек. Двое скончались уже в корабельном лазарете. Остальных моряков в безнадежном состоянии доставили в госпиталь. И снова Гордеев на носилках. Холодно. Боже, какой здесь холод?! Но почему люди в легких одеждах? Носильщики в майках? Куда? Зачем? А где ребя ...
Госпиталь жил своей нормальной жизнью. Сюда постоянно прибывали больные, раненые и ... на экспертизу, ибо мирное время не значит безопасное. Вот только что привезли моряков, судя по одежде, вроде наши, черноморские, но ни бумажки, ни документов. Тааак! Р-12-4! Ясно: радиотехническая служба, двенадцатый пост. Где может быть так много радиопостов? На тральщике, сторожевике, на эсминце? Врядли! Значит крейсер! Это проще, ибо их всего-то три штуки. Связались, доложили, уточнили. Оказалось: не осужденные, не беглецы, не дезертиры, а в море находились на законном основании. Значит, говорите, шевелятся, надо же? Ну, ну! Пусть оклемаются! Будем, посмотрим, разберемся, невыполнение приказа, срыв боевой задачи ... уклонение ... саботаж ...
В палату зашел грузный детина в халате, забрызганном кровью. Бесцеремонно, как вещь, осмотрел матроса, катанул к стенке, вернул на место, согнул руку, другую, ноги, покачал его безвольной головой, схватил за волосы, усадил и, не услышав стонов, крика, припечатал тело к кровати. Все! Не интересный случай. Резать, зашивать, удалять нечего! Не его пациент! И хирург, недовольно сопя, скрылся за дверью. Не нашли своих симптомов и другие врачи, заглядывающие иногда к совсем тихим морякам. лежат себе, и пусть лежат. Мерзнут? Как это в такую жару? Не имеют права! Лето в зените, сорок в тени, а им холодно, морозит? Симулянты! Служить надоело, вот мы их сейчас! К вечеру, мягко отстранив штору, плавною походкой вошел улыбчивый добряк. Ну-с, милые мои, как мы себя чувствуем? И блестящий молоток поплыл от правого к левому плечу, взлетел ко лбу и напряженно заскользил к ногам. Недобрый крест возлег на человека. Казенная жизнь моряка – это сплошные комиссии, осмотры, остукивание, ос- матривание, опрыскивание, прививание, укалывание, высовывание, показывание ... Многочисленные ...певты: физио-, тера-, остео,- церебро-, невро-, вегето-, кардио- бесконечно ощупывают, остукивают, мнут, взвешивают на ладони, приседают, наклоняют, вставают ... И со всем этим, постепенно пообвыкнув, можно смириться, кроме психо! Психотерапевт! Психопевт! Добрейшие, ласковые люди с нежными пальчиками и поющей речью. Певты! Их песня стоит жизни. Можно сорваться с мачты или реи и остаться невредимым, уйти от осколка и ножа, выплыть в море и не сгореть в огне, но от певчих психушек спасения нет. Любой стон, возглас, слово подтверждают диагноз, поставленный начальством. И тем более не бывает фразы, которую наученный ловкач не сумел бы истолковать так, как надо тому, кто послал его.
Гордеев даже в сумеречном состоянии понял ситуацию, потому старался дышать ровно, лежать тихо, не реагировать на свет и опасный молоток. Певт по очереди обошел всех. Семь раз ласковые речи нависали над лежащими людьми. Никто не кричал, не дергался, не бредил, и безмолвие нарушалось только шелестевшей занавеской на окне. Проходили дни, сменялись ночи, спасенных не лечили, ибо с таким переохлаждением человек выжить не может: подождем, пусть сами ... вынесем и всего забот. Настал момент, когда в остывающем теле стало зябко душе. Она засомневалась уйти ей и навсегда покинуть Землю или остаться и продолжить прежнее начало. Но где утопленнику взять силы и преломить судьбу? Что согреет стынущее сердце? Нет тепла в безразличном лазарете. Нужная сила проносится мимо и для одного выбор, похоже, уже состоялся. Закрыли глаза, натянули простынь, загасили свет у изголовья. Уложили на тележку, подобрали упавшие руки, увезли. Некому было проститься с матросом. Прими, Создатель, безгрешную душу и воздай пославшим его ...
Вскоре в палату вошла женщина. Свернула белье, осмотрелась: койки, больные ... и всё? А цветы? Почему нет цветов? Летом букеты везде, они благоухают, лечат, поднимают ... Не тронута еда, рóбы вместо пижам. Едва тёплый лоб. Повернула одного, второго ..., кажется, живые! И проснулся в ней фронтовой настрой. По своему рецепту смешала травы на спирту, добавила медовых ароматов и велела практикантке напоить измученных людей. Показала все ей, рассказала. Объяснила, как заставить разжать губы, высунуть язык, как чуть-чуть лекарства зачерпнуть и по каплям, потихоньку с ложки неспеша влить живительную влагу в холодеющее тело. Девушка вошла в палату. Перед ней, почти что не дыша, лежит пластом какой-то Р-12-4. С него и начала! Наклонила голову, придавила подбородок и в раскрытый рот стряхнула с ложки несколько росинок. Затем тому, кто лежал рядом, и его соседу, и всем остальным. Передохнув, снова принялась за Р-12-4 и в том же порядке закончила круг. Каплю за каплей раздавала сестричка живое тепло. Так, сменяя друг друга, девушка и фронтовичка день за днем вливали жизнь в стынущие тела. Вот дрогнули веки, чуть ожило лицо, шевельнулась рука. Нужная сила согревает людей. И однажды практикантка, углубившись вся в работу, ощутила все же теплый лучик на коленке. Согревая девичью красу, лучик сдвинулся, пополз, перешел извилинку на коже, пробежался по ноге, задержался в кружевах тонких трусиков, осветил живот, обогнул, лаская, груди и замер на губах. Послышалось: “Ой!” – запахнулась пола, щелкнула кнопка на блузке, глаза загорелись победой и звонкое: “Тетя Лида, ожили, скорее сюда!” – разнеслось по палате. Этого момента умная женщина ждала давно. Если утопленник, едва открыв глаза, уставился на кружева, значит судьба преломилась в сторону жизни. Душа возвращается в тело. Скоро наполнит его новою силой, возродит к бытию и пойдет оно по планете Страданий навстречу другим превратностям и горестям. И так до тех пор пока, воплощаясь снова и снова, наберет полную меру. Затем простится с Землей и улетит в другие миры, в вечном полете познавая Творца.
В очередной раз подтвердились наблюдения фронтовой медсестры Лидии Матвеевны. Она давно заметила, что мужчины быстрее выздоравливают, если рядом находится молодая девушка. Раны меньше гноятся, не так сильно зудят, заживают без шрамов, восстанавливается прежний цвет нарастающей ткани, в палате устанавливается здоровый дух, особым образом излечивающий телесные и душевные недуги. Видимо, молодое девичье тело по мере подготовки к материнству начинает все больше излучать живительную силу, наполнять ею пространство вокруг себя и благотворно воздействовать на все, что нуждается в помощи. Женское начало меняет свойства окружающего мира, превращая бездушную материю в одушевляющую, способную принять и взлелеять новую жизнь. Безнадежные люди, от которых отказались ортодоксы, попав в область обитания девушки, были согреты ее благостью и стали воскресать в её живительных лучах. Вскоре они могли уже прикоснуться к твердой пище, начинали понемногу есть и крепнуть. Первое околокроватное пешее восхождение превратилось во всепалатное торжество с тостами, поцелуями и цветами. Однако тело в морском просторе набрало так много холода и он проник настолько глубоко, что теперь, по мере восстановления функций внутренних органов, холод, уходя из тела, начал разрушать его, взрываясь многими воспалениями и чирьями. Появилась нестерпимая боль во всём и везде, кожа превратилась в сплошной нарыв, а впалую грудь разрывал нестерпимый кашель. Началась новая борьба за спасение людей от внутрен него отравления, истекающего от собственных очагов разложения. Палата превратилась в лабораторию, где непрерывно смешивались, заваривались, настаивались и процеживались густо заправленные травы. Бедолагам приходилось принимать их по строгому графику, под шутливым контролем трудолюбивых женщин. И снова потекли дни за днями, наполненные заботой, работой и радостями хотя и малых, но побед. Подопечные со временем привыкли к необычному запаху лекарств, отдающих свежей мочой, но уверовав в своих спасительниц, принимали дозы сначала безропотно, потом с надеждой и, наконец, с уверенностью в скором выздоровлении. На исходе был второй месяц пребывания моряков в лазарете. Однажды с балкона начальственного кабинета увидели странных людей, медленно передвигающихся дорожками сада в сопровождении двух медсестер. Одну из них, уборщицу Лидию Матвеевну, узнали сразу, выразили удивление по поводу того, что она занимается не своим делом, попробовали ее пристыдить, прикрикнуть и отправить куда-то ... на свое место. Другая – не наша, не лазаретовская, приказали проводить до ворот, дабы посторонние не нарушали тонко продуманный режим лечения наших больных. А кто эти, в робах? Почему не по больничной форме? Откуда? Кто разрешил? На каком основании? Это что, не наши? Начальника отделения ко мне! К главному врачу, соблюдая принятый этикет, зашел лейтенант: “Слушаю Вас, Самуил Абрамович!”
– Посмотрите, голубчик, в окно, что это по вашему такое?
–Это крейсерские, законно ... в шторм ... переохлаждение, несовместимое с жизнью ... отказаться не мог: доставил комендантский наряд ... лежали ... естественная убыль ... пока один ... а эти, ну они, вообщем непонятно как, но Лидия Матвеевна примитивными методами, далекими от современной медицинской науки ... и вот: уже ходят несмотря на ... несовместимость с медициной ...
– Пытались выяснить рецептуру, узнать подход?
– Пришлось выделить им палату в моем отделении, заходил по долгу службы, к беседам не расположены, а то, что можно было наблюдать, показывает невысокий уровень деревенских повитух, использующих, по их понятиям, искривление пространства за счет внесения в него жизненесущил начал.
– Что это за чепуха такая? Чьи труды? Кто одобрил? По каким методикам? Кому ещё об этом известно? – В науке такой подход не описан, скорее всего это доморощенное шаманство, направленное на дискредитацию впечатляющих достижений материалистического толкования болезни, как объективной реальности, потому нет и методик воздействия.
– Примитивные методы, повитухи, шаманство, дискредитация, охлаждение не совместимое с жизнью ... много ума ... за кадром, а они, по всему видно, уже совместили себя с жизнью, они уже идут, и дальше пойдут мимо вас, лейтенант, и мимо меня, полковника; мы хорошо знаем, что с чем не совместимо, как бы ещё узнать, что следует сделать для совмещения и возвращения людей к здоровью именем медицины, а не вопреки ей.
– Прошу вас, Борис Семенович, пригласите Лидию Матвеевну и зайдите вместе с нею: опыт следует применить!
Вскоре в кабинет вошла женщина, у которой все было вмеру: прическа, лицо, халат, босоножки, но именно эта обычность заставляла приглядеться внимательней и заметить спокойное достоинство, воздействующее умиротворяюще на окружающих. Главврач предложил ей стул, сам расположился напротив.
–Позвольте, Лидия Матвеевна, узнать ваше мнение о реабилитации крайнепереохлажденных больных и, если можно, о сути вашей методики. Такой диагноз у нас частое явление. Но выздоровление наблюдаем впервые. Остальные пациеты погибали. Каждый бой оставляет на траве много лежащих людей. Кто шевелится, с тем ясно: пока живой. Перевяжут и, если может двигаться, ползет или ждет помощи. А кто без признаков? Ранен, без сознания или убит? Кому первому подать надежду? Сначала было много ошибок. Напрасно рискуя собой, вытаскивала мертвых. Со временем пришло прозрение. Излучает каждый человек. Нужно раскрыть свою душу, уловить сигнал, осознать его, а затем, поработав над ним, отправить обратно, поручив ему сделать, поправить, убрать ... Так можно приглушить шоковую боль, подтолкнуть затихающее сердце, ускорить поток крови в замерзающих ногах или притушить рассудок, спасая его от ненужного надрыва. Вот и сейчас: тот же фронтовой случай.
–А как кривится пространство, о котором говорил лейтенант?
–Давно замечены места, где раны не заживают. Как ни лечили, результата нет. Нужно было что-то делать. Стали пробовать разные приемы: вносили иконы, травы, животных, картины, но пользы получали мало. Попытки, не приносящие успеха, стали постепенно стихать. Это не понравилось раненому, чья койка стояла слева в углу: двигали, таскали, а теперь кровать покосилась. Надо выровнять, что-то под ножку подставить, иначе несет меня вниз, расшибусь и так весь в бинтах. Пришла медсестра, стала рядом, а раненый к ней: “Спасибо, сестрица, так лучше, подставка сравняла постель, теперь не тянет в дальний угол, можно ровно лежать!” – “Но я еще не успела исправить наклон, вот смотрю на кровать, стоит, как прежде, ровнехонько и незачем ставить под койку опору, иначе она-то и перекосит её”.
– Ну коль так, значит так, и на том спасибо.
Девушка ушла. Но вскоре раненый снова посылает за ней.
– Неладно сестрица, не балуй над нами, падает угол и меня за
собою уносит.
– Покажи, дядя, какой угол, этот или тот, а может здесь?
пошутить решил? Много же вас, не до веселья мне.
И поспешила за дверь.
Так продолжалось долго. Придет – кровать не падает, уйдет – падает. На то же место положили другого раненого. Ситуация не изменилась. Тогда стали приглашать по очереди всех сестер: падает. И так до тех пор пока сообразили, что угол выравнивается, если рядом находится молодая девушка со сказочным ликом: с чистым сердцем, светлой душой и развитым материнским началом.
– Можно ли узнать, Лидия Матвеевна, почему ваши лекарства имеют привкус мочи?
–Болезнь искривляет пространство вокруг больного. Если внутрь искривленной области внести жизнетворящий объект, пространство выровняется, а введенные лекарства разойдутся по телу равномерно, подчиняясь току крови. Чтобы сосредоточить их в нужном месте, применяется собственная жидкость, действующая вроде живой воды, заменяющей элексир.
– Усвоят ли ваши знания другие желающие?
– В фронтовом госпитале эту методику применял весь персонал. Результаты отличались, но каждый старался, учился, искал. Кто хотел, у того получалось. Однако для успешного применения такого подхода нужна новая конструкция лечащего человека с другим пониманием болезни, выходящим за рамки материалистического толкования. Нужно более широкое мировоззрение. Беседа продолжалась долго. Оказалось, что Лидию Матвеевну в самом начале войны лишили диплома врача за расхождения с официальной медициной в понимании роли психического при становлении физиологического. На фронте она была окопной санитаркой, лечащей, исцеляющей медсестрой, а теперь – дальше уборщицы ... Без неё Гордеев и его товарищи уже давно пополнили бы и без того длинный список военнослужащих, ушедших из жизни, вследствие естественной убыли ничьих людей при выполнении почетной обязанности ... долга ... Лидия Матвеевна в жизни спасенных заняла особое место, о чем будет другой рассказ, медсестра вышла замуж за Рутова Сергея, превратилась в Лилию Савельевну и стала для бывших подопечных не медсестрой, а сестрой. В госпитале стараниями Самуила Абрамовича создана лаборатория психогенной терапии, которую возглавила Лидия Матвеевна, восстановленная в своих правах, а Борис Семенович, оказавшийся способным учёным, принял экспериментальные исследования и клиническую практику. Медицина – это в последнюю очередь скальпель.
Почти счастливый конец, если не считать восьми человек погибших и тяжелые страдания выживших. Вот уж воистину, не бывает чисто отрицательных явлений, ибо какой-то своей стороной они дают положительный результат, который, развиваясь дальше, на том же основании помимо пользы приносит и вред. Слабая утеха, если малая выгода получается большими потерями. Но пока другого не дано. Видимо, не скоро еще наступит пора, когда общество станет заинтересованным в рациональном использовании и расходовании людского потенциала.
Спустя два месяца моряки окрепли и преобразились. Из местных запасов подобрали обувь, белье, приоделись и пришел, наконец, день расставания. Пожали руки персоналу, подбодрили больных и после напутственного “ни шприца, ни скальпеля” вместе с Лидией Матвеевной и Лилей вышли во двор. Трагедия надолго, на всю жизнь сплотила двух женщин и шестерых мужчин, поэтому день выписки в дальнейшем отмечали, как праздник вторичного рождения. И сейчас они не расставались, просто временно будут жить в разных местах. В машине “скорой помощи” добрались до минной стенки, передали семафор на крейсер и снова баркас, ажурный трап, запись в вахтенном журнале и переход по таким знакомым коридорам к своему кубрику №12. Из семи человек, совсем недавно ушедших отсюда, возвратились только двое: Гордеев и Рутов. К этому времени ещё помнили их, но уже говорили, были, дескать, такие, ушли на задание, там что-то случилось, вобщем, пока не вернулись. А коль нет человека, койка ему не нужна, ее занял другой претендент, и обед ни к чему: из довольствия тоже долой. Но слух всё же прошел, что кое-кто выжил, потому вещи остались на месте. Бойко не стал торопиться и сообщать домой неприятную весть. Теперь был доволен собой.
В кубрике стало просторнее. Даже появились свободные средние койки, оставленные демобилизованными моряками, закончившими свой пятый корабельный год. Панченко великодушно разрешил живучим матросам занять две средние койки второго яруса, и Гордееву снова пришлось отвоевывать ее у местных грызуще-сосущих охотников. В коечном исчислении благодаря последним событиям он поднялся на вершину бытового комфорта. Служащие по четвертому году неожиданно для себя и своих соседей вдруг оказались годками. Заветная черта наступила для них значительно раньше, всвязи с сокращением срока службы на один год. Началось вертикальное движение по линиям должностей, воинских званий и лидерства. Ситуация осложнялась отсутствием молодых, которые могли бы занять самый низкий уровень в матросской соподчиненности и обеспечить наполнение свиты многочисленных выдвиженцев. Корабельная масса снова погрузилась в длительный период перераспределения устоявшихся ранее взаимоотношений.
К Гордееву и Рутову сослуживцы относились настороженно, поскольку неясна была реакция начальства на их поведение в море. Если многие погибли, то почему спаслись они? Им положено было умереть в госпитале, а они выжили, в чем здесь дело? По этому поводу велось дознание корабельными и штабными специалистами. Многократные запросы в госпиталь, на сухогруз, индивидуальные и совместные расспросы, допросы, протоколы, объяснительные быстро толстили объемистую папку. Вскоре выяснилось, что в действиях моряков не было заранее спланированного умысла, преступной халатности или сознательного уклонения от выполнения приказа, поэтому угроза суда с очевидными последствиями отпала. Тогда встал вопрос о высоте их подвига, или геройства, или мужества, или проявленной стойкости, или мобилизации волевых качеств, или ... Поразмыслив и тщательно взвесив объективные факторы, командование решило, что в данном случае со всей очевидностью, явно прослеживается и заметно даже невооруженным глазом инициативное стремление сознательных военнослужащих к возможно более полному и своевременному выполнению поставленной задачи в несколько осложненных погодных условиях. А раз так, то им полагается поощрение. Как передовик боевой и политической подготовки, перед строем за проявленную выдержку Гордеев получил максимум того, что щедрый корабельный устав позволяет старшине команды: два внеочередных отпуска на берег! И на том спасибо! Могли бы отпустить ... на несколько лет! Одновременно с этим произошли изменения в руководстве крейсера: были назначены новый командир корабля, начальник РТС и его заместитель. Рядовым не дано знать причины таких кадровых перемещений.
Первая черноморская награда Гордеева неожиданно привела к комичной ситуации: как отпустить моряка на берег вне очереди, если за истекшие полгода он ни разу там не был в очередь и, судя по длинному списку штрафных работ, ему в ближайшей пятилетке там не бывать? И на сей раз Панченко блеснул необъятным умом: он предложил наказания и поощрения взаимно списать и выпустить Гордеева на корабельное житьё непорочным. Поскольку правильные подчиненные узнают своё мнение последними, то Гордееву оставалось только с широким пониманием проистекающей на него милости выразить свое восхищение коротким “есть”. Такая же участь постигла и Рутова. Ну а раз вас таких удивительных на всем большом корабле только двое, то кому тогда, если не вам, святым, отправляться на дежурство по офицерскому камбузу? Конечно, вам будут приданы еще пять штрафников, но это не считается, ведь они вне очереди, а в очередь – только и всего-то вас двое. Старшим наряда назначается, кто там у нас самый достойный? Ну да, ясное дело, назначается Гордеев.
Великое таинство вкушания пищи в кают-компании еще ждет своего воспевателя. Сценарий спектакля под названием “обед” складывался веками многими авторами и казалось, давно отработан до мелочей, однако, на каждом корабле в угоду командиру и старшим офицерам он обрастает настолько большим количеством подробностей, что единого ритуала практически не существует. Главное в этом представлении церемониал, основанный на почитании родовитости, должности, чина и выражающийся в распределении мест за столом, в некоторых допустимых отклонениях в этике общения, в приятности собеседования, в умении бесконфликтно и тонко шутить и действовать не умнее, чем принято. Непосредственно пища, как средство для насыщения, в данном случае отодвигается на второстепенный план. Важно, чтобы нечто съедобное на вид было с должным пафосом и форсом приготовлено, разложено на блюдах, перенесено, поднесено, и после проплыва около, опустилось напротив едока, выровнялось по рядам с соседями и окружилось бездной ложек, вилок и других приборов. Если при всей своей внешей витиеватости сервировки подношение окажется еще и съедобным, ну что же ... конечно, это неплохо, можно и поковыряться в тарелке и даже что-то проглотить, но главное все-таки флотский лоск. Для наведения и поддержания достойного блеска используются вестовые, выученные по операциям: сервировка стола, компановка блюд, подноска и установка кушанья перед персоной, уборка ненужной посуды и многое другое. Вот для них-то, для вестовых, на камбузе готовится всё, заказанное накануне, чтобы они смогли обработать исходные продукты и придать им вид, приятный для глаз, на зависть Парижу и во славу Черноморского флота. В положенное время в правом коридоре средней палубы показался дежурный по камбузу старшина второй статьи Т. Серенко. Гордеев, взметнув руку к берету, отпечатал уставные три шага:
– Товарищ старшина, камбузный наряд в количестве семи человек построен, старший наряда матрос Гордеев! – и отступил в сторону предоставляя возможность начальнику стать перед строем.
– Здравствуйте, товарищи матросы!
–Здравия желаем, товарищ старшина! Отвечали дружно, но ... из-за лени, чтобы не пришлось повторять приветствие ещё много раз, если искренность пожелания покажется неубедительной.
–Руки вперед! И Серенко утиным шагом пошел вдоль шеренги, осматривая кисти, ногти, рукава куртки, свежесть робы, выбритость и всё остальное, как принято на невольничьих рынках.
– Ладони вверх! То же самое с другого ракурса. – Носовые платки достать, береты снять! Рука подняла робу, опустилась в карман, достала платок, припечатала в перевернутый берет и вернулась в исходное положение, а глаза, как же иначе, искрятся радостью. Дальше проверяются стрижка, чистота ушей, заглажка формы, блеск ботинок, завязка шнурков, наличие носков и, наконец, нарукавная повязка “рцы” с буквой К (камбуз) посередине. Если первое действие предстоящего концерта прошло успешно, начинается распределение ролей: без примадон, ибо все – статисты.
– Значит так, Гордеев! Двоёх мудаков – на картошку, ещё двоёх, но уже не тых, шо булы – на рис, и по одному необрезанному – на буряк, на тесто, на посуду. Ну шо, салага, урозумив, чи ще донэсты? Чого мнэшся як та молодыця?
– Ясно, товарищ старшина, разрешите приступать?
– Добро!
Гордеев скомандовал: “Смирно, на камбуз шагом марш”. И зашагал впереди строя ... к очередным испытаниям. Идти пришлось недолго. Шагов через тридцать они оказались в просторном помещении, наполненным светом, белизной и чистотой. Вошедшие были здесь несчетное количество раз, досконально знали порядок приготовления реквизитов к предстоящему спектаклю под надоевшим названием “обед”, поэтому самостоятельно распределились по местам. Гордеев и Рутов взяли на себя обязанности первых “двоёх мудаков” и приступили к картошке.
Если кто-то в своем разгулявшемся самомнении предполагает невобразимо широкие знания об этом овоще, то надо ему разьяснить, что это только отрывочные сведения, а полное картофельное образование можно получит лишь на офицерском камбузе доблестного крейсера. Таинство начинается в береговых хранилищах, где специально подготовленные моряки, сумевшие проникнуться отвественностью и важностью воинского задания, отбирают клубни нужного размера, формы и цвета. Не каждый человек годится для этой работы, ибо здесь помимо трудолюбия необходимо иметь хороший глазомер, полет фантазии и художественный вкус. Уже на этом этапе надо представить себе, как будет выглядеть в дальнейшем отобранный клубень при очистке и разделке. И так, штука за штукой изымаются из многотонных запасов несколько сот килограмм, которые затем тщательно моются, просушиваются и послойно через мягкие прокладки укладываются в ящики. Ценный груз затем бережно доставляется на корабль. Перед одной из таких упаковок и расположились сейчас двое святых. Поскольку с них начинаются все дальнейшие картофельные страсти, местный маэстро Серенко не стал пускать тонкое дело на самотек. Привычно наполняясь важностью и откашливаясь перед ответственной речью, он подошел к матросам, поднявшим уже было кухонные ножи над обреченной картошкой.
Недопустимое, невероятное кощунство. Начинать работу без соизволения, не уяснив замысел овощного дирижера, не осознав ширь, полет и величие предстоящего действа, а главное, получается, что он, ст. вт. ст. Серенко, вроде бы и не начальник и не его крепостные эти семь душ, что же выходит, эти ... как их, могут и без него обойтись!? Возмущенный старшина, сообразуясь со сложившейся драматической ситуацией, на ходу изменил текст речи и обрушил на еретиков гневные слова, призванные прояснить сразу всё: “Встать, топляки лазаретные, кто разреш...?” Последние звуки старшина выкрикнул уже в полете, в который сам же и отправился, не желая изведать то, что обычно следует после обаятельной улыбки Рутова и чему он был свидетель в первый день знакомства за волнорезом возле якорной цепи. Притормозив возле переборки, шутник, как и не было никакой угрозы, изобразил улыбку и на своём лице: “Куда, ... вашу мать, прёте? Без команды?” Обе стороны, несколько поостыв, снова сошлись возле злополучного ящика. Старшина продолжал: “Дикари вы что-ли, машете тесаками? так можно и случай упустить!” Оказывается на сегодняшний обед он возлагал большие надежды, связанные со скорым выдвижением в старшины первой статьи.
Редкий случай упускать было нельзя, поэтому Серенко, едва узнав титул нового командира, отправился к его повару-коку по старому месту службы и за душевной бутылочной беседой несколько дней подряд выяснял гурманские вкусы хозяина. Конечно, пришлось поиздержаться, но дело стоило того: вдруг четвертый срок службы внезапно сократят, тогда ему придется возвращаться в деревню с двумя лычками, а это почти позор, ибо соседи были с тремя и даже был свояк с широкой, старший сержант, не говоря уже об этом пройдохе-трактористе, дослужившемся до мичмана. Где еще проявить себя, если не на камбузе? Чем отличиться на военной службе, если не едой? Как попасться на глаза? Стать заметным, принятым и нужным? Все рассказанное было интересным, но не содержало чего-то такого, оченного ..., нужного намека на его старания, преданность и готовность щедро служить, конечно, в обмен на еще одну лычку. Пришлось пойти на полное разорение: отдать черную форму первого срока носки и познакомить с Наташей: ну что же, есть ради чего подвинуться на широком диване. Однако дары были приняты не сразу. Сначала состоялся осмотр будущей утехи, затем пошли неспешные беседы с томными намёками и только после удачно завершившейся всенощной проверки, прижимистый коллега выдал соискателю тайну, освещающую дорогу к престижу командира, а, следовательно, и к взлелеянному в мечтах трехлычковому погону. Секрет заключался в картошке. И даже не в ней самой, а в ажиотаже вокруг неё, в этаком отличии от других, у которых нет такого необычного пристрастия. Это своеобразный пропуск в клуб почитателей барсттвенных отличительностей. Наличие шаловливого чудачества завершает полновесный образ начальствующего барина, делает его своим на определенной ступеньке служебной лестницы. В дальнейшем, в кругу сослуживцев такого же уровня он будет слыть не умным флотоводцем, грамотным военным стратегом или глубоким специалистом, а хлебосолом, то-бишь, картофелесолом: “Вот, значит, что я вам скажу, был на крейсере ..., ну, понимаете, у Данилевского такаая картошка, ни у кого ничего похожего, ни-ни ..., это, голубчик, доложу я вам, знаток, большой знаток и умеет жить, советую, душевно рекомендую познакомиться: тонкой души и богатого ума человек, настоящий гурмэ, не гурман, пресыщающийся пищей, а именно гурмэ – тонкий ценитель изысканных блюд”.
Вот и слава, признание, известность. Они уже работают на автора, поскольку наполняют содержанием важнейший общественный титул: прекрасный, замечательный человек. Без него звезднопогонное продвижение практически невозможно. И Серенко, понимая, что подняться можно лишь подсаживая барина, старался вовсю. Прежде всего заставил “двоёх мудаков” рассортировать клубни по размеру и округлости, оставив приблизительно шарообразные и удалив продолговатые. Каждый шарик затем расчленялся так, чтобы в итоге получились две призмочки с взаимно перпендикулярными гранями, прикрытые по торцам собственной кожурой. Нарезанные столбики затем опускались в соленую воду, приправленную специями и огуречным рассолом, выдерживались там некоторое время пока пропитаются ароматной жидкостью на нужную глубину. За готовностью следил лично сам Серенко, надкусывая заготовку, закатывая глаза и поднимая голову к потолку, прислушиваясь таким образом к ощущениям вкуса, бродящим где-то внутри него. Отмашка полотенцем указывала дальнейший путь: назад на досол или на следующую операцию. Наконец, после очередной пробы пряный продукт изымался, укладывался рядами на разделочной доске и просушивался воздушным потоком от вентилятора. Одновременно с этим готовились противни для прогрева и постепенного доведения до лёгкого булькания подсолнечного и сливочного масла. И как только достигалась одному Серенко известная густота пузырьков, сухие столбики погружались поштучно сначала в подсолнечную ванну, выдерживались там и переносились в сливочную купель, где и плавали до появления золотистой тонкой и чуть затвердевшей корочки. Серенко колдовал у плиты с невероятным отрешением от всего окружающего и полным проникновением в священный ритуал. К нему было бесполезно обращаться, ибо его нет, он весь там: в масле, в корочке, в картошке. По волнению, исходившему от несколько оплывшей фигуры, угадывалось приближение купания к завершению. Вот брошен беглый взгляд на Рутова, который уже добрых пол-часа поддерживал на грани закипания озеро из жира, свободно плескавшееся на раскалённой сковороде. Видимо, картофельный маг остался доволен работой подмастерья, ибо никаких ругательств не последовало. Это, в свою очередь, подбодрило соратника. В порыве старательного рвения он чуть поднял жар, отчего озеро моментально вышло из берегов и брызгами разлетелось по стенам и потолку, обдав по пути увесистыми каплями кока. Сковорода оказалась почти пустой. В глазах Серенко отразилось непереносимое страдание. Под угрозой оказался обед, а вместе с ним закачалась и стала уплывать в зыбкую даль вожделенная лычка. Спасая положение, находчивый спец вынужден был на ходу отклониться от добытого с таким трудом рецепта и с риском для погон пуститься в самостоятельный поиск. За допущеннную азартность и последущее жировое извержение Рутов был отправлен в ссылку на дальний разделочный стол для художественного вырезания свекольного паруса, а на его место приказом по камбузу был назначен Гордеев. Предельная секретность приготовления и внезапно оборвавшееся успешное поначалу выдвижение предшественника, потребовали от преемника особой изворотливости. Он сразу же предложил: “Я вытаскиваю и сушу, а вы, товарищ старшина, готовите поджарку”. Закипела работа. Несколько сотен золотистых столбиков картошки с коричневыми тюбетейками по краям нужно было быстро и нежно уложить под воздушную струю, а затем острожно переворачивать их, обеспечивая равномерное отвердение.
Вскорости последние заготовки перекочевали на сушильную доску и масляные противни опустели. Тем временем старшина, вдруг ставший расторопным, сотворил новое озеро и оно опять плескалось в высоких сковородных берегах под неусыпным надзором творца. Занятость главного стряпчего неожиданно высоко взметнула вверх камбузную карьеру Гордеева. Ему было доверено поштучно брать лопаткой готовые к окунанию столбики и благоговейно опускать в раскалённый жир. Дальше его авторитет не пошёл. Самостоятельно определить момент ныряния очередной грани и, тем более, удаление картофеля из купели ему за малостью доверия не позволялось, поэтому он улавливал и усердно отслеживал команды эпохального накала:
– Не гуляй рукой, перестань вилять, утопи передок, чуток подними, да не так задирай, сказано же “чуть”, значит чуть и делай, переверни, а с другой стороны? Шляпку наверх, салага, вижу по твоим грубым замашкам: можешь загубить продукт, смотри у меня, хер сиволапый; всё, всё, эту на сушку, давай другую ...
И так по каждой из сотен заготовок. Несколько часов подряд возле плиты бушевали страсти, как и полагается при создании шедевра. На доске, между тем, чинными шеренгами выкладывался разрумяненный продукт. Гордеев, отмеченный похвалой на сковородочной операции, был допущен к смазыванию торцевых шляпок. Для этого с самого начала один из необрезанных долго отбирал самый густой желток куриного яйца. О его стараниях свидетельствовала гора скорлупы и кастрюля отбракованных желтков. Затем после внесения пахнущих, красящих и клеящих добавок, полученная смесь взбивалась до однородной просветленной массы, которую Гордеев, напустив на себя вдохновение живописца, наносил на тюбетейки. Вслед за ним на ещё не просохшую отблескивающую плёнку, другой крепостной стряхивал мелкие крупинки белоснежной пудры, придавая шляпке сувенирное очарование. Гордеев тоже не терял темпа. Сейчас он, любуясь тонкой янтарной струей, доливал в оставшийся желток густо настоенную на луковой кожуре, лавровом листе и перце приятно благоухающую тягучую жидкость. Осознавая важность своей работы, он весь ушел в процесс перемешивания и находился в ожидании появления требуемого благородно-золотистого оттенка. По мере приближения к нужному цвету, возрастало волнение и когда состав был уже совсем близким к задуманному, перегруженный ответственностью живописец пригласил мэтра. Тот поступил мудро: из кастрюли налил малые порции почти готовой жидкости в чашки и в каждую из них добавил все возрастающее количество красителя. Получилось больше десятка вариантов, из которых выбрать один было невозможно, поскольку каждый был краше другого. Великий картофельный ваятель впал в уныние. Выбор разрывает душу. Как ограничить себя чем-то, если рядом так много прекрасных находок? Что предложить командиру? И вдруг его осенило: погоны, галуны, витые колоски на фуражке. Вот она морская расцветка на радость глазам. И лычка того же оттенка, может сработает тонкий намек? Возликовавший мэтр сунул Гордееву отобранную чашку, вручил беличью кисть и со словами: “Давай, рисуй пейзаж”– поощрительно похлопал по плечу. Не каждый достоин получить такую похвалу, потому начинающий художник зарделся, подбоченился и, уловив ревнивый взгляд ссыльного Рутова, окончательно почуствовал себя наследником великих мастеров. Как и положено маститому, небрежно протянул руку, совсем нежно, как ему казалось, взял кисть, но она сломалась сразу в трех местах, не выдержав осторожного прикосновения шлюпочного гребца. Так бесславно погибло важнейшее приспособление, за которым Серенко специально ходил на берег. Рутов, заинтересованно следивший из своих опальных мест за небывалым взлетом авторитета камбузного выдвиженца, увидел мелькнувшую тень, нырок Гордеева, летящий в угол берет временного счастливца и фонтан брызг от вдребезги разбитой чашки с ароматной жидкостью. Попутные слова старшины лучше опустить, иначе покраснеет бумага. Разжалование последовало немедленно. Ответственная работа по окрашиванию боковых граней ошляпленных уже призмочек была доверена Рутову, амнистией кока возвращенному из ссылки. Гордееву же пришлось спешно отбыть к недолго пустующему столу и проявить себя на новом поприще вырезания свекольных парусов. За угрозу лычкам приходилось расплачиваться так удачно сложившейся было поварской карьерой. Рутов сразу заявил о себе, как о надежном помощнике. Особенно не раздумывая, отломал от веника прутик, привязал к нему остатки беличьей шерсти и торжественно представил восстановленный квач на утверждение патрону. Тот покрутил его в руках, понюхал, пощипал за волоски и окунул для пробы в янтарную чашку. По густо прилипшему желтку он определил пригодность инструмента для отделочных работ. Рутов, как всякий честный человек, переживал за свое дело, хотя вовсе не понимал смысла щедрых танцев вокруг какой-то картошки. Матросский вариант этого блюда выглядел иначе: цвет – синий, по густоте – жидкость, запах сомнительный и трудно было представить, что созданное ими попадет не в музей, а на съедение. Каким же должен быть этот едок? Неужели наши офицеры? Вряд ли! Не станут они держать восемь человек возле плиты, когда весь корабль на занятиях по боевой подготовке. Но тогда кто всё это съест? Додумать въедливую мысль Рутову не удалось. Старшина возвратил кисть и велел делать по образцу, подготовленному лично им, автором и режиссёром.
К этому времени как раз подоспел доклад от других “двоёх мудаков”, занимавшихся рисом. Рядом с ними стояли три ведра, наполненные: одно самыми длинными зернами, другое – круглыми, а третье – продолговатыми и толстыми. В сторонке высилась гора отвергнутых рисинок, которые вероятнее всего пойдут на рисовую кашу по-флотски, самую универсальную корабельную пищу. Старшина оставил одного из них промывать поштучно каждое зерно, высушивать, катая по простыне, и укладывать в кастрюлю, послойно, разделяя вишневыми листьями. Другой рисовый сортировщик нарезáл огурцы длинными полосками и укладывал их на призмочки, отделанные по бокам старательным Рутовым. Появилась надежда, что вскорости можно будет хотя бы отдаленно постигнуть замысел творения, повышающего боеготовность корабля.
Неожиданно для всех со стороны тихо чвакающей доселе бадьи с тестом донеслись громкие голоса, в которых более четко прослеживалась ария старшины, выражающего свое отношение к увиденному: “Разве это девушка? Это же наковальня!” Хлебный скульптор, в обязанности которого входила лепка женской фигуры, спускающейся с горы, возражал и даже указывал ножом на отдельные детали, якобы однозначно подтверждающие девичий стан: “Вот, смотрите сюда: это ноги, чуть повыше, там, где они расширяются, значит, ну как у них обычно бывает, а еще выше, если сбоку – называются руки, а спереди – ну это, конечно, самое главное, вот если бы вы, товарищ старшина, мне не мешали, я вскорости и голову приделал бы.” Но Серенко уже понял, что оформление береговой панорамы надо менять на ходу. А ведь мыслилась такая привлекательная картина: с рисового утеса хлебная подруга машет свекольным платком, приветствуя в далеком капустном море могучие корабли, развернувшие боевой строй так, что образовали весьма полюбившиеся каждому едоку его собственные инициалы, и отогнавшие своей мощью на кромку горизонта бесчисленные огуречные фрегаты с бурячными парусами. Не только офицеры, не только старшие начальники, но сам суровый командир не смог бы удержать слезу, она булькнулась бы в бокал с шампанским, вовремя подставленным верным коком. Дааа! А теперь лычка, уже почти пришитая на погоны, в очередной раз уносилась в туманную синеву.
Серенко внимательно присмотрелся к своим подданным. Лица выражали усердие, озабоченность и неторопливость, проистекающие из привычной лени людей, которым спешить некуда, ибо впереди таких камбузных дежурств не счесть. И в глазах не удалось уловить одухотворенное стремление поставить жареную картошку, если и не выше, то в один ряд с другими военно-морскими свершениями. Видно свита не достойна монарха, а посему с чистым образом горной девушки придется расстаться. Но чем же заменить такой щемящий намек? Установить маяк, дзот, батарею- грубый вид, пугает, не романтично; куст, дерево, виноградную лозу – трудно выполнимо из-за мелких деталей; орел, баклан, голубь – отсутствует подсказка! Стоп! Где-то здесь решение! Куда нужно повернуть? Вот именно! В лычку! Значит так! Бабу долой! Рисовый материк выполним из двух половин, ограждающих пролив, над которым поднимется яркое оранжевое солнце из яичной скорлупы. Отвесные склоны сказочной земли омывает капустное море и отраженные блики освещают золотистые хлебные погоны, украшенные звездочками на одну больше, чем у едока. На такой изобразительный мотив спецов хватит. Тестовик, поднявшийся в своем мастерстве до наковальни, быстро выдаст витые жгутики для обозначения контуров, Рутов, овладевший беличьей шерстью, наведет золотистый фон, ну а Гордеев, пора приобщать и его к полезному труду, займется звездами из капустной кочерыжки.
Таак! Время поджимает! Где наши подносы? Пора сервировать лычконосное блюдо. И старшина, окружив себя пока ещё безликими продуктами, приступил к творению. Люди затаили дыхание. То, к чему стремились всё утро и что скрывалось в интригующей тайне, должно было вот-вот явиться, родиться, возникнуть из небытия и своим великолепием ... ах, не спугнуть бы! Глаза болельщиков устремились на ваятеля. Все. Началось! Его рука пригоршней зачерпнула рис и водрузила слева от предполагаемого пролива, еще движение и обозначилась правая сторона. Ответственный за желток, душой почувствовав свой выход на сцену, тут же предложил на выбор самую оранжевую скорлупу. Маэстро, подозрительно взглянув на куриного спеца, оценивающе прикидывал, какое из предложенных солнц наиболее подходит к командирским инициалам. Опять этот мучительный выбор? Хорошо живётся мудакам вроде Гордеева и Рутова, их не разрывают сомнения, для них, сиволапых, все солнца одинаковы. Разве втолкуешь им, что у того, кто дает лычку, светило должно быть особым, самым сияющим и чтобы намек был, от кого получено неожиданное сверкание. Кааакая тема! Но времени мало, придется додумать её для следующей картофельной феерии. А пока можно взять ... ну хотя бы вот эту: приятная округлость, хорошие пропорции, подойдет! И горящий желтковым покрытием диск взошел над капустным проливом. Дальше по рисовым откосам побежала знакомая лопатка, готовя земную твердь для начертания погон. Сразу же, как только на упорядоченном материке оказалась подходящая площадка, туда устремился умелец по тесту и лихо обозначил хлебным валиком такие привычные погоны с двумя черными полосками. Стоп! Не по замыслу! Надо смотреть и дальше, и выше! Погон должен быть адмиральский, значит продольные линии следует заменить косыми и сделать рельефней окантовку...
– Гордеев, сучьи перья, где большая звезда?
– Несу, товарищ старшина, Рутов весь веник изломал на свою мазилку, негде взять зажим для кочерыжки, извините, для звезды.
Находчивый Рутов, рискуя нарваться на неприятности, решил все же предложить ябеде Гордееву прочные стебли морковной ботвы. И, чтобы окончательно доконать зарвавшегося кухонного стукача, после молчаливого одобрения старшины, демонстративно проколол капустное величие и воткнул адмиральский знак в рисовое поле. Этим самым была решена проблема крепления нескольких сотен звезд к многочисленным погонам. Серенко, как и следует мудрому властелину, выдал изобретателю полагающийся пряник. Он подошел к Рутову, несколько потеснив его животом, отечески похлопал по плечу и: “Присматривай за этой стервой-Гордеевым, бешеный какой-то: шестиконечные звезды шпарит, не натворил бы чего, того и гляди сорвет обед”. Доверие обязывает. Рутов проникся. У Серенко стало двумя шутниками меньше.
В далекой глубине камбуза, на столе, служившим местом ссылки нерадивых, дробно стучали кухонные ножи. Это два человека, делая много проб, исправляя ошибки и вытирая кровь с порезанных пальцев, крошили лист капустный на тонкие и длинные полоски, которые воссоздадут на подносе просторы морские. Они будут уложены вокруг внушительных картофельных кораблей, с таким азартом сейчас выкладываемых старшиной. Ещё немного и были явлены миру величавые буквы ТСТ, такие же лычконосные, как и знаменитые деньгоносные тройка, семерка, туз для пушкинского Германа. Серенко знал эту историю, удивился совпа- дению и поёжился, проводя аналогию. Однако, следует поторопиться. Он быстро установил тарелочный горизонт заранее заготовленными фрегатами, отошёл, прикинул перспективу, несколько поправил строй и занялся широкими капустными просторами. По окончанию снова отдалился, осмотрел своё творение и увидел он, что это хорошо! Отодвинул образцовое блюдо в сторонку, и, равняясь на него, поминутно сверяясь со списком иниалов, вся камбузная и вестовая обслуга принялась снимать копии с шедевра. Автор же на правах великого картошного ваятеля расхаживал среди пыхтящих людей, изредка правил кистью мастера тонкое овощное полотно, мечтательно переставлял фрегаты и, по всему видать, был доволен замыслом и его воплощением. Не прошло и двух часов, а полторы сотни подносов, с музейно уложенными продуктами, были готовы к подношению. Старшина, растягивая в улыбке лицо, шагом триумфатора расхаживал между рядами готовой продукции и, видимо, пытался представить изумление и восхищение командира, неожиданно для себя встретившего любимую картошку на новом месте службы и в таком невероятном оформлении. Однако в душе ваятеля звучало какое-то беспокойство, неудовлетворенность, незавершенность ... Чего-то в созданном творении недостает! Безусловно, замысел будет оценен, его тарелочное воплощение тоже впечатляет, и случай для проявления преданности подходящий ... А кто всё-таки замыслил, воплотил, проявил? Вот, значит, откуда льются сомнения. Отсутствует нечаянный намек! И старшина вспомнил, наконец, что его имя Тарас, отчество Данилович! Тогда получается: ТС – Тарас Серенко, опять эта аналогия, не хватало ещё Даниловича сопоставить с Дамою, той, что была Пиковая. Однако время идёт. По корабельной трансляции уже прозвучало: “Команде закончить занятия!”Значит, очередной служивый день докатился своим графиком до предобеденной отметки. ТСД нарезал свекольных полосок и решительно в правом нижнем углу картофельной панорамы выложил две полоски сплошные, рядом, для подсказки, расположил прерывистую линию и добавил свекольные буквы – Т. Серенко. Вот теперь другое дело! Шедевр не только создан, но и увенчан авторством, и будучи пищей для одних, превратился для автора в жизненную веху, которая призвана была закончить двухлычковое прозябание и дать начало особому трехлычковому этапу. А там, если повезет, может удастся догнать и того хвастливого свояка с его широким погоном. Только бы пронесло мимо плохую примету с ТСД.
–Гордеев, разливай борщ в суповые чашки, Рутов, укладывай шинкованное мясо по вазам. Бойко и остальные салаги, несите первое блюдо наверх, в кают-компанию!
Вскоре цепочка носильщиков, растянувшихся по коридорам, осторожно мерила путь от камбуза до офицерского коридора. Однако недолго музыка играла. Личной властью начальника вестовых вазы и чашки с обжигающей едой были отправлены обратно. Вслед за ними прибыл сам главный старшина Косович. Оказывается нововведение Т.Серенко шло вразрез с его пониманием церемониала кормления начальников. Грозный крейсер для того и нужен стране, чтобы уважаемые люди могли на нём правильно поесть. А как именно, дано знать только ему, Косовичу, ибо зачем тогда он вникал все прошедшие годы в привычки, вкусы и возможности своих подопечных.
– Ты вот, Серенко, еще ст.вт.ст., а я уже давно гл.ст. и твоя кастрюльная душа, не спросясь, не согласовав ... Хотя и вышли мы все из колхоза, но ты там был Серенко и здесь им остался, а я ... я совсем другое дело, давно понял при ком надо быть, как следует жить и за что сражаться. Поэтому делай, как мной положено: налитая почти доверху тарелка ставится в пустую и всеё это накрывается салфеткой, отглаженной до хруста.
Матрос даже нижнюю посудину не должен держать в руках, подавая кушанье господам. Он обязан натянуть покрывало на свободную грань и, взявшись руками за холстину, подгибать её под днище и одновременно с этим поддерживать неустойчивое сооружение в равновесии. Особенно трудно это сделать при движении по трапу, в шторм или в спешке. Подойдя к кают-компании, нужно вытереть ноги о щетку, переступить высокий комингс, вильнув бёдрами, уклониться от подстерегающей двери и преодолеть последние метры внутри помещения, шагая по толстенному ковру с торчащими, как трава, шелковистыми ворсинами. Одно дело палуба, даже пляшущая и уходящая, даже мокрая, ледяная или надраенная соляркой, даже с накатной, сквозной или отходящей волной, даже в дождь, туман или ночью и совсем другое, когда в зашторенном тихом помещении под ногами валяется какая-то ветошь, в которой тонут ноги, путается шаг, тормозится порыв и ботинки вязнут в густом плену. Этот ковер на сей раз сыграл роковую роль Дамы с пиковой мастью. Уже прозвучало: “Команде руки мыть, бачковым построиться.” До обеда остались минуты, а офицерский стол еще не накрыт. За всю историю флота не найдётся другого подобного случая. Людей стала одолевать паника борзой, упустившей добычу. Положение пытались исправить все и сразу. В результате по коридору начали в подозрительной неосторожности, переходя с шага на короткую пробежку, сновать носильщики с поклажей в руках, оформленной, как положено. Вот уже заветную дверь преодолел один, второй, третий гонец, приблизился четвертый и он, вильнув задом, проскочил в проём двери и столкнулся с теми, которые зашли мгновением раньше него. Невероятный крик слился с грохотом посуды, дополнился мужественным корабельным матом, неожиданно оборвался на самом высоком накале и затих. Да и то, зачем дальше шуметь, если все так умильно: в борщовом океане с прекрасной травой купаются люди. Но, как видно, хорошее вечно длиться не может. Происшедшее было настолько невозможным, что обычно уверенный в себе Косович никак не хотел принять случившееся всерьёз. Он недвижно стоял у окна, теребил занавеску. Краска медленно румянила щеки, глаза расширялись и наполнялись отчаянием. В какой-то момент осознания краха старшина оттолкнулся и с хриплым воем, разбрызгивая слюну и дергаясь всем телом, налетел на распластанных людей. Лежащие матросы, обескураженные падением, не могли предвидеть такую яростную атаку, поэтому не защищались и сразу попали под жестокие удары. Увесистый ботинок врезался в грудь поднимающегося человека, послышался глухой выдох, треск костей и тупое падение тела. Такая же участь постигла и второго. Тому, кто был поближе к двери, удалось привстать и открыть замок, но мощный хук снизу в челюсть надолго послал его в нокаут, рядом с ним через мгновение лег бы и четвертый носильщик, но в помещение ворвался камбузный наряд, повис на Косовиче, пытаясь утихомирить его и связать полотенцем. Тем временем по кубрикам разнеслось: “Полундра, наших бьют!” И молодые – “наши” и годки – “наши”. Две стенки сошлись на шкафуте, толком ещё не зная кого надо бить, кого защищать и в чём причина неожиданной разминки. Ясность внёс вырвавшийся из кают-компании один из небитых борщовых пловцов. С кривой гримасой бешенства на лице и ножом в руке, он бросился на годков. Те его быстро смяли, нож полетел за борт, но несколько десятков салаг уже вовсю крошили любого, у кого были лычки на погонах. Годки, будучи в меньшинстве, стали отступать к волнорезу, оставляя на чисто вымытой перед обедом палубе кровавые лужи и лежащих людей. Неожиданно к ним из кормовых кубриков пришло подкрепление. Отходящая рать, почувствовав поддержку, пошла в наступление, но сразу же натолкнулась возле башни главного калибра на свежие силы молодых, побросавших ложки и с азартом врезавшихся в осмелевших было годков. На баке и двух шкафутах много места. На обширной площади больше сотни бойцов увлеченно и безжалостно калечили друг друга. В ход пошли ножи, ремни, бляхи, палки, невесть откуда взявшиеся кастеты, шарики и много всякой другой убойной выдумки. Постепенно белая палуба стала краснеть и равномерно покрываться лежащими телами, но число сражающихся не уменьшалось. По мере разгорания боя многие зрители, сначала пританцовывая, подсказывая другим, увлекались сами и вливались в жуткое, а потому интересное, палубное побоище. Кто знал причину, тот давно её забыл, большинство же дрались без всякой причины. Как же иначе, если есть возможность разгуляться, почти отдохнуть от этой постылой вечно правильной уставной жизни, состоящей из сплошного “нельзя”. Вскорости, как только бой вошел в равновесие, при котором упавших сразу же заменяла свежая подпитка, вокруг дерущихся тихо выстроились десантники, сцепив руки в локтях. Ловко уходя от ударов, они расчленили поле боя пополам, потом еще надвое и так постепенно в их окружении осталось по несколько человек, сгоряча и не услышавших щелчок наручников. Утихомиренных бойцов усадили на палубу, оцепили конвоем, затем внесли их фамилии в длинные списки и совсем остывших от драки отпустили по кубрикам. Раненых же, кого поддерживая, кого на носилках, доставили в лазарет. Туда же, с помощью санитара, добрался и Гордеев: вывих и разрыв связок голеностопного сустава. Рутову повезло меньше. Ему пришлось обездвижить грудь, чтобы дать возможность правильно срастись нескольким ребрам. Других пострадавших зашивали, промывали, накладывали, перевязывали, сортировали. Но, в общем, всё обошлось благополучно: на берег было отправлено только двое с травмой черепа. Нарушение корабельной дисциплины расследовать не торопились. Конечно, заниматься посторонними делами во время обеда не разрешается. В субботу на подведении итогов кое-кому придется выслушать упреки в свой адрес, однако, не впервой, дело привычное. Так бы всё и затихло, но неожиданно в лазарете скончался матрос, который нечаянно попал под атакующий ботинок Косовича, а через несколько дней и сам Косович, забравшись зачем-то на мачту, видно по неосторожности, оступился, не удержался и упал как-то неудачно, наверное больно ударился, ибо умер почти сразу.
После этого начали допрашивать всех причастных, но они что-то слышали, да толком не разобрались, а в тот день шли по шкафуту, видели как ребята играют, боролись кажется, или канат перетягивали, словом, ничего особенного не заметили. Ну что же, скажем в очередной раз, к сожалению, произошел несчастный случай, даже два очень несчастных случая. Удивительно, что в бухте, на якоре, а не в штормовом море, но, как должно быть известно любопытным, служба все-таки военная, а там, где воюют, потери иногда случаются. Все равно люди ничьи, их убыль никого лично не задевает, а возникшие небольшие отклонения в корабельном распорядке, безусловно будут устранены. В этот злополучный день офицеры обедали по своим каютам.
Некоторая непривычность ритуала была скрашена отменным борщом и невиданным доселе картофельным блюдом. Серенко, обходя едоков, с напускным безразличием выспрашивал мнение о предлагаемой пище, пытался направить разговор на тарелочную панораму, на погоны с намёком, но всё было безрезультатно. Какая бы тема ни поднималась, она неизменно сводилась к только что закончившемуся волнующему событию. Каждый припоминал похожие баталии, давние и совсем ещё свежие, у себя и у других, сопоставлялись потери, удаль и последствия.
– Да, очень вкусная картошка, если найдется, можно и добавку, вот, старшина, спасибо! Уважил! Но главное при этом побыстрее проглотить, чтобы уловить, подстеречь паузу и за умолкшим предыдущим рассказчиком сходу войти в разговор со своей, самой, самой историей. Вскоре стала поступать немытая посуда. Последней утехой для картофельного ваятеля было то, что всё предложенное вместе с привеской, оказалось съеденным подчистую. Командиру также понравился обед. Он поблагодарил старшину за оперативность и находчивость, а в остальном ... обед, как обед. На то и нужен офицерский камбуз, чтобы там вкусно готовили и с выдумкой. Так что, спасибо, Т. Серенко, за службу и за то, что семь человек делают работу десятерых, надо будет подумать, может удастся сократить дежурную смену ещё на два-три матроса.
Примета и на сей раз распорядилась судьбой. Буква “Д” всё-таки оказалась не Даниловичем, а Дамой с поганой пиковой мастью. Не удалось трудолюбивому, по-матросски инициативному и вобщем, хорошему парню Т. Серенко продвинуться по службе, угождая и подстраиваясь. Он надолго замкнулся в себе, стал молчаливым и к делу своему безразличным. Обеды готовил на пределе допустимого неряшества, даже небрежности, граничащей с вызовом, но к его удивлению никаких претензий не было, съедали всё, иногда со сдержанной благодарностью, что для думающего человека является поводом к пересмотру жизненных установок, к переоценке людей и себя. Моральные травмы часто заживают дольше, чем физические. Так было и у Тараса. Этап очередного осознания своих поступков затянулся на многие месяцы. И вот однажды в походе проводились учения по торпедированию надводной цели, все той же пресловутой баржи, до которой так и не добрались две шлюпки, посланные с корабля в смертельный круиз. По регламенту стрельб торпеда должна быть выпущена с предельно большого расстояния, преодолеть несколько миль штормового моря и удариться о подводную часть баржи, о чем засвидетельствует взрыв сигнального пиропатрона. После этого торпеду, беспорядочно плавающую по волнам, непрерывно ныряющую в глубину и уносимую ветром, необходимо обязательно найти и поднять на борт. Случаи потери торпеды не рассматривались ввиду их недопустимости. Однако на этот раз, похоже, намечалась именно такая неприятность. Уже много часов корабль рассекал пенистые волны в квадратах, прилегающих к цели. Все напрасно! На мачтах, по бортам, на баке и юте, на мостиках и надстройках были организованы посты визуального наблюдения. Люди, привязав себя монтажными поясами к подручным опорам, всматривались в беснующуюся воду. Обстановка осложнялась усиливающимся ветром и наступлением сумерек. В этой ситуации командир пошёл на крайние меры: первому, кто увидит торпеду, десять суток отпуска и очередное звание. Царские щедрости встряхнули людей, каждый возжелал ухватить жар-птицу за хвост, но не было ни птицы, ни хвоста. Гнетущее напряжение повисло над кораблем. Истекали последние мгновения серо-дымчатого дня. Шансы на успех устремились к нулю. В переговорных устройствах поселилась тишина.
– Вижу, командир, вижу, вот она, сука, танцует подо мной! Носовой впередсмотрящий, захлебываясь криком, докладывал на мостик, не подбирая слов. Не доверяя микрофону, он отстегнул страховочный пояс и рванулся бегом на мостик для личного общения с начальством. Увертываясь от нависающей и ревущей воды, перемахнул волнорез, добежал до орудийной башни и вместе с волной барахтаясь, сопротивляясь и цепляясь за ускользающие штормовые леера, докувыркался все-таки до рострового коридора, успел отдраить дверь и ввалиться внутрь живым. Проскочить по внутреннему трапу труда не составляло. Перед командиром в мокрой изодранной одежде, но выпятив молодецки грудь и подтянув живот, стоял Т. Серенко, отвоевавший у судьбы на сей раз долгожданный козырный Туз. Вскорости он уехал в отпуск, увенчанный так трудно доставшимися трехлычковыми погонами.
Гордеева и Рутова всвязи с несолидностью телесных повреждений в лазарет не приняли и они после перевязки возвратились в кубрик. А раз пришли, значит здоровы. А коли так, извольте на вахту. Но, будучи в бинтах, на развод караула показываться нельзя, ибо это грозит не только замечанием, но и возможным отстранением от дежурства, что находится за пределами понимания служивого человека. Что же с ними делать? И на сей раз выручил необъятный ум Панченко. Он, будучи заместителем неуловимого руководителя политических занятий, проводил их фактически, поэтому по мере приближения к среде его настроение все больше омрачалось и к важнейшему корабельному событию он подходил расстроенным и злым. И вот ему повезло. Заполняя карточку раненого на Гордеева, узнал, что у того ... ну, вобщем, неплохого даже матроса, среднее техническое образование. “Надо отдать ему должное, сколько служит, ни разу не воспользовался своей учёностью, даже вида не подавал, а ведь техникум, на фоне сомнительных восьми или, на худой конец, десяти классов очень средней школы – это, безусловно, впечатляет. Но какой скрытный? Он же работал до призыва мастером цеха, командовал людьми, как я здесь – думал Панченко – почему же сейчас затаился? Может дурак или припадочный, или ... подсадной? Нет! Не похоже! А как выжил на шлюпке? Не он один, еще пять человек с ним вернулись!” Да и то! Где, каким манером, можно воспользоваться на крейсере знанием ну хотя бы таблицы умножения, или алгебры, или физики, если любимым ругательством боцмана являются слова “синус-таки, твою...”. Большое число флотских присказок, намеков и бранных выражений начинается с три ..., потому за тригонометрию можно и по башке получить. Выходит, что Гордеев не нарочно скрывал свою грамотность? Не готовил какой-то подвох или умысел? А вдруг он чей-то? Разве своих посылают на смерть? Пусть пока ведёт занятия, там видно будет. Мне ли не знать, удивился себе Панченко, что идеальный матрос должен иметь стерильные мозги, чтобы ничто не мешало вкладывать туда, вкладывать и вкладывать всё, что кому-то надо и до полного отключения.
Начинать пришлось с очередного обновления политического уголка, который был вовсе не уголок, а мощная дубовая доска, покрытая бархатом и окантованная узорчатым плинтусом. По бокам у неё на всю высоту были закреплены полочки для самых трепетно изучаемых брошюр: комсомольского, партийного и корабельного уставов, программы съездов, решения, постановления органов и членов, а также клевета многочисленных врагов. Центральное место на бархатном поле занимал большой портрет первого секретаря, несколько ниже располагались снимки меньших размеров с изображением председателя совета министров и президиума верховного совета, а уже под ними, врассыпную, как колода карт, вольготно раскинулось политбюро. Что бы ни происходило в кубрике, за всем внимательно и осуждающе следят вельможные глаза. Кажется, что генсек не в духе и в любой момент может обложить, наказать, посадить. За ним, человеком и портретом, следили, его слушали и читали, ему верили и ждали ... когда же, наконец, несуразный каторжный срок в четыре с половиной года сократят, урежут, убавят? Каждая его поездка за рубеж вселяла в сердца трепетные надежды, с натерпением встречали кучерявый отчет, но напрасно узники искали в нем вожделенные строки.
Сокращали полки, дивизии, армии, но не срок. Просто не верилось, что в мирное время в такой многолюдной стране необходимо держать однажды набранных так долго, вместо того, чтобы обучить за этот период несколько воинских поколений. Как легенды передавались в курилках, за бачком или в нескончаемых разговорах в боевой рубке, особенно в длительных штормовых походах, воспоминания о том, что вот когда-то, почти в старину, т.е. вскорости после войны семилетний срок был заменен шестилетним. Потом пятилетним. Теперь в этом призыве должен наступить, несомненно, и наш черед войти в предания, начинающиеся словами: “Вот, значит, братва, что я вам скажу: это было очень давно, никто из вас не помнит уже тяжкие времена, когда тянули по четыре с лишним года, так вот однажды ... не ёрзайся, салага, и не вались на леера, внимай флотской науке и слушай годка, либо от кого ещё тебе, зеленый, ума набраться, ну так вот, я и говорю: вышли однажды в море и вдруг...”. Конца таким байкам не бывает. Беспредельное море вечно качает корабль, медленно отсчитывая мгновения крейсерского заточения, и кажется, что когда-то в невероятно далеком прошлом эти человекообразные существа зачем-то были сброшены с небес прямо в чрево бронированного монстра, который несётся по волнам кого-то убивать, кому-то угрожать, для того, чтобы кого-то защитить. Извечная истина: себя защитить, значит другого убить! Не договориться, не объединиться для совместного блага, не научить друг друга, не подстраховать соседа в борьбе с ненастьем, болезнью или горем, не помочь ему, а ... убить! Миром правят бездушные телеса, клавсы, скомпанованные по форме ввиде человека. Интеллект используется как вспомогательное явление для обслуживания разрушительных помыслов агрессивящейся материи вместо того, чтобы направить его в созидательном русле и обуздать зло, истекающее из злобной земной биомассы.
Каждая политинформация кружит в своем течении вокруг темы досрочной демобилизации. К ней стекаются логические ручьи огромных удоев, приходящиеся на одну доярку, необозримых гектаров кукурузы на отдельного тракториста, тонны угля на шахтёра, количество рожденных на одну женщину, поголовье скота на средне статистического человека. Эта стригущая уравниловка и пересчиталовка с годами так утаптывает голову, что совершенно спокойно воспринимаются привесы булочек на одно вишневое дерево, курортопосещаемость на квадратный метр побережья, защищаемость границы на строевого матроса, разоблачаемость врагов на каждого военнослужащего и бесконечные другие колонки цифр, которые нужно точно знать и радостно сообщать проверяющим и многочисленным инспекторам.
– Матрос Петров! Что у нас с вами вобщем там на сегодня складывается с постоянно растущим благосостоянием народа? Удостоенный молодцевато вскакивает со скамейки, делает шаг в сторону, замирает в положении “смирно”, краснея, выпучивает глаза на любознательного офицера и ... молчит. Молчит, но молчит с ритуальным содержанием. Это интервал, необходимый обеим сторонам для создания и осознания правильной обстановки. Офицер оценивает старательность, рвение, порыв при вскакивании с места, строевую красоту и даже грацию, а особенно излучаемую готовность служить, услужить, быть здорово преданным, а также умение сразить заученным ответом самого въедливого контролёра. Если важные приметы соответствуют, значит эта корабельная единица единогласно поддерживает линию, она на данном этапе за наших, т.е. за своих, словом, можно доверить ей честь высоко поднять, гордо пронести, оправдать оказанное, выполнить долг, быть защитником и бороться за свободу угнетённой Африки. Матрос, уставившись на педагога, также прикидывает для себя антураж вопроса, есть ли в нем иронические или шутливые нотки, нужно ли отвечать рекомендованным правильным ответом или допустимы самостоятельные слова ..., а пуговицы не чищены, манжеты малость того ..., зарос волосами, напухшие глаза, наверное всю ночь ... чем это я ему так ... сразу меня вздернул, обычно Гордееву попадает, хотя с того, что с гуся ... умеет выкручиваться: вот прошлый раз про этого секретаря подкинул вопрос: на два часа занятий хватило, если бы снова туда свернуть, а щеки горят, хорошие духи, чистый носовой платок, ботинки надраены – постарался вестовой, подрагивают руки, широкие плечи, сгодился бы шлюпочным средним гребцом, а вообще, похоже, нормальный мужик ...
– Разрешите отвечать? – прозвучало по истечении ритуального времени. – Отвечайте, Петров, добро! – волнующая подготовка к рождению невероятно тонкого ответа близилась к завершению. Это чувствовалось по усиленному пыхтению, причмокиванию губами, вращению глазами и зарождавшемуся где-то в недрах горла клокотанию: обычному предшественнику мудрых изречений. Но вместо ожидаемого перла вылетело неуклюжее:
– Есть! Приступаю к ответу! Петров чуть было не поперхнулся этой фразой, настолько она ему показалась вялой и бесцветной. Поэтому, исправляя недоусердие, он пошел на новый вираж. Уже громким командирским голосом, развернув носки и всколесив тощую грудь, четко произнося слова, на сей раз бравым манером:
– Разрешите отвечать, товарищ лейтенант? И снова повисла вопросительная пауза. Однако офицеру такая старательность показалась излишней. Налицо были явные отклонения от принятых правил игры, возможно даже обозначилась тайная попытка несколько подшутить над ним, сфамильярничать или подурачиться. Педагог нахмурился. Как и положено политработнику, стараясь избегать конфликта, мягко, но уже с металлическими прожилками:
– Спасибо, Петров! Садитесь! Подготовитесь к следующему разу, не каждый может осилить такой трудный вопрос на втором году службы! – благополучно вышел из возникшей опасности. – Кто знает правильный ответ на поставленный вопрос? – спросил лейтенант, в упор глядя на Рутова. Тот быстро смекнул, что выдалась возможность кого-то подставить, поднял руку, и, получив одобрение, вскочил:
– Гордеев знает, товарищ лейтенант! – отыгрываясь на сослуживце за язвительную реплику по поводу изломанного камбузного веника. Но офицер не стал вникать в интригу и решительным:
– А вы? – перевёл внимание слушателей на несостоявшегося мстителя. – Могу и я! – ответил Рутов, принимая в проходе между койками монументальную позу строевой статуи. В дальнейшем, эта вышколенная привычка вытягиваться в солдафонской позе вызывала удивление и насмешки в гражданской жизни и часто приводила к курьезным случаям, связанным с непониманием необходимости громким криком и чеканными фразами излагать даже самые обыденные и простые суждения. Отвыкнуть от нее, научиться тихо и внятно разговаривать, не надуваясь при этом, не пожирая собеседника глазами и без поминутного требования подтверждения понимания сути беседы, было неимоверно трудно. На это ушли годы. Этические нормы, заложенные в юности, укореняются так прочно, что на их пересмотр уходит вся зрелость. Многим такая работа оказывается вовсе не по силам и они на всю жизнь остаются орущими собеседниками с руками, опущенными по швам, и накалывающими своего слушателя на острие глаз, немигающе уставившихся в зрачки партнёра. Кто вздумает уклониться, того удерржат за пуговицу, талию, полу пиджака. Отвести взгляд тоже не удастся, ибо радетель будет шустро перемещаться, отслеживая ваши ухищрения и грузить вас, грузить, пока не добъётся взрыва эмоций. Затем пойдут упреки, сетования, непонимания и другие стенания поведенчески искалеченного человека. За гротескной формой неизменно следует ущербное содержание и порожденными таким образом социальными инвалидами пополняется общество из года в год, отчего оно в целом становится все солдафонистее: много рвения и мало разумения. Так и Рутов. Водрузив себя в привычный фрунт, что есть мочи гаркнул:
– Разрешите отвечать! И услышав ожидаемый ответ: – Добро! еще сильнее, почти на пределе голосовых возможностей озвучил:
–Есть! И затих. Так было принято. После уставной эквилибристики словами необходимо выразительно помолчать, но при этом должна проистекать готовность преданно служить, угождать и отвечать. Паузу передерживать нельзя. Это могло свидетельствовать о ... дальше следуют подозрения о возможном оскорблении, обвинения в неуважении, прокладывающие дорогу в штраф ... дисц ... и прочие гаупт ... На исходе последних мгновений правильной паузы в кубрике прокатился очередной громовой раскат:
– Товарищ лейтенант, докладываю Вам, что благосостояние нашего народа неуклонно растёт! Доклад окончен! Докладывал матрос Рутов! – Молодец, Рутов! Дополнительное время, отведенное вам на самоподготовку, не напрасно прошло. Упорная двухчасовая работа над темой, по всему видно, укрепила вашу веру в постоянный рост материально-технической базы честных труженников. Продолжайте и дальше углублять политические знания, ибо нашей стране, как вам известно, нужны сознательные воины, умеющие отличить гнилые лозунги западной фальшивой идеологии от светлых устремлений нашего общества Это был успех! Блуждающая звезда служивой судьбы озарила светлый лик матроса. Не прошло и двух лет, а он уже удостоился похвалы. Первое упоминание собственной фамилии с поощрительным намеком согревает душу, поднимает и несет! Сколько людей упало с высоты, стремясь подняться еще выше.
– Разрешите вопрос, товарищ лейтенант? Радостная, упругая и громкая волна накатила на офицера, обошла его и, преодолев бронированнные борта, унеслась в космическую даль.
– Слушаю вас, Рутов! – с опаской согласился педагог, ибо деваться было некуда: для того и проводятся политзанятия, чтобы всякое брожение выудить, направить куда следует и развеять.
–Тут я вот выписал непонятные слова из самоподготовительной брошюры: посеянные разумные семена незамедлительно дали яркие всходы; кризис непонимания эпохальных указаний накалил почву в стране; волна повсеместного одобрения поднялась на недосягаемую высоту; чтобы объединиться, надо решительно и резко размежеваться; наши члены и органы нанесли сокрушительный удар адептам и ретроградам ...
– Остановитесь, Рутов, хватит! Вы что? Выступаете против линии? Вам больше всех надо? Или думаете, что только вам непонятно? А если каждый начнет спрашивать, интересоваться, выяснять и задумываться? Так можно далеко пойти и, чего доброго, начать критиковать, сомневаться, сопоставлять? А кто служить будет, стоять ... на страже и защищать? Ведь во всем мире только нашим воинам доверено своей грудью закрывать великие завоевания народа. Жаль, Рутов! Вы так хорошо ответили на сложнейший вопрос о неуклонном росте благосостояния, что заслуживали поощрения, а теперь, после вашей подрывной выходки ...? Пока садитесь ... на рундук! Там видно будет, посмотрим, посоветуемся ...
Триумф и падение шествуют рядом! Белая лошадь победителя сбилась с ноги и споткнулась! Лавровый венок шлепнулся в дорожную пыль. Великий слетел с седла и стал маленьким и едва заметным. Никому ещё не удавалось повторно воссесть на потерянный трон. Рутов и до половины не дочитал заготовленный текст. Уличенный, разоблаченный и обвиненный, растерянно умолк, пока еще не очень понимая, почему нельзя спрашивать о том, что изложено в доходчиво написанной специально для широких матросских масс разъяснительной брошюре. Однако опыт вкруговую обложенного, до краев загруженного и беспросветно бесправного пока еще живого существа подсказывал ему, что необходимо как-то смягчить впечатление, продемонстрировать свое кредо “всегда” и постараться уйти от нависшей угрозы. Поразмыслив, он поднял руку, дождался разрешения, встал, старательно проделал процедуру водружения себя в позу монумента и: „Прошу позволить мне в знак признания заслуг членов политбюро перед ншим народом окантовать их фотографии золотистым галуном”.
Гордеев с завистью посмотрел на быстро растущего сослуживца. Повернулись в его сторону и остальные присутствующие. Лейтенант даже растерялся от неожиданной демострации покорности, но, дабы избежать вероятной хитро задуманной ловушки, подвоха или намека, театрально держал паузу, обдумывая при этом свой ответ. Явного ущерба для авторитета офицера в подхалимском предложении не содержалось и он великодушно повелел:
– Набросайте эскиз, обсудим, согласуем ... А что вам так приглянулись эти люди? – заинтересовался подозрительный политработник. Ответ прозвучал убежденно и сразу:
– Носы!
– И всё? – переспросил опешивший наставник линии.
– Нет, не всё, ещё уши и брюки – подытожил Рутов вместо того, чтобы в очередной может уже сотый раз поведать благодарным представителям народа, о талантливых выходцах из самой исконной глубинки, которые своим трудом, неиссякаемой верностью, преодолевая лишения и козни врагов, высоко держат, крепко несут, во имя, во благо ... и нам, молодому поколению, оказана завидная честь стоять на страже, бдительно смотреть и ежедневно пресекать преступные посягательства зарвавшихся и пока ещё несознательных и завистливых агрессоров.
–Поясните, Рутов, ваши наблюдения! – попросил озадаченный лейтенант. – Есть, пояснить наблюдения! – привычным эхом отозвался новоявленный физиономист и поведал миру новую возможность распознания вождей, до поры до времени скрывающихся в толще народной и только ожидающих своего часа, чтобы прыгнуть наверх и увлеченно приступить к руковождению. – Обратите внимание – говорил он – на снимках изображены люди разных национальностей, у каждого из них своё особое построение лица, присущее его народу, однако, носы у всех одинаковые. Прежде всего они длинные. Убедитесь сами. Матросы дружно повернулись к политдоске и моментально согласились, что Рутов не врет. Рутов честный парень и не стал бы зря утверждать про носы, если бы это было не так. Все матросы тысячи раз смотрели на вечно попадающиеся на глаза фотографии членов и никому в голову не пришло объединить их в одно племя длинноносых. Наверное что-то в этом есть, если такие непохожие люди дружно добрались до вершины, заняли видное место в стране и уравнялись по клановому носу.
–Кроме длины, поражает также прямая линия носа, формирующая римский профиль своего носителя. Этот длинный прямой нос неизбежно утолщается книзу и расходится по сторонам полновесными несколько хищными крыльями. Прекрасные породистые носы. Вот ты, Гордеев, какой имеешь нос? Правильно. Значит быть тебе наверху, подходишь по калибру. А у тебя, Кнутов? Как пуговка или пятачок. Извини, брат, не быть тебе генсеком! Не вышел в масть, но всё равно крепись! У тебя, если хорошенько поискать, вполне может оказаться пока не замеченный или сильно спрятанный внутри натуры другой, даже более нужный талант.
– Что значит “более нужный”? – взвился политработник.
– Извините, товарищ лейтенант, я хотел сказать более-менее что-нибудь полезное, ведь должно же быть хоть что-то в его окур носенной башке? Это он вчера доказывал, ссылаясь на свой колхоз, что председатель главнее секретаря. Выходит, там, наверху, не могут разобраться в должностях и правление нашей страной доверяют какому-то секретарю, которому подчиняются сразу оба председателя и министерский и депутатский. Да вот и в брошюре так написано, или может там ошибка вышла невзначай.
– Нет, нет, там все правильно подано для усвоения. Это вас Гордеев сбивает с честного пути прохождения службы? На прошлом занятии мы уже выяснили этот вопрос. В колхозе – это секретарь, и тут Кнутов прав. Действительно, колхозный секретарь не может руководить страной. А вот, если его назвать генеральным, тогда пожалуйста. Ну теперь-то, надеюсь, всем ясно? Полная тишина, воцарившаяся в кубрике, убедила лейтенанта в неотразимой мощи своего объяснения неразрешимого казуса великой державы. Многие политработники на бесконечных занятиях натыкались на очевидную нелепость, сокрытую в чинопоименовании первых лиц государства. Каждый из них выкручивался, изворачивался и даже оправдывался, как мог, рискуя затронуть недозволенное после чего изведать установленное.
– А что значит генеральный? – спросил Гордеев. Лейтенант, качаясь на волнах удовольствия от такого ладного толкования запутанной темы, даже не отреагировал на явное нарушение дисциплины и дружелюбно пояснил, это, дескать, просто общий, главный и всего-то! – Значит, если секретари соседних колхозов изберут себе одного и назовут его главным, то он уже может управлять соседним районом и не слушаться тамошних председателей? – не унимался Гордеев. Таков удел политрука: разъяснять несуразное, убеждать в невозможном и верить в несбыточное. Лейтенант устал. Лениво отмахнувшись от надоедливых мыслей, он решил не услышать последний вопрос, ибо, как и его подчиненные, в совершенстве владел приемами увиливания от занятий путем запуска педагога по бесконечному разъяснительному кругу, состоящему, якобы, из немыслимо интересных вопросов. Остановив глаза на Рутове, напомнил ему о ещё не рассказанных ушах. Тот, до сих пор державший фрунт, как пришпоренный, понёсся дальше.
– Вот я и говорю – обратился он к заинтересованным сослуживцам – носы сами по себе не ходят, они обязательно добавляются ушами. Головы на этих фотографиях разные по размеру, но все они имеют большие роскошные уши, вмеру оттопыренные и чуть-чуть завернутые сверху. Извилин на ухе немного, но их и не мало, они образуют плавные перегибы и заканчиваются валиком, который по задней кромке уха спускается к мочке, несколько отстоящей от челюсти. Хорошо сформированная мочка, немного провисшая и уверенно отодвинутая от головы – признак породистости, здоровья и отсутствия тайных пороков. Люди с приросшей мочкой тоже иногда могут быть неплохими. Это зависит от их брюк. Если штанина висит трубочкой и на ладонь не достает до ботинка ..., к счастью, таких в правительстве нет.
– Достаточно, Рутов! Видно самоподготовка на вас плохо влияет, если возникают фантазии или даже собственные мысли, не согласованные, не одобренные .... Вместо того, чтобы упорно овладевать великими предначертаниями, вы умничаете по поводу всяких там разумных семенов, накаливших почву на недосягаемых членах адептов. Или может это сказывается разлагающее действие Гордеева? Уж подозрительно сходные у вас нездоровые шатания! Прямо-таки подрывные уклоны. Садитесь ... на рундук ... пока! Неуправляемые знания опять породили трудности. Снова надо отряхивать пыльный венок, ставить ногу коню и, хромая, плестись к оставленному трону.
Неожиданно в кубрик вошел старшина первой статьи Панченко. Получив разрешение офицера, он коротко объявил, что матросы Гордеев и Рутов, ошибочно зачисленные в общую группу политзанятий, переводятся отныне в корабельную школу пропагандистов. Этот перевод оказался чем-то вроде реабилитации обоих зарвавшихся умников потому как снимал с них угрозу списания с крейсера в числе неблагонадежных и направления дослуживать туда, откуда обратной дороги не бывает.
– Закончить занятия, команде руки мыть, бачковым построиться, расходному подразделению наверх! Отзвучал сигнал, отодвигая в прошлое только что, казалось, такие важные события.
Человеческие судьбы закачались на новом отрезке времени, который вот сейчас, ну вот-вот именно сейчас, является настоящим, а пройдет совсем чуть-чуть, совсем несколько мгновений и это “сейчас” тоже станет прошлым, прошедшим, ушедшим. Навсегда! Никак не удается побыть и пожить в настоящем. Оно, как скользкая рыба из рук, срывается, несется, уносится, увлекая за собой юность, молодость, зрелость и старость, а затем память, воспоминания и забвение. Незаметно ветер времени остудит человека, настанет миг и прощальным эхом прозвучит последняя разбитая секунда, за ней мгновенья дальше потекут, но без меня, и без неё, и без него, и без тебя. Ну а пока? Пока расточительной жизнью живем, транжиря время на вхождение в войну, потом на саму войну, и, если повезет, затем на выход из войны, заполняющий собой всё остальное бытиё вплоть до березки в изголовье.
Доблесть человеческая взрастает на убийствах. И не важно при этом русский, немец, эфиоп или индеец схватился за кинжал. В этих особях взяла верх агрессивная материя, подчинившая себе интеллект, разум и дух. Все духовное оказалось в услужении и рабстве у воинствующего вещества, вечно бурлящего, конфликтующего и неизменно стремящегося к уничтожению даже ценой самоуничтожения. Огромная сила сокрыта в злобной материи. Добровольно свою жертву она не отпускает никогда и потому служит неким мерилом зрелости духа: освободится тот, кто по мощи не только сравнится, но и превзойдет силу тюремщика. Пока на нашей Планете имеются лишь отдельные примеры победы интеллекта над непрерывно атакующей биомассой. Но начало положено. Материализм перетянул чашу вселенских весов за черту черных сил разрушения, которые убьют Землю, если на другую чашу сначала для выравнивания, а затем и для пересиливания люди не смогут или не успеют водрузить созидающую духовную организацию бытия.
Звучат корабельные команды, кипит на крейсере работа, бушуют страсти, вершатся судьбы, люди посвящают жизнь ... чему? Убийству! И не важно, что это эфиоп или индеец! Взявший в руки орудие убийства, является убийцей. Так управляет их поведением преобладающий в современном человеке самый низкий уровень, материальный план Вселенной. И управление это ведет в никуда, в туманное облако, мертвой пылью обнявшее Солнце.
Нельзя об этом знать матросам. У них не должно быть даже подозрений, что где-нибудь, пусть в тридевятом царстве, в прошлом, сейчас или завтра, при этом вожде или том возможно иное толкование жизни. У матроса не должно быть ни возможности, ни времени, ни желания усомниться в святости кормчих божков. Для этого свободное пространство в его голове заполнят ... благосостоянием народа, которое растет, почетной обязанностью убивать, гордо нести оружие и счастьем отдать свою ничью жизнь за ошибки дилетантов-политиков. Миром правит злобная материя с большим кипением при малом разумении.
Ну а пока? Пока команды надо выполнять. Гордеев и Рутов скорым шагом направились к рубке вахтенного офицера. Построение, осмотр внешнего вида, равняйсь, смирно, расходное ... вашему приказанию ... второй статьи Кошкин, вольно, слушай приказ ... Сотни, многие сотни раз одно и то же. Без участия сознания носки ботинок устанавливаются по линии, прочерченной на деревянной палубе, голова лениво дергается сначала на правофлангового, затем водружается прямо, глаза блуждают по надоевшим береговым окрестностям, не найдя там ничего нового, возвращаются по ютовому трапу на борт, ползут по леерам, не цепляясь ни за что, потому, как не счесть сколько раз они проделали этот путь, сопровождая спящий разум в своем безразличном шевелении, доходят до рострового трапа, восемь ступенек, шлюпка ... девушка. Но поскольку это мираж и невозможное видение, не поддаваясь соблазнительным призрачным провокациям, глаза ползут на мачту, уже подбираются к флагштоку и в панике вдруг, пропуская все постылые детали корабельных надстроек, мгновенно переносятся к шлюпке: точно ведь, девушка. Может нарисованная, плакат, транспарант, кино или шутка? Да нет же! Она встала, поправила платье, снова села, закинула ногу на ногу и матросам открылось кружевное белье. Не нужно бомбить корабль, торпедировать или взрывать. Одна красавица в заманчивой позе укротит крейсерскую мощь, возьмет команду в плен, усмирит воинственность и направит помыслы бойцов совсем в другое место. Невинное создание, сидя на рострах, любовалось береговой панорамой с крейсерского борта. Дочь командира была первым женским существом, посетившим корабль за время службы Гордеева. Не только он, весь строй матросов развернулся в направлении нежданно возникшего очарования для глаз. Кому посчастливилось в это время проходить по верхней палубе, тот останавливался, протирал глаза, с опаской старался подойти ближе, разглядеть получше, не спугнуть и убедиться, что настоящая. Постепенно вокруг неё образовалась свита из восхищенных созерцателей, на неё смотрели с мостика, мачты, надстроек, кранов и балок и уже даже на реях стали заполняться места. Кораблю грозило разоружение. Боевая готовность падала, мужская доблесть поднималась. Еще немного и крейсер окончательно потерял бы грозную силу. К счастью для страны, девушка закончила обзор берегов, видимо, осталась довольной, ибо, встала и, волнующе покачивая короткой юбкой, скрылась в командирских покоях. Солнце над планетой закатилось! Небесное видение исчезло. На корабль спустилось местное затмение. В густых душевных сумерках стало невозможно жить.
–Гордеев, Рутов, кобели падучие! Бдительный Кошкин бросился спасать нравственность подчиненных от неминеумого разложения. –Шлюпку нáводу и шустро, в три хера вашу..., на Балаклавский мыс за песком, старший Рутов! – Есть! Ответил Рутов и поспешил к шлюпке, всё ещё глазами ища растаявший призрак. Вот спасибо судьбе за нечаянный праздник души.
Два топляка с лазаретных времен женщин видели только в кино, на обложках брошюр о счастливой жизни народа и на далекой пляжной полосе, если иногда удастся украдкой, воровским манером, пробраться на ходовой мостик и заглянуть в оптический глаз дальномера. Матросы, которые нечасто, но все же бывают на большой земле, рассказывают удивительные истории. Будто там, на материке, женщины ходят свободно, куда хотят, и на них можно смотреть сколько угодно. Они даже добровольно приходят на Минный пруд и каждый моряк, даже такой как ты, Кнутов, может пригласить, низко поклонившись, самую красивую девушку, а она, положив руку на погон, разрешит, вот тут уже надо быть очень осторожным, обнять ее за талию и закружиться в танце... Конечно, все знают, что рассказчик скорее всего врёт, но до чего же складно. Каждый не находит места для своей руки, горящей огнем от воображаемого ощущения девичьей талии. Неужели всё-таки врёт? Нет, не может быть, чтобы он так, зазря, издевался над людьми! Да! На берегу много соблазнов. На то он и берег. А тут прямо на корабле, на рострах, совсем рядом с боевой рубкой! На многие месяцы это яркое событие детским восторгом будет согревать унылую и почти бесполую серо-уставную корабельную службу.
Заняли места, заскрипели кран-балки, будничным шлепком днище коснулось зеркальной воды, весла нáводу, правая табань, обе навались, пять километров туда, пять обратно, не прошло и полтора часа, а на палубе уже стояли ящики с изумрудно чистым кварцевым песком. Заботливый Кошкин от щедрости своей отвалил целых семь минут на обед. И уж если нужно пищу где-то хранить, то лучше в желудке. Пусть там полежит прозапас, возможно в пользу пойдет. Повеселевшие моряки, сэкономив минуту, позволили себе неспеша прогуляться по шкафуту и вовремя прибыть к старшине. На юте кипела работа. Вся кормовая часть крейсера в спешном порядке, но в ленивом исполнении, как всякое надоевшее действо, приводилась в надлежащий вид, когда-то кем-то установленный для обычного случая встречи командира бригады кораблей. Если все вокруг сияет чистотой, блестит медью и бронзой, покрашено, зачищено и убрано, то это очень плохо. Это значит, демонстрируется давний порядок, наведенный, может быть, по поводу другого визита, начальника чином поменьше и ему, самому комбригу, подают завалявшийся лоск. Кого-то ждали, встречали, старались, а теперь хозяину войти в чужое сиянье? А где трепет подчиненных, где эффектные массовки бортового театра, где тонкости, детали и находки сценариста, порождающие мифы, легенды и сказания матросские? Что даст подсказку и вдохновит корабельных поэтов воспеть суровым стилем восхождение начальника под флагманский вымпел?
Историки заметили, что начальство прибывает исключительно в хорошую погоду. При этом воде положено серебриться, ветерку что-то тихо шептать, чайкам и бакланам с криками носиться, свежей волны не должно быть совсем, в крайнем случае, ласковая зыбь обязана навевать, воспевать, помогать, намекать ..., солнцу, как правило, поручается самостоятельно испускать теплые лучи, рыбе и прочей живности в сей момент предписывается спать на дне морском и не мешать штабному катеру гордо вспенивать буруны за кормой. Да! Сильно на ходу смотрится катер. Порыв, изящество и мощь! Вздыбленный форштевень, от усердия мотора чуть притоплена корма и кажется глаз уследить не успеет, как появятся крылья и воспарит над заливом волшебная птица. Она уже машет лентами бескозырок, на ветру затрепетала флагом, завалилась набок, зачерпнула воду, описала круг по бухте и взлетела бы с разгону, но ... конец пути.
Катер резво привалил, мощно дал винтом задний ход и остановился неподвижно у причального мостика парадного крейсерского трапа. Крюковый, все еще упираясь коленями в носовой страховочный рым, зацепился багром за швартовочный планширь, подтянул катер и выровнял его ступени с мостиком. Наступил момент выхода главного актера на великую сцену. Прибывший, ещё будучи внизу, на решетчатом настиле катера, запрокинув голову вверх, убедился, что его встречают правильно, ибо, как того и требует ритуал, на верхнем мостике трапа в позе приветствия стоит в ожидательном порыве командир крейсера. Комбриг ступил на скобу, затем на мостик, легко прошагал восемнадцать ступенек, для сего раза и по данному торжественному случаю укрытых изящной ковровой дорожкой, и (оказался, явился, появился, ступил) взошел на верхний мостик – предшественник ютовой палубы. Это мгновение ожидалось и готовилось сутки. Сотни людей, делая своё дело, вкладывали душу в этот момент. Комбригу достаточно беглого взгляда опытного моряка, чтобы отметить сразу и всё. Деревянная палуба надраена и чистá, но не отсюда проистекает усердие. Она должна быть труднодостижимого белояичного цвета, совершенно ровного и неизменного оттенка по всей просторной площади, на ней удаляются даже самые тонкие ворсинки, сразу придающие палубе неухоженный вид и нарушающие матовую равномерность, приятную для глаз. Очень важен при этом стык палубы с надстройками, клюзами, кнехтами и другими металлическими возвышениями. Поскольку плинтусá на кораблях не применяются, этот стык обращает на себя внимание всех знатоков и служит мерилом морского форса и строевого шика. Обычно пограничная полоса закрашивается яркой краской, что является так себе, не очень ... Сейчас же комбриг заметил на визитных местах лаковую строчку из дубовых паркетин. В душу вошло удовлетворение. Он представил себе невероятный труд, вложенный в такую окантовку и уже заранее настроился благожелательно ко всему, что увидит дальше. Якорные цепи, кнехты, клюзы, бушприты, направляющие рымы – черные и блестящие, покрашены краской в один слой. Это уже если не подвиг, то мастерство. Соскоблить многолетние наслоения покрытий можно только рабским трудом многих и многих поколений штрафников: молодым – наука, годкам – авторитет, для престижа – польза. Леера, флагшток, волнорез, переборки – блистают свежим цветом благородной морской эмали с неизменной белой полосой по контуру строений. Даже шпигат сверкает чистотой – что почти невозможно. Туда хотя бы что-то да занесут в ясную погоду ветер, в грозу дождь или пыль от ног прохожих. А сейчас невероятно чисто! Хотя все присутствующие знают, как достается это “невероятно”. Матрос с кистью наперевес, при движении комбрига ступеньками трапа, тренированным манером шустро успевает вживописать завершающий авторский мазок в коллективный изобразительный шедевр под названием “крейсерская мистерия”. Да! Сомнений нет. Корабль встречает именно его, комбрига и хозяина. Лоск подают не завалящий, а совершенно свежий, персональный, приятно пахнущий знакомым ароматом красок, моря и фантазии. Конечно, в душе потихоньку звенит струна, наполняя чувства пока далеким беспокойством, от того, что могучая единица флота, в сухопутном исчислении приравниваемая к дивизии, на несколько недель изъята из боевой подготовки и превращена в театр, раскрывающий своим зрителям весьма сомнительную нравственную идею. Начальствующие боги достойны поклонения, однако, на жертвенном огне не должны гореть чужие ничьи жизни, интересы и средства страны. Мастера палубных оттенков и ворсинок, умельцы паркетной строчки вдоль бортов или заборный ваятель с кистью наготове в боевом походе не успеют обнаружить ..., не вовремя подадут ..., с опозданием наведут ..., совсем немного промахнутся ... “последний парад наступает ... пощады никто не желает ...” Аминь!
А пока? Красиво стоит командир! Поворот направо, три шага вперед, разворот именно в тот момент, когда комбриг сделает первый шаг с мостика на ют и:
– Товарищ адмирал, разрешите приветствовать Вас на борту крейсера “Дзержинский”, командир корабля капитан первого ранга Данилевский! Шаг в сторону, одновременно с которым оркестр грянул приветственный марш, на реях медленно пополз к своему месту вымпел морского чина, а комбриг хорошим шагом, пошёл по кругу, обходя впечатляющий строй почетного караула. Морские офицеры умеют ходить. Это тонкое искусство и они им владеют вполне. Легкие ботинки не дают разгона ноге, потому могучий удар заменяется ладным и округлым, музыкально завершенным, благородным и ритмичным звуком: та-так-х, та-так-х ... Чтобы получился такой эффект, особенно на качающейся палубе, нужно идти всем телом, постепенно перераспределяя движение по ноге, тазовым суставам, груди и рукам к голове. Широкая штанина, вечно норовящая закрутиться винтом, задиристый кортик, хвастливо рвущийся напоказ, и удлиненный китель требуют к себе внимания и умелого обращения. Потому шаг уже не ученический, не строевой, но правильный, а главное индивидуальный, является надёжным свидетельством того, чего стоит его носитель, глубокой ли морской пропитки, да и вообще, что он за человек? Комбриг в непорочноснежном кителе, картинно разукрашенном черными, серебристыми и золотистыми отличиями формы, с молодым здоровым лицом, озорными глазами и традиционными усами упругой поступью, соответствующей его чину, достойно подошёл к строю десантников – утих оркестр, замерли все звуки во Вселенной:
– Здравствуйте, товарищи матросы!
Рослые, красивые и великолепные образцы породы человеческой, одетые в форму номер два: черные ботинки и брюки, белая форменка и бескозырка, с карабинами у ноги и завораживающим блеском штыков, дружно вдохнули воздух. Присутствующие с удовольствием погрузились в приятную на ощупь ритуальную паузу. Обе стороны, несмотря на кажущуюся торжественность и волнительность бортового спектакля, спокойно рассматривали друг друга, ибо позади и первая, и вторая, и много других обычных и особых, ответственных и важных выступлений тех же участников, на той же сцене, для сливающихся в один сплошной блеск многочисленных чинов, несущих служивому люду лишнюю нагрузку, пустую работу и сбой и без того зыбкого повседневного уклада.
– Здравия жааам, таааищ адмирал! Ранее запасенный воздух вырвался наружу. Снова грянул марш. Пока начальник шел к другому каре, образованному караульным подразделением, оркестр, стараясь заглушить самого себя, тщательно подстраивался под ногу идущего. Комбриг остановился, повернулся лицом к строю, оркестр ... это надо уметь так внезапно смолкнуть, на любой ноте, в любой момент, словно натолкнувшись на препятствие.
– Здравствуйте, товарищи матросы! Вдох! Пауза!
– Здравия жееем ...! Марш! Переход...!
Подразделение за подразделением беззаботно желали адмиралу здравия, к их щедрости присоединялся оркестр, внимательно следивший за тем, чтобы церемониал не был опорочен тишиной. Это ему удалось, ибо почти неделю чайки и бакланы боялись подлетать к кораблю, да и потом они не сразу осмелели, а только после нескольких опасливых пролётов. Наконец, все, кто хотел, поздоровались с адмиралом, полюбовались его великолепием, проводили глазами от одного каре к другому и довели его к исходной точке, где он, смилостивившись, скомандовал “вольно!”. Но это вовсе ничего не значило. Все по-прежнему стояли “смирно”, потому, что командир разрешительную команду не продублировал. Вместо этого он отошёл в сторону, пропустил комбрига впереди себя и, неся себя величаво, старательно подрагивающей походкой, одобренной оркестром, сопровождал старшего начальника в флагманские апартаменты. Вот он с бархатной дорожки, уложенной от трапа, свернул на другую, расстеленную рядом с противоположным бортом, благополучно миновал рубку вахтенного и буднично скрылся в правом офицерском коридоре. Главный актер спектакля, исчерпав свою роль, покинул благодатные театральные подмостки. Увенчанный славой, предоставил возможность статистам самостоятельно доиграть концовку заученной пьесы и опустить занавес по своему усмотрению. Это усмотрение дальше проистекало от старпома. Он стал впереди строя, окинул всех от левого фланга до правого одобрительным взглядом, сделал шаг назад и глубоко вдохнул. И снова была подарена миру плотная, насыщенная, искристая и лучистая пауза. В головах людей привычно щёлкнул секундомер, стрелка понеслась по кругу, добежала до отметки, которая считается правильной и все приготовились услышать то, ради чего старпом и затеял демонстрацию своего усмотрения:
– Вольно! Дублирование вельможной команды состоялось, но старпом, довольный хорошо исполненной коллективной работой, расплываясь в улыбке, от нетерпения даже несколько раз потоптался ногами, решился и в завершение объявил:
–Участников встречи благодарю за службу, спасибо, товарищи! И, не ожидая уставного ответа:“Служим...!”, продолжил уже совсем миролюбиво: – Прошу разойтись, еще раз спасибо! И дальше, как ни старался прежде говорить своими словами, сорвался всё же на привычное: “Команде приступить к выполнению распорядка дня, разойдись!”. Последнее указание потонуло в топоте ног, бряцании оружия и всё усиливающемся гомоне людей, около двух часов простоявших в напряженной позе на южном солнцепеке, транжиря жизнь свою в очередном костюмном маскараде. Вскоре вестовые свернули казенный ковер и унесли последнее напоминание о только что свершившемся почти торжественном событии. Палуба опустела, напрасно излучая в голубое небо свою крашеную красоту и, вероятно, тоже обижаясь на судьбу за внезапный переход от всеобщего восторга до полного забвения. Страдания вещей сродни страданиям людей. Матросов подобные парады трогают мало. Они давно к ним привыкли, притерпелись и участвуют в них, поскольку некуда деться. Потому и сейчас, скупо отметив кое-какие детали, разошлись по кубрикам, курилкам, умывальникам, чтобы как-то собрать себя в нечто целое после строя, жары, оркестра и бутафорской бессмыслицы происходящего. Тем более, что близилось время развода караулов, вахты и ужина, которые, как часто бывает, круто меняют судьбы людей.
Пользуясь тем, что в неурочное время выдалось несколько свободных минут, Гордеев вышел на бак покурить. Его сразу же насторожили необычные звуки, раздававшиеся из плотного кольца матросов, обступивших правый носовой клюз: бгахх, бгахх...! Подошел ближе, прислушался: тупые удары деревом по металлу и знакомый голос шкипера, осваивающего, как и Гордеев, второй корабельный год. Фамилия, кажется ... кажется ... Каракуль, нет, это, пожалуй, кличка, прозвище за невероятно густые и вьющиеся волосы, почти шерсть, покрывающие все тело, а фамилия ... что-то хищное ... ага ... Тюрин, точно это – Тюрин. В свое время он натерпелся из-за такой шерстяной заметности, ибо каждый раз при объявленой форме одежды “раздетым до пояса” выделялся из общей массы обнаженных людей. К нему, единственному, стекались любопытные, старались прикоснуться, погладить и ощутить покров на ладони, после чего неизменно следовало накручивание завитушек на палец и вырывание клока волос. Шутники были уверены, что помогают человеку и несут ему благо, освобождая участки кожи от ненужной растительности и допуская к телу живительные лучи света. Длинные ответные возражения с естественными уточнениями воспринимались, как сдержанная мужская благодарность, а рычание, размахивание кулаками и бодание ногами, как неудовольствие от начатой, но не законченной работы. Постепенно к нему привыкли, потеряли интерес и забыли. Однако сам Тюрин обиду помнил и ловил удобный случай, чтобы получить свою долю отмщения. Вот и теперь, низко припав на колени, округлив глаза и напустив значительность на физиономию, прикладывал ухо к якорной цепи, то к одному ее огромному кольцу, то к другому, и всё слушал что-то идущее из глубины и, по всему видать, несущее смертельную угрозу для всего живого на Планете. Судя по взволнованному Тюрину, в морской пучине против добрых людей действительно что-то затевалось. Поганые силы, если их не приструнить, могут украсть якорь, перекусить цепь, такую нужную всем честным человекам, или даже взобраться по ней на палубу и ..., да минуют нас такие страхи и грехи наши ...
– Ага! Вот! Нашел! Бей сюда! Палец Тюрина сначала ткнул в третье кольцо, а потом, по мановению его руки, на нём же меловой линией обозначилось точное место. Ударив в него, можно напугать или даже прочь отогнать зарвавшуюся нечисть. Рядом стоящий парень старательно подхватил деревянную кувалду, широко, по-деревенски, размахнулся, хекнул и припечатал, куда сказано. В окружающем пространстве заметных изменений не произошло. Возможно там, в толще воды, и начался переполох, но люди об этом ещё не знали. Тюрин одобрил первый удар и заверил новичка, что через полчаса, если не останавливаться и бить непрерывно, постепенно увеличивая силу удара, крабы перестанут грызть якорь, оставят в покое чугунную цепь, а со временем и вовсе убегут, увлекая за собой нехорошие силы и спасая тем самым крейсер от неминуемой гибели!
Зрители в замысел автора не вмешивались, ибо каждый из них в тонкостях знал эту пьесу. Некоторые когда-то тоже побывали в роли доверчивого парня и теперь с интересом наблюдали очередной вариант классической интриги. По всему было видно, к боцманам пришло пополнение. Травянисто-зеленая негнущаяся роба, на кармане куртки ещё отсутствует номер, невыцветший берет, новые ботинки, густо-синий гюйс, затравленные глаза – вобщем, салага. Наблюдая за ритмичной работой неуклюжего спасителя, Гордеев с грустно-щемящим чувством осознал, что он уже не молодой. Этот старательный, неловкий и подавленный труженик одним только своим появлением подвинул его годы, заставил осознать, что есть уже моложе его, а он стал намного старше, что на исходе второй служивый год, а значит, отроду двадцатый, и что зряшно жизнь идёт куда-то мимо, остужая душу, озверяя сердце, усыпляя разум. Кажется совсем недавно на этой же палубе непокорные северяне приняли первый бой, потом второй, третий ... да сколько их было? Драки, унижения и тоска, отчаяние и безысходность, гибель сослуживцев и смерть своя, а всего-то и половины срока не прошло. Не по делам борьба, много труда вложено в ничто, пустые страдания ломают разум, снижают стойкость в бою.
–Заступающей вахтенной смене приготовиться к построению! Привычные, надоевшие и опостылевшие корабельные команды, круглосуточно и круглогодично льющиеся из громкоговорителей, толкают в спину, выключают голову и вынуждают действовать автоматически, отработанно-бездумно, безразлично. Все давно и точно знают, что сначала появилась команда, потом динамик, потом матрос и уже ко всему этому добавили крейсер. Теперь их не разъединить, порознь существовать они не могут, видимо поэтому с корабля досрочно живыми не уходят. Без команды не выживет матрос, ибо нет возможности узнать, как следует жить. Наставнику и педагогу матросское ура!
А Гордеев? Только сейчас опомнился. С трудом оторвавшись от своих печально-старческих стенаний, спустился в кубрик для священнодействия над комплектом оченьспецмундира. Все молодые к каждому построению со всей величайшей тщательностью готовят одежду, пытаясь соответствовать практически невыполнимым требованиям. Всякий раз, получая при осмотре все новые и новые замечания, неизменно переходящие в наказания, они начинают сначала догадываться, затем, помаявшись на штрафных работах, укрепляются в своей мысли и вскорости рождается флотский феномен спецкомплекта. Для него тщательно отбираются ботинки, шнурки, носки, брюки, трусы, куртка и ..., так до бесконечности. Каждая вещь по отдельности, неторопливо, но с великими трудами, доводится до уставного совершенства. Все они вместе составляют ритуальный комплект, который в святости и бережно хранится в чистой подушной наволочке в рундуке на верхнем слое, чтоб не мялся под тяжестью грубой и неприхотливой парадной одежды или тем более рабочей. Перед смотром правильное облачение благоговейно извлекается, распаковывается, встряхивается и раскладывается на рундуках. Затем, не прикасаясь к нему, необходимо вскочить в брюки, куртку и тельняшку, поднырнуть под бескозырку и, закрывши таким образом телеса сверху, впрыгнуть в ботинки, запаковав себя снизу. К шнуркам уже можно притрагиваться, не боясь оставить на них пятна, брюки поправлять, держась за пояс изнутри, куртку – кверху подвернув подол, а бескозырку – только за черный ленточный околышек. После этого, накрыв ладони носовым платком, подвернуть и закатать штанины, а затем и рукава, ибо при движении на сгибах вполне может иногда случиться такое, что в некоторых местах окажется всё же несколько пятнышек, предположительно отдаленно напоминающих возможное достаточно заметное отклонение от правильных оттенков, вызывающее недоумённое удивление и пристальное внимание любознательного дежурного офицера. Весь заступающий наряд, облачившись в неприкасаемый мундир, боясь его испачкать, пингвиньим шагом, старательно обходя углы и людей, поднимаясь почти несгибаемыми ногами по трапам, стекается, качаясь из стороны в сторону, к месту построения. Каждому подразделению отводится своя площадка на палубе, потому даже беглого взгляда достаточно, чтобы немедленно определить количественный состав новой смены. – ...построиться на баке! К этому сигналу уже все заняли свои места и устремили взоры на левый шкафут, по которому должен пройти заступающий на сутки очередной дежурный по кораблю. Подразделения выстроились, образовав четкие прямоугольники бескозырок, горнист поднес инструмент к губам, а помощник дежурного, в позе застывшего порыва, ловил момент появления офицера в проёме двери рострового перехода. С последним звуком слов “на баке!” лязгнули ригели, дверь открылась, и показалась нога, перешагивающая высокий комингс.
– Рраавняйсь! Смиррно! Для встречи на шкафуте ...! Сразу же горнист залился торжественной трелью, а помощник, следя за штаниной, придерживая кортик и печатая свой личный шаг, горделиво, просто и красиво, даже с некоторой лихостью приложив руку к козырьку, двинулся навстречу дежурному:
– Товарищ капитан-лейтенант, заступающая вахтенная смена к разводу построена, помощник дежурного мичман Курбатов! И шаг в сторону, к леерам, открывая путь офицеру к уважительно застывшему строю.
– Здравствуйте, товарищи! Вдох, пааауза, излучение лихости.
– Здравия желаем, товарищ капитан-лейтенант! Выдох, вслед за которым приходит ощущение невероятной значительности происходящего, торжественность вселяет уверенность, поднимает дух и внушает желание жить! Но ненадолго!– Приступить к инструктажу, проверке знаний и осмотру! Дежурные по подразделениям делают три шага вперед, поворот кругом и оказываются перед строем. Всё! Матрос, и без того казённая корабельная единица, с этого момента превращается в механизм, который должен быть почищен и смазан, подрегулирован и доведен, накручен, заведен и запущен. Прежде всего надо убедиться, что он ... словом, как бы это сказать помягче ... ну, вобщем, человек ли он вообще? Для этого дежурный по РТС, сверхсрочный главный старшина Храмов, подозрительно и внимательно с решительной готовностью немедленно определить, найти, опознать того, кто в строю прикидывается человеком и того кто намеревается коварно обмануть старшину тем, что зная, что он вовсе не человек, все-таки стал в человечий строй, и всякими хитрыми уловками пытается в общей массе других ... тоже подозрительных ... сойти за ... ну уж нет, не быть мне Храмовым, со мной это не пройдёт. Глаза старшины уставились на правофлангового: лицо вроде человекообразное, правда, почему-то нет страха, не ёжится под моим взглядом, ну да ладно, до “разойдись” ещё далеко. Слева от него ... тоже как-то не так реагирует на мой осмотр. Третий, четвертый ... это что такое? – Фамилия?
– Матрос Нешаев!
– Пааачему не брит?
– Разрешите предъявить справку?
– Что ещё за справка на военном корабле? Выйти из строя! Доложите старшине команды об отстранении и немедленной замене в вахтенном расписании. Исполняйте! Бегом, вашу душу ... История эта повторяется почти каждый день. Матрос имел несчастье отличиться красивой окладистой бородой. Хотя уставом она не запрещена, все начальники дружно изнаказав парня вынудили его бороду сбрить. После её удаления лицо стало чистым и молодым, но даже выбритое до синевы, почти вместе с верхним слоем кожи, всё же имело вид свежей поросли из-за иссиня-черных корешков, срезанных подчистую волос. У всех после бритья лицо ровного телесного цвета, а у Нешаева на щеках и подбородке темный благородный оклад. Посмотрели начальники: не положено, сбрить, удалить, извести! Матрос стал скоблить себя, потом ещё, потом опять и через неделю началось невероятное воспаление. Бритье стало невозможным и начмед выдал ему защитительно-оправдательно-допускательную справку. Нешаев напрасно пытается кому-нибудь её показать, предъявить, объяснить. Не положено! У всех лицо как лицо, а у него видите-ли ... айяяй! На какие только уловки не пускаются, чтобы выдать себя за человека. Надо же ... справка? Глаза Храмова поплыли дальше. Этот..., и этот..., а этот? Матрос, уловив взгляд на себе, старательно рявкнул:
– Матрос Бойко!
– Вы пааачему спите?
–Никак нет, товарищ старшина, не сплю, мысленно повторяю корабельный устав! Спасая себя находчивый моряк решился на откровенное подхалимство. Храмов мгновенно подхватил предложенную тему, прщурил глаз, прикидывая, что спросить, и:
– Процитируйте главу о встрече начальников!
–Есть! Пропуская начальника, стать спиной к переборке, принять положение “смирно” и, поворачивая голову, сопровождать глазами проходящего, пока тот скомандует “вольно” или отойдет на некоторое расстояние! – громко, старательно и без запинки отчеканил, что пришло в голову и замолк. Старшина заподозрил искажение библейского текста, но сразу уличить в кощунстве не мог, не имея устава под рукой, потому зашел с другой стороны.
– Выходит, я для вас не начальник? Ещё этот вопрос не отзвучал, а Бойко уже доложил:
– Так точно! После чего собирался добавить “начальник”, но не успел. Старшина его опередил:
– Выйти из строя, за незнание корабельного устава от дежурства отстраняетесь! Ряды сомкнуть! Вольно!
Дааа! Храмова не проведешь! Нюхом чует подставного! Вроде и похож на человека, а приглядись получше ...
Старшина, как и все другие проверяющие, самостоятельно и с помощью агитнаставлений, давно прониклись уверенностью, что ими закрывается уязвимое и легко ранимое сердце страны. Если они сейчас же, немедленно, не распознают и не обезвредят, скрывающихся под личиной, вероломно принимающих образ, идущих на гнусные ухищрения, в тайне готовящих, стремящихся разложить, ослабить, проникнуть, подло нанести, акульим гавканьем опорочить, гнилыми лозунгами забросать, воем из под ворот отвлечь и вбить клин между ногами, то дальше, за ними уже, врага, временно скрывающегося под видом человека, в вахтенном строю никто не обнаружит и нашему народу, (доверившему, возложившему, поручившему, наказавшему, круглосуточно строящему, возводящему светлое, несущему всем людям ...) будет нанесен ...! Нет! Там, где Храмов, враг, как бы он ни маскировался сейчас под человека, не пройдет и его козни настоящий моряк видит сразу, определяет мгновенно, разоблачает неуклонно и бдительно ... зорко... стойко... выполняет долг и служит родине!
Старшина обозрел уже первую шеренгу. Смутно всё как-то! Подозрительные фигуры стоят в строю. Здорово маскируются, большой хитростью владеют, трудно проникнуть, а надо! Ведь за мной уязвимое и ранимое ...!
– Фамилия? Острие взгляда воткнулось в матроса второй шеренги. Он явно был не наш. Внешне проявилось это в широченном румянце, полыхающем пожаром во всю щеку.
– Матрос Левченко, боевой номер эр восемь три! Спокойный баритон опустился с высоты около двух метров и ладным покрывалом окутал присутствующих, несколько снимая с них нервозную настороженность. Старшине такое поведение не понравилось и он, приподнимаясь несколько на носки и становясь выше своего среднего роста, возбужденно потребовал:
– Вы больны, температура, что случилось?
–Никак нет, товарищ старшина, здоров, к службе готов, разрешите вопрос? За восемь лет корабельной жизни такого ещё не было: ему, вершителю, милователю, наказывателю задают вопрос? Да и кто? Уже почти уличенный и разоблаченный, подстроившийся и принявший облик ...? Позволю, пусть сам идет в ловушку.
– Спрашивайте, Левченко, слушаю вас! Принял старшина предложенный вызов.
– Я как ни старался, не понял, что все-таки должен делать вахтенный на посту при вооруженном нападении на него? Последледние звуки исчезли, оставив после себя густую, с налетом недоброжелательности, тишину. У старшины по языку уже скользил к выходу универсальный разъяснительный аргумент “молчать в три члена вашу душу”, но в данный момент его пришлось остановить, с трудом разжевать и проглотить. А дело состояло в особой волнительности вопроса для всех моряков. Бесчисленные инструкции и наставления, памятки и обязанности подробно разъясняли как встретить начальника, как установить ступни на ширину приклада, заправить койку, уложить рундук, надеть противогаз, шинель, головной убор, как отрегулировать пояс у кальсон, затянуть шнурки, расправить ленточки, приколоть значок, пришить погон и много, много другого. Несколько сдержаннее было изложено непосредственное отношение к дежурству: бдительно смотреть; не допускать нарушений; немедленно докладывать и сообщать; принимать меры и решительно пресекать...! И вот примерно неделю назад по всему флоту разошлась и наделала большого переполоха очень тайная тайна, которую знали все, но тем не менее, она являлась почти государственным секретом.
...Удивительно ласковая и тихая южная ночь опустилась на эсминец, который уже давно стоял на внешнем рейде. Боевой корабль с наступлением темноты выставил полагающееся охранение по низам и верхам, включил прожекторное патрулирование надводного пространства и акустическое прослушивание подводных подступов, установил связь с береговыми постами наблюдения и задействовал все остальное, предусмотренное для таких случаев. Утром же, во время побудки, обнаружили, что все жильцы кубрика номер два, общим числом около пятидесяти человек, убиты ножевым ударом в сердце, причем кровотечение из ран практически отсутствовало, люди умирали так быстро, что не успевали изменить ранее принятую позу или выражение лица. Вахтенный первого кубрика, через который диверсанты спустились палубой ниже, был оглушен, связан, но живой. Рассказать ничего не мог в силу мгновенной потери сознания. Следствие установило, что судя по особенностям профиля и расположения раны, а также по манере нанесения удара, было всего два диверсанта. С дневальным первого кубрика у них произошел скоротечный бой, закончившийся так печально для матроса. Левченко, как и другие, стоявшие в строю, заступали на дежурство примерно в такие же условия и с каждым из них может произойти нечто похожее. Поэтому вопрос Левченко для всех вахтенных имел жизненное значение. Именно эта тема, самая важная тема любого воинского подразделения: защитить и сохранить себя, чтобы иметь возможность защитить и сохранить других, ни в одном из наставлений не затрагивалась. Личного оружия вахтенные не имели, владеть им не учились, рукопашной подготовкой не занимались и непосредственный контакт с живым противником из боевой ситуации исключался. Только теперь стали проясняться слова лейтенанта-политработника, который отчитывая Рутова на политзанятиях нечаянно поведал глубочайшую истину: “Ведь во всем мире только нашим воинам доверено своей грудью закрывать великие завоевания народа”. Не оружием, не умением, а грудью. Если бы в ту трагическую ночь дневальный смог отразить нападение, если бы в его распоряжении находилась не только собственная грудь, а ещё оружие, тренированное тело и должная выучка, полсотни жизней были бы спасены. И опять тоже самое: жизни ведь ничьи, ну зачем о них так сокрушаться? Ничьи, они и есть ничьи. А потери? Ну так ведь они естественные, просто это естественная убыль личного состава. Если правильно назвать, недоразумения сразу исчезают.
Если Храмов ответит на вопрос, все поймут, что именно он выдал государственную тайну. Если промолчит ..., а ведь тайна вроде и не при чём: вопрос-то задан по существу. Левченко заступает на вахту, нападут на Левченко, умрёт или выживет тоже Левченко. Значит спрашивает по делу без подвоха, без ехидства, как ... человек! Что же Храмов ошибся? После стольких лет бдительного обнаруживания и разоблачения каждого, кто, используя вражеское коварство, пытался выдать себя за человека? Возникшая ситуация неумолимо сползала в персональную катастрофу ввиду того, что время для достойного ответа уже истекло, а самого ответа как не было, так и нет.
Старшина понял, что его и не будет. Вся парадно-бутафорная околовоенная мельтешня отодвигает людей от профессиональной подготовки, вкладывает в их сознание, что служить – значит быть послушным и преданным таким начальникам, как Храмов. Страна, надрываясь, содержит флот, сражающийся с клопами, крысами, годковщиной, флот, транжирящий себя в мишуре, встречах и парадах, флот, отключающий себя надоями, кукурузой и ростом чего-то, флот, воспитывающий у своих защитников пораженческое понимание боя, воюя взводами, не содержащими отдельных бойцов, ротами, полками и т.д., где нет ни одного конкретного солдата, тральщиком, эсминцем и крейсером без моряков. Нет их там матросов на крейсере. Там есть экипаж, команда, рядовой состав, офицеры вообще, старшины все подряд, и тонут они все сообща, вместе, скопом, якобы не желая пощады. Великая роскошь желать или не желать чего-то после боя, ибо побежденного уничтожают, невзирая на его желания. Желать следует до боя!
Храмов столько лет отдавший флоту, прошедший все этапы становления корабельного служаки, считавшийся настолько умелым и подготовленным, что оказался допущенным к дежурству по подразделению, а, следовательно, принявший на себя обязанность обеспечить жизнеспособность строевой единицы за счет обеспечения жизни каждого, отдельного, конкретного человека и техники, не в состоянии ответить матросу на просто-таки невинный вопрос. За вахтенным стоит кубрик, палуба, отсек, корабль, страна. Что все-таки должен делать безоружный часовой при вооружённом нападении на него? Только нашим ... доверено ... грудью!
В замершем строю стоят матросы и ждут от всеуказующего, всеобличающего и всенаказующего проистекателя воинской мудрости ... ждут ... и ждут. Пауза превысила все допустимые размеры.
– Матрос Левченко, доложите обязанности матроса!
Вот это другое дело. Голос сразу попал в привычную ноту с нужным диезом, тело само определилось в осуждающую позу, уши ждут первую неточность, чтобы остановить доклад, уличить и разоблачить. Всем хорошо! Начальник умно требователен, подчиненный за два года достаточно натаскан на ответе, все при деле, все при исполнении!
–Есть, доложить обязанности матроса! И Левченко залился соловьем: – Высоко держать знамя защитника Отечества, свято хранить военную и государственную тайну, проявлять бдительность и неуклонно разоблачать врагов, повышать боевую и политическую готовность, знать руководителей страны, командование флота и корабля, их полные фамилии, звания, награды, а также знать в лицо прямых и непосредственных начальников, повседневно изучать уставы, инструкции, наставления, соблюдать воинскую дисциплину, быть образцом в повседневной жизни, упорно осваивать профессию, доклад окончен, докладывал матрос Левченко!
– Хорошо, Левченко, вот вы и получили ответ на свой вопрос. Если честно выполните возложенные на вас обязанности, ни один диверсант даже не приблизится к вам, издали чувствуя высокую боевую, а в особенности политическую подготовку. Сегодня вы отличились в лучшую сторону, а совсем ещё недавно замечалась неуверенность, иногда вы позволяли себе не совсем одобренные вопросы: вольно, Левченко! И глаза старшины, довольного собой, от единицы к единице дальше поплыли по вахтенному строю. Чувствовалось, что задиристый запал его несколько поутих, даже появилась еле заметная усталость и неудовольствие, вызванное отклонением отработанной процедуры от привычно-уверенного наказательного течения. Наконец, его взгляд остановился на Гордееве, несколько задержался, покачался и ушёл дальше. Храмов перед Гордеевым несколько робел, считая его магом, чародеем и колдуном. Этому предшествовали совсем незаметные события, промелькнувшие будто бы вскользь, но неожиданно принесшие старшине семейную удачу и подозрение, что матросы могут быть опасными.
Однажды после ужина Гордеев с поникшей головой сидел на палубе придавленный корабельной безысходностью и капля за каплей источал свою душу в тоске. Кто-то подсел рядом.
–Гордеев, скажи, что делать, как жить, если жена компраматует? Тот, не уточняя это корявое компраматует и не вдаваясь в подробности, только чтобы отстали:
– А ты её избей и всего-то работы, действуй, сокол! Прошло около недели и сцена на баке повторилась:
–Понимаешь, Гордеев, я её избил и даже сильно, а она всё равно компраматует, что дальше будем делать?
Вот это “что дальше будем делать?” включило Гордеева, появился охотничий азарт, он стряхнул оцепенение, осознав неожиданные возможности. Напустив на себя таинственность, наклонился к уху старшины и заговорчески, держа его за мизинец, поведал:
– Влияй на контрасте: тогда избил, а теперь изъеби, понял, сокол? Старшина округлил глаза:
– Это как же?” Ответ последовал сразу: –Каждый день три раза утром и пять заходов вечером, увидишь, преобразится баба, не узнаешь, обещаю! Расправил и посмотрел ладонь старшины, поводил спичкой по линиям и с придыханием на ухо:
– От косы прядь волос положишь в синий конверт, из подмышки – в белый, ну а оттуда: вник надеюсь – в красный, да чтобы она не заметила и конверты не перепутай.
Всё было исполнено в точности. У Храмова появились круги под глазами, поутих в наказательном буйстве, вестовые дивились, что стал есть за троих, а через несколько дней и вовсе ушел в краткосрочный отпуск. Проходили дни. Шутливая сцена вскорости совсем забылась. Старшина же, поначалу формально выполнявший совет чародея, со временем втянулся, потом вошёл во вкус и даже иногда взрастал в количестве оказанных вниманий, что подействовало на жену даже в большей мере, чем предсказывалось ... да, видать, он и впрямь знаком ... ну с теми, что ... держат души на крючке. После этого Храмов относился к Гордееву уважительно: раз дал, может и забрать. Старался его не трогать, что для матроса уже само по себе было высоким проявлением благодарности.
– Тааак! Гордеев, за ним Р-7-4, потом Р-5-3 и опять этот Р-4-5. Пронумерованный таким образом во избежание ..., в проявление ..., для упреждения ..., не дожидаясь вопроса, доложил:
– Матрос Перепёлко, боевой номер эр четыре пять.
–Хорошо, Перепелко, отлично, огнетушитель номер двадцать семь? – на одной тональности озвучил Храмов.
–Есть! Последовал стандартный ответ и после него без остановки: –Огнетушитель номер двадцать семь правый полубак тридцать девятый шпангоут штатное место у входа первой палубной надстройки, доклад окончен, докладывал матрос Перепелко.
Хорошие знания, хороший матрос, но глазу неуютно на нём и он скользит дальше. Дело в том, что голова матроса была совершенно лысая, и даже малая часть кожи, не закрытая бескозыркой, и та ослепляла своим вызывающим блеском, била в глаза и вынуждала отвести их в сторону. Но стоило немного сместить и они увязали в лице, в растерянности отыскивая хотя бы что-нибудь на чем можно остановиться. Лицо было безбровым, безбородым, безусым. Ни одной шерстинки-волосинки, сплошной блеск и сияние, в центре которого несколько жутковато перемещались два зрачка. Пышная шевелюра Перепёлко была сброшена головой спустя несколько месяцев после прибытия на борт: такова расплата за аварийное восстановление передатчика радиолокационной станции.
Итак, все поштучно просмотрены. Старшина очистил заступающий наряд от двух, выдававших себя за ... , маскирующихся под ... словом, подозрительных. Остальные? Да вроде сойдут, хотя настораживает: без запинки шпарят обязанности ..., инструкции ..., страницами выдают наставления; одежду проверять – только время тратить, ведь каждому ясно, что все облачены в оченьспецмундиры. Вот только Левченко внёс нехороший душок: как ни старался ..., что делать ... вооруженном нападении ...? Умник! Хочет знать то, что неизвестно никому. Да если бы хотя бы кто-то знал, что надо делать и почему на посту стоят безоружные, тебе, салага невоспитанный, не пришлось бы спрашивать, ты выполнял бы и не умничал. А пока обложись кухонными ножами и вилками, подвинь поближе чумичку с кастрюлей и жди. В крайнем случае, спрячься под стол, за переборку и рыкни оттуда на диверсанта, чтобы у него, поганого, сердце лопнуло. Пусть жизнью заплатит за неосторожную встречу с бдительным и политически грамотным часовым.
– Закончить осмотр, дежурным стать в строй ..., равняйсь..., смирно ..., для встречи справа ...! – Курбатов понёс себя и свою штанину горделивым шагом к офицеру:
– Товарищ капитан-лейтенант, инструктаж, проверка знаний и осмотр вахтенной смены окончены, по выявленным замечаниям будут приняты меры, разрешите закончить развод наряда?
– Добро! Дежурный повернулся лицом к застывшему строю.
–Нааряяд! Рраазойдись! Эта команда почти слилась с корабельным сигналом “Закончить развод вахтенной смены, закончить занятия, приготовиться к ужину, бачковым построиться”.
Гордеев неспешно спустился в кубрик. К его удивлению стол уже был установлен и проворный Рутов, лихо разбрасывая алюминиевые тарелки, шлепал в каждую из них порцию макарон по-флотски и подвигал к едокам, пытаясь их как-то плотнее усадить. С чего бы это вдруг места стало не хватать? Причина обнаружилась быстро. На дальней салажьей стороне стола расплылось по скамейке (банке) незнакомое существо. Те, кто наделен повышенной сообразительностью, вскорости поняли, что это молодой, зелёный, новый, словом, салага. Его имя и прочие данные сейчас никого не интересовали, поскольку он на них ещё права не имел. Пройдет время и время, пока он как-то проявит себя, отличится, станет к чему-то пригодным, заметным, полезным, потом поживет некоторый период с кличкой и только затем, постепенно, его фамилия, пока формально называемая при построениях, приобретёт сначала слабую осмысленность, применяемость, наполнится содержанием и так постепенно сольётся с человеком. Порядок за столом должен наводить бачковой, понимая это, Жиров уже начал ёрзать на своём месте, выразительно шевелить губами, видимо, готовя сопроводительный текст, поднимать руки с угрожающей чумичкой и всячески показывать, что, он при исполнении, он понимает, он не допустит ...! Намаявшись, он понял, наконец, что, не вставая, до салаги не дотянуться, а встать ..., подняться ..., прервать трапезу..., нет, годок не может так попирать святые устои. Поэтому он взглядом передал полномочия Ковалеву, сидевшему поближе и уже тот опустил чумичку на голову обучаемого. Поскольку телесное воздействие происходило не от злобы, а исключительно с целью скорейшего усвоения хороших корабельных правил, удар получился вразумляющий, но не оскорбительный. Распластанный вскочил, освободившееся место заняли старожилы, а он так и остался стоять с открытым ртом, не решаясь что-то предпринять! Жиров, за последние месяцы подобревший душой, пришёл ему на помощь: – Давай, салага, читай в рамке на пиллерсе мудрость корабельную под названием “кодекс едока”, а пока валяй на дальний рундук хрюкай и чавкай там; пообвкнешь, половчеешь, сдашь экзамен, сядешь к людям!
За бачком принято есть тихо, разговаривать мало и только по делу, болтуны, пустомели и кальсонные шутники обрываются сразу. Всё должно быть наполнено неторопливостью, степенностью и важностью. Отработав такую манеру питания и поведения, едоки спасают себя от бесполезных и часто опасных эмоций, выражений и поступков. Поначалу, например, новичок, увидев червей в борще, не верит своим глазам, пытается распрямить их во весь рост и сравнить с капустным листом, а убедившись, что черви хотя и вареные, но всё-таки подлинные и обмана никакого нет, начинает с непривычки успокаивать себя тем, что может их не так уже и много? Но сосчитать их, порой, бывает трудно, поскольку все больше плавающей капусты при более внимательном рассмотрении оказываются хорошо проваренными, но всё же червями. Вот тут и спасают традиции. Вместо того, чтобы упасть в обморок или поднять крик, или выбросить борщ вместе с миской за борт, или написать, доложить, донести и тем самым помочь себе ознакомиться с теми же червями, но в другом месте и не каких-то четыре года, а несколько подольше, воспитанный флотский человек отодвигает всё ненужное на край миски. После этого остается ещё достаточно места, чтобы ложкой можно было добраться до того, что привередливый матрос определил себе для пропитания. Очень часто бывает, что отодвигать нечего, тогда возникает беспокойство и появляется подозрительность: а борщ ли это вообще? Приходится напрягаться, улавливать попутные признаки: запах, цвет, наличие воды и коричневые плавающие пятна, и если всё это удается найти, тогда конечно, тогда это борщ и его можно есть, или пить, особенно с хлебом вместо компота. Иногда борщ готовят наваристый, густой, с мясом, без червей, и даже с лавровым листом. Это верная примета: на камбузе молодой кок. Он ещё помнит, чему его учили, ещё есть желание, старание, ему ещё не надоело, не опостылело, не остоиздело. И пока он пребывает в ученическом порыве, мясо будет попадаться кусочками, как принято на офицерском камбузе. Его можно даже отделить от косточки и, если что останется, проглотить, старательно запоминая ощущение, чтобы не стерлось из памяти до следующего раза. Постепенно, входя в обыденность, коку надоест бесконечно сортировать говядину, проверять ее запах и конфликтовать с интендантами, тогда в бачках появится фарш, измельчающий и равномерно распределяющий всю живность, вольготно живущую на мясных глубинах и незаконно поедающую народное добро.
Вот и сегодня Рутов раскладывал по тарелкам фарш, запрятанный в макароны, следовательно, матросам облегчение, ибо что-то обнаруживать, отодвигать, сортировать не нужно – это уже сделали за них другие понимающие люди. Гордеев со своей тарелкой ушел на верхнюю палубу, где можно съесть положенную порцию в тишине и уединении. Он уже давно прошел тот этап служивой поры, когда обращают внимание на пищеобразную массу, предлагаемую для насыщения. В конце-концов и черви, и мыши, и крысы, и жуки, и ... все едят один и тот же исходный продукт, значит, не такой уже и сильный между ними антагонизм. Если до сих пор сходило, авось и дальше сойдет. За неимением другого успокоения и невозможности что-либо изменить, вынужденно принимается и такой примирительный довод. В дальнейшем, пока в недостижимой далекой гражданской жизни, будут гастриты, язвы, перитониты, гепатиты, нефриты и многое другое ..., но ... сегодня, не только эти ... иты, а сам факт возможного освобождения из корабельного заточения кажется нереальным, призрачным, иллюзорным. А черви, крысы ... они почти уже свои, уже давние сослуживцы, как же без них ... на нормальной флотской службе?
Возвращаясь в кубрик, Гордеев увидел салагу, сидящим за столом в известной позе. Его колени были плотно сжаты между собой, на что, видимо, требовалась большая сила, ибо физиономия молодого была пунцовой от напряжения. Рядом стоял Жиров и возмущался: “Даже я, годок, не раскидываю ляжки по сторонам и не показываю свой прибор кому попало, хотя мог бы кое-что предъявить, а ты ноги врозь, шанцы свои вперед, трешь ими по рундуку, метишь, что-ли, как кобель на заборе; смотри, зеленый, разбросаешься мудьем за столом, отрежем фасад под корень”.
Тема была старая. Служивый люд её знал, ибо каждый прошёл через испытание, которому подвергался сейчас вновь прибывший. Мужчины в гражданской жизни не умеют сидеть. Они обязательно разведут колени возможно шире, демонстрируя свое имение, выпячивая его, ёрзаясь им и перекатывая из стороны в сторону. Если позволяют возможности, колени постепенно разводятся на предельную открытость, мужской прибор вываливается на сидение, живот отвисает и падает вниз, превращая стоящего красавца в сидящую жабу, с невыразимо отталкивающим сексуально-извращенческим намеком. На корабле раскидывать ляжки некуда, там тесно, они мешают всем, моряков раздражает демонстрация плоти и хамства, поэтому не желавших уяснить это, заставляют силой. Чем сейчас и занимался Жиров. Если сам себя не подравняет, салага будет отторгнут от людей и без поддержки коллег умрет в одном из походов и неважно, как это произойдет. А всего-то и дела: сжать колени, не светить прибором, не оскорблять людей своим интимом. Это требование ещё даже до культурного не дотянулось, оно котируется на уровне поведенческих инстинктов, например, стыда. Но, как видно, стыд отдельно, раскинулись ляжки широко – это отдельно. Матрос умеет сидеть со спокойно сведенными раслабленными коленями, прижатыми бедрами, не горбясь, не сутулясь, держа спину прямо, но достойно, не размахивая руками, и не прядая по сторонам глазами, голова при этом несколько приподнята и чуть-чуть наклонена в сторону к плечу. За столом, в рубке, в шлюпке, в кубрике такая поза обеспечивает компактность, создает благородное впечатление и позволяет быстро развить требуемую стремительность в случае необходимости. И после службы флотское воспитание выгодно отличает служивых мужчин в любом коллективе умением без позёрства быть собранным, без метушни быть подвижным, в перемещении – аккуратным, за столом – не шумливым, на трибуне без носящихся над ним недисциплинированных рук.
Но что случилось с Жировым? После пророчества Гордеева изменился человек! Появилась доброта, склонность к наставничеству. Вот и теперь уже столько часов возится с новичком, разьясняя ему флотскую грамоту. Повезло салаге. Обычно эти навыки входят через синяки, выбитые зубы, сломанные ребра и другие чисто педагогические наставления. Жаль, что по тем, другим, не нашим законам, пророчество нельзя отменить, и посему жить осталось ему мало. Скоро он уйдет ... в свирепый шторм под Новороссийском. Такова расплата за покушение на интеллект. Жизнь не даёт возможности оправдаться и однажды свершенный поступок остается навсегда свершенным. Таким он и формирует линию судьбы, независимо от того, как к нему относятся потом, по истечении малого или большого времени. Раскаяние исправляет душу на момент исповедания, но прежние грехи не отменяет. Человек обречён на ответственность за любые проявления и поступки своего интеллекта. Грех не подлежит амнистии.
Гордеев помог Рутову убрать посуду, сложить стол и только было начал строить планы на целую свободную вечность, на пол-часа, не занятые ничем по случаю вахты, как в кубрик влетел Ковалёв: “Братва, пресная вода”. Событие не бог весть какое, но все-таки нечастое. Матросы своим пытливым умом уже давно дошли, что стирать, как ни крути, все же легче в пресной воде, чем в соленой. Поэтому каждый ловил момент появления её в умывальнике и торопился втиснуть в краткие минуты пресного роскошества возможно больше мероприятий: душ, мытье головы, стирка белья, одежды, стрижка, бритье, глажка формы, ибо какого-то отдельного времени на эти работы не отводилось. Хотя распорядком дня предусмотрено личное время, практически оно всегда занято чем-либо вовсе не личным: построениями, дежурствами, вызовами, докладами, походом, авралом и многой другой выдумкой, лишь бы избавить матроса от скуки. Для быта на крейсере нет ничего: стирка – в руках, а чаще всего непосредственно на полу, т.е. на палубе. Расстилается роба, сверху из кружки поливается водой и одновременно намыливается, затем щёткой взбивается пена, разгоняется по всей площади, туда-сюда поворачивается, мнётся руками, ногами, утаптывается прыжками, кулаками, пробовали поднимать робу и бить, трепать, шлепать о палубу – помогает, но много брызг, обижаются соседи, пытаются вразумить, а это потеря драгоценных минут. Постепенно усердие начинает надоедать и когда пойдёт внатяг, стирка заканчивается независимо от мнения об этом самой робы. Дальше начинается полоскание. Если к этому моменту пресная ещё сочится, повезло, а нет – тогда забортная, правда эффект оказывается другим, хорошо определённым старинной флотской формулой стирки: воду видела, мыло нюхала, пошла вон на ветер! Сушить белье тоже негде, поэтому каждый исхитряется до невозможности: если вещь малая, можно и в руках подержать пока куришь, что побольше ростом – спрятать где-то в палубных надстройках, в боевой рубке, в подсобных помещениях и других укромных местах, хотя все эти места запрещены для такого использования и нарушитель подлежит наказанию. Такие бытовые и логические ножницы сопровождают матроса всю его корабельную страду. И только по большой стирке, каждые две-три недели, на верхней палубе устанавливаются бельевые леера: с крючками, зажимами и завязками, на которые можно прикрепить простынь, наволочку, робу, ботинки, но не носовой платок. Такую роскошь, чтобы маленький платок, гюйс или носки да повесить на леера, где недостает места даже солидным вещам ... э нет! Зарвавшаяся мелюзга всегда имеющимися ревнивцами порядка будет сорвана, отброшена и, если не свалится за борт, может когда-нибудь доберется до хозяина, если тот сумеет опознать своё в большой куче отверженных нахалов. Для глажки приспосабливается обеденный стол. Утюг, всегда неисправный, приходится каждый раз восстанавливать из руин. Иногда это удается, но тогда нужно быть начеку, иначе местные интриганы организуют мигом вызов на ковер. По возвращению оттуда утюг не только окажется холодным, но и почившим в бозе навсегда. Если получится ловким манером отвести от себя обвинение, матросское денежное довольствие не похудеет, а коль сплоховал, не нашелся, не отбился, не отшатнулся, не увернулся – гони червонец на новый да впредь с головой, с умением и понадёжней почини, а не так, что только на пол-кубрика и хватает утюговой выдержки. Марля для глажки ценится неимоверно, как всякая редкая вещь, и её обладатель по праву считается магнатом. Он единолично решает кого одарить, а кого лишить, поэтому беднота, не имеющая в хозяйстве даже бинта, на всякий случай держится почтительно с марлевладельцем. Хотя он и понимает эту почтительность, и знает, что при первой возможности дефицит упрут, обвинят его же, хозяина, в зажимистости и подведут к потере авторитета, чтобы сбить охоту вести поиск пропажи. Но если человек в душевном разумении возвысился настолько, что дошёл своим умом, может и не сразу, а рассуждая, размышляя, мучаясь и прикидывая, взвешивая и сомневаясь, но все же решился на приобретение марли, то возможности её тайного увода он и подавно предусмотрел. На козни интриганов, на их поползновения, ханжески прикрытые почтительностью, он ответит хитростью, сбивающей искунов со следа. Для этого в рундук, на самом видном месте, где обычно хранится эта тряпка, укладывается марля, но старая-престарая, рыжая и рваная и, глядя на неё, у похитителя от жалости выступают слезы. Потом он посидит, уймет печаль, осушит влагу и в просветленной голове возникнет подозрение, что магнат покушение на собственность предвидел, принял меры вовремя, и несостоявшемуся взломщику открытого рундука придется выразить ему более правдоподобную почтительность. Иначе ... иначе ... без марли разве ... нет не обойтись: перед умом не грех и преклониться. – Внимание! На юте начинается демонстрация фильмы, свободные от вахты, работ и занятий приглашаются на просмотр! И сразу же по всем палубам люди пустились в уточнения: – Что за фильма? На флоте не говорят: кино, картина, фильм. Это иногда кто-нибудь скажет по молодости, незнанию или от распирающей учёности, а все нормальные моряки выражаются доходчиво и просто: “фильма”, и всем понятно о чёем идет речь! Название также не принято объявлять, чтобы внести полагающуюся при этом загадочность, всколыхнуть спящие надежды, подтолкнуь к мечтам и побыть в волшебном неведении несколько минут. Уточнения ясности не вносят, поскольку каждый называет те заголовки, от которых не удается увернуться до конца своих опогоненных дней: “Чапаев”, “Кубанские казаки”, “Броненосец Потемкин”, “Мы из Кронштадта”, “Ленин в октябре”, “Два солдата”, “Шахтеры”. И здесь мгновенно выпрыгивают из толщи матросской искатели славы народной, кующие авторитет на временной тайне. Они, ссылаясь на связи с кругами, вхожими к механику, пускают в оборот вероятный вариант. Угадал – пройдется гоголем, а если мимо – можно и стерпеть пинок другой, зато риск поднимает азарт и дает ощущение жизни.
Перед фильмой прокручивается несколько журналов, из которых щедро льется: повысили улов, подняли выработку, рекордно вспахали, засеяли, убрали, нарожали, научили, получили, пресекли, разоблачили, защитили ... Прекрасная жизнь за нашими бортами! Сочные девушки раскрывают с экранов секреты удоев, могучие парни седлают комбайны, кто-то с антрацитовым ликом вечно долбит молотком, затем многостаночники, многорожательницы, многодавательницы. Каждый раз, когда возникает правильное лицо, вперед выходит замполит, показ останавливается и матросские темные массы проходят ликбез без отрыва от заточения.
– Прошу внмания на экран. Сейчас еще раз покажем отрывок из фильма о лесорубах. Перед вами передовик призводства. Присмотритесь к его волевому лицу простого труженика. Он преисполнен гордости за нашу страну, поставляющую безлесой Европе первосортную древесину. Своми зоркими глазами он видит новые насаждения на обширных пространствах, очищенных от неупорядоченного и бессистемного первобытно-таёжного деревопроизрастания. Большие задачи куют большого человека. Мощный подбородок, плотно сжатые губы, развитый нос, внимательный взгляд, крутой морщинистый лоб, короткая стрижка – вот характерные особенности рабочего, возводящего новую жизнь на развалинах прогнившего прошлого. Вопросы есть? Нет? Хорошо! Этот образ вы усвоили всего за пол-года. Молодцы! Механик – продолжайте! Так постепенно год за годом корабельный люд учится распознавать наших и чужих, дружественных и враждебных, сочуствующих и шатающихся, сталеваров и кочегаров, студентов и погрязших в темноте, работниц, которые поднимают и тех, кто отстает, девушек, которые являются подругами моряков и тех, что без зазрения совести виляет подолом и хвостом. Замполит присутствует и при демонстрации фильмы. Каждая подложенная мина, пропавшие документы, ошибки часовых, потеря бдительности, разложенческое поведение, проистекающие с экрана, подробно разъясняются, уточняются, делаются ближайшие и отдаленные выводы и матросы получают накачку на все случаи трёх жизней подряд.
Поэтому самым важным выяснением является не название фильма, а будет или нет вещать замполит. Если его нет, весь ют, как галками на проводах, заселяется зрителями. Вот это как раз и нужно заму. Он, прокравшись тихим шагом по дальним коридорам, внезапно предстаёт перед зарычавшей аудиторией. У моряков на этот случай предусмотрен запасной ход: обесточивается кормовая часть крейсера. Всвязи с внезапной аварией объявляется учебная тревога и все разбегаются. Уж лучше пройтись по анекдотам да байкам и посидеть чуток в заточении, чем раскрывать башку тому, кто норовит вкладывать туда, вкладывать и вкладывать ... всё, что кому-то надо, что кому-то невтерпёж.
Первые смельчаки, заскочившие на ют будто по другому делу, зафиксировали отсутствие замполита, потому поставили банки, положили сверху берет “занято”, потянулись за сигаретами. Остальные заметив, что разведчики не возвратились, тоже направляются к юту навстречу волнующим разливам старинных вальсов.
Наступали редкие минуты душевного покоя. Берега прощались с последними лучами заходящего солнца. Спокойные воды залива весело играли цветными бликами. Над водой поднимался туман, разнося вокруг свежие запахи моря, простора и мягкой тоски. Чуть заметный ветерок приносил с далеких холмов вечернюю тайну лесов, волшебные чары долин и вечную печаль несбывшихся надежд. Ароматы трав навевали грусть, в тихом воздухе плыли щемящие звуки, небеса гасили краски ушедшего дня и марево ночное темным покрывалом обнимало засыпающую землю.
Гордеев и Рутов с опаской подходили к юту. Осмотрев места, где обычно прятался замполит и не обнаружив его там, окончательно уверовали в благополучный просмотр фильма. Вот только смущал тихо подкрадывающийся к борту плавучий кран с контейнерами для ракет на грузовой площадке. Он совсем медленно, будто нехотя, разворачивался стрелой в направлении стартовой установки, расположенной выше ютовой палубы, сразу за башней главного калибра, на стволах которой сегодня был укреплен экран. Южная ночь наступает быстро. Скоро стало совсем темно. Опасливо поглядывая по сторонам и, не увидев зама, механик запустил неизбежный журнал. Над миром поплыла деревянная музыка, отображающая народное восприятие работающего трактора, надтреснутые с захлёбом голоса излагали, убеждали, призывали, счастье лилось с экрана широким половодьем, улыбки, смех и картинные позы слепили глаза. Зрители знали, что они обречены на несколько таких журналов и терпеливо ждали, смотрели, курили. Экранное ликование оглушало природу. И когда раздался скрежет, треск разрываемого металла и тупой удар о борт вблизи людей, то сначала показалось, что это случилось у них, у этих веселых киношных счастливцев. Но мгновение спустя, когда на палубу посыпались детали ракеты, а сама она, надломившись, изогнулась, зашипела и грохнулась рядом с бортом, подняв столб воды, уже сомнений не было. Моряки спешно покинули ют и, не ожидая тревоги, разошлись по штатным постам.
Полностью снаряженная боевая ракета с разбитыми механизмами управления улеглась на илистое дно под днищем корабля. И опять повеяло приметой. Крейсер принял в наследство двенадцатые бочки от линкора “Новороссийск”, который взорвался здесь же, рядом с берегом, дома, в мирное время. Ни корабль, ни экипаж спасти не удалось, погибли многие сотни людей. Точно так же с наступлением темноты в передней части корабля прогремел взрыв, разворотивший все носовые отсеки. Внутрь хлынула вода, всё сметая на своём пути. Вскоре линкор завалился на бок, а затем перевернулся вверх килем, подминая под себя, почти консервируя, уже мёртвых и ещё к тому времени оставшихся живых. Спасательные работы велись долго. По их завершению на воинском кладбище Северной Стороны взметнулась вверх своим каменным обелиском братская могила. Крейсер и другие корабли Севастопольского базирования ухаживают за могилой, а в памятные дни проводят торжественные митинги с клятвами, присягами и угрозами в адрес врагов. Мертвым уважительная память и достойное упокоение, а живым? В существе человека не хватает чего-то важного, может быть даже самого главного, по достижению которого он только тогда и получит право называться человеком. Это главное состоит в осознании себя как носителя созидающего интеллекта и в возвышении интеллектуального содержании личности над вещественной, материальной оболочкой, собственным телом, толкающим на воинственно-разрушительные поступки агрессивного, но малоразумного временного пассажира планеты Земля. Так что же живым? Живым некогда. Они торопятся. Они спешат умереть, чтобы уже там, по ту сторону черты получить лично себе: уважительную память и достойное упокоение. Ракета с одного корабля полетит на другой и убъёт людей. Но следующая ракета, сестра первой, прилетит оттуда, взорвётся здесь и убъет тех, кто ранее послал смерть. На обоих кораблях скрываются неразумные тела, взявшие оружие. По справедливому закону созидания они погибнут вместе, ибо каждый, взявшись за оружие, от него и умрет.
Тяжелые минуты, плотно налезая друг на друга, отсчитывали судьбу корабля. Пока ракета не взорвалась, признаков агрессии не проявляла и своё мнение о растяпах, искалечивших её, не сообщала. Видимо, рамышляла... – Команде покинуть корабль, занятым по швартовому расписанию приготовиться отдать швартовы!
Такой приказ ушам больно слушать, рассудку понимать, сердцу выполнять. За длинную морскую службу приходилось видеть тонущие и утонувшие морские суда, горящие и сгоревшие, взрывающиеся и взорванные, но покинутые собственным экипажем ни разу. Зато сейчас это зрелище развернулось панорамно. Люди, только что в полной весёлости, не задумываясь о своём убойном предназначении, радовались жизни и в одно мгновение закачались на тонком отрезке судьбы. Взрыв ракеты приведёт к детонации боеприпасов на борту ... далеко же надо отбежать, взявшимся за оружие, чтобы сохранить за собой возможность убивать других. Никогда еще так благоговейно, осторожно и тихо корабль не снимался с якоря. Около тысячи моряков стояли в отдалении на берегу и с замирающим сердцем следили за работой палубного расчёта. Наконец, швартовы и якоря благополучно убрали. Подошёл буксир, бросили конец, размотали трос. Заработали винты, трос натянулся, небоевая плавучая мишень мягко сдвинулась с места и заскользила по ночному заливу. Ракета взорвалась под утро, на этот раз пощадив своих создателей – людей, взявшихся за оружие. Она дала им повод задуматься ..., что-то понять, осознать ... и напомнить служителям смерти о краткости земной дороги и внезапности ее конца. Случайно упавшая ракета неожиданно и как-то умно, по-педагогически тактично объяснила пока что живым пассажирам Земли насколько немощной является огромная мощь любого оружия, будь-то крейсер, батарея, автомат или штык. Взрастающая сила смертоносов по мере повышения убойной удали обязательно становится все сложнее, привлекает для обслуживания себя всё большее число малонадежных людских единиц и всё быстрее порождает слабые звенья в длинной, а потому опасной, цепи самосохранения или обоснованного внешнего управления.
Обе воюющие стороны посылают на взаимоуничтожение свои корабли, пытаясь примитивными, силовыми, материальными, телесными, бездушными, бездумными средствами решить те задачи, для решения которых у них не достаёт, не хватает созидательного интеллекта. Или же он отсутствует вовсе, его нет совсем, ибо разрушающий интеллект нельзя назвать интеллектом. Уничтожение, связанное с потерей лучшего, что к этому времени создала природа, противоречит её творческому началу, а всё, идущее вразрез с её гармонией, ею же будет... А планета превратится в холодную пыль, мертвым облаком объявшую безразличное Солнце. Человек не является целью стараний природы, тем более венцом ее творения, скорее всего для неё это один из бесчисленных вариантов, возможно даже ошибочный, неудачный, неперспективный, очередной эксперимент, проходящий в земных условиях апробацию, обкатку, проверку на настоящесть. Ему свыше дано право самостоятельно, сообразуясь со своим внутренним содержанием, деградировать в сторону уже пройденного ранее, а потому неинтересного и ненужного вещественно-материально-телесного проявления или возрастать, совершенствоваться и подниматься к духовно-интеллектуаль ному созидающему бытию. На данное время итоги земного воплощения человека удручающие, шансов у него нет, нужно прозрение. Применительно к данному случаю события развивались стандартно и быстро. В создании этой аварийной обстановки обвинили стропальщика крана, который потерял бдительность, отнесся халатно и преступно посягнул ... Его связали, огласили, посадили. Всё! Живи, Планета, спокойно, у Тебя врагов больше нет! Все остальные весьма хорошие, они тебе, Планета, не угрожают. Они честно воюют, убивают и разрушают во имя местной справедливости на отдельно взятом корабле в угоду крохотному вскипевшему божку.
После взрыва ракеты поднялся столб воды, покрасовался собой многочисленными струйками и брызгами, посветился в лучах восходящего солнца и шаловливо-мирно опустился в родную стихию, разбегаясь кругами. Водолазы осмотрели, проверили, прощупали дно, довольные поднялись на поверхность и доложили, что, глубина морская на сегодняйший день бедой не грозит. А раз так, можно начинать все сначала. Небоевая плавучая мишень подтянута буксирами на прежнее место, пришвартована и матросы, стыдливо пряча глаза, будто уличенные в аморальном поступке, гуськом потянулись по трапам на борт. Вскоре после осмотров, проверок и докладов, мишень превратилась в боевой крейсер, готовый бомбить, стрелять, калечить, убивать.
Невероятно быстро воплощаются в жизнь идеи разрушения, в то время, как на осознание созидательного “не убий” не хватило и двух тысяч лет ... Снова подошёл тот же кран. На стартовую установку поданы ракеты, корабль пополнил другие запасы и в спешном порядке вышел в море. Позади остался памятник погибшим кораблям с крылатым орлом на вершине обелиска, боны, равелин, еще немного пути и беспредельная вода охватила горизонтом одинокий куда-то спешащий железный ковчег. Прозвучал отбой боевой тревоги. Свежая волна резвилась ниже бортов, время от времени обдавая палубу и людей холодным веером брызг. И только иногда, когда крейсер, лениво качаясь на длинном перекате, начинал скользить с вершины и нырять в серо-голубую пучину, на палубу врывалось пока мирное пенное половодье. Матросы, забавляясь, убегали от него, играли со стихией, хотя и вблизи штормовых лееров. Многие из них направлялись на ют, подходили к флагштоку и заинтересованно обсуждали бурлящий и вздымающийся кильватерный след. По всему видно, наступала пора стирки бушлатов и шинелей. Находчивый корабельный народ по своему оригинально решил задачу удаления с одежды жирных, масляных и загрязненных пятен. Для этого в рукава продевается прочный фал- веревка, один ее конец завязывается возле шинели самозатягивающимся морским узлом, а другой – прикрепляется к ютовым леерам. Сама же шинель бросается в кипящий створ за кормой и буксируется несколько часов. Вытянутая затем, она имеет почти первозданный вид. Остается только терпеливо отгладить, но эта вечная проблема наступит потом, а сейчас главное стирка.
Были случаи обрыва буксира, растрескивания ткани и даже потери бушлата, так что оставались на буксире одни рукава. Поэтому важно заранее предвидеть возможные неприятности, прикидывая скорость движения, направление ветра, грозность волны и... настроение старпома. Иначе с отмытой шинелью можно и в карцере посидеть или во время кино, сна или отдыха красить бортовые ограждения. На сей раз сопутствующие моменты, видимо, удовлетворяли обсуждающих, ибо за кормой, вскорости, болталось и кувыркалось в кипящей воде несколько десятков мурзатых вещей. Этот факт свидетельствовал также о хорошем настроении старпома, т.к. уже больше часа он вовсе в упор ни разу совершенно не заметил какой-либо подозрительности от беспорядочно снующих нарушителей походного расписания. Так в обычных корабельных хлопотах проходило утро. Все знали, что выход в море связан с ракетными стрельбами, которые на крейсере проводились впервые после его довооружения, поэтому команда от матросов до командира испытывала некоторое волнение. До выхода в назначенный район люди не нагружались походными работами, что вносило необычную приподнятость настроения и даже легкую праздничность. – Пожар на баке, пожарному подразделению наверх! – и так почти всегда: стоит самую малость расслабиться душой, как в следующую минуту судьба отмерит всё слихвой.
Из неплотно задраенного люка носового шкиперского отделения густо валил рыже-черный удушающий дым. Хотя в этой части крейсера не было арсеналов и людских помешений, трагический опыт “Новороссийска”, все беды, которого начались от взрыва передних отсеков, нацеливал пожарников на решительные действия. Бойцы, перекрывая нормативное время, облачились в неуклюжие доспехи и со всеми предосторожностями откинули люк. Сразу же дымом заволокло всю палубу и встречным воздушным потоком понесло его на ростры, надстройки, ходовой мостик. Стало тяжело дышать, люди заходились кашлем, из глаз текли слезы, кожа начинала чесаться и зудеть. Поступил приказ надеть противогазы, корабль сменил курс, став бортом под боковой ветер, что несколько облегчило работу палубных расчётов, но удушающие газы стали проникать через вентиляционные фрамуги во внутренние помещения. Тем временем пожарник в костюме с автономным жизнеобеспечением, рискуя спровоцировать взрыв, спустился внутрь задымленного пространства. Свет фонаря с трудом выхватывал контуры ближайших предметов. Продвигаясь по кругу в поисках очага опасности, боец споткнулся о распластанного человека. Обвязал его страховочным фалом, дернул три раза и бесчувсвенное тело поползло к люку, стало подниматься и вскоре показалась голова Тюрина. Его оживлением занялся корабельный врач.
Из шкиперской тем временем были подняты на поверхность два чана с горящей краской, сильно разогретых, брызгающихся расплавленной массой и неимоверно дымящих. Чаны постепенно загасили, остудили, помещение проветрили, а Тюрина оживили. Картина открылась неприглядная. Шкипер, будучи мало занятым в походе, устраивал себе пиратскую романтику. Для этого он из подручных средств смастерил аппарат, на котором отгонял от краски растворитель и дальше разделял его по фракциям, используя для подогрева состава ту же краску, медленно горящую, а потому мало коптящую. В этот раз он приложился к зелью раньше обычного, захмелел, уснул, чем реактор воспользовался и вышел из тонко управляемого режима.
И снова, уже в который раз, в длинной цепи малонадёжных людских единиц, обслуживающих большую мощь, образовалось опасное звено, определяющее грань существования. Этот случай выглядит почти невинным по сравнению с другим, происшедшим несколько месяцев назад. Дневальный двадцать первого кубрика доложил наверх о поступлении дыма через вентиляционную шахту. Тщательное выяснение результатов не дало. Объявили тревогу. Началась полная проверка и осмотр помещений. Наконец, в хранилище зенитных снарядов удалось застать служащих по пятому году, которые спокойно жарили на костре шашлык, в ознаменование демобилизации одного из них. Попутно удалось здесь же обнаружить пропавшую говяжью тушу, которую не досчитались однажды при погрузке продовольствия на борт. Теперь эта туша была почти без мякоти. Видимо, костры в пороховом погребе и зенитном арсенале пылали давно, уже не по звеньям, а полностью поражая цепь самосохранения большой убойной мощи.
Результат обрыва этой цепи пришлось однажды видеть на Тихоокеанском флоте. Утром с востока величаво начало подниматься оранжево-белое солнце, волшебным светом освещая эсминец на рейде. Этим сказочным зрелищем любовались сотни моряков, высыпавших по сигналу побудки на палубы своих кораблей. Внезапно красиво подсвеченный эсминец поднялся в воздух сразу весь, несколько мгновений повисел так, и опустился ... Спустя некоторое время до пирса докатился взрыв, отсалютовавший появление еще одной братской могилы. Более трехсот человек сразу вдруг получили лично себе вечное упокоение и уважительную память.
Уровень надежности самосохранения смертоносов определяется культурой общества. Однако с ростом культуры, убойники всё меньше нужны. Отсюда вытекает, что наличие мощного вооружения свидетельствует о никчемности созидающего интеллекта и о повышенной или даже весьма высокой угрозе обществу, проистекающей от собственного оружия и своих же защитников.
Так в беспорядочных волнениях время подошло к обеду. В связи с прибытием в заданный район, трапеза была сокращена и, едва убрав столы, люди разбежались по местам боевой тревоги. Начались обычные доклады, подготовка заведования, уяснение задания. В РТС на боевом посту станции обнаружения шла привычная работа: произвести осмотр, включить вентиляцию, подать накал и, как вершина всех приготовлений, подать высокое напряжение. Как всегда замигали лампочки, забегали стрелки приборов, засветились индикаторы, прочерчивая электронной разверткой дальномерные кольца, готовые в любой момент вспыхивающими точками отобразить на экране окружающую обстановку. Однако эти моменты наступали и, не задерживаясь, уносились в прошлое, а целей на экране всё не было. Снова с очевидностью обозначилась очередная неисправность аппаратуры. Поскольку силовое наказание отказавших контактов с прибытием нового начальства не одобрялось, старшина Колев и его подчиненные углубились в размышления. В соответствии с тестовым контролем станции были постепенно проверены блоки преобразования сигнала и обнаружен обрыв цепи на антенном распределителе. Выбора нет: туда, на вершину мачты, необходимо забраться ... кому-то из операторов. Это заведование Нешаева, но он только и может, что смести пыль, не больше. Дальше Бойко, Яколов, Гордеев. Надо срочно. Цель уже взлетела с аэродрома, вот-вот будет над кораблем, а он её не видит, конфуз, разнос, погоны ... И Колев решился:
– Толя, выручай, гони на клотик, найди эту стерву, сочтёмся! Так впервые Гордеев узнал, что его зовут Анатолий. До этого все дружно звали его Гордеев, заменяя этим словом полное фио.
Ну раз так, если просят с подходом и должным манером, да ещё совершенно необычно, по имени, конечно, можно и соединить, невелика работа, знать бы только что и где? Гордеев понятливость свою не стал показывать, ответил полагающимся “есть”, завязал вокруг себя монтажный пояс, попросил двух человек следить за ним снизу и вышел из рубки. Шел дождь. Скользкая палуба, скользкие надстройки, скользкие трапы. Корабль, грузно переваливаясь с одного борта на другой, описывал вершиной мачты огромную дугу. Вода сверху, вода по сторонам, вода вокруг. Она вместе с ветром срывает берет, задувает куртку, стремится свалить, закрутить, унести. Удивительно, но подъём на мачту в походе и тем более в свежую погоду не предусматривался, несмотря на большое количество установленных на ней приборов, аппаратуры и приспособлений. Одна из опор мачты представляла собой толстую трубу, охваченную с одной стороны опорными скобами, без каких-либо лееров, перил или защиты. Сейчас мокрый и скользкий металл уходил из под ног, холодил руки и норовил сбросить человека, уворачиваясь от него в качающейся неопределенности. Гордеев поднимался медленно, пытаясь сосредоточиться на своём движении, остерегаясь смотреть вниз и боясь попасть глазами в вечно меняющуюся пенную круговерть возле бортов, стараясь отвести взгляд от завораживающих, монотонно ныряющих и всплывающих лееров, как-то уловить и приспособиться к неожиданным уходам опоры, холодящим душу, сковывающим чувства, обдающих страхом. Скоба за скобой с предельным напряжением сил, без малейшей подстраховки, уповая на Бога и судьбу, поднимался Гордеев всё выше и выше. Казалось, время утишило бег, потом остановилось и ничего нет больше в мире, кроме скоб, уходящих вверх и вверх бесконечной чередой. Потом, на якоре в солнечный тихий день он их сосчитает: сто двадцать штук – не так уже и много, но сейчас в холод, дождь, ветер, качку – им нету счета. По мере подъёма всё труднее бороться с раскачиванием мачты. При движении в одну сторону на неё приходилось почти ложиться, плотно прижимаясь к холодному и мокрому металлу, так и норовившему выскользнуть, уйти, отскочить. При обратном полёте тело провисает, ноги начинают срываться со скобы и озябшим рукам недостаёт сил для удержания равновесия. Ситуация складывалась напряженная. Вскоре верхолаз заметил, что в лежачем положении расстояние преодолевать легче, поэтому на провисе замирал, накапливал силы и ловил мгновения для следующего осторожного рывка. Смотрящие на палубе, замерзнув, уже несколько раз сменили друг друга, одели бушлаты, подняли воротники, а “бегущий по мачте” всё полз и полз, но полз неумолимо, игнорируя холод, ветер и дождь. Наконец, первый привал – сигнальная площадка. Привязав себя монтажным поясом к опоре, Гордеев сбросил вниз фал. Через минуту он уже изворачивался наверху, пытаясь переодеться в сухую одежду, будучи пристегнутым к мачте. Его старания увенчались успехом и может впервые за всю историю флота, нормальный человек на высоте восемнадцати метров в разгулявшийся шторм у матросов на виду отплясывал дикую чечётку, стараясь не соскользнуть с ремня. Согрелся, повеселился, полез дальше. Второй привал – топовая площадка. Опять танцы на страховочном ремне. Чуть отогрелось тело, расслабились судорожно сведенные пальцы, вылил воду из карманов – и снова вверх. Появилось новое незнакомое ощущение: при раскачивании мачты в какие-то моменты сердце начинало беспорядочно трепыхаться, потом замирать и по телу проходила волна безразличия. Стало ясно: спасения нет. В очередной раз наступают мгновения, которым суждено повернуть судьбу. И опять уже давно зовущая бездна снизу, дополнилась дождевой бездной сверху, а человек затерялся между ними, забытый равнодушной природой. Но он ещё живой, еще ползёт. Скоба за скобой. Прижался, переждал, полез, прижался, переждал, полез ... бах! Голова стукнулась о препятствие! Марсовая площадка! Почти конец пути, если неисправность сокрыта в этом распределителе. Так, Гордеев, уйми трясучку, привяжись, не суетись, ногами зацепись за леера, дернись пару раз, проверь ремень, хорошо, не смотри вниз, не гуляй глазами, эх ты, туда тебя ... куда несёшь, поймай разгон волны, теперь в такт наклоняйся и вниз ползи под площадку, винты все там. Трудно придумать что-то более несуразное: распределитель установили не на площадке, а под ней. Поэтому добраться до него можно, если лечь животом, по грудь высунуться за пределы ходуном ходящей площадки, затем, изогнувшись неимоверно, заглянуть снизу, открутить винты негнущимися пальцами, снять крышку, найти неисправность, устранить её, произвести обратный монтаж и попытаться снова всползти на верх площадки. Вот именно на этом этапе, когда Гордеев закончил работу и, получив снизу подтверждение об устранении неисправности, стал подтягиваться наверх, мачта необычно сильно разогнавшись, вдруг изменила направление, ушла в другую сторону, вынудив Гордеева неумолимо сползать с мокрой поверхности. И не было возможности остановиться, зацепиться, удержаться. Всё ускоряясь, проскользил по площадке, поднырнул под ограждение и, натянув ремень, повис на нём на тридцати метровой высоте. Мачта, двигаясь дальше, потащила за собой человека. И в какой-то момент ремень, не выдержав нагрузки, лопнул. Человек же, беспорядочно кувыркаясь и отчаянно дергаясь всем телом, полетел вниз, на палубу, навстречу неминуемой гибели. Однако и на сей раз судьбе было угодно сохранить этот экземпляр для дальнейших страданий. Гордеев шлёпнулся в высокую волну рядом с бортом, лязгнув по леерным цепям обрывком ремня. Жизнь и смерть разделило мгновение. Благо, что корабль находился в дрейфе, машины не работали, винты не вращались, иначе отвальные потоки неизбежно потащили бы ... в вечность.
Гордеев сносно вошёл в воду, сознание не потерял, поэтому вынырнул быстро. С борта полетел на него спасательный круг, но не был бы он Гордеевым, если бы даже в такой обстановке не попытался пофорсить. Проплыв мимо круга, уцепился за шторм-трап и, хотя с трудом, однако, самостоятельно поднялся на борт. Круговорот Гордеева на мачте завершился благополучно. Видимо, его время ещё не пришло, ему, похоже, предстоит ещё ...
В рубке его встретил старшина, похлопал по плечу, длинно и по-доброму заматерился. Видать, только таким манером он мог выразить благодарность подчиненному за выполненную работу. Однако, заметив, что, несмотря на его одобрение, Гордеев продолжает в ознобе дрожать и прятать в карманы синие руки, решился, наконец, налить чистейшего стакан и при всех торжественно поднести. Вот здесь уже форсить не опасно. Начальственный порыв короток. Враз передумает, лишит и заклеймит. К тому же возможно это войдет в традицию, тогда хотя бы малая личная польза появится от таких прогулок по мачтам на фоне весьма пенистого моря. Гордеев, заметив завистливый взгляд Нешаева, поспешил протянуть руку, схватить подношение и, минуя заздравные речи, опрокинуть в себя совсем никакую влагу. Даже крякнуть не было повода. Холодное тело не желало откликаться привычным манером на спирт. Возвратил стакан, прошел на свое место, и только сейчас, увидев лужи под собой, окончательно осознал случившееся. Сел! Вскочил!
– Разрешите переодеться?
– Добро! Бегом в кубрик, прячась и пробираясь матросскими тропами, ибо какой бы ты ни был герой, а по боевой тревоге передвижение недопустимо. В сухой одежде и с разгорающимся румянцем на щеках, благополучно добрался на пост. И как раз вовремя. На экранах четко высвечивалась двойная цель: буксирный самолёт на длинном тросе тащил за собой беспилотный планер. Именно его, этот планер, и следовало сбить ракетой. Обстановку кругового наблюдения с рубки локационной станции транслировали на индикатор информационного поста, оттуда на мостик на личный планшет командира. Выбранная цель, подлежащая уничтожению, отмечалась элетронным кружком и передавалась в качестве целеуказания на станцию управления стрельбой. Вслед за антенной этой станции разворачивалась стартовая батарея, отслеживая планер нацеленной ракетой. Наконец, поступила команда “Пуск!” Взгляд исполнителя упал на панель, протянулась рука, вперед выбежал палец и устремился на красную кнопку, достиг и утопил ее блестящую голову в глубокую лунку, сразу же вспыхнувшую яркой рубиновой радугой. На месте старта что-то мощно включилось и загудело, зашипело и ударило на палубу конусом огня, сорвавшего ракету со стапелей. Она мгновение собиралась с силой, потом резко рванулась вперед, добежала до конца стартового трамплина, несколько провисла, освободившись от поддержки, затем еще сильнее оттолкнулась огнём и взмыла в хмурое небо стройной серебристой стрелой. За ней устремился вверх тонкий белесый след, который ветром тут же разрывался и разносился по сторонам, отчего казалось, что ракета не хочет сбивать планер, а потому, привередничая, начинает рыскать в поисках чего-нибудь другого. И действительно, вскоре она внезапно изменила курс и стала стремительно приближаться к самолету. На корабле, запрокинув головы вверх, люди ожидали наступления трагической развязки. Они, запустившие смерть в облака, потеряли контроль над ней, и теперь убойник превратился в неизвестное существо, живущее по своим законам, человеку неподвластным. Это существо может, например, повернуть вспять и уничтожить своих породителей, ибо непознанное, как частный случай, содержит и такую возможность. Тем временем ракета настигла самолёт. Ещё миг и она, срезав хвостовую часть, несколько отлетела от препятствия, а затем вместе с другими обломками устремилась вниз. У самой воды над одной из падающих глыб вдруг раскрылся парашют и вскоре корабельная шлюпка уже спешила подобрать в неспокойном море смелого пилота. Планер, к удивлению наблюдателей, продолжал самостоятельный полёт, игнорируя только что происшедшие события. Командование, получив неожиданно дополнительную мишень, решило ещё пострелять и второй ракетой, уже точно попавшей в цель, положило конец хвастливому полету.
Командир по бортовой трансляции поблагодарил экипаж за слаженную работу, за выполнение боевой задачи, за верность долгу и умение убивать. И в поощрение матросов пообещал праздничный ужин. Затем подведение итогов по боевым постам, подготовка списка отличившихся, наказание нерадивых, подбадривание безразличных, напоминание о мужестве и стойкости, о необходимости ..., гордо нести ... вплоть до закрывания грудью ... – Отбой боевой тревоги! Новоиспеченные герои рванулись на воздух, на палубу, но ... палубы уже не было. Всё, что ещё совсем недавно, каких-то два часа назад, блестело, сверкало, сияло, радовало глаза чистотой и порядком, бесследно исчезло. Вокруг стояли закопчённые переборки, с которых клочьями свисала обгоревшая краска, местами ещё и сейчас продолжавшая вспучиваться и трескаться на покоробившемся металле. Фалы, лини, шкоты, чехлы и всё остальное пеньковое и тканевое догорало, распространяя вокруг удушающий дым и зловоние. Красивая деревянная палуба, плод стараний многих поколений моряков, обуглилась и, потрескивая, продолжала дымить. Но особенно смутили людей обгоревшие мертвые овцы, в шахматном порядке густо покрывающие палубное пространство. Только теперь стало понятным назначение контейнера, принятого на борт при снятии с якоря. Его затопили в море, как только живые индикаторы были расставлены по местам. Овцы, как и люди, безропотные в бараньем послушании, персональной обгорелостью рассказали убойным спецам об огненном смерче, запустившем ракету. Сколько же средств и сил нужно затратить на восстановление корабля? Если в чём-то недостает интеллекта, то его нехватка восполняется трудом неисчислимых рабов.
Война – это такое производство, выходной продукцией которого является смерть. Вероятно, из всех продуктов труда смерть- самый дорогостоящий товар, к тому же не пригодный для дальнейших экономических превращений через деньги к другому товару большего количества или лучшего качества. Парадокс гомо несапиенс, человека неразумного, состоит в том, что он вкладывает средства в заведомо убыточное предприятие, а это надежный признак, указывающий, что современный человек созидательным интеллектом не обладает. Если бы это было не так, и у человека был бы такой интеллект, он додумался бы до прибыльного использования своих ресурсов, порождая вокруг себя сторонников, а не врагов, не разрушая, а творя, улучшая и украсивливая.
Ужин, как и обещал командир, действительно был роскошным. Вместо роковых, неизбежных и вечных макарон бачковые разнесли по кубрикам пшенную кашу со свиной тушенкой. Прав был Гордеев, в последний момент решивший не погибать, ибо тогда уже наверняка лишился бы лакомства, о котором мечтает Париж. Конечно, просяной деликатес сразу был сметен. Два десятка глаз уставились на бачкового. Над столом повисло нетерпение. Не дожидаясь увесистой подсказки, он встал, схватил за одно ухо бачок и надоевшей дорогой ... К удивлению едоков гонец вернулся быстро, веселый и с добавкой: бачок был доверху наполнен селедкой, а рукой прижимал к животу буханку хлеба. Какая жалость, что уже темно, придется сократить обращение с рыбой и лишить себя хотя и малого, но отвлекающего таинственного действа.
Обычно моряк осторожно берет двумя руками селедку за голову и хвост, поднимает ее на уровень глаз и смотрит через нее на солнце. Старожилы корабельных кубриков уверяют, что там, в рыбьем нутре, можно разглядеть свою судьбу. С ними молодые и неопытные пытались спорить, возражать, даже ссылались на мнение политрука, но умудренных, поживших и повидавших в свои двадцать пять это только распаляло, они рьяно бросались убеждать, приводили примеры, призывали свидетелей из других кубриков, даже составили толкователь селедкиных намеков. Если всё её пузо светится насквозь ровным цветом – к долгой жизни, но кто из знатоков поучёнистей, уверяет, что это же и к богатству и хорошей жене, может даже и не к одной. По поводу последнего утверждения мнения годков за четвертым шпангоутом разошлись. Одни настаивают исключительно на единственной жене и кулаками доказывают, что если селедка велит свершиться хорошему, то она знает наверняка, что это хорошее будет лишь при неповторимой жене. Иные, кто умеет громко кричать, считают, что чем больше жён, тем лучше жизнь. Их резонам тоже нет конца, и спор длиной в пять лет ещё долго будет уводить людей в миражи нереального завтра.
Если пузо пропускает лучи не везде и светлые места прерываются тёмными – над судьбой что-то нависло, что-то случится, а то и вовсе что-нибудь когда-то произойдет. Для уточнения надо вникнуть в плавники и хвост. Бывает, они по всему размеру льются ровным светом, тогда нависшая угроза чуть смягчится, сникнет или отойдёт. Но если и на них обнаружились нехорошие разводы ... ни сейчас, ни потом служивого счастья уже не видать. Такую рыбу не то, что есть – в руках держать противно. И моряк, воровато оглянувшись, понимая святотатство, бросает всё же её за борт в набежавшую волну. Часто слышно на баке: – Помнишь у меня была кааакая? Насквозь так и горит ..., а хвост, поди ж ты, надкусан и разорван, ну, думаю, хана! И точно! В тот же день получаю, а там: извини ..., ждать не буду ..., прощай ...! И рассказчик уверен, что всё дело в селедке, это она напророчила такие строки службы и ещё, подлая, заранее, с самого утра, приподнесла ему дурную весть, вильнув в руке обгрызанным хвостом.
А теперь темно. По привычке один, другой матрос водружали на свет рыбину, но ленивая лампочка под потолком не то что селедку осветить не в состоянии, но и людей. В кубрике царит вечный полумрак: тоскливая дымчатость дневной мглы и голубая призрачность ночника до побудки. Так в сомнениях и почти бесполезно была съедена добавка. Ужин закончился отменно горячим чаем, к которому, как особая праздничная роскошь, было выделено по пол-пачки печенья. Всё же и в корабельной жизни бывают минуты отдохновения, конечно, если не вспоминать о палубе ...
По традиции после трапезы надо важно пройтись коридорами, что-то ловкое сказать встречному знакомому, взять у него или ему дать сигарету, сообщить новую весть, рассказать анекдот, только короткий и к случаю, кого-то незлобно ругнуть, осуждающе хмыкнуть или похвалить, восхититься, словом, ощутить себя в гуще, убедиться, что в обществе принят и что в корабельный высший свет на сегодня пока ещё вхож. Это наполняет душу, делает полноценным, человеку легче жить и дышать, ибо снимается тяжёлый груз неприязни, неуважения и отторжения, густо и вязко проистекающий на виновного от всех окружающих, где бы он ни был и что бы ни делал. Потерявший лицо, уже вряд ли когда его восстановит, даже если удастся ему стать непорочнее ангела. Очень длинным является перечень неписаных законов, призванных сортировать людей. Прежде всего проводится прикидка на внутреннюю силу, есть она там или нету её. А если есть, то сколько, какая и что она значит. Момент проверки наступает сходу. Так устроен коллектив, что его бурление неизменно захлестнет новичка или даже оседлого жильца и вынудит его защищаться и нападать, бороться, страдать и побеждать или ... погибать. Сила, стойкость, напор на веру не принимаются: какая бы ни была бравада, игра позой, словами и глазами, всё равно раньше или позже, но будет создан конфликт, который вознесёт, или навсегда ..., без права на реванш. Человек тогда вроде и живет, и ходит, и действует, но как-то нигде, ни в чём, ни с кем. Мало известно случаев, когда отверженный выжил. Зная это, люди по-настоящему сильной натуры, предпочитают сразу отвести от себя позорную черту, решить свой жребий здесь, сейчас, немедленно, ибо своевременный жестокий бой даже проигранный, даёт всё же право на отмщение, на уважение, на жизнь. Потому-то корабельные конфликты, однажды вспыхнув, вскипают резко, непримиримо, немилосердно, являя собой очередной пример нелепого нравственного воспитания, когда в основу самоутверждения личности вкладывается агрессивная и злобная материально-телесная начинка человека. В дальнейшем, победа и становление характера, вытекающие из общепринято-физиоло гических принципов воспитания, оказываются мало пригодными или совсем неподходящими для преодоления реальных препятствий, бесконечно порождаемых всё усложняющимся бытием. Подтверждением этому служит история человечества, представляющая собой историю насилия биомассы одного замеса над биомассой похожего замеса. Александр Македонский не может быть великим на том же основании, что и Герострат. Оба они вместе и бесчисленные другие разрушители продвинулись в своём воплощении лишь до уровня человекообразных. В их конструкции отсутствовал духовный механизм, позволяющий подняться от уничтожителей к богоподобной сущности создавателей, поэтому они прошлись поганым шагом по Земле, осквернили достижения других и распылились гадкой пылью по Планете, оставив после себя руины, тление, упадок. Их грех возлег на поколения землян, когда-либо живших и живущих поныне.
По другому протекает проверка силой в кофликтах с начальством. Все верхние также прошли курс становления своей биомассы, часто имеют прочную телесную сноровку и вмеру верткий ум, достаточный для интриг и не превышающий того, что принято на данной ступеньке. Натасканность на прошлом ищет выхода сегодня, накопленное там рвется наружу здесь, давние успехи будоражат душу, давят на гонор, распаляют спесь. Вспененная масса изготовилась к прыжку. Но полёт хищника защищен сверху, нападению запрещено противостоять и, спасаясь, ломать ему когти нельзя. Тебе, подчиненному, отведена в этой игре короткая роль обездвиженной пищи. И не дергайся, проходя через зубы, не упирайся в горло ногами, не царапай желудок, во весь рост не тянись, тихо лежи и пищеварись! Если жертва эти рекомендации выполнит, всё равно её поведение будет оценено, как плохое, поскольку недопустимо крошить себя на корм, не возвеличивая по пути того, кто решил все-таки облагодетельствовать тебя и воспользоваться тобой, ибо каждый съденный обязан быть счастлив, что приглянулся и его приблизили и дадут возможность употребить себя на корм тому, кто стоит ступенькой выше. С такими поедателями бороться в открытую невозможно. У них больший выбор, мощнее отмашка и крепче защитный забор. На их подаче трудно получить и половину шансов на успех в бою.
– Матрос Лискин, поправьте бескозырку, сидит она у вас, как это ..., как вша на горохе! Старшина даже крякнул от удачного сравнения, заулыбался, но тут же опомнился и уставился на здоровенного парня. Тот, глянув сверху на коротышку-начальника, безразлично ответил: “Есть” и двумя руками сразу, медленно повел головной убор сначала влево, пока позволяло приличие, потом, осознав ошибку и явно раскаиваясь за промах, также неторопливо сместил вправо. Снова хватил лишку, и так, покачавшись несколько раз, он остановился, наконец, примерно там, где надо, и выпучил глаза. Доклад словами в данной ситуации не позволялся.
– А где висок? Начальник начал погружаться в уставную пучину, а это значит разговор пойдет длинный, примерно ясен и его финал. И некуда деться, и следует выдержать, и надо стерпеть, и как бы подальше стать, чтоб ненароком не задеть, не уронить бы хрупкого вельможу и не зашибить, возможно, пронесет и обойдется, а может этой суке надоест ... Все это время матрос старательно прикладывал палец между околышем и бровями. Получалось совсем правильно: один палец здесь, два пальца там, отродясь так не было красиво. И выпучил глаза на старшину ...
–Почему звезда не на месте? Старшина выходил на привычную широкую дорогу, где и прямо и по сторонам, внавал и поштучно уложены сотни вопросов, он оттуда будет дергать их вечно и, сколько на них ответов ни заготовить, очередной вопрос уже на взлете. Лискин приставил руба ладонь, соединил ею переносицу и звезду, ещё чуть поправил, наклонил и ... выпучил глаза. – Натянуть убор на макушку! Начальник уже с фланга диспозицию наводит, может, фронт его не интересует или тут порядок полный, почти ажур, как эти ... как их говорят? Матрос одной рукой фиксирует в прежнем положении ранее с таким старанием отлаженные линии, а другой тянет бескозырку назад, пытаясь закрыть ею голову поближе к шее. Слышно пыхтение, на палубу капают крупные трудовые капли пота, проходит совсем немного времени и Лискин ... совсем весело играя ликом выпучил глаза.
– Убрать седло! Это совсем плохо. Значит в прежней команде перебор вышел, перетянул, теперь придётся как-то наперёд поддать. Подопытный матрос добросовестно облапил злополучную кепку, напрягся, покраснел, ещё момент и ... выпучил глаза.
– Челку со лба долой! Пропала вся работа, ибо надо снять бескозырку, убрать волосы подальше и, последовательно выполнив всё предыдущее, возвратиться к ранее достигнутому совершенству. Но что же ещё делать на службе, если не тянуться, не терпеться, не исполняться, не слушаться и не поклоняться?
– Сосульки с ленточек убрать! Будучи на фланге, уставник заметил, что концы ленточек завились, образовали валики и один из них пошёл витками вверх. Делать нечего! Бескозырку придётся опять снять, долго и почти безнадежно закручивать концы лент в противоположную сторону, затем расправлять их, выжидать некоторое время и определить куда они начнут самопроизвольно поворачиваться, чтобы тут же перехватить манёвр и ловко крутануть чуток назад, снова выждать и так, туда-сюда сминая, придать им приблизительный ровный вид, который продержится недолго. Большую хитрость и сноровку надо приобрести, чтобы ленточки не закручивались даже в сырую погоду, были одинаковой длины, якоря на них не стертыми, а концы не растрепанными. На каждом корабле, в береговой комендатуре и в патрульном наряде есть ревностные знатоки бескозырок, посвящающие свою жизнь подгонке любой головы под головной убор неизменного фасона. И тогда забывается его истинное назначение и превращается убор в средство проявления служебного рвения, наполнения смыслом своего погонного пребывания и в утеху при плохом настроении. Лискин толстыми пальцами, периодически смачивая их слюной, мял и крутил упрямую ткань, относил на вытянутую руку и подозрительно с прищуром глаз выжидательно смотрел на очередную уловку непокорной ленты, одновременно искоса поглядывая на старшину и удивляясь его невероятному терпению. Но служба длинна. Чем же заняться на ней, если не лентой? Вскорости, вопреки отчаянной изворотливости хитроумной тряпки, она всё же была усмирена и почти покорена, ибо висела ровным лоскутом, лениво подыгрывая ветру. Матрос облегченно вздохнул, надел бескозырку на голову, палец туда, два пальца сюда, руба ладонь, рывок на макушку, сверху кулаком по седлу, ленты отбросил на спину, смахнул пот рукавом, заискрился послушностью и ... выпучил глаза.
– Подкладку к осмотру! Эта команда совпала с корабельным сигналом “бачковым построиться!”, что обозначает наступление обеда. На полубаке собирались зеваки, постепенно заполняющие палубную площадь, на которой давалось бесплатное развлечение. Приток зрителей вынудил старшину распрямить фигуру, приосаниться и придать лицу подобающий вид. Он знал, что имеет право требовать от матроса, более того, он, сверхсрочник, даже обязан блюсти, утверждать, сохранять и передавать молодым флотскую науку. Окружающая публика вмешиваться не хотела, да и не могла, ибо каждый из действующих лиц был при правильном исполнении и делал своё дело, как положено, как принято, как давно заведено. Лискин, находясь в центре круга, как на театральной сцене, не испытывал стеснения, неудобства или неловкости от того, что его уже больше часа держат, требуют и муштруют, поскольку зрители были такими же, прошли через то же и вели себя так же: так пришло с незапамятных времен, видать и впрямь так надо. Он, уже в который раз, снял бескозырку, положил ее верхом на согнутую в локте левую руку, а правой подал на себя, выворотил подкладку, счастливо улыбнулся и... выпучил глаза.
–Надписи предъявить! Приказание было справедливым, поскольку Лискин, поднимая подкладку, нарушил порядок и ткань собралась складками, среди которых разобрать слова не удавалось. Поэтому ему пришлось двумя руками распрямить нужный участок и показать белые линии, наведенные хлоркой на черной ткани, складывающиеся в текст: матрос Лискин, 2-9-5, кубр.16. Надпись стала видна, но это уже было не интересно, ибо присутствующие ждали реплику старшины на явное нарушение: расправлять подкладку нужно было одной рукой, а не двумя. А умелец стал и ... выпучил глаза. – Ты что ее лапаешь, как девку? Вот теперь порядок. Дождались. Все идёт, как накручено столетия назад, ещё в далекую пору цусимского прошлого.
–Разрешите повторить? Неожиданно подал голос обучаемый. При этом он, и без того нетерпеливо переступавший с ноги на ногу, якобы от усердия, в смущении, почти правдоподобном, сделал шаг в направлении старшины, вынудил его несколько попятиться и отступить вглубь площадки, отмеченной переносным ограждением как запретная. Находиться внутри ограды не разрешалось ввиду опасности, истекающей от постоянно вращающейся башни сотого калибра. В данное время на ней проводилось так называемое проворачивание механизмов, т.е. испытывалась работа основных узлов в ручном варианте без подачи электрического питания. Топтания Лискина, почти совсем случайные, исходившие, казалось, от неуклюжести и деревенской дурашливости, тем не менее шаг за шагом, незаметно и осторожно оттесняли старшину всё ближе и ближе к тому месту, где зеваки сдвинули ограду внутрь запретной территории.
–Вопросы отставить! Не вижу номера воинской части! Почему нарушаем? Голос уставного радетеля был правильный: ни громкий, ни тихий, уверенный, спокойный, как и подобает человеку, выполняющему трудную, но нужную и важную работу.
Глаза Лискина погасли, затем метнулись в бескозырку, округлились, удивились и наполнились догадкой. И когда в оттянутой дальше подкладке показался пропавший номер, матрос издал радостный крик, лицо брызнуло счатьем и он рванулся вперед, неся старшине небывалую весть: номер нашелся! Старшина, пытаясь увернуться от счастливца с выпученными глазами, сделал шаг в сторону и в этот момент ему на голову опустился ствол сотого калибра. Всё! Конец! Занавес! Аплодисменты! Роль задумана и сыграна! Произошёл очередной несчастный случай. Старшина, будучи при исполнении своего служебного долга по неосторожности попал под вращающийся механизм, на котором проводились регламентные работы и погиб. Так на подачу насильника была наложена другая подача, резко изменившая шансы в бою. Только неподъёмное горе или крайняя безысходность могут вынудить умного человека вступить с противником в борьбу, имея с ним равные шансы на победу. Мёртвые лишены возможности отмстить и победить. Нужно остаться живым, чтоб шансы суметь приготовить!
Итак, расправившись с праздничным ужином, Гордеев коридорами правого борта совершал пеший успокоительный переход на ют. Обсудил по дороге с несколькими встречными ближайшие виды на погоду, дождь и туман, посетовал вместе с другими знатоками примет о наступлении осени, и что, возможно, вскорости придет зима, а там недалеко и холода, и очередной переход на тёплую одежду, и что добавится стирки, проверок, замечаний. Гордеев убедился, что многие матросы думают так же, как он и согласны с его мнением о неизбежности усложнения жизни матроса и при хороших и при плохих изменениях. Так, ощущая себя в гуще корабельного народа, добрался до своего места на юте, где положено было курить служащим второго года. Туда не допускались первогодки, а кто постарше, тот сам не стремился, ибо не к лицу терять свой гонор. Постепенно обширная ютовая палуба заполнялась островками людей, принадлежащими к разным кастам. Отдельно от всех, почти у самого флагштока, расположилась живописная группа курильщиков, во всем отличающаяся от остальных. Это годки. Очень взрослые, весьма старшие, почти старые, точнее даже пожилые, с трудом влачащие на усталых плечах свой двадцать пятый год. Они сами и окружающие сослуживцы понимают как трудно нести такую дряхлость, поэтому с сочувствием относятся к теплым тельняшкам, преждевременно надетым, к торчащим воротникам шинелей, поднятым так высоко, что оттуда виднеется только берет и нос, из-под которого пыхтит сигарета, к перчаткам, натянутым на руки и в таком упакованном виде опущенными в карманы, к зимним ботинкам с толстыми носками и ниспадающими на них черными брюками. Это особый шик! Стоит только одному дню перевалить на пятый год службы – всё! Заставить моряка, в мгновение ока ставшего годком, надеть белую робу невозможно. Длительная война руководства с годками, протекающая с временными успехами с обеих сторон, сейчас несколько поутихла, перешла в невмешательский вариант и так будет продолжаться до какого-либо важного события, достаточного для изменения шаткого равновесия. На теперещнем этапе годки захватили в свои руки неслыханную власть и начали влиять на крупнейшие события, формирующие морские устои, освящённые веками и украшенные традицией. Они добились того, что начальство и безголосая салажня, к которой относились все, кто хотя бы одного мгновения не дотянул до пятого года, не имели права замечать, укоризненно смотреть и тем более хмыкать даже с легким осуждением в тот момент, когда годок выстреливает пальцами окурок мимо флагштока куда-то за борт в безбрежное море. Никому больше такое святотатство не позволялось. Такое право давалось в обмен на длиннющий год корабельного заточения. На берегу вслед летящему вдаль окурку обычно посылают сопровождение слюной. Что за нравы, ну и привычки! Плюнуть за борт в море не позволит себе даже годок. Это настолько невозможно, что не бывает никогда. Годки разговаривают тихо, обсуждают степенно, улыбаются мягко, а больше молчат, курят и думают о чем-то своем потаенном, без слов понимая друг друга, как и положено пожившим и повидавшим. Тяжелая ноша в четверть века жизни давит уставшие плечи...
В других местах палубы то и дело взовьётся задиристый смех, взыграет потасовка, раздастся громкий крик, обнаружится возня, бурление страстей и ненужное кипение. С корабельными годами всё это уйдет, уступив место непонятной грусти, сожалеющей тоске и остужающей печали. Слабое подозрение, что являешься вовсе не защитником, постепенно укрепляется и приобретает очевидную уверенность. Вокруг человека вихрем проносятся события, которые он не успевает понять, тем более лишен возможности на них влиять, а если внимательней присмотреться, то он весь, как есть целиком, не очень-то нужен и не сильно важен, и его, как винтик, как деталь, как некое приспособление всегда можно выбросить и просто, без натуги заменить таким же или похожим, или другим. А раз так, незачем его беречь, делать корабль для него, чтобы крейсер в руках человека был средством решения человечьих задач. Проще построить наоборот: крейсер будет решать свои железомонстровские задачи с использованием обменного людского материала, поскольку он, материал, ничей, платить за него не нужно, ответственности за его расходование так же никакой и ресурсы имеются неисчерпаемые. Убыль в бою, естественная убыль вне боя и убыль текущая вследствие отсортировки непригодных, неугодных, несмирившихся и восставших устраняется легко вследствие беспрерывно работающей машины, поставляющей биомассу, которая очень быстро в свою очередь становится убылью; и так из года в год, из века в век. Какая-то часть материи приняла человекообразную форму и сама себе определила смысл существования в вечном круговороте от бытия к небытию и снова к бытию, минуя стадию разумного, сознательного, интеллектуального. Это злобное движение изначально, по факту своего возникновения, запрограммировано на самоуничтожение. По мере возрастания суицидной массы образуются вихри, воронки и материявороты, в которые будет затянута и разумная часть Планеты, если вовремя не сможет противостоять беснующимся человекообразным. Война уже давно стала признаком убожества нации, общества, страны, т.е. самих людей. Или война или интеллект. Где есть одно, там нет второго.
На военном корабле примеры целенаправленного стремления к самоуничтожению видны повсюду. Возьмем, например, мачту. Это мощная многоопорная ферма, возвышающаяся над палубой на несколько десятков метров. На ней располагаются антенны локационных, передающих и слушающих станций, огромное количество сигнальной, дальномерной и штурманской аппаратуры, она про- сто нашпигована приборами, устройствами, приспособлениями, кабелями, проводами, волноводами, распределителями, датчиками, усилителями и многим, многим другим оборудованием. Любое, даже совсем незначительное повреждение, хотя бы на уровне нарушенного контакта, сразу превращает всю несуразную мощь в слепую, глухую и парализованную мишень. И тем не менее мачта нахально выступает своей открытостью, доступностью для каждого залётного осколка и ленивого снаряда. Девственная нагота мачты вызывает недоумение, её стремление показать свои роскошные габариты как можно большему числу врагов кажется нелепо самоубийственным. Рассматривая мачту, проникаешься жалостью и презрением к конструкторам, неспособным подняться в мышлении до человека разумного, и наполняешься сочувствием к людям, жизнью зависящим от мачты, но несмотря на это, сделанной так, чтобы эта жизнь оказалась возможно короче. Во время испытательной стрельбы ракетой по планеру, её реактивная струя огня сожгла на палубе даже то, что обычно не горит. Клубы ядовитого дыма окутали гротмачту, залепили её сажей, гарью, хлопьями и кусками обугленных материалов, превратив ее в смердящий объект, на котором под воздействием дождя возникали и лопались зловонные пузыри. В это время на индикаторе кругового обзора со стороны предельного дальномерного кольца показалась воздушная цель, с большой скоростью приближающаяся к кораблю. Последовал доклад наверх! Получен естественный приказ: “Запросить!”. Включили аппаратуру опознавания “свой-чужой”, посылали в эфир запрос за запросом, но летевший на нас самолёт молчал. Молчишь, значит чужой. А коль так – не летай над военным кораблём. И самолет был встречен хорошим зенитным огнем. На этот раз пулёметчики сплоховали и врагу удалось уйти, хотя и завалившись на левое крыло. Несколько позже выяснилось, что самолёт был наш, т.е. свой, а вовсе не чужой. И его не запрашивал корабль, ибо не мог запросить поскольку аппаратура запроса вышла из строя, не выдержав непредусмотренного испытания ядовитым дымом и липкой сажей. Даже копоть ставит грозный крейсер на грань никчемности и превращает его в уродливого Голиафа.
Человекообразные спешат умереть, чтобы быстрее перейти к новому витку своего круговорота и возродиться для ещё больших уничтожений и разрушений. Качается судьба Планеты между человеком неразумным и человеком разумным. Пока побеждают первые, но их победа закончится для них запрограммированным самоубийством, втягивающим в себя и несотоявшийся интелллект.
И дальше ... Погреба боеприпасов без гасителей взрывной волны, без автономного освещения при полном отсутствии независимого жизнеобеспечения, деревянное палубное покрытие, провоцирующее пожары и удушье, броневая палуба неимоверно скользкая, без ребрения и накатки, символические бортовые леера, не способные задержать смываемого человека, напоказ выставленные плавсредства и аварийные плотики, низкобортные баркасы, командная рубка, высоко поднятая над водой, широко открытая чужим глазам, снарядам, чужим ракетам: пощады никто не желает ...
Если уж воевать, то идеология войны и средства ведения боя должны быть другими, проистекающими из иных целей, с переосмысленной шкалой ценностей и приоритетов, что повлечет за собой принципиальное изменение конструкции, формы и содержания надводных кораблей. Они должны иметь обтекаемый вид надводной и погруженной частей, рикошетирующих контактные взрывоносы и напряжения, передаваемые по воздуху и воде, а также быть защищенными от других поражающих факторов: химических, ядерных и т.п. Выступающие конструкции недопустимы совсем и целостность обшивки должна нарушаться только на короткое время воздействия на противника, получения и передачи информации. Этакое самовосстанавливающееся и самозаживляющееся яйцо. Однако, если интеллект поднимется до осознания такой конструкции, а технология позволит ее создать, война повиди-мому изживет себя, станет ненужной и невозможной, что означает победу человека разумного над своим антиподом человеком неразумным – человекообразной формой существования биомассы.
Темноту юта слабо разгоняли несколько тусклых лампочек да вспыхивающие сигаретные огоньки курильщиков. Вокруг корабля плотным шатром нависла осенняя ночь. Поднимался ветер, свежела волна, снова начал моросить надоедливый дождь. Все чаще наверх стали залетать холодные брызги. Иногда даже воде удавалось прогуляться по палубе, как бы в поисках чего-либо, что можно прихватить с собой, смыть и унести. Матросам надоело убегать, уклоняться, закрываться беретом или воротником и они помалу начали расходиться. Наконец, и Гордеев, отдав положенный взнос в общение с народом, теперь уже правым бортом направился домой, т.е. в свой кубрик. Резво отбежав несколько раз от задиристой волны, простучал девять ступенек по трапу на ростры, прошёл мимо баркаса, пнул ногой катер, так, для порядка, искоса глянул на хлипкие леера, на которых висел Шипов, спустился на шкафут, переждал густой захлест воды, рассыпавшийся увесистыми каплями, прошмыгнул полубак и благополучно схватился за ригеля задраенной двери. Рванул. Тяжелая дверь открыла зев и пока она не успела его захлопнуть, прошмыгнул вниз, вильнув ногами, поясницей и шеей, и привычно припалубился уже внизу, в каком ни есть, а своём жилище.
Кубрик был наполнен суматохой. Впрочем, привычной. Она повторялась периодически на протяжении последнего месяца, с тех пор, как в воздухе запахло демобилизацией. Сейчас ходили именинниками Панченко и Кошкин. Они уже успели облачиться в гражданский костюм с самой настоящей белой рубашкой, к которой приспосабливали то театральную бабочку, то длинный галстук. Однако ни то ни другое вида не имело, было похоже на непричесанную крысу и в глазах ветеранов флота читалось отчаяние. По-видимому, уже все, кто знал, что держат в руках счастливцы, попробовали придать им фигуру, виденную в кино, но по измученным лицам многих закаленных моряков угадывалось, что силы их на исходе, а мудрёная работа не идет. Отдельные новаторы стали убеждать в излишности и ненужности этих деталей одежды, что это, дескать, всякие там буржуи да инженеры их носят, а они, ясное дело, не чета им, настоящим морякам, и что не принято на корабле забивать ясные головы служивого люда всякой интеллигентской выдумкой, нарочно запутанной, лишь бы отвлечь простого человека от важных дел. Нет бы завязать этот широкий шнурок нормальным морским узлом: просто, доходчиво, красиво. Чем плох, например, двойной с самозатягом и стопорением или баночный, или нокбензельный вяз, или, на худой конец, доступный всем мужественный прямой узел?! Так нет же, вместо понятных завязок на этой издевательской картинке, которую Кошкин уже неделю вертит в руках, пытаясь вникнуть в очередность перекруток, изображено такое, что даже нам, находчивым людям, не понять. Происки! Явное очернительство и расплевательство! Копают под наш уклад. Прав был политрук: запад и впрямь загнивает!
– Гордеев! Где тебя носит! Люди за тебя тут служат, всем кубриком страдают, а ты в стороне! Шляешься по кораблю, когда дел полно! На, вяжи, учёный! И Кошкин сунул ему что-то длинное, вёрткое, измятое. Вязательные муки продолжались уже несколько дней, почти все попробовали свои силы, измаялись и многие крепкие ребята к этому моменту уже выдохлись, отчаялись и признали за собой поражение. Гордеев назначение галстука знал, даже однажды в далекой молодости одевал его для фотографирования, но тот был другим, завязанным навсегда, навечно, как офицерский. Теперь вот предстоял очередной подвиг. Как бы отвертеться? Что бы придумать отводное? Куда вырулить опасную работу? Сослаться на вахту? Так ещё есть время. На корабельный устав? Или может, надо что-то восстановить в памяти из наставления пехоте? Нет, не пройдет, возможно даже побьют! Злые сильно, видно здорово измаялись с непокорным шнурком. – Товарищ старшина, эту штуку надо накрахмалить, хорошо прогладить, пожалуй даже лучше, чем шинель или бушлат, тогда она сама завяжется как надо. – Вот бери и мучь её пока одолеешь, поднаторел концы травить да кранцы бить и румпелем вилять! Без паузы подхватил Кошкин и, считая вопрос исчерпанным, успокоился и снова открыл свой чемодан. В кубрике сразу стало светлей от бесчисленных фотографий, открыток, журнальных вырезок, полностью покрывавших внутреннюю часть. Девичьи фигуры, лица, улыбки слепили глаза. Поднятая крышка светилась счастьем гражданской жизни. Зависть и печаль отразилась во взглядах одичавших людей. К чемодану подошёл матрос и уже в который раз нежным прикосновением белоснежной салфетки стёр давно изгнанную пыль с блестящей кожи, волнующе пахнувшей волей и желанной свободой.
Такова традиция. Каждый годок имеет право в первые дни последнего года приобрести и хранить на корабле чемодан. Его покупке предшествует волнующее обсуждение размеров, пряжек, зажимов, кармашков, отделений, цвета ... Постепенно вырисовывается в воображениии невероятное сооружение, которое на грешной земле не встречается. Начинаются вынужденные отступления от взлелеянного совершенства, прикидки с тем, что имеется в наличии на берегу, муки от невозможности приобрести чемодан, достойный моряка, возвратившегося из неведомых краёв в родную деревню ... а ещё помимо этого необходимо произвести эффект в кубрике, заставить соседей говорить о нём, обсуждать, хвалить и завидовать. Картинки готовятся заранее несколько лет, подбирая для этого всё, что возвеличивает суровую морскую службу, которая совершенно не мыслима без щемящего образа девушки, машущей косынкой с утеса вслед убегающим вдаль парусам. К чемодану прикрепляется хранитель. Обычно это самый молодой салага, обязанный с момента назначения на ответственный пост по субботам во время большой приборки выносить чемодан на свет, сушить его и проветривать, стирать пыль, натирать гуталином, полировать ветошкой, краской наносить белые полоски, по трафарету выпечатывать по сторонам якоря, рулевой штурвал, компас, иногда целые морские шедевры с русалками, голубями и дельфинами. Затем долгими вечерами раскладываются картинки, тасуется и обсуждается их расположение, раскрывающее романтику морей, тяжесть походов и верность подруге с косынкой. Только закончатся отделочные муки, как начинаются терзания по поводу погон, значков, нашивок, колодок, планок, формы и многих других украшательств одежды. Все должно быть самое-самое, броское, блестящее, звенящее, сияющее и горящее. Издали должно быть видно: идет герой, бывавший, видавший, уставший ...!
Хранитель обязан за свои деньги купить и немедленно положить в чемодан веник, щетку и мочалку, чтобы напрочь воспрепятствовать нечистой силе поселиться в таком святом месте. И, чтобы окончательно отвадить коварных бесов, туда же кладут пеньковые волокна от самой настоящей, измученной трудом корабельной швабры. На еженедельном подведении итогов молодой докладывает: – Товарищ годок, проворачивание механизмов Вашего чемодана проведено в полном объёме, имеются следующие предложения: на ручку и стяжные ремни приделать китицы, закончить пропитку одеколоном “Шипр”, перейти на “Красную Москву” и сшить чехол, правда, тогда закроется бой фрегата с бригантиной ..., матрос первого года службы – Шалин.”
– Хорошо! А что ты думаешь по поводу навесного замка? Как на старинных пиратских рундуках? – спросил годок, всё ещё продолжая совершенствовать основной символ морской таинственности. – Но тогда нужно на углы приделать косяки и охватить сундук обручами; хорошо бы сделать ларь из дерева с коваными заклепками ... и два носильщика, и цепи, и жердь, и в самую деревню, к воротам Маруси ... – Ну ты, салага! Ишь как тебя гуляет? Что-то сломал, поди, а теперь зубы пудришь? Предъяви! И хозяин самолично проверяет такую ценную собственность, не доверяя хитроватой молодежи, вечно норовящей подшутить над аксакалом.
Итак, в руках Гордеева оказался галстук, измятый до невозможности предыдущим обращением. Отговорка сразу не сложилась, время для неё упущено и, видя вокруг себя сердитые физиономии соседей, перегруженных необычной работой, решил промолчать и попытаться пособить в затянувшейся беде. Отошёл на самое светлое место возле политдоски, облокотился на Косыгина, повернулся лицом к Подгорному и стал размышлять, как половчее что-то предпринять. Однако, корабельные люди знают, что думать на службе неприлично, поэтому Гордеев сразу стал вязать. Опустил конец галстука вниз, придавил ногой, потянул на себя. Ткань затрещала, подсказывая насильнику, что дальше будет хуже. Поднял, посмотрел: не помогло. Как были пузыри и складки, так и остались. Всё-таки, видимо, первое предположение было правильным: нужен утюг. А где его взять на крейсере? У начальника! А кто туда вхож? Вестовой! А чей он подчиненный ...? Вот именно...
–Товарищ старшина, в начале прошлой осени Харченко уверял, что только у нашего капитана третьего ранга исправный утюг. Не верите? Сами спросите у него, вот он как раз рядом стоит! –Гордеев ещё и ябеду свою не закончил, а Кошкин, уже сверлил глазами укрывателя нужнейшего прибора. Наступил деликатный момент: приказать не может, а просить не по гонору. Выручил зачинщик: – Пусть заодно узел научится вязать! Это был сильный аргумент, ибо сообразительный Кошкин, видя, как умелец давит плечом Косыгина, понял, что толку от него не добьёшься. К разговору прислушивались остальные в надежде на скорое избавление от какой-то несолидной, совсем не матросской работы. И когда Харченко всёже вышел из кубрика вместе с опостылевшим галстуком, все облегченно вздохнули и получили, наконец, возможность заняться личными делами. –Проветрить помещения, приготовиться к вечернему чаю, бачковым построиться!
Кубрик опустел. Люди разошлись по штатным местам для осмотра личного заведования и подготовке его к сдаче ночной вахтенной смене. Каждый, заходя в рубку, первым делом бросает взгляд на полочку, где стоит графин со спиртом – неприкосновенный запас для ремонтных работ на станции или как промывочная жидкость в случае ранения. Рядом стоящий графин с водой привлекает меньше внимания, но всёже осматривается, поскольку иногда сходу бывает трудно определить из какой ёмкости всёже кто-то внезапно и тайно что-то промыл внутри себя. Если к полочке претензий нет, тогда нужно проверить задрайку иллюминаторов, дверей, люков, состояние шахт, проходов, фрамуг, крепление всего, что может двигаться во время качки, и много других пунктов по длинному списку умной инструкции. После доклада наверх пост опечатывается, делаются записи и подписи, после чего знакомой дорогой служивый люд подтягивается к кубрикам. В помещении уже вымыта палуба, убрана пыль, на ночь закреплены по-штор- мовому столы, банки, включен полный свет, создающий некоторую праздничность и приподнятость от того, что светло, что ещё один день близился к концу, что поход пока протекает нормально, море штормит вмеру, что живой и даже голодный. Ещё бы! После ужина прошло три часа! Пора! Еда на флоте – некий сниматель душевного напряжения, если, конечно, бачкует кто-то другой.
За столом собираются все, обсуждают неторопливо всё, напоказ выставляется всё, ругают за всё, хвалят, хотя и редко, тоже за всё и бьют, иногда сильно, за всё, при всех и всяк. Вот это “бьют” совсем отличается от того “бьют”, которое возникает на шкафуте или в других местах разудалой драки. За бачком это слово и соответствующее действие обозначает момент воспитания. Бывают, безусловно, исключения, которые в свое время продемонстрировал Шипов, но это массами не одобряется и виновник так или иначе наказывается. Что и произошло с Шиповым. Обычно педагогическое воздействие проистекает от старшины бачка или по его велению от кого-то из авторитетных столующихся. Чаще всего орудием служит чумичка, т.е. половник. Чугунная увесистая большая ложка в умелых руках является хорошим аргументом для быстрого и незатратного усвоения флотской грамоты. Поскольку обучение наступает сразу после промашки, проводится убедительно, но без злобы, обижаться не принято. Особой благодарности от ученика тоже никто не ждёт. Весь процесс преподавания протекает решительно, коротко, доходчиво и тихо. Мало было случаев, когда одно правило излагалось в такой доступной форме дважды. Чувствительная шишка на лбу помогает усвоению манер. Вот, например, последний случай. Этот салага, которого воспитывал Жиров, уже весьма аккуратно сидит за столом. Колени вместе, локти прижаты, старших не перебивает, не чавкает, ест с закрытым ртом, ширинка застегнута, гюйс чистый, носки выстираны, прекрасный запах тройного одеколона, выбрит, ногти обрезаны, подстрижен, не вихляется и не ерзается имением, не прядает, не бегает, не играет глазами – другой человек, а всего-то неделя прошла. Великая сила в правильном подходе к воспитанию. Последняя на сегодня еда состояла из четырех печеньев, кусочка сахара и кружки чая. Достаточно. Матросы едят немного. Даже мало. С годами более важным становится ритуал питания, чем само насыщение. Для тех, кто хотел бы плотнее себя чувствовать, на камбузе не откажут в буханке хлеба, луковице и селедке. Но добавкой пользуются редко, больше для развлечения, для имитации невероятного застолья, почти разухабистого разгула с пиршеством в виде шпрот или тушенки. Каждая долька хрустящего печенья таяла во рту, запивалась крепким чаем и в такой неторопливости можно, не давясь пищей, спокойно беседовать. Оказывается, на корабле отмечено только два замечания. Первое настораживало, возмущало и вносило подозрительность: кто-то, зачем-то сорвал пломбу на первом килевом отсеке шлюзования водолазов и повернул штурвал люка на два оборота. Если бы люк отдраили, вода с огромной силой рванула бы внутрь и для её удаления пришлось бы задействовать большие силы, большое время, большой труд. Несколько одновременно открытых отсеков за короткое время заполняют корабль забортной водой и он погружается в пучину. Так осуществляется штатная ситуация, когда крейсер предпочитает убить себя сам, т.е. самозатонуть, чем ... пощады никто не желает. Это событие выходит за рамки происшествия и считается уже преступлением, поэтому оно будет тщательно расследоваться. Хотя большого толку в этом нет. Даже, если установят кто и зачем, люк всё равно не охраняется, закрывается иногда на амбарный замок и вся ответственность за жизнь крейсера возлагается на обычную сургучную, а чаще пластилиновую, печать. Матросы, лишенные возможности влиять на подобную угрозу, заинтересованно обсудили, заклеймили и ... предположили, что первое замечание как-то, возможно, связано со вторым: обворован корабельный ларек. Символический запор был легко сломан, печать, наклеенная на видном месте двери, почему-то не остановила злоумышленников, более того, они не побоявшись ее магической силы, сорвали и бросили без всякого уважения и страха тут же, под ноги, перешагнули её распластанное тело и вошли в почти пустое помещение. После их визита ларек стал совсем пустым, ибо исчезли последние ценности: несколько упаковок одеколона, зубного порошка и ваксы для обуви. Конечно, никто не ожидал, что и порошок, и вакса немедленно будут перегоняться на дурман, но что где-то опять появятся костры с возможными пожарами или ... не дай бог, сомневаться не приходилось. Другое дело одеколон “Сирень”, “Гвоздика”, “Ромашка”, “Шипр”, “Тройной” – их и прятать не нужно. Стоят в каждом рундуке. Стандартный флотский аромат. Хочешь пей, или лей, или нюхай, или втирай, можно с растворителем, таблетками или асидолом. Влияет, помогает, увеселяет. Озлобляет, озверевает, выключает. В затуманенной голове вспыхивает план ... Людская единица, обслуживающая большую мощь, стала мало надёжной, потом ненадёжной, затем враждебной. Звено в цепи сохранения смертоно- са ослабло, треснуло, порвалось. Пославшие получили то, что создали! Или война, или интеллект. Где есть одно – там нет второго.
–Команде на вечернюю поверку! Прозвучал сигнал, объявивший последнее построение на сегодняшний день. До этого уже строились на зарядку, на подъём флага, на развод по работам после обеда и вот, слава богу, дожили до финального сосчитывания, осматривания, накачивания, научивания, обругивания, наказывания, отчитывания. В походе, правда, на одно-два построения бывает меньше, но это не облегчает жизнь, поскольку всестороннее ощупывание проводится тогда по боевым постам в потоком льющихся командах, докладах, рапортах и сообщениях. Проверку проводил Панченко. Хотя душой он был уже у своей Маруси, тело его по-прежнему, как и все предыдущие годы, важно вышагивало перед строем, издавая отработанное и привычное: ”становись, сомкнись, разговоры прекратить, носки..., веселей, в три ...вашу ... равняйсь, смирно: Аверов! – Есть! Бойко! – Есть! Василенко! – Есть! Гордеев! –Есть! И так весь длинный список. Затем: – Ковалёв, выйти из строя! Есть! Раз, два, три. Отработанные приемы и матрос ловко стал перед строем. Панченко продолжал:
– С двенадцати до шестнадцати было объявлено движение по низам, а матрос Ковалёв в это время перемещался правым шкафутом с бачком в руках, что привело к пропаже борща, смыву за борт бачка и травме его самого в результате удара о сотку, куда его швырнула волна, за нарушение штормового расписания объявляю замечание, стать в строй – Есть! И наказанный занял прежнее место в строю. И дальше: – Матрос Перепёелко, выйти из строя! – Есть! –Находясь на спардеке, маторос Перепёлко несвоевременно стал к перебоке, приветствуя проходящего дежурного по кораблю, за невыполнение устава объявляю два наряда вне очереди, стать в строй. – Есть!
Так постепенно старшина каждого отметил, всем раздал, индивидуально пообщался. Дружная флотская семья уже который год создавалась на глазах, даже ощущалось, как она крепнет и с каждым днем приобретает всё большее сплочение. Она почти готова уже подставить плечо, помочь и спасти ...
На сегодня численный состав РТС не изменился. Никто не утонул, не убит, не ..., все на месте. И это хорошо. Но если бы кого-то не досчитались, кого-то не было бы в строю, в рубке, на вахте, в карцере, на гауптвахте, в лазарете, тоже ничего особенного не произошло бы. Разобрались бы, установили причину и обстоятельства, нашли бы свидетелей и виновных ... При отсутствии очевидцев и пенять не на кого, тогда очень важно узнать является ли отсутствие матроса следствием неосторожности, нарушения инструкции, халатности или умысла. Каждая из перечисленных возможностей другим концом рычага ответственности цепляет живых начальников. За каждого ... вон их сколько здесь ... да свою голову на плаху? Тогда на корабле кто останется? Нет уж. Сказано несчастный случай, значит случай и впрямь несчастный. Каким же ему быть, если никто не видел, не докладывал, ни одного рапорта очевидцев. Все были заняты по службе, выполняли святой долг, предельно устремлены, нацелены, по сторонам не смотрели. Каждому теперь понятно, что это естественная убыль, которая была и вечно будет, потому что она естественная. Проистекающая из естества безразличного отношения к ничьим людям.
– Вопросы есть? Глаза Панченко для видимости взметнулись поверх строя, где должны торчать руки любопытных и где обычно никаких конечностей не наблюдалось. Однако сейчас вверху качалась рука Гордеева, а сам он, как и положено неистово кричал:
– Разрешите, товарищ старшина?
– Слушаю! Что случилось? Удивлению Панченко не было предела. Дело в том, что после поверки до отбоя наступало личное время длиной в огромные шестьдесят минут. Интервал хотя и гигантский, но в него необходимо затолкать так много дел, что он всегда оказывался малым. Неоконченную работу приходится выполнять после двадцати трех, а это верная дорога в штрафники. Тем более, что всем известно стремление дежурных по кораблю именно в эти моменты набирать команду для чистки умывальников, гальюнов, душевых и общих коридоров.
–Перемещаясь по левому коридору на ют с целью накуриться до одурения перед вахтой, был задержан в семнадцать тридцать помощником вахтенного офицера и получил замечание за берет: по прикидке справа до бровей оказалось на два пальца больше положенного, отчего настоящий моряк должен лопнуть от стыда.
– Но вашей фамилии нет в журнале, а если нет, то значит нет! Равняйсь! Смирно! Разойдись! Гордеев, ты, видать, разжирел за неделю без наказаний. Уймись! Дешевле будет. Закончить поверку, закончить проветривание помещений, команде отдыхать! Строй бросился в рассыпную, экономя драгоценное время.
Случай с Гордеевым привёл давнюю трагическую ситуацию к нелепой и комичной. Рядом, в тринадцатом кубрике, был матрос Гордев, отличавшийся особой неуправляемостью, ленью и недисциплинированностью. Замечания, записанные на его фамилию в журнале, выстраивались столбиком, ибо в строчку не помещались. Но поскольку Гордев и Гордеев читается грамотными людьми одинаково, Гордеев поначалу отрабатывал свои грехи и чужие. Затем стал записывать, изучать и наконец, его наука позволила разоблачить навет. После выяснения уже ленивый стал нести крест за себя и за соседа. Опять начались разбирательства, сличение фактов, и ... словом, кому нужны эти хлопоты? Теперь уже несколько месяцев никто из дежурных по РТС и боцманской группе видеть не хотел ни ту, ни другую фамилии, никак на них не реагировал, в свой список не переносил и наказывать не желал, уходя от волнений и ненужных забот. Если бы Гордеев не доложил о замечании, а старшина внёс его в список, то наказание возросло бы вдвое. А так ... и на сей раз пронесло!
До заступления на вахту оставался час времени. Гордеев лег, не раздеваясь, на рундуки, мгновенно заснул и по команде “очередной вахтенной смене построиться средняя палуба правый борт!” вскочил, одернул робу, забрал у сменяемого рцы, нож и сигнальный рожок, нацедил из бачка в ладонь воды, плюхнул ею в лицо, дождался прояснения в голове и опрометью побежал на построение. Успел! Стал! Если бы сосчитать сколько раз корабельному люду приходится за четыре-пять лет становиться в строй, равнять носки, выпячивать грудь на уровень правофлангового, дергаться в одну сторону по команде “равняйсь” и в другую при окрике “смирно”, то эта цифра сама по себе лишила бы разума впечатлительного человека. Если добавить к этому: на вытянутую руку разомкнись; первая шеренга шаг вперед, вторая шаг назад; налево, направо, кругом; ботинки к осмотру, брюки поднять, платок достать, головной убор снять, надеть, поправить; тельняшку предъявить; прекратить разговоры, шевеления, шатания, вихляния, рыскания; стать как положено; руки по швам; не раскачиваться; дистанция на руку; интервал на ладонь, на две, на шаг; сомкнись, разомкнись, растянись, в затылок подравняйсь, в разрядку становись; карманы долой, пояс расстегнуть ... нет им числа. Вольно! Уже в конце первого года кажется невозможным пойти самостоятельно в гальюн, не шагая в ногу в строю, а выйдя оттуда никуда не стать, не дёрнуться туда-сюда и просто уйти восвояси без команды: “Шагом марш, равнение в затылок, отмашка где, держать ступню, чётче печатать, запевай, вашу душу!”
Гордеев стал, отдергался положенное число раз, старательно пропуская мимо себя оопоостыылееевшиие “бдительно смотреть, не допускать, быть образцом, немедленно докладывать, зорко смотреть,торчно выполнять уставы ..., вольно, разойдись!”
... Уже два часа дежурство протекало нормально. Одни спали, другие бегали, отрабатывая льющиеся потоком корабельные команды и сигналы, объявляющие неожиданные работы, вводные и другие требования. Кубрик в походную ночь, тем более в штормовую, напоминает вокзал после прихода поезда. Все мчатся, несутся, мельтешат и мечутся. Люди быстро привыкают к заданному ритму, считают его нормальным, перестают замечать и приспосабливают быт к непрерывно меняющемуся графику. Примелькиваются даже такие события, как только что начавшееся в правом углу, на рундуке возле аварийного выхода. Там на четвереньках стоял матрос Килин и, задирая голову вверх на иллюминатор, выл, подражая волку, периодически переходя от высоких нот к низким с добавлением интервалов, заполненных личными мотивами, как он сам понимал тонкий обмен песнями с луной. Никто на это не обращал внимания, ибо знали, что пройдет пол-часа, не более, матрос, пообщавшись с ночным светилом, вместо которого выступал стальной диск, поднимется в человечий рост, выпьет кружку воды и уляжется спать. Если, конечно, не его очередь нести операторское дежурство на штурманской станции “Нептун”.
Этот локатор необходим для обзора водного пространства практически от борта и дальше, на расстояние всего нескольких миль. Его назначение состоит в обнаружении надводных целей, с которыми корабль может столкнуться буквально через несколько минут. Всё, что находится на курсе или вблизи его, должно быть замечено, уяснено и в каждом случае принято конкретное решение с обязательной отметкой в походном журнале. Горький опыт мореходства вынуждает людей благоговейно относиться к этой станции. Тем более, что она чаще всего располагается непосредственно в боевой рубке, где сосредоточивается полная информация о любой из забортных стихий. Обычно при отказе локатора движение корабля прекращается, он становится на якорь или дрейфует, и так до тех пор пока “Нептун” не отобразит на своем экране всё, что носится по волнам. Крейсер имеет и свой печальный опыт плавания вслепую: однажды он столкнулся с огромным штабелем крепко упакованных бревен, в другой раз налетел на мину, в третий – на прогулочную яхту. Открытое море враждебно относится к человеку и без устали готовит для него сюрпризы, цена которым жизнь. Тем не менее, станцию обслуживают матросы с сомнительной общей грамотностью и совсем никудышней специальной подготовкой. В учебном отряде их готовят несколько месяцев, в течение которых они узнают, что собой представляет паяльник, как производится соединение скруткой и под конец обучения проникаются недоверием к переменному напряжению, так как оно часто меняется и кажется каким-то хлипким, начинают уважать постоянное, но тоже не полностью, поскольку, оно не хочет проходить через конденсатор. Правда, многих завораживают учёнистые слова, которые неизвестны другим, а потому можно блеснуть, козырнуть, навести туман и даже вставить в обычную ругательную формулу, начинающуюся с три ... Разве плохо звучит, например, “в три строба ваши растры” или “я элбэве твои клистроны”, или “не манитронься симплексом по дифракту”... Однако, будучи на мостике рядом с командиром, от операторов требуется особый шик в исполнении строевой части служебных отношений. –Товарищ капитан третьего ранга, разрешите обратиться? Качает корабль или нет, ходит палуба ходуном или нет, тошнит или нет – это всё второстепенное, а главное выправка, разворот плеч, напряг руки у виска и уважительная преданность, текущая из глаз.
– Слушаю вас! – отвечает командир, предварительно выдержав правильную паузу и взглядом проверив внешний вид.
– На индикаторе кругового обзора вверенной мне станции “Нептун” исчезла круговая развертка и дальномерные отметки, проверка сигнальных лампочек, предохранителей и остукивание контактов результата не дали, прошу Ваших указаний, докладывал матрос Килин! На этот диалог ушло около двух минут, которые совместно с временем, потраченным на щёлканье переключателями, на выдвигание и силовую досылку блоков, на выжидание в надежде, что неисправность устранится сама по себе составили внушительный период бесконтрольного перемещения корабля вслепую, куда попало, на авось ... около нескольких миль.
– Доложите начальнику РТС, принимайте меры к самостоятельному восстановлению станции! Килин получил и без того известный ему и заведомо стандартный ответ. – Есть! Оператор по внутренней связи повторил начальнику тот же текст, но с добавлением: – О выходе локатора из строя командиру доложено!
Вскоре, решительно поднимаясь по трапам и держа уверенный хороший шаг, на пост прибыли начальник РТС, старшина команды и командир отделения. В присутствии старшего младшие выжидательно молчали, осматривая блоки то с одной, то с другой стороны. – Старшина команды, действуйте согласно инструкции!
– Есть!
– Командир отделения, выполняйте обязанности по штатной ситуации: выход локатора из строя!
– Есть!
– Матрос Килин, выключить станцию!
– Есть! Защелкали переключатели, последовательно гася сигнальные лампочки. Всё меньше оставалось жужжащих моторов, скоро погас экран и вместе с последней нажатой кнопкой Килин доложил: Товарищ старший матрос, штурманская станция „Нептун ” по вашему приказанию выключена!
– Добро! После этого слова командир отделения обязан ещё что-то сказать, но ничего в голову не приходило, пауза затягивалась, компрометируя всё руководство РТС. Молчание казалось бездеятельностью, недопустимой во время движения корабля вслепую. И опять положение спас мыслитель Панченко: позволив паузе напрячься до предела, однако, не доводя её до конфликта, он велел Килину: – Включить локатор. И снова, теперь уже в обратном порядке, забегали пальцы оператора. Индикатор осветился во всех деталях, кроме круговой развертки и дальномерных указателей. Проделанная работа успеха не принесла и ещё больше усложнила обстановку, так как крейсер всё ещё двигался на авось, несмотря на исчерпанный запас начальственных указаний и их старательное исполнение рядовым составом. В воздухе повисла необходимость нового направления поиска неисправности. Как и положено самому опытному, офицер уверенным тоном приказал:
– Проверить отсеки пультов. Это распоряжение немедленно спустилось от старшины команды к командиру отделения и воткнулось в Килина, который вслед за предшествующими и сам выкрикнул защитительное, молодцеватое и безразличное “есть”! После чего, отыскав отвертку, убрал крепежные винты, выдвинул первый отсек на себя и уставился внутрь него, подозрительно рассматривая шеренги электронных ламп, скопления резисторов и конденсаторов, возвышающиеся трансформаторы, регуляторы, разъёмы и змеистые провода, толстыми изгибами уложенные по контуру отсека. Сотни раз все присутствующие заглядывали в чрево открытого ящика, заполненного электроникой, живущей своей таинственной жизнью. Там непрерывно что-то светилось, мигало, сверкало, переливалось огоньками газовых приборов, шипело, жужжало, щелкало, потрескивало, словом, работало. Но как разобраться в том, где шипит правильно, а где нет, где прячется неисправность, с чего начать проверку, на что обратить внимание, куда бы сунуть изготовленную для удара отвертку?
Четыре человека, переполненные желанием уличить обнажённый отсек в подрыве боевой мощи крейсера, старательно искали оборванные провода, погасшие лампы, сгоревшие детали, тянули носами воздух в надежде по запаху отыскать неполадки, но всё было напрасно. Все стояло на своих местах, вело себя как надо и придраться не к чему. Несколько разочарованно перешли ко второму отсеку, затем к третьему и так далее ко всем остальным числом в несколько десятков. В приборных стойках не оказалось забытых протирочных материалов, разлитых растворителей, не сушились носки и полотенца, даже крыс и мышей и тех не было. Вторая волевая атака на локатор тоже не дала положительных результатов. По всему чувствовалось приближение самого гадкого этапа, когда для устранения неисправности понадобятся знания. Это непривычное состояние удручало людей, наполняло их нервозностью, томило неопределенностью и не сулило чего-либо хорошего. Даже командир поддался возникшей неуверенности и, несколько поразмыслив, отдал приказание вахтенному офицеру: “Машины обе стоп!” Затем: “Малый назад!” И через некоторое время снова “Обе – стоп”. Корабль, рискуя собой, вслепую двигался больше часа. Дальше искушать судьбу не стоило! Начался дрейф, хотя и с уменьшенной, но всё жё не устраненной возможностью столкновения с плавающими опасными предметами. Команда получила разрешение отдыхать. На мачтах, впереди и сзади, а так же по бортам были выставлены смотрящие, вглядывающиеся в густую черноту штормовой осенней ночи. Дождливо, ветрено, холодно!
Вокруг станции в это время кипела работа. Командир отделения, спеша неторопливо, принес из секретной библиотеки документацию, Килин доставил из информационного поста приборы и сейчас закреплял их по штормовому, препятствуя постоянному убеганию в такт качающейся палубе, Панченко разворачивал многометровые схемы и укладывал их прямо под ноги, начальник РТС следил за происходящим с отрешенным лицом вдумчивого человека. Наконец, всё было подготовлено, включено, разложено. А что дальше? Как разобраться в многотомных чертежах, в тысячах условных обозначений, в сотнях тысяч сигнальных эпюр, составленных с учётом того, чтобы ни один враг не смог раскрыть содержание схемы, случись она к нему невзначай попадет.
Панченко, пятый год вникающий в документацию, узнал от курсанта-практиканта, что если на шасси указана точка, а рядом нарисован график сигнала, то ткнув туда щупом осциллографа, можно увидеть на его экране обозначенную картинку. Если она присутствует, хорошо! Эта цепь в строю, в исправности, работает правильно! А если нет? Тогда нужно найти почему “нет”. А мы что здесь все делаем? Ищем! Пока не нашли, но сильно искаем. Вон их еще сколько таких точек, сотни, перещупаем все, тогда возможно, может быть, очень даже вероятно ... Проходило время, начало светать, а впереди оставалось еще так много непроверенных сигналов. С наступлением утра стала очевидной невозможность восстановления станции корабельными силами, ибо если и будет зафиксирован участок с пропавшим напряжением, то необходимо выполнить потом почти такой же огромный объём работ по установлению причин пропажи и затратить неопределенное время на ремонт. Поэтому корабль малым ходом, непрерывно сменяя быстро устающих смотрящих, направился на север, к родным берегам и благополучно вскорости пришвартовался на своем месте возле мыса Голландия. Прибывшие на борт штабные специалисты неисправность нашли быстро. Беда происходила от мокрой робы Килина, которая свалилась на передатчик во время качки и вместо того, чтобы спокойно высыхать себе после стирки, закоротила высоковольтный генератор. Прогоревшую во многих местах одежду убрали и выбросили за непригодностью к носке, после чего прибор облегчённо вздохнул, выдал положенный сигнал и локатор ожил ... до следующего происшествия.
Все очевидней становится требование, чтобы каждая умная машина комплектовалась не менее умным человеком. Условие хотя и трудное, но выполнимое. Иначе машины заживут своей жизнью, в которой не найдется места их бывшим создателям. Тогда и без того низкий материальный уровень биоконструкции опустится ещё ниже, порождая ещё более разрушительную механическую цивилизацию, не нуждающуюся не только в людях, но и в самой Планете. Воистину, умные во все времена состояли в дефиците, и так будет неопределенно долго, поскольку на Земле хорошо отработана технология уничтожения талантов и полностью отсутствует процедура их накопления.
Для Панченко и Кошкина это был последний выход в море. Через два дня, отслужив положенные родной Отчизной пять лет, они навсегда покинут корабль. Наступали минуты, в течение которых люди погружаются исключительно в благодетельные свои поступки. Совершенно ясно вдруг все осознали, что это были прекрасные командиры, удивительные товарищи, непревзойденные специалисты, тонкой души, большого ума, здоровой строгости, постоянной чуткости и ещё сотни других достоинств, проистекавших отчасти и от того, что они вот так смело могут вступить в ту неведомую, а потому уже страшную гражданскую жизнь. Остающиеся их даже несколько жалели и сочувствовали, переживали и беспокоились за них, поскольку им теперь придется самим себе добывать, достигать и приобретать всё то, что здесь получали, казалось, как-бы вовсе не замечая этого. Одичавшие корабельные люди, оторванные от жизни, постепенно забывали её, начинали побаиваться и опасаться её неведомых препятствий. Чемоданы счастливцев уже несколько дней стояли в кубрике, вызывая в душах обреченных на многие годы заточения приступы тоски, зависти и щемящего желания и себе когда-нибудь дожить до такого невероятно значительного дня. Уже роздано сослуживцам все лишнее, записаны адреса, упакованы фотографии, получены последние наставления, напутствия, предостережения, поднесены деньги, собранные на обзаведение и демонстрацию морского форса, взята клятва написать после обустройства ... Ночью уснуть было невозможно. Разгулявшаяся буйная фантазия рисовала картины той, другой жизни, но они казались недостижимыми, невозможными, зыбкими и туманными. Порой даже не верилось, что за этими бортами вообще может быть хоть какая-то жизнь. Сознание людей, прочно пропитанное погонами, не желало переключаться на иные темы. Цель воинского воспитания достигнута. Зомбированная психика способна отображать только ритуальную обстановку.
В кубрике поселилась грусть расставания, приправленная небольшой дозой оптимизма, проистекавшего от желания верить, что парни, с которыми почти сроднились за последние годы, возможно, не пропадут на чужбине. Каждому было ясно, что родным домом может быть только корабль, другой семьи, кроме флотской не бывает, и если нужна помощь, то кто может её предложить, кроме вот этих ребят, обступивших именинников плотным кольцом. День, взлелеянный в мечтах пятилетним сроком, наступил. Он пришел! Он уже вступил в свои права и начал ломать, ломать, ломать. В молодости любые привычки и житейский уклад так быстро и прочно входят в характер, что их дальнейшие изменения, даже в лучшую сторону, происходят с натугой, болезненно и воспринимаются организмом и сознанием, как насилие. Вот и теперь, все матросы ушли на утреннее построение и подъём флага, а Панченко, по приказу проведенный, как демобилизованный, захотел наградить себя вольностью, вкусить сладкий аромат разудалой свободы, ощутить себя независимымотныне от распорядка дня, корабельных команд и принадлежности к флоту, поэтому остался в кубрике и на построение не вышел. Но чего это ему стоило? После построения сослуживцы веселой шумливой гурьбой ввалились в кубрик и застали своего, теперь уже бывшего, начальника, сидящим на рундуке в промокшей одежде от пота, всё ещё стекавшего по лицу, шее и груди крупными каплями, постепенно собиравшимися в ручьи. Не лучше выглядел и Кошкин, превратившийся за несколько минут игнорирования корабельного ритуала в удрученное, подавленное и раздавленное существо. Зомбиакальная пятилетняя натасканность на необходимости быть причастным к стойлу цепко, мертвой хваткой, держала психику и сознание, всю конструкцию запрограммированного живого объекта в примитивной процедуре формирования себя в качестве приспособления к убойной машине. И вот теперь наступил разрыв: приспособление должно впредь существовать отдельно, независимо и самостоятельно от орудия, в пользование которому оно раньше было предназначено. Из второстепенного, вспомогательного нечто, легко заменяемого придатка к разрушающему целому, оно отпускалось в индивидуальное плавание по жизни. Мало того, что жизнь за время корабельного заточения весьма значительно изменилась, стала другой и совсем не похожей на ту, которую раньше оставили восемнадцатилетние юнцы, так ещё, кроме этого, у повзрослевших людей служивые годы напрочь убили интеллект, сделали их инфантильными, послушными, безразличными, не способными к обоснованному принятию решения в неведомых для них многотрудных испытаниях другого моря: человеческого. И потом ещё долго будет сказываться мировозренческое отставание от сверстников. Сколько же понадобится усилий на погоню за их карьерой, на обтёсывание себя и переделывание строевого монумента в более-менее приемлемый экземпляр, поведенчески вписывающийся в безразлично-настороженное общество! Принято считать, что армия формирует и делает мужчину, обучая его коллективизму, умению стрелять и бегать, закаляя его физически и нравственно. И это, безусловно, правильно. Однако эта правильность узкая, односторонняя и обманчивая. Сомнительная ценность полученной выучки, ограниченность ее применения с одной стороны, время и средства, потраченные на ее приобретение с другой стороны, не сопоставимы между собой. Никем и никогда не анализировался, не подсчитывался и не прослеживался вред, нанесенный молодому человеку при его изымании из реальной жизни в самые продуктивные годы его становления, как личности. Ту же пользу при заинтересованном отношении новобранца и бережливости общества в расходовании своих ресурсов можно приобрести за более короткий период подготовки, с меньшими затратами, вписывая новые навыки не только в войну, но и в жизнь. Настало время переосмысливания роли человека с погонами, наполнения его внутреннего содержания другими ценностями и превращения его из приспособления к орудию убийства сначала в неагрессивного стража, затем в сохранителя и, наконец, в строителя интеллектуального базиса общества, сдерживающего разрушительные устремления неразумной материальной надстройки. Война уже давно стала антиподом политики ибо сила используется там, где недостает таланта правителей. Армия бросается для заделывания дыр, образованных в всвзис неспособностью интеллекта предвидеть заранее эти дыры и вовремя принять меры для их устранения невооруженным путем.
Войска в теперешней трактовке занимают пассивную позицию, прячась за безликую формулу “мы выполняем приказ”. Каждый войсковик является не только военнослужащим, но и человеком со всеми многогранными оттенками его человеческой сущности. И вот из этой многогранности волей кого-то выдергивается одна сторона проявления гражданственности, вводится в абсолют по значению, раздувается в объёме настолько, что закрывается, затмевается и отодвигается в подполье сознания другое, человеческое, предназначение человека. В результате многие живут по законам нравственности, взятой взаймы, во временное пользование, в долг у тех, кто этой нравственности не имеет! Какой парадокс: общество, напрягая свои жилы, содержит отборных особей, постепенно превращающихся в моральных инвалидов, несущих угрозу этому же жилонапряжённому обществу. Диагноз очевиден: коллективное помешательство. Об этом нужно начинать говорить! Медленно развертывается становление общественного сознания, сегодня, как никогда, сильны противоречия между беснующимися человекообразными и Планета может не успеть опомниться, как будет втянута в воронку коллапсирующей биомассы.
Демобилизованные тяжело переживали расставание с кораблём. Ими овладели паника и страх. По их поведению было заметно, что они прикладывают большие усилия для подавления в себе истеричного отчаяния. Редко перекидываясь малозначащими репликами, отужинали, затем отчаевали, постояли в стороне, наблюдая уже, как посторонние, за вечерней поверкой, отходом ко сну и всё вслушивались в корабельные команды, неожиданно ставшие для них прощальной ласковой музыкой, сопровождавшей денно и нощно их пятилетнее медленное овзросление. Никто из годков ночью не спал. Ходили по палубам, курили, переговаривались, собирались группами, невесело шутили, разливая по кубрикам грусть. Потом многие годы спустя, эта ночь часто будет являться во сне, давящими воспоминаниями отягчая душу, внося беспокойство и тоску по ушедшей молодости, потерянному времени, в котором утонули и юность и зрелость. Что-то нужное вроде делал, мучился, страдал, куда-то бежал и стремился и вот ... прибежал к последнему корабельному восходу хмурого осеннего солнца. Побудка, зарядка, завтрак и ... всё! Подъем флага приветствуют по команде “смирно” подтянутые и беспечные, безразличные и спокойные военные моряки, а в стороне, на самом видном месте ютовой палубы расположилась группа из нескольких десятков празднично одетых людей с чемоданами и вещмешками. Их строй ещё держался, но уже чувствовалось некоторое отступление в выправке и равнении, наблюдалось покачивание, слышались разговоры, но особенно размывали привычную картину чемоданы, торчащие из первой шеренги и всем своим видом подчеркивающие, что их владельцы уже отторгнуты от тех, кто остается служить дальше.
– Товарищи, сегодня мы прощаемся с моряками, честно отслужившими положенный срок, и провожаем их на дальнейшую службу народу, но уже на гражданском поприще; от себя лично и всего экипажа крейсера желаю вам успехов в новой жизни, пусть флотская закалка поможет вам в преодолении трудностей, морская дружба сохранится навечно и воспоминания о счастливых годах навсегда останутся в ваших сердцах! Командир умолк, подержал паузу и ... – Равняйсь, смирно, горнист, к торжественному приказу ..., почетный караул, оружие наруку ... за образцовую пятилетнюю военно-морскую службу в составе действующего Черноморского флота демобилизованным морякам объявляю благодарность!
Не ожидая таких щедрот, удивлённые пустой пышностью проводов и несколько смущенные воспреемники излившейся милости громко, но вразнобой прокричали: “Служим ... народу!” И только закончились последние звуки правильного крика, командир продолжил: – Спасибо, товарищи, за верность долгу и за то, что и вашими стараниями знамя нашего флота поднято на недосягаемую высоту, ещё раз спасибо! Командир подумал несколько мгновений, видимо собираясь ещё что-то сказать, но не нашёл подходящих слов, поэтому ... – Демобилизованным, направо, к трапу правого борта шагом марш, занять места в баркасе.
Шеренги качнулись, подхватили свои пожитки и, обремененённые поклажей, не смогли отпечатать привычный строевой шаг, поэтому толпой подошли к трапу, гуськом спустились по знаменитым ступенькам, наступили на планширь, потом на упорную скобу и, легко спрыгнув с неё, оказались в неуклюжем грузовом баркасе, кланявшемся каждой волне и раскачивающемся всё больше от прыжков в очередной раз выброшенных людей. Командир, старшие офицеры и вахтенный стояли в позе приветствия на юте, перекидываясь впечатлениями по поводу тяжело отвалившего от причального мостка перегруженного судна. Взошедшее солнце размытым пятном висело над туманным заливом. Осенняя дымка скрадывала очертания предметов, превращая их в силуэты, призрачно плывущие над водой во влажном мерехтящем воздухе. Совсем быстро в утреннем мареве скрылся баркас, уносящий моральных калек с хорошей телесной выправкой в неведомое человеческое море. Пожелаем этим несчастным выплыть, выжить и не утонуть в пучине людской. Живыми с корабля уходят только по звонку, да и то лишь после полного затухания его последнего звука! Не раньше. После убытия патриархов кубрик опустел! Исчезла организующая сила, превращающая помещение в жилёье. Удручающе выглядели пустые койки со скатанными матрацами, поднятые крышки рундуков, торчащий крючок без бушлата и ещё много других отметин, напоминающих о том, что отсюда ушли добрые домовые, стараниями которых держалась и жила обитель людская. Только с потерей человека осознается окружающими его истинное значение и величие. Панченко и Кошкин ненавязчиво, тихо и умело распространяли вокруг себя основательность, спокойную уверенность и мудрую авторитетность, способствующих созданию в кубрике миролюбивой обстановки с шутливо-терпеливым отношением к недостаткам и конфликтующим жильцам. Опустело место за столом, уже не слышно ехидно-добродушных подковырок, перестали плавать по кубрику их округлые вальяжные фигуры, словом, уже нет их среди нас, навсегда покинули эти места, вознеслись куда-то, оставив после себя ореол почитания и святости. Ещё некоторое время слышалось в воздухе их: “Ряявняйсь, смиирьно, шягом арш, рявнение напряву, Гярдеев, уймись, таким умным тяжче жить ...” Но постепенно и это восприятие исчезло, пустота помалу затянулась, пришли новые люди, принесли другие страсти, по-своему организующие флотский уклад, мало оглядываясь на авторитеты и локтями создающие немедленный рай местного значения. К сожалению, за долгие корабельные годы такие колоритные фигуры, как Панченко и Кошкин, больше не встречались. Много было достойных людей, с большим человеческим наполнением и даже величием, но таких уже не было. Видимо, природа, заканчивая ими какой-то свой круг, перешла к выпуску людей иного калибра с меньшей долей человеческого в самом человеке!
Осень слякотно-дождливым колесом докатилась до ноябрьских праздников. Как обычно, к этим дням приурочивался переход на зимнюю одежду. Матросы облачились в шинели, одели шапки, утеплили себя толстыми тельняшками, кальсонами и мохнатыми носками. Добавилось работы по обслуживанию себя и приведению к уставному виду. Начались конфликты с радетелями правильной формы. По стандартным требованиям длина шинели должна быть такой, чтобы ее низ не доходил до пола на треть метра. Моряк путается в свисающих полах, которые к тому же вечно норовят закрутиться вокруг ног и талии, превращая стройного парня в неуклюжий тюфяк. Сколько флот стоит, ведётся непрерывная суета вокруг порхающих фалд. Устраиваются даже рейды и облавы, в которые попадают все оказавшиеся в окружении с последующим измерением важнейшего военного показателя на глазах у девушек, изумленной публики, но во славу доблестного флота. Однако, несмотря на все гонения, моряк всё равно установит себе длину шинели выше колена, если даже ему придется отсидеть, отработать, отдежурить. Такая игра взрослых дядей: одни прячутся, другие ищут. Ну почему бы не разрешить то, что неизбежно будет сделано и практически делается повсеместно, на всех флотах, пирсах, кораблях? Наверное тогда исчезнет стезя, на которой только и могут как-то проявить себя ни к чему другому не приспособленные люди. Процедура обмера настолько непристойна, что не каждый может её выдержать. Были случаи, когда оскорбителя, ставшего на колени прямо в уличную жижу и протянувшего руки с зажатой рулеткой в направлении колен матроса, встречал добротный удар кованым ботинком. Да, конечно, после этого их дороги расходились. Одного укладывали под обелиск, другого усаживали надолго, но ничего по сути не менялось. По-прежнему по военным городкам, танцплощадкам и центральным улицам рыщут ретивые с линейкой наперевес, внося свою лепту в славу морскую. Особо рьяные даже совершенствуют технологию пресекательства. На востоке есть маленький посёлок с названием “Промысловка”. Местный военный комендант разгуливал по улицам в сопровождении патруля и двух овчарок. Всякого подозрительного собаки, с двух сторон держа зубами за рукава, подводили к мерщику и тот, медленно извлекая из полевой сумки блокнот, карандаш и рулетку, начинал составлять протокол о задержании всвязи с перемещением по населенному пункту, не по форме одетым. Однажды в такой ситуации оказался Ваня Матвеев, сапожник-виртуоз, канонир и гитарист с эсминца, пришедшего из весьма свободолюбивого Северного флота. Будучи двух метров роста, хорошего веса и силы, он сразу удавил обеих собак, схватил их туши и зашиб насмерть хлипкого служаку. Остальные патрульные обнажили оружие, окружили Ваню, собираясь взять его в плен. Это была ошибка неосторожного коменданта. С пистолетами в кармане, обвешанный бесчувственными вояками, Ваня шагал по дороге, ведущей в тайгу и теряющейся между лесистыми сопками. Но видно не судилась ему прогулка налегке среди лесов восточных. Весьма быстро его догнал грузовик, доставивший комендантский взвод для поимки опасного ..., вооруженного ..., озверевшего ... В этот субботний день на берегу было много моряков с военных пирсов, среди которых быстро разнеслась весть: северян бьют. Со всех сторон городка к грузовику быстрым шагом и бегом приближались люди в чёрной корабельной форме. Вскоре их стало намного больше патрульных, но тем не менее комендантские бойцы смело вступили в неравный бой. Видимо, они знали об подкреплении, которое числом до роты, прибыло им на выручку. Теперь уже моряки оказались в меньшинстве, но это к тому времени мало чего значило. Война была в разгаре. Морские бляхи, утяжеленные напаянным свинцом, рассекали одежду, головы, тела. Патрульные работали кулаками, дубинками, ножами. Обе стороны демонстрировали доблесть. Потери росли. Относить, убирать, помогать было некогда. Быстро наступивший зимний вечер окутал плотной чернотой поле сражения. Все труднее стало различать кто свой, кто чужой. Стихийно и постепенно началась перегруппировка, враждующие силы стали отрываться друг от друга и мало-помалу разошлись. Накал, азарт и злость поутихли, бой прекратился, ибо в полной темноте распознать что-либо стало невозможно. Настороженно следя за противником, рассортировали раненых. К счастью, убитых на сей раз не оказалось. Даже ожил Ванин крестник и был унесен своими в качестве учебного пособия по правилам вежливого обращения с корабельными людьми. Долго потом выстраивались экипажи по большому сбору. Заставляли раздеваться и демонстрировать себя со всех сторон в надежде найти раненых, но подневольные люди усваивают правила конспирации с первых служивых шагов. В этом бою участвовал и Гордеев, поскольку Ваня был его сосед по кубрику. Уже потом, поворачиваясь на койке, он обнаружил глубокое ножевое ранение в спину, однако, из-за невозможности грамотной обработки раны, ограничились заливанием тройного одеколона прямо внутрь резаного отверстия. Инфекция все-таки была занесена и ему пришлось впоследствии перенести несколько сложных операций, связанных с рассечением кожного покрова спины для серьезного хирургического вмешательства. Однако Промысловка и далёкий Тихоокеанский флот – это пока в будущем. Гордеев, стоя сейчас на баке крейсера в короткой шинели ещё не знает, что эта шинель приведет его в операционную, где его усыпят и несколько раз подолгу будут резать и сшивать, спасая от обширного воспаления. –Товарищ матрос, ко мне! Гордеев покрутил головой, разыскивая в густой толпе снующих горожан, того, кому он срочно понадобился. Ага! Кажется это мичман, стоящий на тротуаре, которого потоком обтекают прохожие, непрерывно толкая его, раскручивая и разворачивая из стороны в сторону. По его адресу отпускаются нелестные уточнения, но воина это не смущает. Он уставился глазами на жертву и ждёт начала привычного протекания важнейшего флотского события. Спешащие люди мешают матросу ударить по асфальту широким строевым шагом, они же не дают разгона рукам, сдерживая удалую отмашку. Поэтому он выполнил всё остальное, положенное в данном случае: заерзал шапкой на голове, усаживая ее на уставной манер; пробежался пальцами по крючку воротника на шинели; уточнил расположение белой нашивки на подшинельном галстуке, пропустив указательный палец между шеей и подворотничком; прошелся по пуговицам и, убедившись, что их, как и требуется, пять штук и все на месте, опустился на бляху ремня, туда-сюда ее крутанул, расположил точно между четвертой и пятой пуговицами, потрогал хлястик сзади, затем просунул кулак между пряжкой и шинелью, проверяя натяжение ремня и, наконец, расправил полы шинели, чтобы они свисали без складок. И когда неотразимо правильный внешний вид был восстановлен, Гордеев всё же рванулся вперед, придавая ногам и рукам строевую удаль. Прохожим это не понравилось, особенно тем, кого пришлось зацепить увесистым ботинком. Они также несознательно отнеслись и к ударам руками, а некоторые, кроме устных пояснений, перешли к более убедительным доводам. Так, преодолевая сопротивление очерствевших горожан, Гордеев добрался всё-таки до того, кто испытывал в нем непреодолимую нужду. –Товарищ мичман, матрос Гордеев прибыл по вашему приказанию, воинская часть сорок два восемьсот семьдесят пять, нахожусь в увольнении, увольнительная записка номер сорок семь! Рука матроса оторвалась от шапки, опустилась в карман, вытащила документы и протянула их начальствующему чину со счастливой улыбкой на правильном лице. Тот милостиво принял матросскую книжку, долго и внимательно ее изучал, непрерывно сличая записи на её страницах и в увольнительной, шевелил губами и становился всё более недовольным от того, что придраться было не к чему.
–Я команду “вольно” не давал, почему стоите расхлябанно? Как носки? Где пятки? Куда провалилась грудь? Хороший командирский голос сверхсрочника уверенно долетал до матроса и, не растеряв своей мощи на коротком расстоянии, уносился вдоль городских улиц и площадей. Привлечённые им зеваки останавливались, глазели на бесплатное представление и даже начинали сопереживать нелегкой судьбе уличных актеров.
–Извините, товарищ мичман! Гордеев, и без того стоявший картинно правильно, встрепенулся, передернулся и снова водрузил себя в прежнее положение.
–Правую ногу вперед ставь! Глаза морского чиновника опустились вниз, туда, где сейчас должно было произойти особо важное флотское событие. По этой команде Гордеев, прижав руки к бедрам, поднял подбородок вверх, устремил взгляд на начальника и поставил ступню на пол-шага впереди себя.
–Штанину подтянуть! Правая рука оторвалась от бедра, откинула полу шинели, захватила щепоткой брючину и потянула вверх. Широким народным массам, защитником которых являлся мичман, открылось удивительное зрелище, не воспетое никем, не знакомое никому, захватывающе интересное каждому. Оказывается, под штаниной у матроса были кальсоны, самые настоящие, белые, как и полагается по корабельной комплектации. Внизу, у щиколотки, они имели хорошо простроченный разрез, образующий две половинки, захлёстнутые на ноге одна на другую и туго перевязанные крест-накрест матерчатыми тесемками. Примерно на треть длины разрез, как и предусмотрено, закрывался казенным носком, выползающим на завязки из полностью зашнурованного ботинка. Мичман, видимо, прошел корабельную школу и знал, что открывшаяся картина вовсе ничего не значит, поскольку находчивые матросы вместо кальсон привязывают к голени только их малую часть, именно тот разрез, который сейчас демонстрировался народу. Поэтому он сделал два шага вперед, наклонился и своей рукой подтянул штанину матроса выше. Убедился, что и дальше, вплоть до самых ..., тоже есть нижнее белье, подергал для верности шнуровку внизу и совсем недовольный отнёс себя на исходный рубеж. Дальше под спокойно льющиеся команды пришлось предьявлять надписи на шапке, шинели и ремне, отсутствие свинцовой напайки на бляхе, подковок на каблуках и носках ботинок, посторонних предметов в карманах, неположенных фотографий в обложке матросской книжки. По мере осмотра заинтересованная публика всё больше убеждалась в несокрушимости Черноморского флота, ибо при такой тщательности упаковки матросов порядок на корабле и подавно должен быть невообразимо образцовым, наводящим ужас на неряшливых врагов.
Проверяющий посмотрел на часы, покачал головой, нетерпеливо оглянулся по сторонам, обводя глазами собравшихся сопереживателей. В большой толпе с кем-то встретился взглядом, просветлел лицом и успокоительно помахал рукой. Затем уже суетливо достал полевую сумку, вытащил авторучку и аккуратно написал на увольнительной: “Матрос Гордеев с 11-45 до 13-17 на Каштановом бульваре подлежал проверке на предмет уставного ношения воинской формы, существенных замечаний не выявлено, на мелкие недоделки указано ему лично, поведение продемонстрировал удовлетворительное, проверку проводил пятый заместитель второго помощника коменданта гарнизона мичман Раздолваев; подпись, дата, время; на буквах М.П. написал – без печати”.
Эта записка долгие годы хранилась в корабельном музее, как единственное свидетельство, подтверждающее доселе голословное утверждение о возможности нерепрессивного контакта между матросами и комендатурой. Несколько позже к ней присовокупилась еще одна уникальная бумага. В ней длинно повествовалось о невероятном проступке матроса Сидорова. Оказывается моряк, будучи трезвым, неоправданно демонстрировал хорошее настроение и, всем видом своим показывая довольство жизнью, шёл строевым шагом по Цветной улице, намереваясь, видимо, вскорости вступить на площадь Нахимова, как всегда переполненную простым народом; при этом он громко, весьма правильно и самостоятельно пел советские песни, а слова “я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек” с пафосом и подъёемом исполнил трижды вместо положенных двух раз; после сигнала водителя троллейбуса сразу приблизился к бровке тротуара, продолжая печатать уставной шаг, но уже с другим куплетом “Широка страна моя родная ...”. Поскольку иных предосудительных моментов не наблюдалось, патрульные, не мешая ему, проследовали за ним до Графской пристани, возле которой Сидоров начал петь: “По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед ...”, в движении повернулся кругом и пошёл вокруг площади, стараясь не мешать прохожим. Проверка документов, одежды, ног, рук, ушей, прически и других пунктов согласно утвержденному перечню, нарушений не выявила, поэтому матроса отпустили и приказали прибыть на корабль с докладом командиру о случившемся; подпись, дата, время, должность, фио, без печати.
Сидоров предъявил увольнительную с необычной записью командиру отделения, тот старшине команды, тот начальнику РТС, тот помощнику командира, тот старшему помощнику, а тот – командиру. Сутки думали, что бы это значило? Ни в воинских, ни в гражданских, ни в партийных положениях ничего не говорилось об отношении к песням, исполняемым водиночку и не в праздничные дни. Ясно было одно: наказать надо! Но за что? А вдруг это прорвалось наружу новое понимание матросского патриотизма, может и впрямь на человека подействовало политическое воспитание: как бы не промахнуться? А что, если подать как народную инициативу, подсказанную глубинными народными массами?
–Матрос Сидоров, доложите о допущенном вами происшествии! – Есть, доложить о допущенном мною происшествии. Мною допущено происшествие, которое произошло на берегу и происходило оно на площади Нахимова, когда я проходил пешком вокруг памятника великому мореплавателю, обращенному лицом в сторону Графской пристани, где меня задержал патруль за допущенное происшествие, доклад окончен, докладывал матрос Сидоров!
–Какие замечания сделал патруль? Задал вопрос начальник РТС. Остальные офицеры расположились в каюте вокруг матроса, внимательно его разглядывали, пытаясь вникнуть в причины вызывающего поведения, за которое надо наказать, но непонятно было, что именно сделано плохо и что конкретно нарушено. Демонстрация преданности в личное время, да ещё при отсутствии поблизости старших, кто мог бы оценить и воздать ... Пригласили замполита. Тот подтвердил, что на его памяти специальных указаний по такому поводу не спускалось. Но чтобы совсем правильно поступить, следует запросить политотдел бригады или флота. Ясное дело, что без серьёзной оценки вверху, низовым коллективам лучше воздержаться от категорических суждений. Вполне возможно, что в действительности все окажется и не очень страшным.
–Они меня обыскали, ощупали, осмотрели, вертели, расстёгивали, выворачивали, нюхали, наклоняли, водили пальцем перед глазами, крутили возле виска, требовали сказать “ааа”, потом старший плюнул, растер носком ботинка, написал, послал, потом добавил и велел идти на корабль, Сидоров даже вспотел, снова переживая волнение, испытанное при потрошении при всём народе.
– И всё? И вас не арестовали? Вот так взяли и отпустили? Присутствующие, зная береговые порядки, задавали естественные вопросы. – Так точно! Только не сразу, а сначала послали, потом добавили и проводили под руку на минную стенку; я прыгнул в баркас, только тогда они ушли. По всему чувствовалось, что матрос не врёт. –Идите, Сидоров, вы свободны, приступайте к работам согласно распорядку дня! Стало очевидно, что корабельный уровень недостаточен для принятия решения по данному случаю. Написали, запросили, подождали, получили. Оказывается, что нарушений в действиях вышепоименованного военнослужащего, безусловно, нет, однако, в дальнейшем всё подобное следует категорически запрещать и решительно пресекать, поскольку это может кое-кем где-то и когда-нибудь расцениться неправильно. А как именно должно рассматриваться такое событие, как его правильно трактовать, в документе не раскрывалось.
У Сидорова неожиданно нашлись последователи. В Приморском парке, шагая в ногу со строевой лихостью, два матроса с эсминца “Стремительный” горланили, правда фальшиво, но с большим душевным напором: “... в предсмертных мучениях трепещут тела, гром пушек, и дым, и стенание, и судно охвачено морем огня, настала минута прощанья.” Их выразительная сила была настолько впечатляющей, что постепенно к ним стали пристраиваться другие матросы, шли сначала рядом, потом ближе и вскорости уже довольно солидное шествие печатало ступни по прогулочным дорожкам. Немедленно к ним подтянулись почти все патрули города. Стояли в стороне, настороженно смотрели, и, похоже, в любой момент были готовы приступить к решительным действиям. И когда шагающая масса зажигающе взвилась криком: “...Прощайте, товарищи, с богом, ура!...”, несколько десятков патрульных, как по команде, обнажили пистолеты. Затем организованная совместным шаганием толпа своим ритмом перешла к следующим строкам “...кипящее море под нами, не думали мы ещё с вами вчера ...” и настороженность стражей несколько спала. Однако, дальнейший взвившийся накал “... что нынче умрем под волнами ...” снова вынудил охранников продемонстрировать признаки готовности, напряжённости, непреклонности ... Наконец, они спрятали оружие, медленно, не допуская резких движений, вошли в нестройную колонну и с тихими словами: “не положено ..., приказано разойтись, просят образумиться ...” стали постепенно рассредотачивать идущих, путать их ряды, сбивать темп и оттеснять людей в боковые аллеи. Энтузиасты никаких ответных действий не предпринимали, поэтому вспыхнувшие страсти быстро угасли. Только что сплочённая и целеустремленная масса сразу вроде прозрела, стряхнула наваждение и сразу сникла. Она ещё несколько бурлила, но уже заметно успокаивалась и начинала растекаться по дорожкам Приморского бульвара. Парадная приподнятость духа угасла.
В матросском обществе явно зарождалось нечто, доселе незнакомое давно успокоившемуся военному начальству. Несмотря на всё усиливавшуюся политическую направленность воспитания, наблюдался существенный отход командного состава от низовых флотских слоев. Верхняя и нижняя прослойки жили своей обособленной жизнью, не проникая взаимно и не понимая одна другую. Со временем офицеры все больше внимания стали уделять приятности службы. Этому способствовали отток кадров военной поры, сравнительно устоявшиеся мирные отношения страны с другими государствами, практически отсутствующая военная доктрина и крайняя безответственность во всём, что касалось вооруженных сил. Оставалась только одна причина, мешающая жить: матросы. Если бы их не было, а на кораблях крутилось бы и стреляло всё само собой, если бы они не вынуждали интеллигентных людей вечно играть утомительную роль отца взвода, команды, службы и т.д. и быть круглосуточным рубахой-парнем, без устали влюбляющим в себя подчиненных, если бы не требовали отчёта о количестве поинтересований о деревне, семье, сенокосе, регулярности получения писем из дому и ещё о раскрутке сотен других душевных важностей, какая содержательная и романтичная была бы морская служба! Как много времени осталось бы для приятных бесед, захватывающих встреч, парадов, смотров, прогулок в широкие просторы на могучем корабле ... захватывает дух ..., какие возможности ... А что же получается в действительности? Вопиюще невоспитанных, дремуче безграмотных, агрессивно разрушительных, волынисто ленивых, ехидно настороженных, безразлично сонливых пришельцев из каких-то неведомых глубинок необходимо умыть, одеть, научить сидеть, стоять, ходить, говорить, вложить в них хотя бы какое-то понимание своего нового предназначения, зародить подозрение о существовании знаний, культуры, профессионализма, как-то острогать, отесать и огранить то несуразно глыбистое, что принято считать народным типажом, затем в муках слепить что-то хотя-бы как-то пригодное для обслуживания сложнейших современных машин, приборов и аппаратов.
Офицеры, добровольно избравшие своё поприще, много лет настойчиво учились, в трудах осваивали человеческие достижения, проходили практику и неоднократно экзаменовались жизнью и людьми. Поэтому они понимали насколько неподъемным является разрыв между фактическими возможностями и способностями рядовых и тем высоким уровнем требований, который предъявляется к корабельной живой единице. Можно ли матроса, нагруженного, перегруженного и подавленного топтательно-шагательно-кричательно обволакивающей строевщиной, успеть научить пониманию волноводно-фидерных инвариантов доплеровского приращения когерентного излучения или возбуждению вращающегося электромагнитного поля в магнетронно-клистронных генераторах при электронно-индукционной наводке, или интерференции акустических посылок на градиентных неоднородностях или стемблерному кодированию идентифицирующего запроса?
Умудренные начальники решили так, как решить иначе нельзя. Научить неуча вопреки его желанию и даже при его враждебно-отталкивающем отношении к учебе невозможно. За короткое время вложить в неподготовленные и неприспособленные головы то, что офицеры постигали длинной и настойчивой учёбой не под силу никому, никогда, ни при каких условиях. Что же делать? Отодвинуть! Подальше от себя! Для этого из обширной серой массы отбираются особи с намёком на сознание, вкладывается в них некая правильная установка, программирующая их дальнейшие действия, и в случае, если такое вкладывание удалось и особь восприняла то, что от неё требуется, её, чтобы не спутать с другими похожими на неё существами, отмечают нашиванием на плечи нескольких лычек! Всё! Заградительный эшелон готов. Отныне, он, олыченный, отстаивая дарованные ему привилегии, будет верно сторожить покой хозяина и самостоятельно, не тревожа и не беспокоя его, управлять отодвинутой стихией по своему хотению, по своему разумению с пользой для себя.
Самоустранившиеся офицеры получают служивый покой, их лычконосные наместники наделяются безответственной властью и постепенно так же начинают самоустраняться, а рядовые, низовые, зеленые и никакие, чтобы облегчить себе жизнь вынуждены, как к предельному потолку, подтягивать себя к царствующим наместникам, знания которых в лучшем случае почерпнуты из корабельного устава. В результате послойного деления образовалось три касты. Первая из них барствует, вторая почти барствует, а третья, наполняя собой толпу отверженных, пребывает в вечном услужении у всех, кто сверху. Именно в услужении, точнее в услужничестве, поскольку понятие “служба” подразумевает дисциплинированный и ответственный профессионализм. Если из последнего определения убрать слово “профессионализм”, как это наблюдается при всеобщей повинности, то и “отвественность” уже не при чём. За что могут отвечать неучи или дилетанты, если они таковые по условию задачи и в армейской структуре используются не по назначению? Можно ли подводную лодку обвинить в том, что она не является подземной? Как можно допустить сельского парня к радиолокационной станции, если она с трудом осваивается офицерами-специалистами. Как может выполнить свои задачи корабль, если локатор на нём доверен невежде? А как обеспечит свою безопасность страна, имея слепой крейсер, на котором обзор обстановки осуществляет нечто, не к месту приставленное? Так всё-таки, кто защищает общество, напрягающее жилы для содержания отборных особей? И, наконец, кому должны угрожать эти особи и кому они создают угрозу фактически? Итак, слова “ответственный профессионализм” не соответствуют действительному состоянию армейской институции, поскольку это требование невозможно реализовать на условиях “всеобщей” и “повинности”. Тогда остается лишь термин “дисциплинированный”. Но что он обозначает при отсутствии двух последних определений. Именно то, что и наблюдается повсеместно: дисциплина ради дисциплины. Другие слова той же сути: муштра, угодничество, мордостроевщина, оболванивание, угнетение, подавление, оскорбление, садизм, зверство, казнокрадство, ибо всё оплачивается страной. Эти и многие другие уточнения характеризуют преступную структуру, которая национальные средства использует не по назначению, создает видимость защищённости державы, ибо непрофессиональное войско даже при хорошей муштре не может рассматриваться как военная сила, калечит вверенных ей людей, снижая интеллектуальный ранг народа и является опасной для общества в связи с присущей ей внутренней конфликтностью и неизбежной агрессивностью.
Муштра ради дисциплины и дисциплина ради муштры. Из года в год внедряют в головы служивых людей стойловое понимание бытия. Если идти, то только строевым и в ногу, ну хотя бы сам с собой в одиночку, а лучше, конечно, если не только локтем, но и коленкой чувствуешь соседа по правильному топтанию, если петь то гимны, марши и походные песни с гиканьем и свистом, если танцевать – так разрешенное “яблочко”, “матросский вальс”, “амурские волны”, если жениться – пожалуйста, сколько хочешь, но только на передовичке и желательно ткачихе или, на худой случай, на доярке, а вот если возмешь студентку, аспирантку, научного работника – всё! Не наш человек: что-то в нём этакое, знаете ли, появилось ... Если сына поименовать, ну кто возражает, именуй, например, Трактором Комбайновичем, а что, плохо разве?
Если в тех звуках, которые вылетают, изо рта при говорении, нет содержания, то как придать себе значительность и видимость важности собственных мельтешений? Ответ даёт наша действительность! Чем мельче мысль, тем громче крик, переходящий в ореж и вождистское завывание с клокотанием в горле. Булькает внутри, значит, что-то есть в его речи. Пусть сейчас это никто понять не может, возможно потом, когда-нибудь дорастем и уразумеем. Ну почему надо действовать “смело и решительно”, а не умно и тактически грамотно; драться до последнего дыхания, вместо того, чтобы думать, анализировать, хитрить и переигрывать врага; воевать до последней капли крови, в то время, как именно каждая капля должна использоваться для победы путём сбережения её за счёт перенесения тяжести боя с телесного уровня на интеллектуальный? Тогда капля мозгов сбережет сотни капель крови. Видимо потому, что изначально так определено: “... чтобы непременно были заняты и ценой каких угодно потерь были удержаны: а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции, г) мосты в первую голову.” Ленин, 21 октября 1917 года. Вот именно: каких угодно потерь ... в первую голову. ”До основанья, а затем ...” В истории не известны случаи, когда разрушители, сформировавшие себя смолоду, как уничтожители, стали бы впоследствии созидателями. Если у некоторых из них и проявлялось творческое начало, то оно опять же с самого своего возникновения ориентировалось на ещё большие последующие разрушения. И прежде всего разрушается сам разрушитель, и дети, и внуки, и потомки его. А Сидоров и есть тот самый потомок! Ему по наследству перешла агрессивная пустота, которая немедленно была заполнена малым набором поведенческих инстинктов, достаточным для биологического пребывания особи в нравственном стойле. В нём же пребывают и шинельно-кальсонные общественно затратные муштрователи и патрули, и охранники, обнажающие оружие каждый раз, когда набившие оскомину мотивы произносятся с личным пониманием, ибо: не положено ..., приказано разойтись ..., просят образумиться ...
Никому еще не удалось узнать что “положено”, кто положил? на долго ли? для всех ли? для каких случаев? и кто может востребовать, если отклонился? Поэтому трактователями таинственного запрета выступают все, повязывая друг друга ритуальными цепями, превращая обездвиженных людей в сообщество малодееспособных этических инвалидов, калек или даже кродов с пониженной или отсутствующей созидательной потенцией.
–Матросу Гордееву прибыть на боевой информационный пост, форма одежды рабочая! Приказание поступило по внутренней связи с постом №12. Командир отделения, повесив телефонную трубку, дописал очередной пункт плана занятий: “Рангоут и такелаж шестивесельного яла”, повернулся к оператору №4, прищурил глаз, сдвинул берет на затылок, вдохнул побольше воздуха и, несколько подавшись вперед в обличительном порыве ...
–Почему не доложил о проступке? Где на сей раз тебя носило? С кем подрался? Кого избил? Что натворил? Зачем вызывают в БИП? Не гуляй глазами? Не сучи ногами! Ты что пялишься на меня? Почему молчишь, отвечай! Вопросы сыпались безостановочно, паузы не было, войти в монолог с докладом не удавалось и поведение матроса всё больше казалось обидным для начальника, но перебивать его тем более непозволительно.
–Отмолчаться решил? Мало тебя наказывали? Игнорируешь порядок? Честная служба видать не для тебя? Ты какого хера стоишь? В БИП бегом марш, в три бени твою маню ...! Вслед за приказанием последовало ответное “есть!” и нарушитель всех вселенских правил выскочил из рубки, лязгнув ригелями тяжелой двери.
–Товарищ капитан третьего ранга, матрос Гордеев по вашему приказанию прибыл.
– Вижу, Гордеев, вижу, ты чего такой красный, на берегу был что-ли? Меру преступил? Или с кем-то сцепился? Ну да ладно, это потом! Доложите о семейном положении ...
– Есть доложить о семейном положении! Как следует из моей корабельной жизни, на сегодняшний день семейного положения не имею, доклад окончен, матрос Гордеев! Глаза уставлены на начальника, грудь дрожит в старании и почитании, носки врозь, руки по швам, качания убрал, зрачки не бегают, берет на месте, погоны не оторваны, номер нарисован ..., шнурки завязаны, рукава не закатаны – вроде всё, как надо, и чего он пристал с этим положением, может я неблагонадежный? Может спишут с крейсера? Куда? Надолго? Когда же выйду? Выйду ли ...?
– Доложите подробнее, меня интересует всё, что имеете по данному вопросу. Начальник сел поудобнее, собираясь, видимо, долго выяснять какой-то важный момент.
–Есть, доложить подробнее! Во время проведения мероприятий по поводу дня Военно-Морского флота на шкафутах, полубаках и баке были танцы, на которых присутствовали девушки из Инкерманского винодельческого совхоза. Несмотря на то, что их было всего около двух десятков и они были нарасхват, я всё же познакомился с одной и был приглашен в гости. Адрес, записанный заранее, она дала мне под конец танго “лукавые очи!” В первый же выход на берег с трудом отыскал улицу Сосновую и нужный дом, но из-за того, что эта улица была на окраине Инкермана и её не знал даже таксист, я опоздал. В прихожей уже висело много бескозырок, а возле двери стояли взволнованные старшины. Навстречу мне вышла женщина и объяснила, что на сегодня девушки уже полностью заняты, что ввиду большого наплыва мужчин и так вынуждены работать допоздна, и что я уже семнадцатый и потому вряд ли меня обслужат. Однако, если буду настаивать, пригласят соседку, но это стоит дорого; сосчитали мои деньги, оказалось мало, матросского жалованья не хватило на семейное положение.ъъ И что же, других встреч не имели? Спокойный голос офицера не давал подсказки для уяснения причин допроса.
– В числе других встреч была еще одна, с девушкой. Она была на танцах на минном пруду, сидела под ивами и отдыхала после быстрого вальса. После приглашения на фокстрот и её согласия, мы вошли в круг, но неожиданно началась потасовка, аппаратуру разбили, музыканты разбежались и, поскольку в этот раз в драке случайно не участвовал, вместе с партнершей благополучно ушли от ненужной суеты. Через месяц снова встретились, гуляли в Приморском парке, где я уснул на её плече. Она отнеслась к такому казусу спокойно, сказала, что я не первый, кто засыпает на берегу, стоит только моряку оказаться в тихом месте ..., но больше с нею почему-то ... семейное положение не получилось.
–Значит, вы за всё время только два раза вступали во взаимоотношения с женщинами? Вопрос содержал мало заинтересованности или удивления, поскольку начальник и без того знал на него ответ. Скорее всего, ему важно было услышать, как именно на него ответит подчиненный.
– Женщин видел в госпитале и несколько раз ещё, когда был на берегу по увольнительной записке, но ни с одной из них семейных отношений не произошло.
– Так-так, хорошо, пока неплохо, ну а как у вас дома, есть невеста или что-нибудь подобное-похожее? Невесты или другого аналогичного чего-то для семейных отношений не имею, потому как не успел, будучи призванным исполнять почетный долг! Гордеев всё ещё не мог представить, куда клонится разговор, что за ним скрывается и где находится яма, уготованная ему?
– Чем занимается отец? Не мог не знать начальник, не имел права не знать, он обязан знать всё, исключительно всё о своих подданных. На каждого из них имеется личное дело, где содержатся сведения не только о родителях, но и о всех предках от самых Петровских времен!
– Мой отец, Иван Петрович, 1913 года рождения, русский, беспартийный, образование высшее, педагогическое, женат, имел двоих сыновей, с 1937 года находился на действующих фронтах, в которых наша страна добывала себе свободу в борьбе с посягагальствами мировой буржуазии и оголтелых милитаристов на наши священные рубежи и на первую республику, строящую светлое будущее для всех угнетенных и порабощенных народов. С первых дней борьбы с немецко-фашистскими захватчиками пребывал на фронте в качестве дивизионного связиста и специалиста по артиллерийским приборам наведения. Имел несколько тяжелых ранений, награжден орденами и медалями. В последний год своей жизни воевал в войсках, освобождавших Польшу, в 1944 году, в июле месяце, 14 числа погиб вместе с другими героями при штурме Варшавы, похоронен в братской могиле на окраине города и его имя высечено на памятной доске, о чём написано было в похоронном свидетельстве за номером 9025/44, выданном районным военкоматом в 1944 году, доклад окончен, матрос Гордеев.
–Так... Так... Так..., да..., да... я понимаю, ..., понимаю! Ну хорошо, а где ваш брат? Тон вопроса вроде-бы подсказывал, что ловушка где-то рядом. Но что это за ловушка, если брат такой же подневольный военнослужащий, как и Гордеев. Нет, похоже, это попытка встрепенуть нервы, на подвох взять, возможно, хочет отвлечь от настоящего выпада.
– Мой брат проходит срочную службу в звании сержанта при дивизионе боеприпасов Дальневосточного военного округа, полевая почта, номер ... ответ окончен, матрос Гордеев. – Давно он служит? – Первый год! –И уже сержант? Вы не оговорились? Он действительно так быстро продвинулся по службе?
– Товарищ капитан третьего ранга! Разрешите доложить: я не ошибся, он сержант, поскольку имеет специальное образование, связанное с технологией химического машиностроения, и ему присвоено звание минуя ефрейтора и младшего сержанта в знак признания его высокой образованности и полезности в военном деле.
– А у вас какое образование?
– Такое же, только на два года больше опыта работы на оборонном предприятии, что отмечено в трудовой книжке.
– И вы до сих пор матрос?
– Так точно, матрос! Пользу стране можно принести, при желании, и в таком звании, тем более, что есть такая возможность.
–Похвально, Гордеев, весьма похвально! И снова посыпались вопросы. На них следовали ответы и так обо всем, подробно, долго! Уже разобрали по косточкам двоюродных, троюродных, со стороны отца и матери, кто где учился, жил работал, кто был осуждён, в плену, репрессирован, на оккупированной территориии ... И когда исповедь подошла к посуточному пересказу двацатилетней жизни собиратель народных биографий спросил:
А что вы скажете о своей матери? Вот он где вынырнул! Сразу в голове замелькали варианты: арестовали, осудили, уволили, заболела, или ... не дай бог, рухнула гнилая хата, придавило, покалечило, в больнице... Хотя нет! Сочуствия в голосе не слышно, значит ... враг народа ..., но с чего бы взяться обвинению?
– Работает учительницей в сельской школе, писем давно не было. Гордеев опустил голову. Даже забыл добавить воронье-солдафонское окончание: доклад окончен.
– А где она в настоящее время? – не унимался дотошный вопрошатель. –На поставленный вопрос ответить не имею возможности, нет сведений уже несколько месяцев, причины неизвестны, а Вы что-либо знаете? – спросил Гордеев.
– Вот узнаёем, разбираемся, будем решать, пока идите, вы свободны. И командир встал, показывая, что разговор окончен, тема исчерпана, но о чём она, эта тема, матросу яснее не стало.
–Есть! Поворот кругом, три притопа до двери, крутанул, перешагнул, лязгнул, коридор, трап, ростры, пост ... да ну его к ...! Служба, работы ... два часа долбал, долг, священный, почетный ..., ...бут на каждом шагу, надо ввести новое юридическое понятие: круглосуточная виноватость. Нарушая все корабельные правила, облокотился на переборку, закурил, затянулся, задержал дым внутри. Голова сначала прояснилась, затем поплыла туманом, освобождая сознание от тягостных ощущений опасного допроса. Докурил, погасший окурок спрятал в карман, обречённо махнул рукой, дескать, хуже не будет, а лучше тем более, вильнув туда-сюда бёдрами, уклонился от двери и вошёл внутрь боевого поста.
–Гордеев! Приказано переодеться в форму номер два первого срока носки и с документами прибыть через семь минут в каюту лейтенанта Овинова без вещей. Заинтересованный Колев лопался от любопытства, но, понимая, что времени осталось меньше нормативного, смолчал, стерпел и отпустил матроса выполнять неожиданное распоряжение.
– Товарищ лейтенант, матрос Гордеев по вашему приказанию прибыл с документами и без вещей. – Хорошо, Гордеев, следуй за мной! И лейтенант зашагал по вихлястым коридорам и палубам к рубке вахтенного офицера, записал его и свою фамилии в журнал, доложил начальнику РТС и старпому о своём убытии с борта по приказу командира. Затем трап, баркас и вот теперь труженик залива, натужно пыхтя мотором, уносил его, уносил его ... пока в неизвестность, ибо конвоир упорно молчал, демонстративно не желая что-либо прояснять.
Баркас, оттарахтев привычный путь, привалил бортом к минной стенке. Офицер и матрос поднялись с мостков на причал, обогнули чёрные кнехты, прошли мимо сходней, переброшенных с эсминцев на стенку и направились в город, к троллейбусу. Несколько остановок и два пассажира вышли возле гарнизонной комендатуры. Не разговаривая между собой, приблизились к тяжелой двери, толкнули её и оказались в просторном помещении, в котором, кроме стола дежурного ничего другого не было. Овинов доложил о прибытии. Велели подождать. Прошло немного времени и в вестибюль вышел военный комендант города вместе с ... матерью Гордеева. Движение прекратилось, повисла тишина, накрыв шатром немую сцену удивления.
Оказалось, в Севастополе проходил съезд учителей, где присутствовал и комендант. Познакомились, разговорились, выяснилось ... семафор на корабль и вот результат: немая сцена. Неужели, чтобы встретиться с матерью на совершенно законных основаниях, оправданным явился длительный, подробный и унизительный допрос, конвоирование на берег и передача защитника Отечества с рук на руки при свидетелях. Однако не следует торопиться с выводами до тех пор, пока событие не свершилось. Дело в том, что передача не состоялась. Она руководством крейсера была не позволена. Матросу нельзя доверить одному погулять с матерью по городу, его, то-есть их, необходимо сопровождать везде, всюду и полностью контролировать совместные разговоры, посещения, передвижения. Так бдительный Овинов ни на секунду и не отлучился, не потерял, не отпустил подопечных в течение четырех часов гуляния по морской столице. По истечении положенного времени, снова предстали перед комендантом, раскланялись и отблагодарились за неслыханное потакание семейным чудачествам, после чего в сопровождении лейтенанта флота Овинова радиометрист Гордеев был доставлен на корабль для дальнейшей службы по защите страны, её народа, её границ, её устоев, её ...
Прибыв на корабль, Гордеев переоделся и скрытно, уклоняясь от проверяющих, добрался на пост №12. –Товарищ старшина, матрос Гордеев приказание начальника РТС выполнил, по его распоряжению должен приступить к работе по распорядку дня. Не было эмоций в докладе матроса, нельзя распознать по внешним признакам причины схода на берег, да ещё под конвоем. А узнать нужно, поточнее и побыстрее, чтобы в числе первых или сразу примкнуть к нему и представить как своего ученика и оттянуть на себя его славу или, в случае какой-то поганости, плохости, нехорошести, отпрыгнуть подальше от него и не среди первых, а самым что ни на есть первым обложить, заклеймить, отмежеваться.
–Доложите о проделанной работе! Старшина, видимо, рассчитытывал, что накатанная ритмика диалога начальника с подчиненным естественным привычным манером заставит матроса исповедоваться. Есть, доложить о проделанной работе! О проделанной работе приказано не докладывать, доклад окончен, матрос Гордеев! Круг замкнулся. Колев понял, что от этого строевого истукана больше не добиться ничего! А надо! Возможно, он ... оттуда, от них, подсадной ..., следит, фиксирует, доносит, сообщает, приставленный, внедренный, получил новое задание ...
–Вольно, Гордеев, приступай к занятиям, там посмотрим, что делать! И Колев пододвинул к нему такую же толстую папку с документацией, какие лежали перед другими тремя операторами. Гордеев взял папку и осмотрел ее со всех сторон. Не обнаружив разрывов и других механических повреждений, изучил завязки, предназначенные для шнурования открываемой стороны. И здесь был порядок. Развязал тесемки, откинул обложку и углубился в изучение описи документов. Первой записью в длинном списке стояло: “Вкладыш твердый, верхний лист, без текста, кол-во 1 шт., формат А4”. Теперь предстояло поименованный лист вытащить и убедиться, что всё, изложенное о нём, правда. Что и в самом деле вкладыш, и твердый, и один единственный, и не огрызок, и ничего на нем не нарисовано, и только один шт., и не поддельный. Такое подозрительное обследование проводят операторы всегда, ибо помнят трагичный случай, когда по простоте душевной однажды приняли лист “без текста” за простую бумажку, отнеслись к нему не с подобающим ... и его нечаянно сквозняком и ветром унесло за борт в открытое море. Подумали, ну что за беда! Подобрали другой, похожий, вложили в папку и благополучно сдали в секретную библиотеку. Однако ночью подделка обнаружилась. Быстро провели дознание. Виновных – в карцер, приставили к выявленным пособникам западных милитаристических и шпионских кругов усиленную охрану, а корабль в исходную точку, с координатами: широта ..., долгота ... Искали все, искали долго, искали самоотверженно и обреченно. Невероятно, но нашли. Правда, он уже был не твердый, но всё остальные приметы сходились с исходным писаным портретом. По возвращению из моря матроса и его начальника из карцера конвоиры увели в баркас, который отошёл от корабля в сопровождении двух других мотоботов, следующих несколько сзади слева и справа за арестантами. Больше их никто из сослуживцев никогда не видел.
Убедившись, что вкладыш-таки подлинный, Гордеев выдвинул ящик стола, вложил туда реликвию и запер на ключ. Теперь надо следить, чтобы сквозняком за борт не унесло привинченный к палубе стол. Кто знает? На море всякое случается. В папке находились несколько десятков чертежей с изображением схем многочисленных блоков пульта №4, каждая из которых по размерам с добрую простынь. Разложить их в маленькой рубке не удается, потому учащийся обратился за советом к местному начальству: – Товарищ старшина, разрешите уточнить, что спущено по плану на боевой номер Р-12-4? – Ты, салага, не умничай, через семь месяцев исполнится год, как мусолишь папку, пора бы отличать лицевую сторону от изнанки, поверни рисованной картинкой вверх, как положено, и займись той схемой, которую хуже усвоил; вечно для тебя приходится повторять, шляешься где-то на берегу, а тут люди за тебя служат! Командир поста умолк, считая, что сказанного с лихвой достаточно для пробуждения крепко спящей совести матроса, если, конечно, предположить невероятное и согласиться с её возможным наличием.
– Но тогда придется застелить и оклеить всю рубку, ростры, шкафут и весь полубак вплоть до волнореза, а жильцы как будут ходить? Не летать же им над секретными бумагами? По растерянности оператора было видно, что только недостаток площади на корабельных палубах мешает проникнуть ему в премудрость работы корабельного радиолокатора.
– Хорошо, в таком случае разберись в причинах перегорания предохранителя номер девять! Вот это другое дело: четко, конкретно и не нужно напрягаться и мучиться мыслями, какую из схем следует потрошить, чтобы потом почти час времени таращить на неё испуганные глаза. Гордеев вытащил наугад первую попавшуюся схему, развернул её, склонился над ней, подперев голову руками, и уснул. По отработанному воинскому инстинкту проснулся за несколько минут до окончания занятий.
–Товарищ старшина, разрешите доложить о причинах перегорания указанного вами предохранителя? По голосу чувствовалось, что кропотливый поиск неисправности позволил всё же обнаружить виноватую деталь.
– Ну?
– Из описания следует, что ненадежный узел, на который вы своевременно обратили внимание, называется плавкая предохранительная вставка, имеющая номер девять, в чем вы совершенно правы, а перегорает она от неправильного тока, доклад окончен, матрос Гордеев! Оторопевший Колев от неожиданного нахальства округлил глаза. – И что с того следует? Как устранить недостаток? Старшина всё ещё надеялся уйти от конфликта, такого нежелательного перед ужином. Но Гордеева уже несло:
– Согласно вашему приказанию мне предписывалось установить причину, что я и выполнил: предохранитель сгорает от неправильного тока. Откуда он берется не выяснял: такого задания не получал. Ты, Гордеев, иезуит, и когда тебя будут сжигать, подброшу полено другое в костёр, приятно участвовать в хорошем деле! Колеву все-таки удалось сохранить спокойствие перед едой.
– Закончить занятия, бачковым построиться! Подошла очередная веха, в очередной день, в очередной год длинной служивой цепи надоевших событий. И дальше покатилось неспокойное, тревожное время. Люди непрерывно что-то делали. Ни днем, ни ночью не затихала беготня, суета, построения, команды, занятия, работы, авралы, тревоги ... Ни минуты покоя, ни мгновения тишины, ни проблеска мысли, ни малого отвлечения, никакого уединения – этакий коралловый остов, где особи взаимно настолько проникли одна в другую, что используется один желудок на многих пользователей, стали общими органы кроветворения и зрения, объединены конечности, глаза, уши и все другое принадлежит одному в той же мере, что и остальным. Стали общими мысли, взгляды, оценки явлений. Одинаковость и упрощенность, безразличие и апатия, выровнянность и укороченность. Но зачем всё это надо? Почему мучительная работа многих людей не приносит пользы? Что делают матросы на крейсере? На вопрос “зачем” ответ звучит просто: чтобы сторожить! Почему? – Потому, что опостылело сторожить! Что? – Отлынивают от учебы и сторожения.
Вот пример инструкции котельному машинисту, при переводе режимов силовой установки в соответствии с изменением команды от “средний вперед” до “полный вперед”.
1. Матрос обязан знать и неукоснительно выполнять положения настоящей инструкции.
2. Вентиль В1 открыть на несколько оборотов, следя при этом за показанием манометра М1: стрелка должна медленно перемещаться от зеленой черты по направлению к синей.
3. При достижении стрелкой черной отметки вращение В1 прекратить; краны К1, К4, повернуть в направлении волнистой риски, изображенной на корпусе.
4. Показания тахометра должны находиться в пределах, установленных таблицей Табл.1 (укреплена справа от кингстона №5 на переборке 25 отсека).
И так на пяти листах. Сколько ни учись по таким учебникам, учёным не станешь. В бою при первой же встряске всё вылетит из головы, потому что вместо понимания сути тепловых процессов, происходящих в паровой турбине, голова нашпиговывается камуфляжными данными, носящими даже не исполнительский характер, а дергательный и бездумный набор конвульсивных движений, которые до поры до случая позволяют отрабатывать поступающие вводные, но именно до поры, до первой поломки, пробоины, затопления, ранения и многих других неприятностей, вдоволь поставляемых жестоким реальным боем.
Если всё это надо изучить, так изучи и отправляйся домой. Займись делом с пользой для себя и страны. Зачем держать матроса на борту после того, как освоил всё, что нужно для его военной профессии? Почему не заменить его другим, ещё не подготовленным, и выпустить несколько поколений специалистов при тех же затратах? Это очередной пример коллективного помешательства или нарочито созданной ситуации лично под интерес особей, желающих приятствовать на службе за чужой счет.
Не лучше выглядят инструкции артиллеристам, боцманам, рулевым, штурманам. Вот, например, что должен проделать радиометрист, чтобы включить один только пульт.
1. Пульт индикатора кругового обзора (ИКО) включается по команде начальника поста “оператору ИКО-4 подготовить пульт к включению”. После ответа “есть„ подготовить ИКО-4 к включению” оператор переходит к выполнению следующих операций:
-производит внешний осмотр, выявляет механические повреж- дения, обрывы, вмятины и другие нарушения;
-проверяет надежность крепления отсеков, привинчивает кресло оператора к палубе, устанавливает светозащитные ограждения электронно-лучевых индикаторов;
-закрепляет себя в кресле оператора по-штормовому.
2. На отсеке ИКО-4-1 тумблер “вкл.-выкл.” установить в положение “выкл.”, тумблер накал – в положение “выкл.”, клавишу “род работы” – в положение “первичное включение”, кнопку “умформер” – в положение “нажать”...
3. На отсеке ИКО-4-2 позиционный переключатель “усиление” – в положение “макс”, тумблер “фидер-волновод” – в положение “волновод”...
4. На отсеке ИКО-4-3...
Дальше идут такие же бессистемные указания, полностью скрывающие смысл процессов, происходящих внутри прибора при манипуляциях его органами управления. И если на этапе включения при переводе тумблера в активное состояние ожидаемые последствия не наступают, операторов охватывает паника, свойственная невеждам в моменты, когда от них требуются знания. А паника – это потеря времени, это упущенные возможности в бою. И помощь врагу в погублении самого себя.
Все остальное время, не занятое зубрежкой инструкций по обслуживанию техники, расходуется на самосохранение, то есть на сторожение себя и корабля. Вахты, дежурства, караулы, наряды нужны исключительно для поддержания порядка. Их научательная функция быстро исчерпывается всвязи с простотой самой процедуры несения дежурства. Но они также быстро вызывают душевное отторжение ввиду надоедливости и неиссякаемости мельтешни, антуража и противоречивости вахты, как явления ... На крейсере, например, суточный наряд составляет более двухсот человек. Что же это за объект такой и какие на нем порядки, если его должны сторожить круглосуточно несколько сотен сторожей? Наличие такой несуразности свидетельствует о психическом неблагополучии организации флотской службы. Это и есть та ситуация, когда дисциплина вводится ради дисциплины и муштры. На корабле, если разобраться, другого занятия и нет! Весь смысл бытия заключается в подготовке к вахте, в несении вахты, в суете после вахты. Но вахта – это сторожение. Сколько же нужно сторожей, вахтеров и охранников для нормальной страны? Как влияет сторожевое воспитание воина на его способность быть защитником Отечества? Если матрос охраняет кубрик, добавляются ли при этом профессиональные знания по эксплуатации локатора, турбины, ракетной установки? Однажды Гордееву, уже под конец службы, пришлось участвовать в передаче эсминца, проданного военным властям Индонезии. По мере осмотра, проверки и подписания документов наша команда все больше заменялась индонезийской. Постепенно на корабле установились невероятные порядки.
Утром, ровно в семь часов, на пирс, на велосипедах прибывала новая команда, практически все одновременно, числом около ста человек вместо наших трехсот пятидесяти. Они сразу поднимались на борт, переодевались и через тридцать минут выстраивались на подъёем флага. Никаких внешних осмотров от носков и ногтей до зубов и ушей, как у нас, ничего лишнего, ни одного зряшного звука или движения. Через десять минут флаг был поднят, люди расходились по местам и сходу приступали к учёбе.
Они изматывали наших специалистов, спрашивали, просили ещё и ещё раз пояснить, разъяснить, показать, рассказать, записывали, рисовали, отмечали, уточняли ..., словом, все учились по-настоящему, добросовестно, для себя. Каждый из них понимал, что контракт с ним будет разорван, если не сможет соотвествовать предписанным требованиям. На его место возьмут другого, более расторопного, а ему уготовится судьба безработного. И так весь рабочий день. Ровно в семнадцать часов они покидали корабль и уезжали на своих велосипедах к семьям, самостоятельно организуя быт, кормление и самосохранение. Вместо них прибывали уборщики, ремонтники и другие невоенные служащие. Тоже делали своё дело и уходили, оставив лишь нижеоплачиваемых сторожей, числом в несколько человек, вместо наших сотен. Вольные люди, добровольно избравшие морскую профессию, вскоре продемонстрировали высокую выучку в войне с соседним государством, одержав победу без нагнетания морального, физического и нравственного давления на своих сограждан – защитников в прямом и величественном смысле этого слова.
К концу года флот погружается во внутреннее бурление. Все уровни служивого люда рьяно начинают набирать очки для наград. Предполагалось, что враги, проникнувшись важностью повсеместного соревнования за присвоение звания “отличное подразделение”, а также сочувствием к участникам коллективного сумасбродства, воевать не будут, поэтому воинов можно отвлечь спортом, концертной самодеятельностью, экскурсиями, отпусками, встречами с ветеранами, колхозницами, ткачихами и другими знаменитостями. Каждому хотелось бы отдраивать дверь с надписью “кубрик образцового флотского порядка” или служить оставшиеся три-четыре года в “отделении уставной дисциплины”, или сфотографироваться у знамени победителя в борьбе за высокую боевую и политическую подготовку, или прикрепить к форменке еще один значок с интригующей гравировкой “ударник”, или приобщиться к другим неисчислимым и неимоверно значительным пустокипящим достижениям. Помимо званий престижного плана, были и такие, которые приносили денежное вознаграждение. Это небольшие выплаты за ранения, за профессиональную подготовку, за воинское звание, за морские мили и некоторые другие. В целом же, денег морякам всегда не хватает, поэтому они в портах, доках, на стапелях и где только могут стараются продать что-либо из своего обширного гардероба и скопить немного , чтобы можно было купить букет цветов или билет в кино, приобрести сувенир или подарок. Букет попроще, билет подешевле, а памятная вещь зачастую ограничивается открыткой. Хроническое безденежье, невозможность заработать и полная неплатежеспособность на берегу щемяще-ноющей занозой сопровождают моряка все его служивые годы.
Сойдя на берег и ощутив под ногами твердую землю, матрос теряется в нахлынувших на него ощущениях. За отпущенные несколько часов надо успеть так много осуществить, увидеть, запомнить и узнать! Желания разрывают душу. Из-за нехватки времени предпринимаются попытки сделать всё сразу, что приводит к растерянности и нервозности. Из этой тупиковой ситуации выручает давно отработанный флотский прием: стакан, чаще два ... Пить спиртное было запрещено настолько строго, об этом говорилось, напоминалось и предостерегалось так часто, наказания обещались такие страшные, что каждому было ясно: обязательно следует приобщиться. Запретители и нарушители разыгрывали водевиль, где каждый вёл свою роль: одни строго требовали, другие игнорировали, изображая для видимости небывалый испуг. И если тонко понимаемая всеми грань не преступалась, значит “прибыл с берега без замечаний”, ну а вдруг не поприветствовал патрульный наряд, не уступил дорогу сухопутному офицеру или, не дай бог, устроился на сидячем месте в троллейбусе, ну кто поверит, что это произошло с трезвым по рассеянности? Скажут убежденно: преступил! А раз так, изволь, отвесим, получишь, усвоишь, что такое норма и где проходит линия. Нельзя было и не добрать до нормы, употребить меньше, чем принято и негласно одобрено. Это выглядело нехорошо, ибо вселяло в окружающих подозрение, что воздержавшийся чем-то отличается, этак держится себе на уме и неясно, что он задумал. Чего доброго, сослуживцы могут подумать, что такое вызывающее поведение бывшего товарища связано с наличием собственного мнения, которое, как всем известно, обязательно идет в разрез с традициями, вековыми флотскими устоями и является поэтому предосудительным.
Радиометрист Белов три года пренебрегал общественным мнением и возвращался на корабль ... не как все! Постепенно вокруг него образовалась пустота, отодвинувшая его куда-то в незаметную даль! Его мнение стало не интересным, шутки не смешными, знания сомнительными, переживания фальшивыми, здоровье казалось под вопросом и коллеги удивлялись: чем человек держится, если так ограничивает себя на военной службе и без того постылой, опасной и трудной? Каждый, прибыв с берега в правильном душевном состоянии, считал своим долгом осведомиться у Белова: “Ну как, трудно тебе, брат, держишься ещё? Не всем по плечу такая тяжесть! крепись, на весь корабль ты один такой! А как всё остальное, сердце, то да сё, девочки-подруги? Справляешься? Может надо пособить? Да ты не красней, мы враз подменим друга в святой удали мужской!” Белов с безучастным видом огибал весельчака, отходил от него несколько шагов и снова: “Вааай, Белов, держи огурец, тебе персонально с большой земли доставил, занюхаешь компот, помогает.” Шутник ответа не ждал. Давно вошло в привычку сказать несколько слов возмутителю принятого порядка, как-то отличить невероятное поведение и на его заносчивом фоне показать свое единство с матросскими массами прошлых, настоящих и всех других времён. Попутно продемонстрировать, что он устои не попирает, как некоторые. Непьющий и некурящий мученик окружным путём через дальние коридоры прокрался незамеченным на бак и только облегченно вздохнул, как слышит: “Не губи здоровье ночным бризом, затянись кубинской, враз поможет, себя не узнаешь!” На корабле некуда скрыться, уйти от надоедливых шуток, уединиться, побыть хотя бы немного наедине с собой. Везде люди, всегда на виду, в любой момент в душу может ворваться кто угодно, пройтись там сапогами, изорвать звенящие струны, вовсе не заметив этого. Даже ночью, во время сна многочисленные проверяющие могут сорвать простынь, чтобы убедиться в наличии на теле только трусов, как и положено, и отсутствии тельняшки, майки или рубахи, как строжайше запрещено. В ряду других тяжестей службы невозможность уединения и постоянное саморастворение в людской круговерти является наиболее обременительной нагрузкой для многих матросов. На берегу воспроизводится та же обстановка. В театр, не купив предварительно билеты, моряку не попасть, в рестораны, бары, рюмочные, закусочные запрещено. Вот и остаются танцы, укомплектованные военными, прогулки по улицам, где снуют военные, аттракционы, игры и массовые увеселения, доступные военным. Куда деться от погон, бескозырок и клешей? Как выбраться из мужского окружения, переполненного агрессией, взвинченностью и нервозностью, свойственных любым однополым сообществам. Решить эту задачу не удается. Разве что: стакан, чаще два. На некоторое время голова подернется туманом, повседневность отодвинется, человек чуть встрепенётся, забыв о своём бесправном положении, обложенном со всех сторон сплошным “нельзя”. А придет завтра ... Оно-то верно, но до завтра надо дожить!
Нападки на Белова, хотя и не злобные, но постоянные, превратились для него в ещё одну, дополнительную ко всему остальному, тяготу службы. Однажды он не вернулся на корабль. Комендатура, больницы и морги сведений о нём не имели. В связи с возможным дезертирством объявили розыск. В людных местах расклеили фотографии с текстом. Через трое суток его нашли в густых инкерманских виноградниках мертвецки пьяным, на ложе из уже пустых и ещёе не початых бутылок. Задержание беглеца свелось к погрузке его на носилки и доставке в госпиталь, где он скончался через неделю. Он был один на весь экипаж. Больше таких нет. Все остальные правильно понимают, умело применяют и, по возможности, совершенствуют древние приемы ухода от действительности. Корабельный человек испокон веков искал на берегу возможность восстановления попранного своего мужского самоощушения. Молчаливо принят повсеместный тезис о том, что на флоте служат существа мужского пола. А раз так, необходимо снабдить их мужской атрибутикой и этого будет вполне достаточно, чтобы сформировать и оконтурить некое безликое, бесполое приспособление к убойной машине. Брюки, кальсоны, трусы до колен, причёска, бритва, одеколон. Что еще характеризует мужчину? Исходя из воинских уставов, флотского быта и внутреннего самосознания, к этому перечню добавить нечего! Если в брюках и пахнет одеколоном, шипром или табаком, значит ... Ничего это не значит.
Есть только одна-единственная возможность превращения существа мужского пола в мужчину – это объединение его с существом противоположного пола, с женщиной. Только женщина может создать мужчину! Без привнесения в психику мужской особи женской энергии мужчина состояться не может не при каких других условиях. Но... Самым распространенным и излюбленным наказанием матроса за мнимые и действительные прегрешения является лишение его права бывать на берегу. Проходят месяцы, иногда многие месяцы, до тех пор пока корабельный затворник на несколько часов попадет на землю ... “но ни с одной из них семейных отношений не произошло”. Человек мужского пола без обогащения женским началом несколько упрощается, частично вырождается, становится как бы черно-белым вместо того, чтобы быть наполненным жизнеутверждающим разноцветным сиянием. В обезженщеннном мужчине меняется характер, сдвигаются в упрощенчество нравственные критерии, постепенно и незаметно в него вселяется агрессия, злобность, конфликтность. Сдерживаемые до поры до времени, они всё равно прорываются наружу и находят выход в годковщине, немыслимых капустных борщах, шкафутных драках, сумашествиях и, наконец, в войнах! “Великие” полководцы: Македонский, Цезарь, Суворов, Наполеон, Ленин, Гитлер – практические импотенты. Полностью лишенные того, что Женщина при общении передаёт Мужчине, они превратились в чудовищ. Общество, силой малоразумного большинства формирующее однополые коллективы: корабли, дивизии, тюрьмы, монастыри ..., закладывает под себя тем самым взрывчатку, которая неминуемо взорвется вместе с самим неразумным большинством. Наблюдения показывают, что человек, длительно пребывавщий в однополом коллективе, поражается настолько серьёзными психическими сдвигами, что восстановлению практически не подлежит. В дальнейшем, попав в уравновешенную среду, он многое пересмотрит, изменит, исправит, но сама порочность, сама ущербность останутся навечно: скрываемая неполноценность.
... Тонкая металлическая дверь отделяла кубрик от корабельного лазарета. По ту сторону переборки слышалась привычная возня санитаров и больных. Неожиданно матросы уловили торопливый диалог. –Ты чего расквашенный такой? не добрал или спугнули? – Да нет, не то! вчера был на материке, встречался с женщиной: какая невероятная нелепость, какая жуткая пародия на половые отношения! разве это интим?
– И что было не так?
– Да всё! Ни страстей, ни накала, ни безумия! Одна работа. И вид не тот, и запахи другие. Она меня использовала, как ...
– Ну и ... ?
– Последний раз, больше от тебя никуда!
Послышались шорохи одежды, звуки поцелуев, лязгнули ригеля входной двери. Длинное ритмичное сопение, приглушенные стоны ... Невольные слушатели особо не вникали в знакомые голоса санитаров. Разговор, как разговор, бывало и не такое! Так, видимо, и отошла бы эта сценка незамеченной, если бы вскорости не последовало её продолжение. Однажды на пирс влетела на большой скорости машина скорой помощи и остановилась перед ютовым трапом. К ней вышел корабельный врач, распахнул дверки кареты и зрителям открылась картина доселе казавшаяся невозможной. На носилках лежали нагишом лазаретовские санитары, всё тело которых было изрезано продолговатыми ранами, обильно изливающими кровь. На немногих местах, где не было порезов, нагромождались хлопья спермы. Кровавые потеки натыкались на пузыристые сгустки и красной жижей стекали на пол. Уже карета давно покинула пирс, а свидетели непонятного явления всё еще стояли, пораженные увиденным.
По выздоровлению их обвинили в умышленном членовредительстве и полагалось им за это четыре года дисбата. Многовато. Тогда они решили рассказать правду. Оказывается, пребывая на корабле, с ними что-то произошло и они, сначала не сильно замечали, но со временем всё яснее становилось, что, как мужчины, они не в состоянии встречаться с женщинами. Общая неудача сб-лизила санитаров и они, как могли, давали утеху друг другу. Постепенно досадные воспоминания отошли в прошлое, взаимная страсть стала разгораться и они с удивлением обнаружили, что именно такая связь их наиболее полно удовлетворяет и соответствует потаённым желаниям души. Однако в долго текущих корабельных днях новизна отношений стала помалу отходить. Всё больше проявлялась нервозность, подкрадывалось озлобление. Однажды в штормовом походе под удручающим влиянием мглистой погоды и вечной качки вспыхнула ссора и один из них полоснул другого хорошо заточенным скальпелем. На коже появился длинный разрез, обнажились мягкие ткани. Выступившая кровь быстро собиралась в струйки и стекала на белоснежный халат. Раненый изумлёнными глазами уставился на руку, стал следить за льющейся кровью, затих, затем учащенно задышал и ... всё тело его содрогнулось в сильнейшем оргазме. Начало положено. Открытие сделано. Новый источник удовольствия найден. Корабельный плотный распорядок не оставляет времени для затворничества, поэтому они решили использовать очередной отпуск на берег. Уединились в прибрежных скалах. Первый разрез, первый оргазм. Потом второй, третий ... Обезумевших людей, отплясывающих кровавый танец у кромки прибоя, заметили, позвонили, прибыла “скорая”. К этому моменту оба плясуна угомонились. Они без сознания лежали нагишом на голых камнях, обозреваемые толпой.
От санитара зависит жизнь матроса. Дрогнет рука, введет не то, уколет не туда ... От других больных, пораженных санитаровой болезнью, зависит судьба корабля, страны ...
Суд над предполагаемыми членовредителями заседал на борту. Однако, как только выснились истинные мотивы обвиняемых, рассмотрение дела сделали закрытым. Впервые стала очевидной несуразность, нелепость и преступность организации военной службы, психически калечащей отборных представителей народа. Повидимому уже давно назрела необходимость введения обязательной проверки людей под погонами на отсутствие интимных и сексуальных отклонений. Необходимо также легализовать и упорядочить эти отношения, чтобы поганизм нации не перешагнул необратимую черту. Корабельная обстановка полностью изымает человека из привычного окружения. Уже одно это является причиной медленного, но неумолимого напряжения психики, а потому неизменно приводит к отклонениям в поведении. Здесь отсутствуют растения, животные, обычные бытовые детали, нет пестроты одежды, интерьера, совсем другие звуки, голоса, запахи и краски. Бронированные борта изолируют человека от естественных излучений неба и земли, накапливая внутри замкнутого пространства нездоровую энергетику взвинченных и неуравновешенных людей. К этому добавляется ещё поражающее воздействие силовых установок, локационных станций и других вредоносных механизмов.
Поэтому не случайно матросы носят с собой, хранят в рундуках и оклеивают чемоданы фотографиями, открытками и журнальными картинками с изображением потерянных во время службы видов и пейзажей. Хотя бы изредка, иногда, чуть-чуть, при взгляде на наклейки глаз мог бы зацепиться за тему, ускользающую из сознания, получить свою отраду, встрепенуться и обогатиться уходящими впечатлениями. В такой ситуации образ женщины приобретает ритуальное и даже мистическое значение. С корабельными годами она всё больше идеализируется, одухотворяется и принимает нематериальные возвышенные очертания. Порой даже забывается, что с женщиной может быть конкретная половая близость. Она постепенно становится олицетворением потерянного прошлого, неким идеалом ума, справедливости и ещё чего-то важного, зовущего, волнующего и влекущего. Женщины интуитивно чувствуют поток изливающегося на них восхищения и каждая из них реагирует на льющуюся благость по-разному.
... На строевом плацу выстроились две тысячи матросов. Развевающиеся знамена, горнист бодрящими сигналами сопровождает команды, чеканный шаг подтянутых людей, рапорты, доклады: торжественная обстановка, шумно, глаза устремлены на командира. Но чувствуется, что всё происходящее имеет ещё и какой-то другой смысл. В воздухе повисло легкое волнение, радостное ожидание и щемящая надежда ...
В обычное время почти неслышно в обилии громких звуков скрипнула дверь проходной. Она ещё не открылась и не освободила дорогу и не показала того, кто находится за ней, но две тысячи голов, забыв о знаменах, рапортах и командире, повернулись в сторону качнувшейся двери. Мгновение и показалась девушка. Она осторожно простучала каблуками три ступеньки, шагнула на пешеходную дорожку и пошла по ней, огибая затихший строй, умолкшего горниста и временно разжалованного командира. Никто и никогда не видел богинь, но каждому человеку в замершем строю было ясно, что ему повезло и ему послано святое видение ... Девушка шла легко и просто, красиво покачивая юбкой и женственно волнующейся грудью под тонкой летней тканью. Постепенно её движения становились всё боле плавными, казалось, она взлетает над землей, еще немного и, взмахнув руками, унесется в голубую высоту, в заоблачные дали. И так каждый день наблюдалось превращение обычной женщины в новое окрыленное существо. Каждый раз, поглощая чистое, здоровое и восхищеное излучение благодарных мужчин, она получала прилив жизненных сил, позволяющих ей чувствовать себя Собой, Женщиной!
Моряки тоже преображались. В душу входило что-то значительное, настоящее и праздничное. Оно наполняло смыслом постепенно опустошающуюся сущность, превращало живой механизм в человека и вселяло желание жить!
Никем не познанные глубины взаимной необходимости между Мужчиной и Женщиной ждут своих исследователей. Ведь с точки зрения людей на Планете нет ничего и никого, кроме людей. Всё, что бы ни делалось, делается ими и для них. Но каковы они и что им нужно? Это заложено, зашифровано и сокрыто в самом факте наличия двух взаимодополняющих и разных, антогонистичных и одинаковых женской и мужской сущностей. Как распознать великую тайну?
Эзотерическая легенда повествует, что Природа в извечном поиске лучших решений уже прошла через вариант андрогинных особей, которые в едином материальном теле содержали и мужское и женское начала. Андрогины жили на Земле многие миллионы лет и, как ни старалась Природа, она не смогла на их основе получить требуемый инструмент для дальнейшего совершенствования Вселенной. Объясняется это тем, что Андрогины оказались самодостаточными. Они в своих стремлениях замыкались сами на себя, игнорируя окружающую действительность и не жели её преобразовывать всвязи с отсутствием внутренних побуждений к творчеству. Природа, разочаровавшись в результате очередного эксперимента, разъединила андрогинное целое, породив таким образом, две автономные половинки, которые всё же не могут состояться порознь и вынуждены вновь сливаться, если каждая из них в отдельности стремится к тому же, к чему окажется нацеленной вновь создаваемая сущность. И в этом процессе: объединить, исследовать, разочароваться, разъединить и снова объединить, но уже на новых принципах, заложено желание Природы получить то, что ей нужно. Она надеется когда-то сотворить задуманное, потому пробует, ищет, ошибается, размышляет и начинает творить дальше, вновь, без устали, сначала.
Разнополые люди сравнительно недавно появились на Земле. Можно считать, что новый эксперимент Природы находится в самом начале. И если объект исследования, человек, наделен разумом, то наиболее достойным его применением было бы осознание замысла Творца и организация саморазвития в направлении этого замысла. Если же наш разум окажется недостаточным, чтобы уразуметь пока сокрытый от нас путь, всё, что есть на Планете в очередной раз будет сметено. Вместе с больной Планетой.
А пока? Пока мужчины страдают без женщин, а женщины сходят с ума без мужчин, если не в состоянии довольствоваться суррогатным удовлетворением. Оба они не желают вникать в великие кармические тайны, да и не под силу отдельным людям, задавленным малоразумным большинством, обозреть протяженный путь становления вида. Это под силу обществу, но оно занято разрушением и войной. И снова всё несется по воле случая, как крейсер с неисправными локационными глазами.
Каждый раз корабельные люди, измученные воздержанием, припадают к бортовым оптическим окулярам, чтобы хотя бы через увеличительное стекло найти на далеком берегу женский силуэт, ощутить щемящую тоску и тихо с отчаянья завыть. Моряки посещают пляжи, но не для купанья: им знакомы настоящие чистые и глубокие бескрайние воды, поэтому не за купаньем идут они в скопище обнаженных тел. Они смотрят на женщин, пряча жадные глаза, чтобы обогатиться их излучением, насытиться их энергией и дать отраду глазам, которые в походе снова лишатся всего привычного и надолго окунутся в безликую и бесполую, бесцветную и бездушную однополую среду. Флотские чины знают к каким неукротимым буйствам и трагедиям приводит вечное воздержание людей, потому ограждают себя от матросских масс своими изуверскими методами. Из года в год добавляется в пищу вещество, снижающее сексуальную тягу. В результате получается то, что произошло с описанными двумя санитарами.
На разных мужчин добавка воздействует по-разному, но почти всегда потенция сильно ослабляется, а желания неимоверно возрастают, порождая таким образом неразрешимое нравственное уродство. Влияние этих добавок сказывается в дальнейшем всю жизнь, отражается на потомстве, калечит детей, семью, нацию. И это продолжается десятилетиями. Однако несмотря на все ухищрения опогоненных убийц, каких-то, обычных, привычных, повседневных добавок так называемого витамина “Р”, им недостаёт для полного спокойствия. Каждый год они проводят официальное кастрирование путём введения подкожно около двухсот кубических сантиметров неизвестного вещества. Для этого заранее корабль надолго ставится на бочки и жизнь на нём замирает, вымирает, прекращается. Весь экипаж поштучно, по одному человеку, во исполнение приказа командира, касающегося лично Иванова, Петрова, Сидорова, направляется в лазарет. Как только очередная жертва переступает комингс, её подхватывают два санитара верзилового покроя, заламывают руки назад так, чтобы лопатки тесно сошлись, а кожа на них вздулась. Тогда третий санитар особыми щипцами захватывает оттопыренную кожу, оттягивает ещё дальше, а другой рукой с силой вонзает толстую и длинную иглу в образовавшееся вздутие. Затем долго и трудно выдавливает содержимое из шприца, не обращая внимания на потрескивание разрываемых тканей, судороги и проклятия жертвы. Если матрос терял сознание, его укладывали, били по щекам, совали под нос нашатырь, обливали водой, а затем выталкивали через другую дверь на шкафут. Придя в себя, человек добирался до кубрика, валился на койку и погружался на несколько суток в дотоле незнакомый кошмар. Температура тела поднималась до сорока одного градуса, голова переполнялась видениями, боль разливалась не только по всему телу, а, кажется, пронизывала каждую клетку. Невозможно пошевелиться, даже мысль о предполагаемом движении приводила в отчаяние. Наиболее стойкие к исходу четвёртых суток могли самостоятельно медленно и осторожно добраться до гальюна. Официально считается, что через пять суток все должны быть в строю, но ещё и через месяц гримаса боли кривила лицо от неудачного шага, резкого поворота головы, рук или туловища.
За четыре года четыре раза убивают мужчину, за пять лет – пять раз! Во имя чего? Нужно ли это Родине, которую защищаем? Нет! Тогда кому? Власть из экономической надстройки превратилась в базис и стала бесполой. В своем вырождении она коллапсирует, затаскивая за собой в черную воронку молча взирающее неразумное большинство.
Внутреннее бурление флота вплотную подошло к зимней спартакиаде. По всем кораблям спешно формировались команды. Обычно матросы, перегруженные службой, энтузиазма к формально проводимому мероприятию не проявляли, пытались увильнуть и свои способности держали в тайне. На выручку организаторам приходили личные дела, в которых хранилось всё, старательно выпытанное у новобранцев во время многочисленных сортировочных комиссий. Так, неожиданно для себя, Гордеев был зачислен в команду бойцов и шлюпочников. Известие о том, что ему придется на несколько недель сойти с корабля, сослуживцы восприняли с неудовольствием, ибо на оставшихся возрастала нагрузка по несению обязательных дежурств, вахт и повседневных работ. Тем не менее, они пожелали новоявленному спортсмену побыстрее расправиться с соперниками и победителем вернуться домой. Матросу долго собираться не надо. Вещмешок за плечи, протопал знакомой дорогой до бортового трапа, баркас, минная стенка и новый трап, только на другой корабль, превращенный всвязи со своим достойным возрастом во флотское общежитие. И опять то же самое: “Становись, равняйсь, смирно, разговоры в строю, вахтенной смене построиться ...”. К знакомым командам добавились и новые: “Боксерам прибыть на взвешивание, штангистам собраться на спардеке, и, наконец, бойцам вольного стиля зарегистрироваться на жеребьёвку”. Гордеев вместе с другими членами бойцовской группы вышел на ют, отдергался положенное число раз, выполняя строевые окрики, и по площади Нахимова, мимо Графской пристани добрался до спортзала. Вот уж воистину почерк судьбы! Стоит только где-то появиться Гордееву, как немедленно складывается ситуация, вынуждающая идти на подвиг. Все участники становились на весы, затем под мерную планку, дули воздух и так постепенно на каждого из них составлялась таблица из килограммов, сантиметров, объемов, упитанности, физического состояния грудной клетки, острижки ногтей, длины волос, наличия шрамов, травм и особых отличительностей типа: пигментные пятна отсутствуют, незаживших ран нет ... Из этих промеров следовало, что у Гордеева полусредний вес, такой же, как и у Дарова. Но двое в одном весе – это ни к чему, тем более, что в полутяжёлом ни одного ... – Гордеев, ты же понимаешь, честь корабля ..., высокая воинская сознательность, надо выручить, коллектив борется за звание “отличный”, на тебя надеется экипаж ... – Но я же на пять килограммов легче требуемого?
– А находчивость где? Вот графин, вода в кране, пей вдоволь, не торопись, ну а потом ... после взвешивания ... два пальца, хотя кто, как привык, можно и три и даже четыре ... содрогнешься раз, другой и облегчишься, и под леера, а там уже смотри в оба, там я тебе, Гордеев, не советчик! Но знай! За тебя там честные люди постоянно служат, пока ты здесь, на берегу ..., словом, вникай ...
Не часто служивого человека просят! Такое редкое событие и настораживает, и пробуждает! А, была, не была! Хуже не будет! Терять матросу нечего! На волне безразличного отчаяния, Гордеев, неожиданно для него самого и для остальных, добрался в своей подгруппе до полуфинального поединка. И вот финальная встреча.
– Вызывается на ковёр экс-чемпион всесоюзного первенства ДСО “Химик” тысяча девятьсот пятьдесят ... года, имеет ... побед, ... ничьих, ... поражений, вес ..., рост ..., звание ..., возраст, семейное положение, награды, поощрения, дипломы ...
Боже! Эти сведения давно уже забыл сам Гордеев. Откуда они взяты? Кто и где накапливает и систематизирует любые штрихи биографии? С какого возраста начинает толститься личное дело? Какими путями оно следует за человеком? Кому дозволено туда добавлять, изымать, трактовать? Никуда не деться от всевидящих глаз. Они в любой момент по своему хотению могут и поднять, и опустить, попутно сильно зашибив. Ещё более достойный, длинный и подробный перечень заслуг был зачитан по отношению к его сопернику. Только сейчас Гордеев обратил внимание на атлета, стоящего напротив в синем углу! Высокий парень с широкими плечами и с тонкой мускулистой талией спокойно рассматривал явно не грозного соперника. По мере обозревания его интерес ощутимо слабел, еще немного и взгляд заскользил по ковру, судьям, зрителям. Для себя он уже всё определил! Гордеев тоже прикидывал возможную картину поединка. Бесспорно было и ясно, что атлет предпочтет воспользоваться преимуществами в росте и весе, поэтому, как учил когда-то первый тренер Самуил Яковлевич Шуя: “Ты большой, а я – маленький, ты тяжелый, а я – пушинка, ты сильный, а я – так себе”. Раздался гонг, бойцы направились на середину ковра, в последний раз были осмотрены судьёй, пожали друг другу руки и разошлись. Всё, поединок начался. Гордеев делает первый шаг, цепляется ногой за ковер и падает. Неожиданное начало несколько расслабляет уже было сосредоточенного соперника. Пока Гордеев поднимался и, прихрамывая, отходил в сторону с явным намерением оттянуть непосредственный контакт, атлет великодушно выждал мгновение, дал опомниться неловкому спортсмену и только потом все-таки устремился в атаку. Гордеев, сознавая свои малые шансы, удрученный падением, обреченно нагнулся, подставив спину для захвата, и в растерянности опустил руки вниз.
Ринг, ковер, помост и другие ристалища имеют малую площадь, поэтому каждый шаг, даже небольшой, приводит к существенному изменению боевой ситуации. Вот и сейчас атлет легко настиг Гордеева, обхватил его за спину и всё тело его изогнулось, готовясь к победному броску. И бросок произошел! В воздухе мелькнули ноги, сдавленная грудь породила крик и два тела общей кучей грохнулись на ковёр. Не так скоро и несколько медленнее, чем надо бы, борцы вскочили, пришли в себя и снова стали сближаться, осторожно нащупывая слабые места друг у друга. В дальнейшем поединок протекал ровно, добавляя в зачёт редкие очки то одному, то другому участнику. И когда истекло время, и настал момент определения победителя, то победителя не оказалось. Очков было поровну, поэтому оба борца разделили между собой первое и второе места. За наградами они так же вышли оба и вдвоём взгромоздились на верхней ступеньке пьедестала с цифрой “1”. Только теперь Гордеев узнал, что соперника зовут Вадим, что служит последний год, и вот беда случилась перед демобилизацией: в поединке с Гордеевым сломал правое предплечье, так что сдерживать натиск Гордеева ему пришлось одной рукой, отводя в сторону и щадя вторую руку, на время борьбы забывая о боли. Да! Гордеев вспомнил сухой и короткий щелчок, похожий на звук сломанной ветки, который раздался при первом падении. Но тогда он не придал этому значения, полностью находясь под впечатлением осуществленного своего тактического маневра по введению в заблуждение сильного противника. Раньше он дотошно отрабатывал на тренировках и совсем естественное спотыкание, и беспомощное падение, и безвольную позу слабака с опущенными руками.
Многие бойцы, видя перед собой подавленного соперника, стремятся побыстрее покончить с ним, нависают над ним и со спины обхватывают его руками, изготавливаясь для броска через бедро. Как только локти атакующего оказываются с боков слабака, тот вдруг преображается и с их мгновенным захватом уходит на “мост”, припечатывая силача лопатками к ковру. И на сей раз всё шло по отработанному сценарию, но атлет сумел в полете изменить положение тела, потому упал не спиной, а на руку, что и привело к травме. Ну что же! Славный поединок, достойный боец и десять суток отпуска, положенные за первое место, заработаны честно. Так неожиданно на втором году службы Гордеев стал сочемпионом Черноморского флота по вольной борьбе в несвойственном ему полутяжелом весе.
Прав был тренер Шуя, когда говорил, что не всё таким является, каким кажется, и не все увиденное становится осознанным, и многое со своею данностью кроется за обманчивой явностью.
В этот день из крейсерской команды награждался и матрос Сидоров, который стал легендой канатоподъёмщиков. По условию состязаний необходимо было подойти к толстенному канату, свисающему с потолка, взяться за него поднятыми руками, подтянуть ноги и, удерживая их под прямым углом к туловищу, взобраться наверх к самому потолку, перебирая руками. К десяти канатам подошли претенденты и сосредоточенно замерли, ловя мгновения. Раздалась команда “внимание” и немного спустя ударил гонг. Ловкие парни обхватили руками канат, подтянули ноги и ,.
– Сидоров, отпусти кольцо, спустись вниз и не нарушай! И
снова: внимание, гонг, шагнули, ухватились ...
– Сколько можно, Сидоров, слезь сейчас же, брось кольцо.
Так Сидорова снимали с потолка третий, четвертый, пятый раз пока, наконец, не сообразили, что нет нарушений в его действиях. Просто ему всегда нравилось шагать руками по канату и он достиг такого совершенства в этом деле, что уследить за подъёмом, без предварительного сосредоточения взгляда на нём, почти невозможно. Ему досрочно присвоили первое место, так что остальным участникам пришлось бороться за ступеньки пониже.
Гордеев вернулся на корабль через две недели. Казалось, и время прошло небольшое, а изменений принесло много. Умер Гордев. Отстоял вахту, поужинал и, как всегда, игнорируя распорядок, улегся на рундук. На поверку не вышел. Стали окликать, потом стыдить, затем ругать и, наконец, тянуть. Но руки ощутили холодное тело. Похороны завтра. На берегу! В землю!
Приговорили Теряева к году штрафной роты за хранение полупроводниковых элементов. Обвинили его в подготовке технческих средств для передачи секретных сведений.
Лейтенант Овинов подал рапорт о демобилизации, поэтому был отстранен от должности и его место занимал старший лейтенант Лайденко. Кубрик оказался заселенным новыми людьми, вносившими неуютность, шумность и нервозность. Общее безрадостное корабельное житьё усугублялось мглистой и слякотной ноябрьской погодой, какой-то повсеместно разлитой подавленностью и тоской, всеобщей раздражительностью и взаимной нетерпимостью. Такие настроения периодически накатывают на экипаж, особенно при долгом стоянии корабля на якоре. Люди впадают в спячку и резко сопротивляются любым попыткам вывести их из этого состояния. Пройдет какое-то время и удрученность переходит в безразличие и апатию, которые медленно и постепенно уступают место относительному спокойствию, а затем взаимной предрасположенности и, наконец, к беспричинной доброте, молодецкому задору, солёным шуткам и благожелательному веселью. В кубриках тогда появляется уют. Здоровая обстановка изгоняет тараканов и клопов, снижается агрессивность крыс и мышей, которые временно, пока удерживается благожелательность, оставляют нетронутыми даже ношеные носки. Жаль, что период доброты короток, довольно быстро уходит и на смену ему валит ставшая уже привычной сосредоточенная напряженность, удручённость и настороженность.
Через несколько дней на большом сборе экипажа подводились итоги спортивных достижений. Отличились шлюпочники, канатоходцы, борцы и десантники. Занявшим первые места объявили поощрение в виде десяти суток отпуска с правом выезда домой, причем, приказали покинуть корабль немедленно. Четыре человека вышли из строя, и через полчаса с вещами за спиной они уже прыгали с парадного трапа в ныряющий на свежей волне мотобот.
Так Гордеев оказался в поезде, уносящем его на Урал. К невесте. Вежливое поведение матроса, его стремление всем помочь и уступить место быстро восстановили неприязнь к нему со стороны пассажиров. Оказалось, что корабельная этика не совсем пригодна в других случаях и Гордееву пришлось срочно вживаться в новую обстановку. Ну почему, например, эта девушка отказалась от “шипра”, а на тройной одеколон даже не взглянула? Многим не понравился стремительный взлёт на среднюю полку и даже щедро поставленная на стол бутылка водки не вызвала заметного расположения к прокуренному парню, мешающему всем.
В Харькове отпускника ждал новый конфуз. До отхода поезда было далеко и вот, бродя по городу, на площади увидел шатер, людей у входа и надпись на красивой доске “Цирк-шутка”. Гордеев чинно купил билет, пристроился к очереди, которая почему-то вдруг стала быстро продвигаться внутрь шатра. Вскоре наступил его черед раздвинуть тяжелый полог. С энергичностью решительного человека он вступил в темное пространство и почувствовал, как его схватили с обеих сторон мощные руки, оторвали от пола, придали телу горизонтальное направление и швырнули, как бревно, куда-то вперёд. Перед свободно пролетающим матросом услужливо распахнулись один за другим несколько закрытых тканью проемов и, наконец, показался свет. Пролетая дальше, уже за пределами шатра, Гордеев увидел кучу опилок, возрадовался было, но, видать не суждено ему везенье! Он шлепнулся рядом, не дотянул малость, потому испачкался в пыли изрядно. Быстро вскочил, рванулся к обидчику и с трудом успел уклониться от летевшего навстречу парня. Тот дотянул до опилок, ёкнул и шустро откатился в сторону, освобождая место для очередного любознательного. Несостоявшиеся зрители цирка, сначала возмущались, потом переходили на тихий ропот, постепенно образуя тесную толпу осмеянных, сплоченных общим одурачиванием. Так в тылу шатра накапливались люди, которые уже бесплатно могли наблюдать полёт сотоварищей по развлечению-позору.
Испорченное настроение не покидало Гордеева весь дальнейший путь. Он так и не смог перестроиться, адаптироваться или приспособиться к давно забытой гражданской жизни. Да и была ли она, эта жизнь гражданская, если то и дело рука летела к бескозырке при встрече старшего по званию, при необходимости контролировать собственное поведение: на свободное место лучше не садиться, всё равно прийдется вскочить, где идти по тротуару, как нести портфель, чтобы правая рука была свободна, и многое другое, от чего корабельный затворник давно уже отвык?
Встреча с невестой вопреки ожиданию принесла неизвестную ранее душевную боль. Она была беременна, готовилась рожать и в довершение всего её парень отказался на ней жениться, ввиду ревности к матросу. Гордеев тяжело воспринял случившееся, впал в тихое отчаяние и с остановившимся сознанием вернулся на корабль. Велико же было удивление сослуживцев. Это единственный случай, когда отпускник по своей воле отказался от свободы.
Дежурства, вахты и смотры опять захлестнули Гордеева. Погружённый в привычную суматоху, он медленно возвращался к жизни. Однако на полосе жизненных препятствий готовились для него всё новые испытания. Получил письмо. Мать сообщила новый адрес, поскольку вынуждена была покинуть свою хату, обветшалую и опасную для проживания, квартировать на чужом дворе и отдавать за это почти всю зарплату сельской учительницы.
Подавленный человек чаще ошибается, больше нарушает, не всегда успевает, не всё понимает и не было случая, чтобы к нему проявили снисхождение. Чем больше гнётся человек, тем больше желающих его согнуть. Маловероятна свобода, если отсутствует сила, способная обеспечить эту свободу. Слабое существо, не имеющее такой силы не может быть свободным ни при каких условиях. Сколько бы ни уступал, отодвигался, поддавался, всегда найдется кто-то, кому ты мешаешь. Мелочи, если их много, перерастают в крупности, которые с трудом осознаются, поскольку нахальные мелочи находятся здесь, сейчас, колят дружно, отвлекая от обобщений. Если вовремя нет отпора, исчезает бритва, носки, полотенце, бушлат, щетки и многое другое, крайне необходимое в сложно организованном матросском укладе. Нет, это не воровство! Это ... ну так ... это как его ... “да вот нечаянно взял ... ну извини, если твои брюки тебе тоже нужны, что же делать, возьми на время, поноси малость, там посмотрим, разберемся, обсудим”. И получается, что вместо наказания шутника, приходится испытывать неловкость от неожиданной трактовки возвращения своего же имущества. Затурканный человек не в состоянии выйти из непрекращающейся череды дежурств, работ, занятий, построений. И чем длиннее пребывание в этой череде, тем больше затурканность, а она, в свою очередь, делает человека вечным заложником наказательного рвения. Гордеев, попав в такую круговерть, лишился сна. По ночам он тихо курил на баке, медленно ходил по палубам и коридорам, вынуждая многочисленных дневальных прислушиваться к осторожным шагам и быть начеку. Круг за кругом с носовой части крейсера на корму, через правый и левый шкафуты наматывал отрешённый человек, силясь уловить постоянно ускользающую какую-то весьма важную мысль. Но мысль не давалась, не формулировалась, не осознавалась.
На каком-то из кругов блуждания привели его в офицерский коридор, в конце которого вызывающе и ярко блестела надраенная медь с надписью: каюта 1, командир, капитан первого ранга Н.В.Поплавский. Вот именно эта мысль и ускользала в силу невозможности ее осознания. Именно она вертелась все дни в голове: как обратиться к командиру с просьбой списать Гордеева на эсминец, на который по всему флоту собирали специалистов, формируя новый экипаж. Дело осложнялось невероятной секретностью происходящего, мешающей и даже запрещающей подачу рапорта, высказывание просьбы или какого-либо проявления самого себя знающим. Со всеми кто был заподозрен в осведомленности, проводилось дознание, ничего хорошего не сулящее. Но что терять потерянному? На кого может надеяться ничей человек? У кого может искать поддержки самая незначительная казенная единица? Гордеев нажал ручку, дверь приоткрылась ... Всё! Назад дороги нет! Постучал.
– Войдите!
– Товарищ капитан первого ранга, матрос Гордеев второго года службы, боевой номер эрдвенадцатьчетыре, разрешите обратиться по личному вопросу? Командир сидел за рабочим столом, на краю которого лежали цветы, живописным пестрым узором охватывающие портрет миловидной женщины в траурной рамке.
– Почему ночью? Глаза офицера оценивающе смотрели на вошедшего. До дня ещё надо дожить, тот, кого сегодня снимали с реи, не смог дотянуть до утра.
– Своим начальникам излагал эту просьбу?
– Если бы излагал, не стоял бы перед вами.
– Слушаю!
– Прошу вас разрешить мне дальнейшее прохождение служ
бы на эсминце “Упорный”.
В каюте повисла пауза, которая была так длинна, что переросла в молчание, тоже весьма затянувшееся и постепенно приобретающее признаки приговора. Напряжение росло. Говорить не было необходимости, ибо смысл вопроса был настолько ясен, что смысл уже был не в вопросе, а в судьбе двух человек, внезапно ставших заложниками этого вопроса.
– Тебе не нравится служба на крейсере? Гордееву показалось, что командир пытается изменить затронутую тему. Если это удастся, то у матроса утро уже будет другим, если оно будет вообще.
– Товарищ командир, прошу вашего разрешения не отвечать на этот вопрос! Такая фраза на флоте не известна, ибо не существует такого вопроса начальника, на который подчиненный может не ответить. Он обязан отвечать всегда, на любой вопрос как того требуют уставы и наставления.
– Проходи! Садись!
– Спасибо! – и только Гордеев уселся, командир спросил: – Как зовут? Матрос рванулся с дивана, вытянулся во весь рост, приложил руку к берету, заглотнул воздух и ... Матрос Гордеев второго года службы боевой номер эрдвенад ...
– Остановись, матрос, как твое имя?
Это трудный вопрос: для одних он эй ты, молодой, салага, зелёный, для других дневальный, вахтенный, дежурный, караульный, для третьих левый загребной, для четвертых Р-12-4, часто обращаются к нему по фамилии, а вот по имени ..., хотя, помнится, было когда-то, когда нужно было в шторм лезть на мачту. Видя бегающие глаза и растерянность матроса, командир предложил:
– Садись же! Гордеев сел, готовый к вопросам, расспросам, допросу. – Давай по порядку, только коротко! Командир поставил цветы в вазу, отодвинул траурную фотографию, расстегнул китель и приготовился слушать. Однако коротко не получилось, ибо пришлось рассказать ему всё, что изложено в этой книге.
Светало! Рассказчик умолк. Слушатель долго сидел неподвижно, потом спросил: –Так когда, говоришь, у тебя день рождения?
– Сегодня, товарищ командир!
– Овен, значит. Иди пока. Служи без замечаний.
– Есть! Матрос покинул каюту командира в полном неведении относительно не только своей судьбы, но даже нового дня.
Проходило время, наполняющее недели и месяцы. Никаких видимых последствий ночной беседы не замечалось. Морская служба по-прежнему катилась серым колесом через людские души. Корабельная жизнь не располагает к размышлениям и в вечном беге в никуда неумолимо уходят в прошлое и приятные события и те, которые не очень. Постепенно Городеев смирился со своей обреченностью, вновь взял служивую борозду и размеренным шагом притерпевшегося мерина намерился нести навьюченную ношу и следующий третий год и потом четвертый и потом ... как Бог даст.
–Гордеев, в каюту командира группы бегом! Дневальный выкрикнул очередную вводную, закрепляя на штатное место телефонную трубку. Провинившийся рванулся с места, но старшина осадил его пыл, подставив ногу и силой водрузив на рундук.
– В чем дело, Гордеев? Почему не доложил? Опять нарушаешь? Вечером я тебе отмерю. Ну какого ты фуя стоишь? Приказание слышал? Трап, полубак, шкафут, орудийный проход, левый офицерский коридор, дверь, табличка, фамилия, постучал, войдите. –Товарищ, старший лейтенант, матрос Гордеев по вашему приказанию прибыл. Вольно, Гордеев! И видя, что матрос по-прежнему стоит монументом, тараща глаза на начальника, добавил: – Садись! Выждал пока выполнялось распоряжение и задал свой самый главный вопрос, ради которого и приказал прибыть в каюту: – Ну Гордеев вскочил, руки по швам, глаза не бегают, берет прижат к штанине. – В момент получения приказания находился в кубрике номер двенадцать на занятиях по изучению штатных средств борьбы с забортной водой, руководитель мичман Роков, на сегодняшний день замечаний не имею, пока, прибыл по вашему приказанию без промедления, доклад окончен, докладывал матрос Гордеев. – Хорошо, Гордеев! Хорошо! Садись! – Есть!
–Вот теперь расскажи, как было? С чего всё-таки это начало- сь? Ровный, повседневный тон офицера не давал намёка на тему разговора. Гордеев поднялся со стула и так же ровно спросил:
– Что началось?
– Как, что? Все твои действия с самого начала.
– Какие действия?
– Твои действия.
– Вы имеете ввиду ту небольшую заварушку за четвертым шпангоутом, когда Дубцову сломали руку? Так уже раздали каждому и я своё отбыл.
– Да нет, с этим ясно, тебе тоже досталось! Я о другом, понимаешь? – Вы про возню на баке, так уже все из лазарета вышли, с ними пока тихо.
– Не крути, Гордеев! Кому писал? Кому жаловался? Кто доставил рапорт на берег?
– Да я разучился писать, а жаловаться не пробовал, потому как не умею. – Рапорт подавал? – О чём? Кому?
– Не подходит тебе наш крейсер?
– Подходит, не подходит, я его не выбирал, указали служить здесь, служу здесь. Укажут туда, буду служить там, впереди ещё столько лет, куда пошлют там и ...
– Кто и при каких обстоятельствах раскрыл тебе сведения о новом эсминце?
– Такой объект мне не известен! Гордеев замолчал, никак не желая больше касаться незнакомой ему темы. Молчал и начальник, сознавая, что разговор зашёел в тупик и вывести его на доверительную беседу не получится. Воспользовавшись неловкостью, Гордеев произнес спасительную фразу: “Разрешите идти?” И, не дождавшись ответа покинул каюту. Проходили дни, корабельная круговерть катилась кованным колесом, утаптывая и выравнивая всё выступающее. Однажды ночью Гордеева разбудил сам Лайденко. И чтобы матрос не спрыгнул с койки и не стал орать на весь кубрик, что, дескать, боевой номер эрдвенадцать ... с разрешения командования флота прибывает в ночном сне, он закрыл ему ладонью рот и на ухо процедил: “Ни звука!” А когда увидел, что матрос окончательно проснулся повторил: ”Ни звука! Приказываю немедленно собрать вещи и следовать за мной”. Гордеев от неожиданности сел на рундук, опустились плечи, согнулась спина. Уже собирать вещи?! Да! Конечно, там тоже нужна одежда. Осталось два года, значит потом, после отсидки еще два года служить. Хватит ли духу. не лопнет ли сердце. Но какой выбор у невольника? Собрался, закинул вещмешок за спину, окинул кубрик: а где дневальный? Даже убрали дневального! Нет свидетелей. Ещё вечером был человек, матрос, казенная единица, а утром его нет, по-видимому, естественная убыль. Ну что же! Бывает! Ничей он и есть ничей! Тем временем Гордеев шагал по палубам своим привычным шагом, в последний раз окидывая взглядом до боли знакомые очертания орудий, плавсредств, коридоров и всё невообразимое нагромождение металла, которое называется крейсер. Невероятно, но в рубку вахтенного офицера не зашли, почти тайно приблизились к трапу, спустились по знаменитым ступенькам и, оттол- кнувшись от причальной скобы, прыгнули в баркас, он сразу же отвалил от борта, набрал скорость и взял курс на минную стенку.
Предрассветное время в Севастопольской бухте всегда несёт очарование. Природа затихает, вслушивается сама в себя и как бы решает, что бы сделать ещё такое, чего она не делала раньше? Может резвее сыграть озорной волной, или качнуть сильнее пыхтящее судёнышко и отвлечь от угрюмых дум того матроса, что смотрит на крейсер в недоумении? Набежала легкая зыбь, поплескалась у бортов и понеслась по голубой равнине искать себе новые развлечения. Упал на неё взгляд матроса, задержался, проследил её дальнейшие забавы и ощутил себя человек живым. А раз живой: думай, борись, крепись! Умелый рулевой подвел баркас к первому кранцу, свисающему с пирса, сдавил его и мягко накатился планширем на остальные, будто поджидавшие момента, когда и им можно будет сжаться и натужно приветливо скрипнуть. Баркас качнулся с борта на борт, остановился и только слегка подрагивал на мягкой волне. Пассажиров было всего двое: Лайденко и Гордеев. На пирсе их поджидала машина, похожая на милицейский воронок и казавшаяся неуклюжей на фоне стремительных линий пришвартованных эсминцев. В её черном чреве сначала скрылся Гордеев, потом старший лейтенант, захлопнулась дверь и машина, сразу сорвавшись с места, понеслась по ещё спящему городу. Ехали долго, и сколько ни выглядывали в окна, никакого конвоя не наблюдалось. Наконец, машина остановилась перед воротами, на всей площади которых был нарисован огромный якорь. Надпись вверху уже подсвечивалась в первых лучах восходящего солнца и её можно было прочитать: “Черноморский флотский экипаж”. Это не тюрьма, и даже наоборот – это место приветливое и тихое, ибо здесь временно размещаются военнослужащие до момента полного формирования воинского подразделения.
Прошли проходную, направились к командиру экипажа, представились, Лайденко передал увесистый пакет с документами, молча показал глазами на Гордеева, распрощался и ушёл, никак не проявив себя по отношению к Гордееву, не сказав ни слова. Вот так: получил казенное имущество, сдал казенное имущество, накладная, дата, подпись, печать.
Так Гордеев оказался переведенным с крейсера для прохождения службы на эскадренный миноносец “Упорный”. Это был первый и последний, то есть единственный случай досрочного ухода с крейсера, будучи живым. Даже для того, чтобы с одного корабля перейти на другой корабль, потребовались невероятные усилия влиятельного человека, каким, безусловно, был командир крейсера “Дзержинский”. Если бы не он, эта книга не была бы написана никогда, а в истории судили бы о советском флоте 50-70 годов двадцато века по картинным плакатам с изображением беззаботно улыбающегося невероятно правильного и ещё более счастливого моряка с биноклем на груди и с автоматом в руке, на котором весело поблескивает штык. Каждый проникся бы убеждением, что с такими защитниками нашему Отечеству никто угрожать не может и не в силах. И даже, если кто-то, то мы ему ... им ...
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Прошло двадцать лет. Никак не планируя встречу со своим прошлым, Гордеев оказался в Севастополе. Каково же было его удивление, когда прогулочная аллея приморского парка, расступившись ветвями раскидистых каштанов, открыла ему знакомый силуэт. Крейсер стоял на якоре всего в нескольких кабельтовых от берега. Вмиг взбурлило всё внутри! И горечь и радость, и сожаление и благодарность, и тоска и торжество, и любовь и ненависть взвинтили душу до предела. Гордеев уже с берега стал всматриваться в железное чудище, которое так беспощадно протопталось по юной душе. По-прежнему ходят люди по палубе, лежат годки за четвертым шпангоутом, вышагивает по юту вахтенный, видны ростры и дверь поста №12, мачты, флаг, но ... флаг приспущен, значит на борту покойник. Прозвучала команда, извлекшая из кубриков народ, началось построение, извечное неистребимое построение ... будто и не было интервала в двадцать лет. Гордеев отыскал сигнальный пост и передал на крейсер семафор: –Бывший матрос боевой номер эрдвенадцатьчетыре просит разрешения на несколько минут посетить корабль для встречи со своей юностью! – Ответа пришлось ждать долго. Наконец, сигнальщик доложил:
– Нет плавсредств. Гордеев: –Разрешите вплавь к парадному трапу. – Ответ: – Не положено. Гордеев: Разрешите прибыть дежурным баркасом. – Не положено. Гордеев: – Плыву от приморского пляжа, прошу допустить. И когда до корабля было не более кабельтова, Гордеев увидел возле парадного трапа знакомый строй десантного взвода. Гидрокостюмы блестели на солнце, короткие автоматы на изготовку, собранные лица, во всём угадывалась решимость отразить диверсию плывущего бывшего члена экипажа. Прозвучит команда и ... Гордеев не стал ждать эту команду. Он приветливо помахал рукой мужественным воинам, развернулся и поплыл на материк, то есть, на пляж.
Вскоре крейсер был продан ... на металлолом. Гордеева не пустили в то время, когда он уже кораблём не был. Даже мёртвый монстр так гнетущ и чванлив, то каким же колесом он катился по людям, когда был в силе? Во имя чего так утаптывать души, кому выгоден этот оплот изуверства, самодурства и рабства?
Последний канат обрублен. Корабль вздрогнул, почувствовав свободу, и медленно двинулся к воде. Традиционная бутылка полетела к борту, разбилась и брызги шампанского смешались с пенным буруном за кормой. Ликование строителей достигло предела. В этом бушующем море восторга мало кто заметил, что вместе с людьми торжественное событие радостно отмечают и крысы. Стараясь не попасться на глаза, только им известными тропами они подтягивались к причалу и занимали места, из которых хотя бы что-нибудь было видно. Потом, быстро сообразив куда нужно стремиться, обгоняя друг друга, умело маскируясь, огрызаясь и визжа, бросились к тем местам, где на пирсе мощно возвышались черные кнехты. Любая гонка показывает кто чего стоит. Крысиная орда растянулась. Каждая особь, предельно напрягая свои умственные и физические возможности, хитря, лавируя, вступая в схватки с сородичами, неудержимо неслась к заветной цели. Наконец, этапы больших мусорных завалов закончились. Дальше необходимо было преодолеть открытое пространство, по крысиным понятиям хотя и не такое уже протяженное, но пустое, обозримое и потому страшное. Несколько смельчаков с разбегу выскочили на чисто убранную площадку, однако, испугавшись яркого света, снующих людей и новой обстановки, повернули назад. Непрерывно озираясь, прыгая и нервно семеня короткими ногами, они помчались к укрытию. Однако спасительная ниша уже была занята. Трусливые лидеры, потерявшие авторитет, были атакованы, покусаны и выброшены. Им ничего не оставалось, как снова бежать, теперь уже сзади не терявших времени и мчавшихся во весь опор конкурентов. Расстояние быстро сокращалось. Первые бегуны серыми комочками подкатывались к цели, постепенно образуя крысиную толпу, в нерешительности снующую вокруг кнехта. Возникла драматическая ситуация, которая обязательно должна породить героя. Задние ряды по мере прибытия новых сородичей напирали на передние, бурление вокруг кнехта возрастало, началась возня, переходящая в свирепую грызню за выживание. Многие тела взвивались в прыжке над клокочущей массой, но никому ещё не удалось прыгнуть так высоко, чтобы оказаться сверху кнехта, откуда уходил прямо на корабль толстый, прочный и красивый швартовочный канат – мечта и смысл борьбы всех крыс. В пылу битвы отброшена всякая осторожность и страх перед агрессивными двуногими, наблюдавшими со стороны развернувшееся побоище. Открывалась картина знакомая почти каждому, побывавшему в толпе, охваченной паникой. Тем временем появились первые жертвы. По их телам взбирались на вершину новые бойцы, часть из которых падала с разорванными спиной, шеей, брюхом и своими телами они поднимали подиум жестокого театра до тех пор, пока первый герой смог выскочить на вершину кнехта. Счастливец, несколько растерявшись, сгоряча сделал круг по гладкому торцу чугунного столба, потом, будто опомнившись, быстро побежал по швартову в сторону корабля. Событие свершилось. Путь показан и опробован. Герой, не оглядываясь, бежал, оступался, иногда соскальзывал одной или двумя ногами, но вовремя успевал подтянуться, выпрямиться и снова бежал. За ним по указанной дороге уже мчались другие крысы, благо впереди маячил отчаянный пример первопроходца. Так продолжалось долго. Швартов густо заселился крысами, а с берега всё напирали новые многочисленные желающие. Тем временем лидер, не сбавляя темпа, с разбега налетел на невесть откуда взявшееся препятствие, закачался, потерял равновесие и с невероятно отчаянным криком-писком полетел вниз прямо в кипящую волну, пребирая в воздухе ногами в тщетной попытке найти утерянную твердь. Его преследователи, охваченные азартом погони, были не в состоянии осознать случившееся, тоже добегали до препятствия и так же падали в морскую пучину, а крики их сливались в отчаянный страдальческий вопль.
Препятствие поставили люди. В извечной борьбе интеллектов крысы и человека, зашищающаяся человеческая рать разработала множество способов перехитрения агрессивных крысьих замыслов. Каждая эпоха, век, год отличаются своими приемами борьбы, каждая страна, местность, селение имеют особые средства отваживания грызунов, ревниво оберегаемые от завистливых соседей. Испробованы химические, биологические, генетические, механические и многие другие варианты защиты от проникновения крыс в область интересов человека, однако, до сих пор отсутствуют какие-либо устоявшиеся рекомендации. Поэтому в очередной непримиримой схватке с поразительно живучим и интеллектуально развитым противником человек каждый раз вынужден рассчитывать только на свои силы в войне с вечно атакующим врагом. С ним нельзя договориться, помириться, разделить зоны обитания. Этот недруг своим бытием, т.е. будучи в живом состоянии, вырабатывает болезнетворные вещества, разносит их везде и всегда. В старину крысы уничтожали паруса, деревянные корпуса судов, портили пищу и воду. На современных кораблях они грызут провода, закупоривают вентиляционные каналы, застревают в волноводах, компьютерах, портят электронику. Итак! Война крысам! Нет в мире корабля на котором не было бы крыс. Наиболее дальновидные из них пробираются на борт ещё на стапелях. Рискуя умереть с голода, они долго ждут момента обрубания последнего каната. Затем, если удается выжить, свысока взирают на штурмующих сородичей и наливаются гордостью за свою сообразительность при виде неудачников, с визгом срывающихся в море. Война с такими хитрецами практически всегда протекает с постоянным поражением человека. Уничтожить умную крысу не удаётся. Разве что взрастить крысоеда. Для этого отлавливают несколько десятков взрослых особей, размещают их в замкнутом пространстве и лишают корма. Постепенно, по мере изголодания, съедаются более слабые экземпляры до тех пор пока остается одна крыса, выжившая в боях и вскормленная мясом соплеменников. Её также доводят до голодного состояния и выпускают на свободу. За короткое время на корабле остается только растолстевший крысоед, который затем уничтожается. Вот уж воистину, нет большего приверженца, чем обращённый иноверец. Однако, известны случаи, когда крысоед отбирал сильную самку, порождал потомство, борьба с которым была бесполезной, а жизнь по соседству опасной, т.к. люди атаковались во время сна, болезни или случайного соприкосновения.
Менее сообразительные крысы пробираются на уже обжитый корабль, используя для этого швартовы, якорные цепи, трапы, плотики, сходни и т.д. Сколько хитростей придумано людьми? А крысы всё равно проникают на борт, живут рядом, вредят и нехотя, с ленцой, реагируют на самые серьёзные попытки их уничтожения. Они не любят воду, но, попав в неё прекрасно плавают, ныряют и могут держаться на поверхности достаточно долго, даже при волнении моря. Так и в случае, описанном выше, упавшие крысы, вынырнув и отряхнувшись, сразу же поплыли, разделившись на два потока. Один, с большим количеством особей, образуя плавную дугу, напрвился к берегу, именно в то место, где можно вскарабкаться на узкий трап, спускающийся с пирса в самую воду. Другой, довольно малочисленный, напрвился в открытое море! Что бы это значило? Вскоре стало ясно: эти интеллектуалы плывут к якорной бочке, на которую заведен носовой швартов. Голова крысы поднята над водой на высоту около одного сантиметра, следовательно её линия горизонта проходит, самое большее, в метре от неё. Как она может увидеть бочку на расстоянии двести метров и какой анализ надо проделать, чтобы додуматься по носовому канату повторить ранее неудавшуюся попытку? Они-таки доплыли до бочки, столпились возле неё и долго выбирали момент, когда волна подсадит их и подаст несколько вперёд с тем, чтобы уцепиться за скользкий трос, удержаться, забраться наверх и, балансируя в такт качке, медленно, но неуклонно продвигаться в сторону корабля. Не каждый человек может проявить такую изобретательность, и настойчивость. На сей раз люди оказались предусмотрительнее: зная повадки своих сожителей, они укрепили перпендикулярно оси каната щит, преграждающий дорогу непрошеным умникам. Дойдя до щита и ударишись о него, крысы снова свалились в воду, вынырнули, попищали с досады и напрвились к пирсу.
Первая атака отбита, но люди знали, что за первой начнётся вторая, третья и так до тех пор, пока жив будет корабль, ибо результат всем известен заранее: крысы одержат победу! Они будут жить на корабле, устанавливать свои порядки, будут делать вид, что им страшно от угроз их извести, и так вечно.
Наутро вахтенный офицер заметил большого самца, который короткими перебежками, укрываясь, маскируясь и всё время шумно нюхая воздух, приближался к памятному кнехту. Подошёл, обнаружил свисающий фал, уцепился. подтянулся, вскарабкался по нему на вершину кнехта, нашёл швартов и медленно пошел по нему в направлении щита. Не дойдя около метра, оттолкнулся и взмыл ввысь. Пролетев сбоку от щита, кувыркаясь, в полной тишине шлепнулся в воду. Не раздумывая, без колебаний поплыл к пирсу, по трапу взобрался наверх и снова направился к кнехту. Взобрался на него, подошел к щиту, изогнулся, взмыл: почти рядом, но чуть-чуть не достал. Выплыл, забрался, подошёл, взмыл! Всё ближе и ближе! Одна попытка за другой! Наконец, уловив момент, оттолкнулся от качающегося троса, перелетел щит и мягко опустился на швартов с другой стороны щита. Победа! Наблюдавшие это сражение, чувствовали, что каждая шерстинка победителя излучает торжество. Поостыв, он оглянулся и уверенно зашагал к корме корабля. Моряки – добродушный народ и умеют уважать достойного противника. Они встретили смельчака, завернули в бушлат и бережно отнесли на берег. Лучшее, что родит природа, должно жить.
Будто в благодарность за спасенного земляка, этой ночью корабельные крысы ни у кого не стащили носки, на месте, как положили, так и лежало мыло, спрятанный на случай трудной вахты, остался нетронутым сахар, даже клопы и те видать были предупреждены, ибо не так настырно терзали усталые тела. А под утро дневальному был дан сольный концерт в исполнении местной крысиной атаманши. Вахта близилась к концу! Скоро побудка. Очередная бессонная ночь тяжело туманит голову, давит плечи, подгибает ноги. В голубом мареве ночника плывет сонная истома спящего кубрика. Жарко. Опускаются веки! Безысходность! Но вдруг привычное, повторяющееся уже не один год изнуряющее дежурство в чём-то изменилось. Что-то возникло новое! Пока неясное, но всё более отчётливое! Кажется угрозы нет! Играть тревогу не следует! Но откуда звуки? Ясно! Начинается галлюцинация. Нашел кран, подставил ладони, водой в лицо, наполнил кружку – за воротник, а звуки льются. Говорят, многие из команды “Новороссийска” перед взрывом тоже слышали голоса. Не придали значения! Теперь поздно! Дневальному, значит, надо узнать, найти, обезвредить! Крадется на звук, никого! Висят бушлаты и ... звучат! Ладно! Подумаешь невидаль: бушлат играет! Бывает и не такое ещё! Осмелел, подходит ближе, видит за бушлатом гитара висит, а на ней крыса сидит, мягко перебирает струны и, поворачивая голову, старательно вслушивается в вибрирующий отклик. Так и встретили подъем: она солировала, он слушал! Эта атаманша жила в двенадцатом кубрике крейсера “Дзержинский” с незапамятных времён. Правдивые флотские предания донесли до потомков ее имя: Лания, хотя многие, особенно старослужащие, годки, называли её по – свойски: Лана. Салагам такая фамильярность не позволялась! Лания изгнала из кубрика мышей. Уже только за это люди были ей благодарны, поскольку мыши создают в помещении невыносимый удушливо-кислый запах, нагнетающий агрессию и злобу. Она разогнала пауков, тараканов, запретила проникновение на её территорию других сородичей, и даже клопы делали разбойные нападения, не показываясь на открытых местах. Атаманша чтила флотские традиции, знала распорядок дня и как нужно вести себя во время многочисленных учений, авралов, тревог. Завтрак и ужин обычно сопровождался беготней в кубрике, нервозностью обстановки, поэтому Лана не показывалась, не рисковала сама, не мешала другим. Зато в обед, на который отводилось два часа, она давала представление. Стоило только старшине первой статьи Брегову сесть за стол, как из-за углового рундука показывалась Лания. Добродушно попискивая, она высоко поднимала голову, раскланивалась на все стороны и неторопливо шествовала на своё место в центре кубрика. Принято было в это время не шуметь, не делать пугающих движений и одобрительно провожать примадонну глазами. В своей, персональной миске она находила поджарки, косточки, хрящи, заботливо сервированные дежурным по бачку. Кубрик наполнялся ароматными запахами, обеденными звуками, неторопливыми разговорами и всё происходящее было похоже на ритуальное действо. Оно и не удивительно, так как каждый мысленно готовился вычеркнуть из длиннющего списка обедов ещё один, очередной, и воочию убедиться, что четырехлетний путь к свободе, хотя и немного, но сократился. Лана ела аккуратно, не ставила ноги в миску, не сорила. Закончив трапезу, подходила к Брегову, тыкалась носом в его ботинок и, довольно похрюкивая, плавно обходя привинченные к палубе столы, удалялась в свои апартаменты. Она была доброй хранительницей кубрика, домовым! Корабельные страсти, раздоры, драки обходили его стороной. Никто из жильцов не сошел с ума, не повесился, не было смытых за борт или погибших в непрерывных кровавых конфликтах. Редкий случай терпимости и взаимовыручки между обычно враждующими сторонами. На крейсере он был единственным. На других палубах шла война на уничтожение. Крысы воровали одежду и забивали ею аварийные шахты, перекрывали подачу воздуха, перегрызали уплотнители, нарушая герметичность отсеков, съедали шпатлевку и открывали доступ воде. Умудрялись попасть даже в кашу, компот или заночевать внутри буханки хлеба. Неимоверно быстро размножаясь, они заполняют собой все вокруг. Усаживаются, как ласточки, на шпангоутах, трубопроводах, на любых выступах и внимательно наблюдают за происходящим. Перестают бояться человека, а со временем смелеют настолько, что прыгают на него, норовя укусить за ухо или прокатиться на плече. Их невозможно выгнать из камбуза. Грузный кок переступает, как цапля на болоте, через беспрерывно снующих нахалов, воровато поглядывающих на колбасу или свежий фарш. Конечно, ближе к завтраку, вооружившись острейшим тесаком или шваброй, он восстановит своё верховенство, но это уже утверждение своих прав силой в конфликте с надоедливым врагом. В обед, когда дежурный по кораблю проверяет камбуз и пищу, о существовании крыс нет и намека: днем эти полчища прячутся. Даже при желании их нельзя отыскать, обнаружить, извести и не хочется верить, что к вечернему чаю они снова проникнут сюда, будут бегать, визжать и грызть пустые полки. На корабле всегда что-нибудь да мешает жить. Постоянное движение, штормы, холод, жара, туман, качка, авралы, тревоги, учения, приборки, вечные построения, борьба за живучесть, клопы, тараканы, мыши, крысы. Вот именно! Крысы оказались в длинном ряду других не менее неприятных неприятностей. Моряки свыкаются со всеми невзгодами и относятся к ним с известным юмором людей, не имеющих выбора. Устранять препятствия бросаются не сразу, поскольку знают, что устранив одну помеху, на её место свалится десяток новых и ещё не известно какая из них будет более гадкой. Так и с крысами. Их прогоняют, в кубрике швыряют в них ботинок соседа, на палубе норовят столкнуть за борт, в кладовках, рундуках ставят ловушки, на проторенных крысиных дорогах – петли, капканы, яды. Постепенно устанавливается какое-то равновесие, когда крысы не слишком наглеют, а люди, задействовав все известное, не хотят придумывать новое. Такая вялая борьба тянется долго, пока не произойдет какое-либо особое событие. Однажды в вахтенном журнале крейсера в графе “Особые происшествия” появилась невероятная запись: ”У мичмана Юрова украден фотоаппарат”. О пропаже объявили по корабельной громкоговорящей связи.
Дежурный подробно рассказывал о приметах аппарата, просил экипаж проверить личное заведование, пересмотреть, перетряхнуть, переложить, убедиться, удостовериться и если что ... нашедшему три внеочередных отпуска на берег. Обычно где-то забытые часы, кошелек, браслет или другая вещь будут кем-то подобраны, затем долго ходить по рукам, но со временем обязательно придут к владельцу. Кто-то последний, вручая хозяину собственность, потребует выкуп и тому придется плясать лезгинку, петь или лезть по вантам на реи, чтобы впредь был осмотрительней и не превращал сослуживцев в поисковиков. Однако на сей раз и через два часа вещь не нашлась. Вахтенный объявил ещё раз, затем перед обедом снова: напрасно! Всем стало ясно, что произошло невозможное! Это чрезвычайное происшествие! По кубрикам пронеслось и повисло в воздухе ранее не употреблявшееся слово: “Обыск!” Люди разошлись по своим местам, всё открыли, всё разложили, всё предъявили ... В напряженной и нервной обстановке дежурное подразделение вместе с добровольными помощниками долго и тщательно перекладывало каждую вещицу, выворачивали и вытряхивали, но аппарата не было. А мичман клялся, бил себя в грудь, наливался пожаром смущения: ”Еще утром был, заряжал кассету!” Досадливое отношение к неприятному делу начало переходить в озлобление. Сотни людей, оскорбленных подозрением, приняли участие в повсеместном поиске. Проходило время. Непроверенных мест не осталось! Все прощупано тысячами пальцев, а пропажа не нашлась. Наконец, решились проверить каюты. Быстро осмотрели жилища сверхсрочников. Офицеры вместе с понятыми разошлись по своим местам. Все оказалось тщетным! Старпома нет! Нет старпома! Где старпом? Только сейчас заметили, что отсутствует вездесущий старший помощник командира. Выяснили: в недельном отпуске, на борту будет завтра. А вестовой? Он здесь! Группа офицеров вместе с вестовым вошла в каюту. Всё убрано, везде чисто. Противогаз, как и положено – в шкафу, на верхней полке, а на нижней ... фотоаппарат. По большому сбору экипаж собрался на юте. Суматоха, привычные команды, громкие доклады, и, наконец, все подразделения корабля выстроились полукругом вдоль бортов. Десантники привели вестового, окружили его плотным кольцом. Дежурныйпо кораблю в полной тишине подвёл итог многочасовой унизительной работе, после чего распорядился доставить арестованного в карцер. Конвоиры, сцепив руки в локтях, образовали каре, внутри которого находился ... Ещё несколько часов назад это был человек, сослуживец, матрос, вобщем, свой. Теперь же внутри оцепления находилось нечто бестелесное и чужое, недостойное жизни. Каре развернулось, качнулось и двинулось вдоль застывшего строя, стараясь по привычке держать шаг на безукоризненно чистой деревянной палубе. Поравнявшись с боцманской командой, старший конвоя вдруг отпрянул в сторону, ловко уклонился и пропустил мимо плевок, предназначавшийся арестованному. Старший ускорил шаг, но выпрямиться уже ни ему, ни другим охранникам не удалось. Плевки летели непрерывным потоком, прилипали, накапливались и начали сползать на палубу гадкой липкой пеной. К концу строя приближалось уже бесформенное слабо шевелящееся существо, покрытое пузыристой слюной.
После этих событий распорядок дня кое-как докатился до отбоя, служивый народ с трудом вписал себя в ночное расписание, и тревожная темнота опустилась на корабль. Вахтенный, как ни крутил головой, не смог увидеть ни одной звезды. Неуютно жить в подлунном мире без света, нужен человеку маяк, хотя бы призрачный луч впереди или надежда на лучшее завтра. Однако не сулило добра ни чёрное небо, ни сырое тепло, вещавшее шторм.
Воровство, обыск, карцер, буря: было о чём поговорить. Корабль затих глубокой ночью и коротким был его сон. Сколько бы их ни было, всё равно каждая очередная боевая тревога врывается в жизнь всегда неожиданно. Со временем лишь притупляется ощущение опасности, уходит на задний план возможность смерти, остаётся только отработанная собранность и движение ... Тридцатиминутная готовность. Вскочить, схватить одежду, противогаз, убрать, по штормовому закрепить, бегом на боевой пост, выполнить штатное предписание, доложить и работать час, десять, много ... сколько надо. Крейсер шел к берегам Кавказа, где на траверзе Новороссийска терпел бедствие Турецкий лесовоз. Ни корабль, ни людей спасти не удалось. На месте трагедии лишь беспорядочно носились по волнам огромные штабеля крепко упакованных брёвен. Встреча с ними в тумане или ночью приведет к неминуемой гибели всего, что движется в море.
Марсовые и радиометристы всматривались в беспредельно бурлящее пространство. Заметив айсберги из дерева, давали целеуказание системам наведения и многие стволы корабельных орудий вливали свои голоса в симфонию шторма. Уже потом всезнающий штурман назвал его ураганом. Долго вычислял и определил, что приходит он па Чёрное море примерно раз за четверть века. Тем не менее печальную память о себе оставляет надолго. Даже мощный крейсер с огромным водоизмещением шестнадцать тысяч тонн и тот лишился плавсредств, трапов, нескольких дверей, но хуже всего то, что были смыты за борт два матроса.
Смерть сослуживца вызывает у живых молчаливую тоску, подавленное настроение и тихий траур, но ... ненадолго. Каждый военнослужащий привыкает быстро сходиться с людьми, легко расставаться, не удивляться внезапно появившимся новым соседям и отсутствию старых. Были рядом эти парни, жаль, конечно, что погибли, но пришли другие и затянулась временная пустота, а жизнь покатилась дальше, всё меньше отражая света от прошлых дел, событий и людей. Показался Константиновский равелин, прошли боны, отшвартовались на родных двенадцатых бочках. Только теперь вспомнили об узнике карцера. Никто его не охранял ибо выбраться оттуда самому невозможно. Отдраили люк, осветили, осмотрели, ужаснулись. Глубокий отсек в несколько слоёв был заполнен крысами и, кроме них не было никого и ничего. Стало ясно: заключенный съеден. Человек не по вине понес наказание. Хотя кто возьмется определить стоимость аморального поступка?
За смытых людей морю счёт не выставишь, а за съеденного? Началась очередная крысочеловеческая война. Со стороны людей ее возглавил старпом. Он объявил, что за каждые пять крыс ловец получает сутки отпуска. Условие, хотя и очень трудное, но выполнимое. Как всегда, многие попытались отличиться сразу, применяя несколько подзабытые старые методы. Однако разжиревшие твари игнорировали яды, обходили и ломали ловушки, забрасывали тряпками капканы, избегали соприкосновений с удавками, самострелами и зажимами. Словом, не пошёл улов! Отбита грубая атака человеков! А те занялись наукой и посчитали, что всего-то их надо двадцать пять штук хвостатых и получай целое состояние: пять суток самого настоящего отпуска! Заносчивое поведение крыс заставило людей искать ошибки. Первым додумался корабельный кок. Его крик: “Да они же пустые!” – многих вразумил и подтолкнул к действию. Все вдруг поняли, что нужна приманка. По кубрикам закипела работа. Шел поиск самого-самого, за что крыса с радостью отдала бы жизнь. В ход пошли подручные биологические запасы: мыши, тараканы, клопы, мясные и мучные черви, комары по частям, целиком, жареные в собственном соку и с приправой, в сочетании со всякими техническими новшествами и без них. Вскорости уже трудно было разобраться, где и чья стоит ловушка и какой деликатес предложен оппоненту. На всех желающих не хватало крысиных нор, удавки стали располагать на возможных обходных путях, а добычи как не было, так и нет!
Понемногу корабельные умы осознали, что простыми матросскими приёмами крысу не осилить. Решили просить кока, чтобы тот по крысоведческим секретам изготовил такую приманку, от которой крысы, взявшись за руки, пришли бы сами ... и сдались. Ах, мечты, мечты! Просители пообещали Коку каждую шестую тварь. Тот ушёл в раздумье, потел, крутил головой, заглянул в кладовку, зачем-то сломал большой черпак, и, наконец, потребовал каждую пятую, и пока ходоки совещались, хмуро молчал, охваченный величием замысла. “Ну пятую, так пятую, только делай быстрей” – делегаты ушли. Кок ещё долго шевелил губами, подсчитывая на сколько лет раньше срока попадет в родные края. Несколько дней подряд из камбуза неслись невероятно вкусные запахи. Еще не ясно, как снадобье подействует на крыс, но на матросов действовало сильно. У них от голода свело животы, привычных обедов не хватало, на закупки потрачены тощие деньги и ароматы пищи стали злить людей. Кок, ничего этого не замечая, носился между камбузом и кладовкой, где у него, вероятно, был испытательный полигон. Дела, видать, продвигались неважно, если крысы съедали все подношения, толстели, плодились, но сдаваться не шли. Закончилась неделя, крысы наглели, таяла надежда на отпуск. Кок осунулся, похудел, в глазах появилась отрешённость. Но больше всего пугало то, что запахи исчезли. Неужели отчаялся и бросил. Если не кок, то кому ещё под силу такую науку поднять? Осторожно приоткрыли дверь, заглянули ... Прямо на палубе, подстелив бушлат, спал мученик идеи, на плите что-то булькало и невыразимо пряно пахло пирогами. На том же бушлате чуть ли не в обнимку с коком спала крыса. Она лежала на боку, голова покоилась на рукаве, а все ноги, сколько их ни есть, расслабленно тянулись к человеку. Увиденное трудно осознать в одиночку. Первый кто смотрел, посторонился и пропустил второго, потом третий захотел! Стоят, смотрят, видят и не понимают! Прикрыли дверь, ушли на бак рассказать годкам. Никто им не поверил. Снарядили делегацию! Идут на камбуз и что там видят? Кок спокойно мешает черпаком булькающую жидкость, вокруг висит густой запах пирогов и ... никаких крыс. Энергичный Брегов шагнул вперёд и с видом народного обличителя:
– Где крыса? Грубый вопрос вероломно ворвался в аналитическую работу экспериментатора. Кок уставился на неожиданную помеху, с трудом сообразил, что от него хотят и, наконец, виновато, и чуть не плача от досады, сознался:
– Ничего не получается, больше не могу, всё, баста.
– А крыса? – не унимался Брегов.
– Не идут! – трагическим шёпотом выдавил кок, и всем показалось, что с досады он вот-вот ... ну не заплачет, а так ... увлажнит глаза. Тоже ведь немало значит. За пять лет морской жизни многое пришлось изведать, не слезами выходил из бед, а вот поди ж ты: крысы, приманки, доверие – совсем расшатались нервы.
– Не идут, не идут – передразнил Брегов – А та, что с тобой в обнимку на бушлате устроилась? Где она?
Глаза кока остановились на грубияне, стали округляться и наливаться пониманием, из горла вырвался дикий крик радости, и кок дробной чечёткой заскользил по палубе, но сбился с ритма и перешел на спасительное “яблочко”. В том месте танца, где надо мелким шагом с приседаниями выбрасывать ноги в стороны и, перемещаясь боком, хлопать ладонями, он подскочил к Брегову, развернул к себе спиной и вытолкал за пределы своей территории. Туда же вылетели остальные делегаты. Дверь камбуза с грохотом закрылась, изнутри заскрипели задраечные ригеля и стало тихо. Ходоки, медленно приходя в себя, переглянулись, потоптались и, нехотя, разошлись. Утром в заинтересованной карабельной среде разнеслось известие, что кок снова начал бегать на полигон, т.е. в кладовку, и что к запаху пирогов добавился другой, ранее невиданный обволакивающий и густой дух.
Крысиные охотники повеселели. Забрезжила надежда на отпускное счастье. Неугомонный Брегов, чтобы не пускать дело на самотек, решил отвлечь кока от засасывающих научных изысканий, и направить его творчество в прикладное русло. Вечером, захватив с собой флакончик, направился на камбуз. За большим столом сидел растроганный кок и с нежностью во взоре смотрел на спящую крысу, уютно возлежавшую на белой салфетке. Боясь спугнуть очарование, старшина попятился и прикрыл дверь. За четвертым шпангоутом годки решали как распорядиться неслыханной победой. Коллектив остается дружным, а взаимоотношения бескорыстными до тех пор, пока распределяются мелочные блага. С повышением ставок поляризация возникает сразу и бескомпромисно. Даже такие выгоды, как место в строю, за бачком или на боевом посту достаются путём хотя и незначительных интриг, но всё же в соперничестве с другими претендентами. Увольнение на берег, льготный график дежурств, расположение койки в кубрике – это планомерное отслеживание ситуации и толковое использование выгодных моментов. Внеочередные отпускá, звания, должности, награды приходят индивидуально к одному из многих. Там – много, а здесь – один. И какая бы ни была при этом взаимная симпатия и доброжелательность, результат остается тем же: здесь – один, а там – много. Эти закономерности осознанно или стихийно, но владели умами годков. Всё сводилось к тому, что секрет свой кок не отдаст, а если отдаст, то кто возьмет, а если возьмет, что с ним сделает? Поскольку известие принес Брегов, ему и поручили вести переговоры с учёным коком-монополистом.
Внезапное величие обычно незаметного сослуживца вдруг смутило задиристого старшину. Подходя к камбузу, он, неожиданно для себя, робко постучал в стальную дверь, но ответа не было. Ему пришлось приоткрыть ее, непривычно боком протиснуться в просвет ... Рот ему закрыл подоспевший кок, он же, повозившись, отцепил руки старшины от двери, подстраховал за талию, проводил и осторожно усадил на ящик. Однако никакие обхождения кока не могли отвлечь взгляд общественного посланника от салфетки, на которой рядышком лежали пять крыс. Брегов, чуть придя в себя, начал понимать, что они не мёртвые, более того, по всему видно, что живые. Но почему они лежат? Шерсть приглажена, ровная, блестящая, бока ... бока-то дышат! Значит, спят!? За пять лет странствий по морям видел ныряющих птиц, летающих рыб, ползающую, плавающую, прыгающую живность, поштучно, стадами, табунами, но шеренга спящих крыс?! Смущение старшины кок расценил по-своему: опять начнет грубить и давить, взывать к совести, стыдить! И он, чтобы упредить разнос:
–Извини, – говорит – не могу убить, чтобы убить другая душа нужна, усыпить могу, но и то не всех, а только самых умных.
–Хорошо, действуй! – разрешил Брегов. – Ты усыпляй, только побольше, а убить я и сам смогу: не велика наука!
–Зачем? Вопрос кока опять вынудил старшину застыть с открытым ртом. А возмущённый кок продолжал:
–Тебе надо очистить корабль или получить отпуск, или убить?
– Конечно убить, чтобы очистить корабль, а за это получить отпуск. – А почему ты не очищал корабль без награды? Видать тебя не интересует, где крысы будут жить, что станется с кораблем, тебе не терпится убить! Тем более, что за убийство дают премию.
В это время на крысиной салфетке обозначилось еле уловимое движение. Похоже, сонливость проходила и начиналось пробуждение. Кок схватил корзину, положил в неё ещё спящих зверьков, захлопнул крышку и сунул поклажу Брегов в руки:
–На, отнеси подальше и выпусти на полях Инкермана; на швартовах щиты надёжные, не перепрыгнут!
Старшина вернулся подозрительно быстро.
–Где крысы? Знакомым вопросом встретил его кок. Улыбаясь гримасой человека, точно знающего, как надо жить, старшина показал рукой на стаю бакланов, носившихся с криками у кромки воды ... – Не горюй, учёный, я по-честному, как договорились: одна тебе, четыре мне; так и в журнале записано. Рождённый убивать, не убить не может! Если некого убить или нет возможности, он начнёт болеть и с туманными мозгами искать жертву.
Проходили дни. Случай на камбузе давно уже стал достоянием широких корабельных масс. Эти массы, немного выждав, стали, наконец, требовать свое. Зачем работает учёный, что создает, мучаясь и терзаясь, инженер, во имя чего творческие личности на грани психической прочности разрабатывают новое? Ответ парадоксален! Исключительно для того, чтобы массы, протерев от безделья и лени глаза, смогли определить точку пространства, куда нужно стянуться, слипнуться, изготовиться и броситься на всё, что можно уничтожить, разрушить, разграбить, забрать, отнять, ибо сам факт того, что где-то что-то имеется, обозначает для них только одно: раз имеется, значит принадлежит им – массам. Это они поднимают из небытия нечто позорящее Планету: македонских, наполеонов, гитлеров ..., это они, сооружая плотину, закладывают в неё причину будущих трагедий, не докручивая, не досоединяя, не доделывая, это они засоряют, загрязняют, затаптывают ... И только там, где интеллект силой разума или кнута, организует массы, их разрушительное воздействие снижается, однако, полностью исключить его не удается. Поэтому самолеты падают, поезда крушатся, пароходы тонут, идут войны ...
Однажды, после вечернего чая, камбуз посетили уважаемые люди. Кок, побледнев, попросил старшину Брегова уйти. Гости не захотели обострять серьезный разговор и старшине пришлось подчиниться. Назойливая закономерность: брегообразные никогда не осознают истинное значение своих поступков. Они настойчиво разливают вокруг себя моральный смрад, удушающий всё, к чему прикасаются! От них трудно отстраниться. Их много!
Захлопнулась дверь. Головы остальных повернулись к мичману Кореву. Тот, почувствовав себя лидером, немедленно придал лицу народное выражение. Затем, взглядом пригласил свою свиту к изливанию обид и с привычной важностью в голосе начал издалека: – Ты народ лишаешь отпуска!
– Награда каждому по заслугам его! Попробовал отшутиться кок. – Вот возьмем своё, будут и заслуги! – подытожил Корев.
– Где есть твоё, там и возьми своё, а за чужое ... большой сбор рассудит! Кок сказал такое, чего от него ожидать никто не мог. Замысловатая фраза закончилась, наступила пауза, срочно требовался удачный ответ, а он никак не складывался. Да ещё этот намёк на недавние печальные события. – Говорим же, за своим пришли, потому ютом не стращай! – раздалось, наконец, из-за спины лидера, – добром не хочешь, возьмем иначе.
– На твою силу, Корев, другая сила будет: шкафут научит, если останешься живым.
Напоминание о недавней драке, в которой не было победителей, но были убитые, неприятно подействовало на самозванных представителей корабельных масс. Их агрессия поутихла, они, вдруг, начали осознавать, что своё не такое уже и своё, оно, скорее всего, чужоё и отнимать его придётся с риском для себя. На корабле это особенно волнует, ибо в любой момент может подвернуться неправильная волна, открытый люк, падающая рея или вдруг палуба станет скользкой. Разве можно отследить сатанинскую изобретательность недругов? Но призрак отпуска смущает душу. Как вынудить кока отдать приманку? Как повернуть дело, будто она вовсе и не его, а принадлежит всем: и тому, и этому, каждому кубрику... Да все мы, если придём ..., навалимся ..., да за своим ..., да всей народной массой ... за справедливость ...
–Корев, очнись! Не закатывай глаза! Перед разборкой на шкафуте ты тоже был припадочным вождём, а засвистели ножи и нет тебя, первым убежал, опять салаг положишь под кресты, а что взамен? Кореву задан вопрос простой, но с вызовом, да ещё с намёком на какого-то вождя. Ответить? Это ему-то, Кореву, отвечать? А промолчать ... значит надо действовать! Это мне-то, Кореву, действовать? Ага, а где речистый, смелый из-за спины ... Мичман повернулся, сгреб энтузиаста, вытолкнул вперед и с криком: “Хватай отраву!” – бросился в середину своей свиты.
Приказ на корабле – святое действо. Его исполнитель чуть-ли ни в полёте приближался к горке теста на разделочной доске. Кок отработанным движением взмахнул тесаком и пышное тесто развалилось на две половинки. Одновременно с этим другой рукой он притормозил подлетавшего, ткнул его голову в разрез, притопил и закатал её липкой мучной массой. Затем развернул задыхающуюся мумию, пинком швырнул на делегатов, только и успевших сообразить, что к ним подлетает приманка. Держа под руки страдальца, они спешно покинули камбуз. Свершилось! Отрава в руках! Призрачный отпуск стал принимать реальные очертания. Добычу разделили, разложили по норам, продали остатки, выручили деньги и коревообразные, довольные собой, затаились в ожидании. Вскоре всё, предложенное клиенту, было съедено, о чём свидетельствовал щедро оставленный помёт. Предложили крысам вторую, а затем и третью порции подношений. Результат тот же: помета много, боевых трофеев нет. Поначалу слабая догадка о подмене переросла в уверенность, ведь все знали, что с камбуза было, скажем так, вынесено настоящее зелье. Это ещё тогда сам Корев подтвердил: “Хватай отраву!” Значит подлинный продукт мичман придержал, а им ..., честным людям, подкинул что-то похожее на тесто. Пришли ходоки к Кореву: одни требовали отраву, другие – деньги ... После госпиталя мичмана списали на берег и след его затерялся в длинном ряду вымогателей.
Между тем, корабельное население заметило необъяснимую убыль крыс. Они перестали делать пешие прогулки, не усаживались перед экраном при демонстрации “Чапаева”, прекратили дневные вылазки, редко посещали камбуз. Те, которые всегда знают истинную правду, поговаривали, что хитрые твари нашли коревский тайник, но куда исчезли жертвы долгожданной трапезы? Шли поиски, вносились новые идеи, которые проверялись и забывались, всё дальше в небытие отодвигая отпуск. И мало кто знал, что по ночам Кок со своей корзиной сходил на берег и где-то в поле вблизи Инкермана выкладывал спящих крыс под лавровым кустом, благословляя их на вольную жизнь, не зависимую от человека. Так он делал день за днем, до тех пор, пока на корабле остались только те крысы, на которых снотворное не действовало. Хотя их было немного и они не создавали угрозы, охота за ними велась всё равно, поскольку всё ещё не ушла идея манящего отпуска. Сделав спираль, ловцы пришли всё к тем же капканам, петлям, зажимам, но теперь каждую пойманную крысу ценили на вес золота. Следили за тем, чтобы она, даже мёртвая, ни минуты не лежала без дела. Её немедленно освобождали из ловушки, расческой укладывали шерсть по крысиной моде, бережно заворачивали в салфетку и торжественно несли дежурному по кораблю. Первые экземпляры тщательно осматривались, будто это невесть какая редкость. Затем, пообвыкнув, процедуру упростили. Счастливцу выдавали талон. Всего-то: двадцать пять талонов и ... Однако крыс становилось всё меньше. Они вели себя осторожно, видно предпочли на время уйти в подполье и переждать ненастье. Ценность каждого очередного отлова возрастала. С пойманной крысой, даже мертвой, жалко было расставаться. Как всегда, в трагические моменты истории из глубины народной появляются таланты, круто поворачивающие бег событий. Так и сейчас, корабельные умники быстро сообразили, что выброшенная крыса уже не интересует дежурного и он уходит в рубку сразу после шлепка тела об воду. Тонет крыса без свидетелей. Вот тут её и поймать! Но как? После многих экспериментов решение было найдено. К задней ноге привязывалась тончайшая леска, маскировалась в салфетке и после предъявления плавно разматывалась, сопровождая бесценный груз в пучину морскую. Убедившись, что дежурный занят своим делом, виртуоз начинал медленно подтягивать утопленника к борту. Самый ответственный этап подъёма требовал от исполнителя предельного внимания, ибо грозил провалом с таким трудом налаженному действу. Вытащенную крысу надо умело просушить, расчесать, снова уложить на салфетку, обдать ее самой малой малостью “шипра”, убедиться в отсутствии неправильного морского или человеческого запаха, проинструктировать товарища и пустить своё творение по новому кругу. Чемпиону удалось проделать шесть оборотов. Интересная работа быстро притупила остроту момента. С потерей бдительности уловка была разоблачена. Старпом оставил за каждым охотником по одному отлову и те вместо отпуска лишний раз были отпущены на берег.
Очередная крысо-человеческая война заканчивалась. На её фронтах у обеих сторон были досадные поражения и несомненные успехи. И те, и другие проявили изобретательность, упорство и талант, однако, никто не стал победителем. Крысы осторожно нападали, люди – лениво отмахивались.
И так будет на протяжении всего следующего периода вялой взаимной вражды. Затем непрерывная цепь событий, всё возрастая числом, приведет к качественному изменению взаимоотношений сторон, что в свою очередь ознаменуется очередным чрезвычайным происшествием, и тем самым будет положено начало новому витку вечного соперничества биологических популяций, вынужденных жить вместе в ограниченном пространстве. 26. 11. 1998.
Бак – носовая часть верхне палубы от форштевня до волнореза.
Банка – сиденье, скамейфка, полка для гребцов в шлюпке.
Боны – заграждение на всю глубину пролива.
Бочка – плавучая цистерна на якоре.
Бот – гребное или моторное судно малой тоннажности.
Бушприт – горизонтальная или наклонная мачта-брус, выставленная
впереди корабля.
Волнорез – щит вертикально баку для отведения воды за борт
Выстрел у борта – деревянный брус, отходящий от борта параллельно
воде. Предназначен для швартовки плавсредств.
Вестовой – лицо рядового или старшинского состава, обслуживающее
офицера в быту и в бою.
Доложить наверх – передать сообщение начальнику
Галс – курс шлюпки относительно направления ветра.
Кабельтов – морская мера длины, равная 185,2м.
Камбуз – кухня на корабле.
Каптранг (каптри) – капитан третьего ранга.
Кильватер – строй кораблей, следующих один за другим.
Кильватерный след – след на воде позади идущего скдна.
Киль – основная продольная днищевая связь-опора корабля.
Кингстон – люк в подводной части корабля для подачи воды.
Китицы – бахрома ввиде кисточек.
Клавс – неуправляемая, злобная, агрессивнвя биологическая масса.
Клистрон – высокочастотный ламповый генератор.
Клюз – отверстие для выпуска за борт якорной цепи.
Кнехты – тумбы для крепления швартовых канатов и тросов.
Комингс – порог в дверном проёме.
Кран-балка – приспособление для спуска и подъёма плавсредств.
Кранец – обрубок троса или упругий валик для защиты бортов.
Кубрик – жилое помещение для матросов.
Леер – натянутый вдоль бортов канат, цепь или трос для защиты от
падения за борт.
Марсовая площадка – место на мачте для наблюдения за горизонтом.
Минная стенка – причал для эскадренных миноносцев.
Нокбензельный вяз – особо прочный узел для крепления паруса.
Нольпятка – поллитровка.
Отдать концы – убрать швартовы и отчалить.
Передать семафор – сообщить посредством флажков или света.
Переход по низам – движение в шторм по внутренним помещениям.
Пиллерс – вертикальный брус-стойка, поддерживающий палубу.
Пирс – сооружение для причала и швартовки кораблей.
Планширь – брус верхнего края бортов шлюпки.
Полубак – носовая часть палубы, прилегающая к баку.
Принайтованы – закреплены по штормовому.
Рангоут – корабельные надстройки для крепления мачт, стеньг,
бушприта, грузовых кранов-стрел.
Расходное подразделение – дежурное подразделение для выполнения
текущих работ.
Рея – часть мачты, расположенная высоко над палубой.
Репетовать – повторять сигналы для подтверждения их правильности.
Ригель – рычаг для задрайки люка.
Ростры – настил выше вехней палубы для размещения плавсреств.
РТС – радиотехническая служба
Руба – ладонь, поставленная ребром вертикально к лицу.
Румпель – рычаг для управления рулём.
Рцы – нарукавная повязка дневального
Рым – род опоры или упора.
Салаги – пренебрежительное прозвище молодых матросов.
Спардек – средняя надстройка и её палуба.
Стапель – сооружение для строительства и ремонта кораблей.
Старлей – старший лейтенант.
Створ – предметы на одной линии наьлюдения.
Строб – синхронизирующий электрический импульс.
Топовая площадка – верхняя площадка на мачте.
Тральщик – корабль для обнаружения и уничтожения мин.
Удар о сотку – ствол артиллерийской башни калибром сто
миллиметров с силой опустился на голову.
Фал – верёвка, снасть.
Форштевень – продолжение киля в носовую часть корабля.
Флотский экипаж – городок для временного пребывания матросов.
Чумичка – черпак, разливная ложка.
Шанцы – здесь пренебрежительное наименование гениталий.
Швартов – прчальный канат или фал.
Шкафут – часть палубы вдоль бортов корабля.
Шкипер – заведующий корабельным имуществом палубной части.
Шкоты – снасти для натягивания паруса.
Шпангоут – поперечные рёбра корпуса корабля.
Штормтрап – гибкая лестница.
Шпигат – отверстие для удаления воды с верхней палубы.
Ют – кормовая часть верхней палубы корабля.

Севастополь
Памятник погибшим кораблям
с гордым орлом на вершине обелиска

Анатолий Р У Д О Й – Г О Р Д Е Е В
Севастополь, 1959г. Первый год службы на крейсере
ДЗЕРЖИНСКИЙ. Матрос радиотехнической службы.
Кубрик 12, боевой пост 12, оператор №4,
противогаз №3, оружие не положено

Приз ОЛЕНИЙ РОГ за командную победу в шлю-
почных гонках на пять киломтров. Северный океан,
Карское море, август 1961г. Второй год службы.
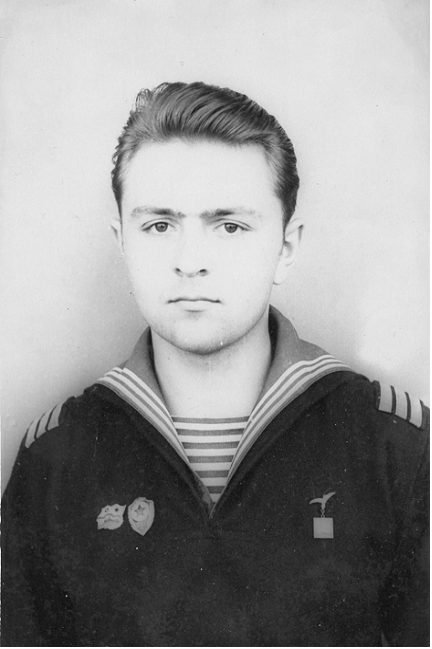
Анатолий Р У Д О Й – Г О Р Д Е Е В.
Третий год службы. Старшина первой статьи.
Эсминец УПОРНЫЙ. Тихоокеанский флот.

Анатолий Р У Д О Й – Г О Р Д Е Е В.
Четвёртый год службы. Эсминец УПОРНЫЙ.
Тихоокеанский флот, Владивосток, 1962 год.

А Гиви Нодия плавно на носочках полетел по кругу,
припадая на колено, дико озираясь и от удовольствия
крепко матерясь.

Над Севастополем сиял жаркий майский день. Обилие тепла
радовало горожан и природу
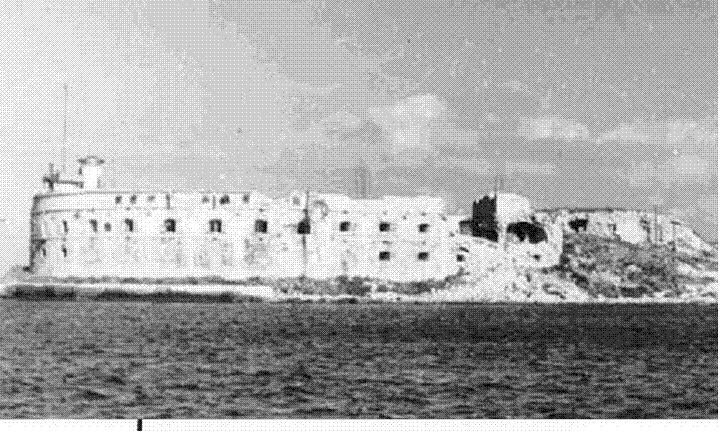
Сигнальщики с равелина заметили непорядок
передали семафор и досадную шлюпку убрали
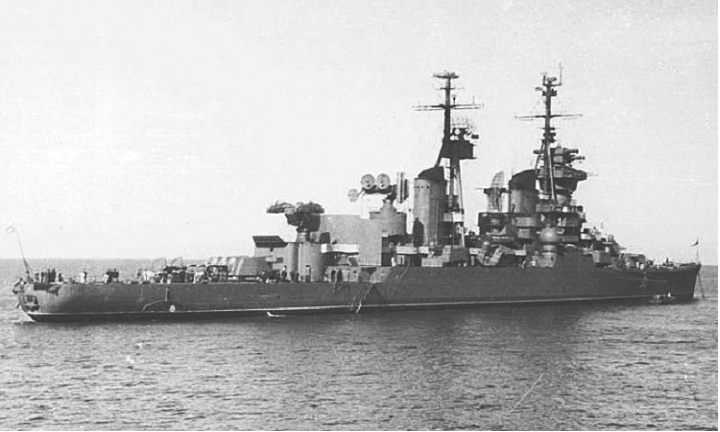
Первые лучи пробежали по берегу, заскользили по воде
и осветили кресер во всей могучей красоте.
На этом огромном чудище придётся провести многие годы
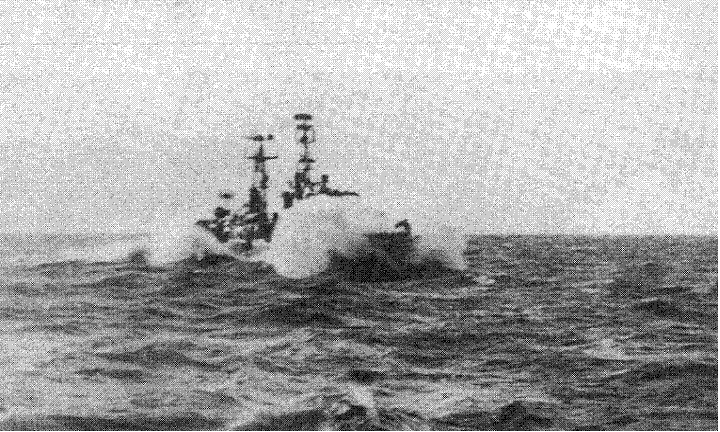
Корабль провалился в неожиданно глубокую
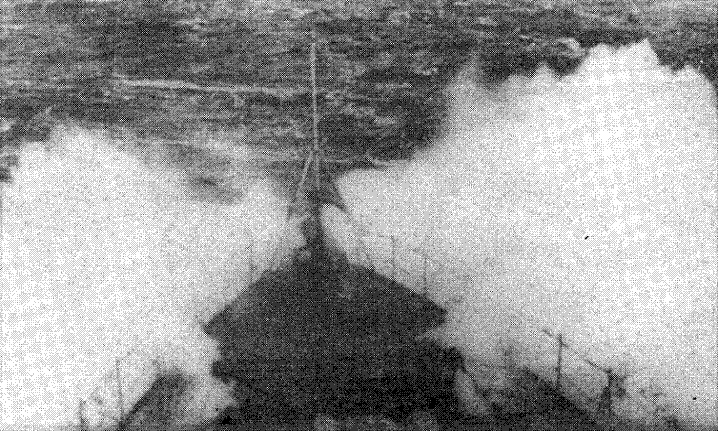
Силы человеческих рук не хватает, чтобы
удержаться в отходящей с палубы волне
Внимание! Сайт является помещением библиотеки. Копирование, сохранение (скачать и сохранить) на жестком диске или иной способ сохранения произведений осуществляются пользователями на свой риск. Все книги в электронном варианте, содержащиеся на сайте «Библиотека svitk.ru», принадлежат своим законным владельцам (авторам, переводчикам, издательствам). Все книги и статьи взяты из открытых источников и размещаются здесь только для ознакомительных целей.
Обязательно покупайте бумажные версии книг, этим вы поддерживаете авторов и издательства, тем самым, помогая выходу новых книг.
Публикация данного документа не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Но такие документы способствуют быстрейшему профессиональному и духовному росту читателей и являются рекламой бумажных изданий таких документов.
Все авторские права сохраняются за правообладателем. Если Вы являетесь автором данного документа и хотите дополнить его или изменить, уточнить реквизиты автора, опубликовать другие документы или возможно вы не желаете, чтобы какой-то из ваших материалов находился в библиотеке, пожалуйста, свяжитесь со мной по e-mail: ktivsvitk@yandex.ru